Книга: Превратности любви
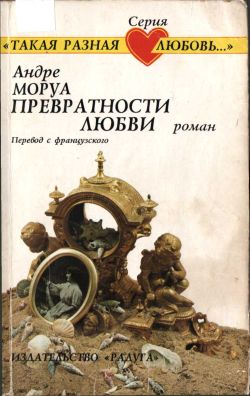
Превратности любви
ПОСВЯЩАЕТСЯ СИМОНЕ
Мы упорно ищем вечное где-то вдали; мы упорно обращаем внутренний взор не на то, что перед нами сейчас и что сейчас явно; или же ждем смерти, словно мы не умираем и не возрождаемся всякий миг. В каждое мгновенье нам даруется новая жизнь. Сегодня, сейчас, сию минуту – вот единственное, чем мы располагаем.
ОДИЛИЯ
Мой внезапный отъезд, вероятно, удивил Вас. Я прошу за него прощения, но не раскаиваюсь в нем. Не знаю, слышите ли Вы, подобно мне, ту внутреннюю музыку, которая поднимается, словно ураган, и бушует в моей душе, как буйное пламя Тристана. Ах, как хотелось бы мне отдаться тому волнению, что еще третьего дня, в лесу, бросило меня к Вашим ногам, к Вашему белому платью. Но я боюсь любви, Изабелла, и боюсь самого себя. Не знаю, что именно Ренэ, что другие рассказали Вам о моей жизни. Мы с Вами иногда говорили о ней; но я не сказал Вам правду. Прелесть новых встреч в том и состоит, что мы надеемся преобразить в глазах незнакомых людей наше прошлое, которое должно было быть совсем иным, – преобразить, опровергнув его. Наша с Вами дружба уже переросла пору одних только лестных признаний. Мужчины обнажают свою душу, как женщины – тело, постепенно и лишь после упорной борьбы. Я бросил в сражение один за другим все свои последние тайные резервы. Истинные мои воспоминания, укрывшиеся в крепости, осаждены и готовы сдаться и выйти на свет Божий.
Теперь я вдали от Вас, я в той самой комнате, где прошло мое детство. На стене – этажерка с книгами, которые моя мать уже больше двадцати лет бережет, как она говорит, «для своего старшего внука». Будут ли у меня сыновья? Вот эта книга с широким красным корешком, закапанным чернилами, – мой старый греческий словарь, а эти, в золоченых переплетах, – мои школьные награды. Мне хотелось бы рассказать Вам, Изабелла, всю мою жизнь, начиная с той поры, когда я был ласковым мальчуганом, до того времени, когда я стал циничным юношей, потом мужчиной – оскорбленным, несчастным. Я хотел бы все рассказать Вам – простодушно, правдиво, смиренно. Но если я и доведу этот рассказ до конца, у меня, быть может, не хватит мужества показать его Вам. Что ж! Подвести итог жизни небесполезно, хотя бы и для самого себя.
Помните, однажды вечером, возвращаясь из Сен-Жермена, я описал Вам Гандюмас? Это край прекрасный и печальный. В дикой лощине мчится бурный поток, огибая ряд строений; это наши фабрики. Наш дом – небольшой замок XVI века, каких немало в Лимузене, – высится над песчаной равниной, поросшей вереском. Еще совсем ребенком я испытал чувство гордости, осознав, что я – Марсена и что наше семейство занимает в округе господствующее положение. Крошечный бумажный заводик, который моему деду с материнской стороны служил всего лишь лабораторией, благодаря энергии моего отца превратился в большую фабрику. Отец выкупил хутора, находившиеся в аренде, и Гандюмас, земли которого до той поры почти не обрабатывались, стал образцовым поместьем. В детстве я был свидетелем того, как у нас беспрерывно возводились все новые и новые здания и расширялся амбар для древесины, построенный вдоль потока.
Семья моей матери – родом из Лимузена. Мой прадед, нотариус, купил замок Гандюмас, когда его пустили в продажу как национальное имущество. Отец, инженер из Лотарингии, поселился здесь только после женитьбы. Он вызвал к себе одного из своих братьев, дядю Пьера, и тот обосновался в соседнем селе Шардейле. По воскресеньям, в хорошую погоду, наши семьи встречались у Сент-Ирьекских прудов. Мы отправлялись туда в экипаже. Я сидел на узенькой жесткой откидной скамеечке напротив родителей. Монотонный бег лошади наводил на меня сон; от скуки я наблюдал за ее тенью, которая то сжималась, то уходила вперед, обгоняя нас, то оказывалась позади на поворотах – в зависимости от того, пробегала ли она по стенам деревенских домиков или по откосам, тянувшимся вдоль дороги. Временами нас обволакивал, словно облако, запах навоза, и я замечал вокруг себя больших навозных мух; этот запах до сих пор хранится в моей памяти; как и звуки церковного колокола, он связан у меня с представлением о воскресном дне. Я терпеть не мог косогоров, – тут лошади переходили на шаг, и сколько ни щелкал старик кучер и языком и бичом, коляска двигалась невыносимо медленно.
На постоялом дворе нас ждали дядя Пьер с женой и кузина Ренэ, их единственная дочь. Мама давала нам бутерброды, а отец говорил: «Идите играйте». Мы с Ренэ гуляли под деревьями или по берегам прудов и собирали каштаны и сосновые шишки. Отправляясь в обратный путь, мы брали Ренэ с собой; чтобы ей было где сесть, кучер опускал борта откидной скамеечки. В дороге мои родители всегда молчали.
Разговаривать они не могли из-за крайней застенчивости отца; он не выносил проявления на людях каких-либо чувств. Стоило только маме сказать за столом что-нибудь, касающееся, например, нашего воспитания, или фабрики, или дядей, или тети Кора, которая жила в Париже, как папа пугливым жестом указывал ей на прислуживающего лакея. Мама умолкала. Я еще в детстве заметил, что если папа или дядя хотят упрекнуть в чем-нибудь один другого, то они с великими предосторожностями поручают передать это своим женам. Тогда же я узнал, что отец не терпит откровенностей. У нас считалось, что общепринятые чувства всегда искренни, что родители всегда любят своих детей, дети – родителей, мужья – жен. Марсена принимали мир за благопристойный земной рай, и это было у них, мне кажется, скорее следствием душевной чистоты, чем лицемерия.
Залитая солнцем лужайка в Гандюмасе. Ниже, в долине, – село Шардейль, подернутое колеблющимся раскаленным маревом. Мальчуган стоит по пояс в яме, которую он вырыл в куче песка, и, зорко всматриваясь в окружающий широкий пейзаж, выжидает появления воображаемого неприятеля. Эту игру подсказала мне моя любимая книжка: «Осада крепости» Данри. Притаившись в яме, я изображал канонира Митура; я защищал форт Луивиль, находившийся под командованием старого полковника, ради которого я с радостью пожертвовал бы жизнью.
Простите, что я останавливаюсь на этих ребяческих чувствах, но именно здесь я нахожу первое проявление той жажды беззаветной преданности, которая была одним из главенствующих факторов моего характера, хотя впоследствии она и обращалась на объекты совсем иного рода. Анализируя еле уловимую частицу моей детской души, еще сохранившуюся у меня в памяти, я обнаруживаю в этой жажде самопожертвования некоторый оттенок чувственности. Впрочем, вскоре эта игра видоизменилась. В другой книжке – мне ее подарили к Новому году и она называлась «Русские солдатики» – я прочел о приключениях нескольких школьников, которые решили создать армию и избрали своей королевой некую курсистку. Королеву звали Аня Соколова. «То была девушка на редкость красивая, стройная, изящная и ловкая». Мне очень нравилась клятва, которую солдаты приносили королеве, подвиги, которые они совершали ей в угоду, и улыбка, служившая им наградой. Не знаю, почему меня так пленял этот рассказ, но он меня пленял, он был мне дорог, и, несомненно, именно благодаря ему в моем воображении сложился тот идеал женщины, который я Вам не раз описывал. Я вижу себя идущим рядом с нею по гандюмасским лужайкам; она проникновенным, грустным голосом говорит мне какие-то прекрасные слова. Не знаю, в какой именно момент, но я стал называть ее Амазонкой. Зато хорошо знаю, что к радости, которую она даровала мне, всегда примешивалось представление об отваге, о риске. Я очень любил также читать с мамой рассказы о Ланселоте Озерном и о Дон-Кихоте. Я не мог поверить тому, что Дульсинея дурна собою, и даже вырвал из книги картинку с ее изображением, чтобы ничто не мешало мне представлять ее себе такой, какой мне хочется.
Хотя кузина Ренэ и была на два года моложе меня, мы долго учились с нею наравне. Позже, когда мне исполнилось тринадцать лет, отец определил меня в лицей имени Гей-Люссака в Лиможе. Я жил там у нашего родственника и приезжал домой только по воскресеньям. В лицее мне очень нравилось. Я унаследовал от отца вкус к занятиям и чтению; учился я хорошо. Во мне все сильнее стали сказываться чувство собственного достоинства и застенчивость, свойственные всем Марсена; эти качества были для них так же характерны, как блестящие глаза и несколько приподнятые брови. Единственным противовесом моей гордыне служил образ Королевы, которому я был по-прежнему верен. Вечерами, перед сном, я рассказывал самому себе разные истории, и героиней их неизменно бывала моя Амазонка. Теперь у нее появилось имя – Елена, ибо я был влюблен в гомеровскую Елену, а повинен в этом приключении был наш учитель, господин Байи.
Почему некоторые картины остаются у нас в памяти такими же четкими, как в момент самого видения, в то время как другие, казалось бы более значительные, быстро тускнеют, а затем и вовсе стираются? Вот и сейчас на некоем внутреннем экране я поразительно четко вижу, как в тот день, когда нам предстояло писать французское сочинение, господин Байи, не торопясь, входит в класс; он вешает на крючок свой пастуший плащ и говорит: «Я подыскал для вас прекрасную тему: "Палинодия Стесихора"».[2] Да, я как сейчас вижу господина Байи. У него густые усы, волосы бобриком, лицо со следами бурных и, по-видимому, горестных страстей. Он вынимает из портфеля бумажку и диктует: «Поэт Стесихор проклял в своих стихах Елену, из-за которой греков постигли великие бедствия; в наказание за эту дерзость Венера лишила его зрения. Тогда поэт понял свою ошибку и сочинил палинодию, в которой выражает сожаление о том, что осмелился оскорбить красоту».
С каким удовольствием я перечел бы сейчас восемь страниц, написанные мною в то утро! Мне уже никогда больше не удавалось столь полное слияние сокровенного чувства с написанной фразой, никогда – разве что в двух-трех письмах к Одилии да еще на днях – в письме, которое предназначалось Вам, но не было мною отослано. Тема жертвы, принесенной во имя красоты, рождала во мне такие глубинные отзвуки, что, несмотря на детский возраст, меня охватывал ужас, и я два часа писал с каким-то мучительным пылом, словно предчувствовал, как много оснований окажется и у меня, в моей земной трудной жизни, написать такую же палинодию.
Но я внушил бы Вам совершенно ложное представление о том, что собою представляет душа пятнадцатилетнего школьника, если бы не подчеркнул, что мое воодушевление оставалось сугубо внутренним и глубоко затаенным. В разговорах со сверстниками о женщинах и о любви я был циником. Некоторые из моих товарищей делились своим опытом, не брезгуя грубыми техническими подробностями. Моя Елена воплотилась для меня в лице молодой лиможской дамы, приятельницы родственников, у которых я жил. Ее звали Дениза Обри; она была хороша собою и слыла легкомысленной. Когда при мне упоминали о том, что у нее есть любовники, я вспоминал Дон-Кихота, Ланселота Озерного и мне хотелось с пикой в руке ринуться на клеветников. Когда госпожа Обри приходила к нам обедать, я терял голову от радости и страха. Все, что я говорил при ней, казалось мне нелепым. Я ненавидел ее мужа, владельца фарфорового завода, человека безобидного и благожелательного. Возвращаясь из лицея, я всегда надеялся встретить ее на улице. Я заметил, что около двенадцати она часто ходит за цветами или пирожными на улицу Порт-Турни. Я спешил занять к этому времени место у собора, между кондитерской и садоводством. Несколько раз мне удавалось проводить ее до дому, и я шел возле нее со школьным ранцем под мышкой.
С наступлением лета я стал чаще видеть ее за городом, на теннисе. Как-то вечером, в дивную погоду, кое-кто из молодых людей и дам решили тут же и поужинать. Госпожа Обри, отлично знавшая, что я в нее влюблен, предложила мне тоже остаться. Ужин прошел очень весело. Смеркалось; я лежал на траве, у ног Денизы; рукой я коснулся ее щиколотки; я осторожно обхватил ее, не встретив сопротивления. Неподалеку цвел жасмин, и я еще до сих пор слышу его пряное благоухание. Сквозь ветви мерцали звезды. То был миг полного блаженства.
Когда совсем стемнело, я заметил, что к Денизе кто-то подбирается, и догадался, что это двадцатисемилетний лиможский адвокат, уже успевший приобрести репутацию очень умного человека. Я невольно стал свидетелем их разговора. Он тихонько просил Денизу встретиться с ним в Париже, давал ей адрес; она прошептала: «Перестаньте», однако я понял, что она придет. Я по-прежнему держал ее ногу, и она предоставляла ее мне, счастливая и безразличная; но я почувствовал себя оскорбленным и внезапно воспылал диким презрением к женщинам.
Сейчас передо мной, на столе, лежит моя школьная записная книжка, в которую я заносил название прочтенных книг. Вижу там: 26 июня, «Д» – заглавная буква обведена кружком. Под нею я выписал фразу из Барреса: «Не надо придавать особого значения женщинам; надо восторгаться, глядя на них, и дивиться тому, что такой незначительный повод может вызывать у нас столь приятное чувство».
Все лето я ухаживал за девушками. Я узнал, что в темных аллеях можно обнимать их, целовать, наслаждаться близостью девичьего тела. Случай с Денизой Обри, казалось, излечил меня от романтики. Я разработал определенную тактику распутства; оно удавалось настолько безошибочно, что я преисполнялся гордостью и отчаянием.
Через год отец, уже давно состоявший членом департаментского совета, был избран сенатором от Верхней Вьенны. Наш жизненный уклад изменился. Старшие классы лицея я прошел в Париже. В Гандюмасе мы теперь жили только летом. Было решено, что я подготовлюсь к получению степени лиценциата прав и, прежде чем выбрать карьеру, отбуду воинскую повинность.
Во время каникул я вновь встретился с госпожой Обри – она приехала в Гандюмас с нашими лиможскими родственниками; насколько я понял, она сама напросилась присоединиться к ним. Я предложил показать ей наш парк и с радостью повел ее в беседку, которую называл своей обсерваторией и где в пору, когда был влюблен в нее, не раз проводил целое воскресенье, с утра до вечера предаваясь смутным мечтам. Тесное, поросшее лесом ущелье очень понравилось ей; в глубине его виднелись камни, выступающие из пенящейся воды, и легкие дымки фабрики. Когда она встала со скамьи и высунулась из беседки, чтобы разглядеть мастеров, которые работали вдали, я положил руку ей на плечо. Она улыбнулась. Я попытался поцеловать ее; она слегка, не сердясь, отстранила меня. Я сказал, что в октябре вернусь в Париж, что у меня собственная квартирка на левом берегу, что я буду ждать ее там. «Не знаю, – молвила она, – это не так просто».
В записной книжке, среди заметок, относящихся к зиме 1906/07 года, я нахожу многочисленные упоминания о «свиданиях с Д.». Дениза Обри разочаровала меня. Но я был к ней несправедлив. Она обладала многими достоинствами, мне же почему-то хотелось, чтобы она являлась для меня не только любовницей, но и товарищем по научным занятиям. Она приезжала в Париж, чтобы повидаться со мной, померить платья, шляпки. Это вызывало у меня глубокое презрение. Я жил книгами и не допускал, что можно жить иначе. Она попросила у меня сочинения Жида, Барреса, Клоделя, о которых я ей часто говорил; то, что она сказала, прочитав их, меня покоробило. Она была хорошо сложена; как только она уезжала в Лимож, я начинал страстно желать ее. Но стоило мне провести с нею часа два, и мне хотелось умереть, сгинуть или побеседовать с приятелем-мужчиной.
Самыми близкими моими друзьями были Андре Альф, умный, несколько угрюмый еврей, с которым я познакомился на юридическом факультете, и Бертран де Жюссак, мой лиможский товарищ; он поступил в Сен-Сир и на воскресенья приезжал к нам в Париж. В обществе Альфа и Бертрана мне казалось, что я погружаюсь в какую-то более глубокую сферу искренности. На поверхности оставался Филипп, каким он был для родителей, – простое существо, состоящее из нескольких принятых в семье Марсена условностей и из редких поползновений к самостоятельности; затем следовал Филипп Денизы Обри, с приступами чувственности и нежности, на смену которым приходила грубость; потом Филипп Бертрана – смелый и чувствительный; затем Филипп Альфа – решительный и непреклонный, – и я знал, что под ними таится еще другой Филипп – самый истинный по сравнению с предыдущими, единственный, который мог бы принести мне счастье, если бы мне удалось с ним слиться, – но я не старался даже понять его.
Говорил ли я Вам о комнате, которую я снял в домике на улице Варенн и обставил очень строго, соответственно тогдашним моим вкусам? На голых стенах – маски Паскаля и Бетховена. Странные свидетели моих приключений! Диван, служивший мне ложем, был покрыт грубым серым холстом. На камине стояли бюсты Спинозы и Монтеня и лежало несколько научных книг. Сказывалось ли тут желание удивить посетителя или искреннее стремление к интеллектуальной культуре? Видимо, и то и другое. Я был старателен и неумолим.
Дениза не раз говорила, что моя комната ее пугает и вместе с тем нравится ей. До меня у нее уже было несколько любовников; она всегда властвовала над ними. Ко мне она стала привязываться. Я говорю Вам об этом без гордости. Жизнь учит всех нас, что любят и самых незначительных людей. Нередко нравится человек обездоленный, в то время как самые обольстительные терпят поражение. Дениза гораздо больше дорожила мной, чем я ею; я говорю Вам об этом потому, что так же откровенно расскажу и о других, гораздо более важных эпизодах моей жизни, когда положение бывало совсем иное. В те годы, о которых я сейчас говорю, то есть в возрасте двадцати – двадцати трех лет, меня любили; не могу сказать, чтобы любил и я. По правде говоря, я не имел ни малейшего представления о том, что такое любовь. Мысль, что из-за любви можно страдать, казалась мне несносно романтической. Бедная Дениза! Вижу ее как сейчас на этом диване; она склоняется надо мной и с тревогой заглядывает в душу, недоступную для нее.
– Любовь? – говорю я ей. – Что такое любовь?
– Вы не знаете, что это такое? Когда-нибудь узнаете. Когда-нибудь и вас скрутит.
Я мимоходом отметил слово «скрутит»; оно показалось мне вульгарным. Ее манера выражаться претила мне. Я ставил ей в упрек, что она говорит не так, как Джульетта или Клелия Конти. Я нетерпеливым жестом оправлял ее душу, как оправляют плохо скроенное платье. Я тянул ее туда-сюда, ища недостижимого равновесия. Позже я узнал, что в Лиможе ее стали считать очень умной и что мои старания помогли ей покорить одного из самых взыскательных провинциалов. Ум женщины состоит из напластований, оставленных мужчинами, которые любили ее; точно так же во вкусах мужчины сохраняются наслоенные смутные образы женщин, встреченных им в жизни, и нередко жестокие страдания, причиненные нам одной из них, вызывают любовь к нам другой женщины и становятся причиной ее несчастий.
«М.» – это Мери Грэхем, юная англичанка с глазами, подернутыми тайной; я встретил ее у тети Кора. Надо сказать несколько слов о тете, потому что она будет играть в дальнейшей моей истории заметную, хоть и преходящую роль. Она – сестра моей матери. Замужем она была за банкиром бароном де Шуэном и почему-то всегда стремилась привлечь в свой дом как можно больше министров, послов и генералов. Начало своему салону она заложила еще в то время, когда была в близких отношениях с одним из видных политических деятелей. Свой успех она эксплуатировала с поразительной последовательностью и упорством, благодаря чему в конце концов и добилась победы. Она принимала в своем особняке на авеню Марсо ежедневно с шести часов, а по вторникам давала обед на двадцать четыре персоны. Обеды тети Кора служили одним из весьма редких поводов для шуток в нашей лимузенской семье. Папа утверждал – и, кажется, не без оснований, – что последовательность этих обедов ни разу не прерывалась. Летом обеды переносились на виллу в Трувиле. Мама рассказывала, что, узнав о безнадежном состоянии дяди (у него был рак желудка), она отправилась в Париж, чтобы поддержать сестру; она приехала во вторник вечером и застала Кора за приготовлениями к очередному обеду.
– Как Адриен? – спросила мама.
– Отлично, – ответила тетя Кора. – В его положении лучшего и желать нельзя; но обедать за столом он не сможет.
На другой день, в семь часов утра, лакей сообщил маме по телефону:
– Баронесса с глубоким прискорбием уведомляет, что барон внезапно скончался сегодня ночью.
Приехав в Париж, я не испытывал ни малейшего желания посещать тетю, – отец внушил мне отвращение к светскому обществу. Но когда я познакомился с тетей, она мне, пожалуй, даже понравилась. Это была очень добрая женщина, любившая оказывать услуги; общаясь с людьми, занимающими высокое положение в самых различных сферах, она приобрела несколько смутное, но все же подлинное знание движущих пружин общества. Для меня, молодого любознательного провинциала, она служила неисчерпаемым источником всевозможных сведений. Она заметила, что я с удовольствием слушаю ее, и подружилась со мной. Каждый вторник меня приглашали к обеду. Быть может, ей доставляло удовольствие приглашать меня еще и потому, что она знала о неприязненном отношении моих родителей к ее салону и ей лестно было торжествовать над ними, переманив меня на свою сторону.
Среди гостей тети Кора бывали, конечно, и молодые женщины как необходимое украшение салона. Я отважился завоевать некоторых из них. Я ухаживал, не любя; я просто считал это делом чести и хотел убедиться в возможности победы. Помню, с каким невозмутимым спокойствием я усаживался в кресло, как только моя жертва уходила от меня с нежной улыбкой на губах; я брал в руки книгу и без труда гнал ее образ прочь.
Не судите меня строго. Мне кажется, что очень многие молодые люди – если только им не посчастливится сразу же встретить из ряда вон выходящую любовницу или жену – неизбежно приходят к этому надменному эгоизму. Они гонятся за какой-то законченной системой. А женщины инстинктивно знают, что все такие попытки напрасны, и в этих поисках они следуют за мужчинами лишь из снисходительности. Некоторое время влечение создает какую-то иллюзию, потом в почти что враждебных душах начинает расти непреодолимая скука. Мечтал ли я по-прежнему о Елене Спартанской?
Ее образ представлялся мне теперь погруженным в темные воды моей рассудочной стратегии, словно затопленный собор.
Случалось, что в концертах, где я бывал по воскресеньям, я замечал вдали чей-нибудь прелестный профиль, который вызывал во мне странное волнение и напоминал белокурую славянскую королеву детской поры и каштановые рощи Гандюмаса. И в течение всего концерта я нес этому незнакомому профилю неистовые чувства, разбуженные музыкой, и мне несколько мгновений казалось, что, если бы я мог познакомиться с этой женщиной, я в ней наконец обрел бы то совершенное, почти божественное создание, которому я хотел бы посвятить жизнь. Потом свергнутая королева терялась в толпе, я же отправлялся на улицу Варенн к любовнице, которую вовсе не любил.
Теперь мне самому непонятно, как мог я совмещать в себе два столь противоположных персонажа. Они жили в двух различных сферах и никогда не встречались друг с другом. Нежный, жаждущий самопожертвования влюбленный пришел к убеждению, что любимой женщины в реальной жизни нет. Отказываясь отождествлять обожаемый призрачный образ с грубыми куклами из окружающей среды, он искал убежища в книгах и боготворил только госпожу де Морсоф или госпожу де Реналь.[3] А циник тем временем присутствовал на обеде у тети Кора и обращался к соседке, если она ему нравилась, с веселыми и вольными речами.
После того как я отбыл воинскую повинность, отец предложил мне помогать ему в управлении фабрикой. Контору он теперь перевел в Париж, поближе к клиентам, большим газетам и крупным издательствам. Дело очень интересовало меня, я старался развивать его, но в то же время не переставал посещать лекции и много читать. Зимой я бывал в Гандюмасе раз в месяц, а летом, когда родители переезжали туда, я проводил там несколько недель. Я с удовольствием вновь посещал уединенные уголки природы, знакомые мне с детства. Если дела не требовали моего присутствия на фабрике, я занимался – либо у себя, все в той же комнате, либо в своей маленькой обсерватории над речкой. Время от времени я вставал из-за стола, доходил до конца длинной каштановой аллеи, скорым шагом возвращался обратно и снова принимался за книгу.
Я был рад, что избавлен от молодых женщин, которые в Париже опутали мою жизнь легкой, но непреодолимой сетью свиданий, жалоб и болтовни. Мери Грэхем – я Вам уже говорил о ней – была замужем за человеком, с которым я был хорошо знаком, и мне претило пожимать ему руку. Большинство моих приятелей делало бы это, наоборот, с самодовольной иронией. Но правила нашей семьи в таких вопросах были очень строги. Отец женился по расчету, однако брак этот, как часто случается, преобразился в брак по любви. Отец был счастлив на свой лад – молчаливо и сурово. У него никогда не бывало любовных приключений – во всяком случае, со времени женитьбы; однако, казалось мне, он не чужд был романтики, и я смутно предчувствовал, что, если бы мне посчастливилось встретить женщину, хоть немного похожую на мою Амазонку, я стал бы таким же счастливым и верным супругом, как и он.
Зимой 1909 года я дважды болел бронхитом, и в марте врач посоветовал отправить меня на некоторое время на юг. Я решил съездить в Италию, которой совсем не знал. Я побывал на северных озерах, пожил в Венеции, а последнюю неделю решил провести во Флоренции. В первый же день в гостинице, за соседним столом, я заметил девушку ангельской, эфирной красоты и не в силах был отвести от нее взор. С нею находилась молодая еще мать и довольно пожилой мужчина. После обеда я спросил у метрдотеля, кто такие мои соседки. Он ответил, что они – француженки, фамилия их – Мале. Их спутник, итальянский генерал, не живет в нашей гостинице. На другой день, во время завтрака, их столик пустовал.
Я привез с собою рекомендательные письма к нескольким флорентинцам, в том числе к профессору Анджело Гуарди, искусствоведу, издатель которого был моим клиентом. Я отправил ему письмо во Фьезоле и в тот же день получил приглашение на чай. У него на вилле, в саду, я застал человек двадцать гостей, среди которых оказались и две мои соседки. На девушке было платье из сурового полотна с синим матросским воротником и широкополая соломенная шляпа, – и она показалась мне столь же прекрасной, как и накануне. Я вдруг оробел и поспешил отойти от группы, где она находилась, с тем чтобы побеседовать с Гуарди. У наших ног протянулись шпалеры роз.
– Этот сад – мое детище, – сказал Гуарди. – Десять лет тому назад весь участок представлял собою просто лужайку. Вон там…
Он повел рукою; следуя за его жестом, я встретил взгляд мадемуазель Мале и с удивлением и радостью заметил, что он обращен на меня. Это длилось какое-то неуловимое мгновение, но взгляд ее явился как бы цветочной пыльцой, несущей в себе неведомые силы, из которой родилась моя самая великая любовь. Этот взгляд дал мне понять без слов, что она позволяет мне держаться непринужденно, и при первой же возможности я подошел к ней.
– Какой дивный сад! – сказал я.
– Дивный! – воскликнула она. – Кроме того, здесь, во Флоренции, мне особенно нравится, что отовсюду видишь гору, деревья. Я не выношу городов, где только город, и больше ничего.
– Гуарди говорит, что за домом тоже прекрасный вид.
– Что ж, посмотрим, – весело подхватила она.
Мы оказались перед густой завесой кипарисов; посредине она была прорезана каменными ступенями, которые вели к гроту со статуей. Дальше, слева, была площадка, откуда открывался вид на город.
Мадемуазель Мале оперлась возле меня на балюстраду и долгое время молча смотрела на розовые купола, на широкие, почти плоские флорентинские крыши и раскинувшиеся вдали синеватые горы.
– Какая красота, – прошептала она наконец в восторге.
Изящным, почти детским движением она откинула голову, словно для того, чтобы вдохнуть в себя этот дивный ландшафт.
С первого же нашего разговора Одилия Мале стала относиться ко мне с непринужденной доверчивостью. Она рассказала, что ее отец – архитектор, что она очень гордится им, что он остался в Париже. Ей досадно видеть около матери этого генерала в роли услужливого поклонника. Не прошло и десяти минут, как мы пустились в откровенности. Я рассказал ей о моей Амазонке, о том, что не почувствую вкуса к жизни, пока мне не будет служить опорой могучее, глубокое чувство. (В ее присутствии мои циничные теории мигом разлетелись в прах.) Она мне поведала, что однажды, когда ей было тринадцать лет, ее любимая подруга, Миза, задала ей вопрос: «Если бы я тебя попросила, бросилась бы ты вниз с балкона?» – и в ответ она чуть было не ринулась с четвертого этажа. Эта история привела меня в восторг.
Я спросил:
– Вы много бываете в церквах, в музеях?
– Много, – ответила она, – а больше всего я люблю бродить по старинным улицам… Но мне неприятно гулять с мамой и ее генералом, поэтому я встаю очень рано… Хотите пойти со мной завтра утром? В девять часов я буду в вестибюле гостиницы.
– Конечно, хочу… Надо попросить у вашей матушки позволения сопровождать вас?
– Нет, – ответила она, – я скажу сама.
На другой день я ждал ее у лестницы, и мы вместе отправились гулять. Широкие плиты набережных блестели под лучами солнца; откуда-то доносился колокольный звон; изредка нас обгоняли экипажи. Жизнь вдруг становилась совсем простой; было бы счастьем всегда видеть возле себя эту белокурую головку, переходя улицу, касаться этой руки и на мгновенье ощущать под тканью тепло юного тела. Она повела меня на улицу Торнабуони; ей нравились магазины, где торгуют обувью, цветами, книгами. На мосту Понте-Веккьо она надолго задержалась возле витрин с ожерельями из крупных розовых и черных камней.
– Как занятно! – воскликнула она. – Правда?
Порою у нее обнаруживались вкусы вроде тех, что я осуждал у бедняжки Денизы Обри.
О чем мы говорили? Теперь уже не могу вспомнить. В записной книжке есть пометка: «Прогулка с О., Сан-Лоренцо[4]». Она рассказывает мне о большом ярком блике, который сиял над ее кроватью в монастыре, – то был свет наружного фонаря, отраженного ставнем. Когда она засыпала, ей чудилось, будто он разгорается все ярче и ярче, и она воображала себя в раю. Она вспоминает «Розовую библиотеку»;[5] она ненавидела Камиллу и Мадлен;[6] в жизни она терпеть не может паинек. Любимое ее чтение – волшебные сказки и стихи. Иногда ей снится, что она гуляет по морскому дну, а вокруг плавают рыбьи скелеты; бывает и так, что хорек уносит ее в свою норку. Она любит опасность; она ездит верхом, берет барьер… Силясь понять что-нибудь, она мило поводит глазами; она слегка морщит лоб и смотрит вдаль, как бы не видя; потом говорит самой себе: «Ах, так!» – она поняла!
Приводя этот штрих, я отлично понимаю, что мне не передать счастливых воспоминаний, которые он будит во мне. Почему она казалась мне таким совершенством? Было ли в том, что она говорила, нечто из ряда вон выходящее? Не думаю; но она обладала качеством, которого недостает всем Марсена: вкусом к жизни. Мы любим тех, кто таит в себе некую таинственную субстанцию, какой недостает нам самим и без которой мы не можем стать стойким химическим соединением. Женщин прекраснее Одилии я не встречал, но встречал более блестящих, интеллектуально более совершенных, и все же ни одной из них не удавалось так глубоко ввести меня в чувственный мир. Книги и одинокие размышления чересчур отдалили меня от деревьев, цветов, запахов земли, красоты неба и свежих дуновений; теперь каждое утро Одилия собирала все это великолепие и целыми охапками слагала к моим ногам.
Когда я бывал один в каком-нибудь городе, я проводил дни в музеях или в своей комнате, за чтением книг о Венеции, о Риме. Можно сказать, что внешний мир доходил до меня лишь через шедевры искусства. Одилия сразу же увлекла меня в мир красок, звуков. Она повела меня на цветочный рынок, под высокие арки Меркато Нуово, и здесь смешалась с толпой женщин, покупавших букетик ландышей или несколько веток сирени. Ей понравился деревенский старик священник, который собирался купить ракитник, намотанный на длинную жердь. Она водила меня по холмам над Сан-Миниато, где узкие дороги вьются между раскаленными стенами, с которых свисают пышные кисти глициний.
Досаждал ли я ей, когда серьезно, как то свойственно Марсена, толковал о распре гвельфов с гибеллинами, о жизни Данте или об экономическом положении Италии? Не думаю. Кто-то заметил, что наивная, почти глупенькая фраза, сказанная женщиной, иной раз внушает мужчине непреодолимое желание поцеловать эти детские уста, в то время как мужчина нередко нравится женщине именно тогда, когда он наиболее сух и беспощадно логичен. Быть может, это было справедливо в отношении Одилии и меня. Во всяком случае, я знаю, что, когда она, дойдя до лавочки фальшивых ювелирных изделий, умоляюще шептала: «Остановимся на минутку», я не критиковал ее, не сожалел о потерянном времени, а только думал: «До чего я люблю ее!» И я слышал, как во мне с возрастающей силой звучит тема Рыцаря-покровителя, тема беззаветной самоотверженности, которая с детских лет сочеталась у меня с представлением об истинной любви.
В те дни эта тема захватывала все мое существо. Подобно тому как в оркестре одинокая флейта, выводя коротенькую фразу, постепенно будит скрипки, потом виолончели, потом медь – пока наконец огромная ритмическая волна не хлынет на слушателей, – так сорванный цветок, запах глициний, черные и белые церкви, Боттичелли и Микеланджело постепенно вливались в громоподобный хор, певший о радости любить Одилию и защищать от незримого врага ее небесную, хрупкую красоту.
В первый день моего пребывания во Флоренции я мечтал о краткой прогулке с незнакомкой как о несбыточном счастье. Несколько дней спустя необходимость возвращаться в гостиницу к обеду и ужину уже представлялась мне несносным ярмом. Госпожа Мале, хорошо не зная, кто я такой, была встревожена и старалась сдерживать стремительное развитие нашей дружбы; но вы знаете, что такое первые порывы любви у юных существ; их силу ничем не преодолеть. Мы чувствовали, что, где бы мы ни появлялись, нас сразу же окружала симпатия. Одной красоты Одилии для этого было бы достаточно. Но она мне сказала, что вдвоем мы имеем у итальянцев еще больший успех, чем когда она появляется одна. Флорентийские vetturini[7] были нам признательны за то, что мы любим друг друга. В музеях служители встречали нас улыбкой. Лодочники Арно добродушно поднимали головы, чтобы взглянуть на нас, когда мы стояли на набережной, облокотясь на парапет и прижавшись друг к другу, чтобы ощущать тепло наших тел.
Я телеграфировал отцу, что для окончательной поправки мне надо бы пожить на юге еще недели две. Он согласился. Теперь мне хотелось, чтобы Одилия была со мною весь день. Я нанимал экипаж, и мы отправлялись в долгие прогулки по Тосканской провинции. По дороге в Сиену нам показалось, будто мы очутились среди полотен Карпаччо. Экипаж взбирался на холмики, похожие на детские песочные пироги, а на их вершинах оказывались какие-то сказочные деревушки с зубчатыми колоколенками. Густые тени Сиены приводили нас в восхищение. Когда мы завтракали в темной прохладной харчевне, я уже твердо знал, что всю жизнь проведу возле нее. На обратном пути, в сумерках, она положила свою руку на мою. В записной книжке у меня сохранилась пометка, сделанная в тот вечер: «Шоферы, горничные, крестьяне относятся к нам с явной симпатией. Они, конечно, понимают, что мы влюблены друг в друга. Служащие нашей маленькой гостиницы всячески стараются нам угодить. Особенно упоительно сознание, что мне безразлично все, что не относится к ней, а ей безразлично все, что не относится ко мне. У нее бывает чудесное выражение лица – оно говорит о восторге и самозабвении. В нем есть и доля грусти, словно ей хочется остановить этот миг и удержать его в своем взоре».
Да, я по-прежнему люблю Одилию тех флорентинских дней! Она была так прекрасна, что я иной раз сомневался в ее реальности. Я отворачивался, говоря: «Сейчас я попробую пять минут не смотреть на вас». Но мне никак не удавалось выдержать и тридцати секунд. От всего, что она говорила, веяло необыкновенной поэзией. Хотя она была очень весела, в ее словах порою звучала серьезная нотка, подобная звуку виолончели, – меланхолический диссонанс, звеневший смутным трагическим предостережением. В таких случаях она твердила что-то вроде: «Ты отмечена роком…» Сейчас припомню… Да! «Марс мстит тебе, ты отмечена роком; златокудрая девушка, берегись!» Где, в какой нелепой книге, в какой мелодраме она прочла или слышала эти слова? Не знаю. Как-то вечером, в теплых сумерках таинственной оливковой рощи она впервые протянула мне губы и тут же, с нежной грустью взглянув на меня, сказала: «Помните, дорогой, слова Джульетты?.. "Я была чересчур ласкова, и, женившись на мне, вы, пожалуй, будете опасаться, что я окажусь легкомысленной…"»
Я с радостью вспоминаю нашу любовь тех дней; то было прекрасное чувство, столь же сильное у Одилии, как и у меня. Но у Одилии чувства почти всегда сдерживались гордостью. Позже она мне объяснила, что, живя в монастыре, потом у матери, которую не любила, она привыкла замыкаться в самой себе. Когда скрытый огонь чувства прорывался наружу, он полыхал у нее неистовым, но недолгим пламенем, и он согревал мне сердце тем сильнее, что я сознавал всю его непосредственность. Подобно тому, как некогда мода, скрывая от мужских взоров тело женщины, придавала значительность легкому прикосновению к ее платью, так целомудрие чувств, скрывая обычные проявления страстей, усиливает ценность и изящество еле уловимых оттенков слов. Отец прислал мне, в конце концов, довольно сухую телеграмму; он вызывал меня обратно в Париж. Мне пришлось сказать об этом у Гуарди, в присутствии Одилии, которая приехала туда раньше меня. Гости, безразличные к моему отъезду, сразу же возобновили оживленный разговор о Германии и Марокко. Выходя, я сказал Одилии:
– Какие интересные вещи рассказывал Гуарди. Она ответила почти с отчаянием:
– Я слышала только одно – что вы уезжаете.
Перед отъездом из Флоренции мы обручились. Предстояло сообщить мои планы родителям, и я думал об этом не без тревоги. В семье Марсена брак всегда считался делом касты. Родня непременно вмешается и станет наводить справки о Мале. Что она узнает? Сам я ничего не знал о семье Одилии и даже никогда не видел ее отца. Как я Вам уже говорил, у Марсена существовала странная традиция: важные новости у нас никогда не сообщали прямо тем, кого они касаются, а передавали через посредников и со всякого рода предосторожностями. Я попросил тетю Кора, ближайшую свою наперсницу, сказать отцу о моей помолвке. Тетя всегда радовалась, когда представлялся случай доказать безупречность ее справочной конторы; контора и в самом деле была превосходна, хотя и страдала своеобразным недостатком: агенты ее занимали в общественной иерархии чересчур высокое положение, вследствие чего тетя Кора, желая, например, получить сведения о каком-нибудь сержанте, могла запросить о нем не иначе как военного министра, а если бы дело коснулось какого-либо безвестного лиможского доктора, ей пришлось бы обратиться к главному врачу парижских больниц. Когда я назвал тете фамилию Мале, она ответила, как я и ожидал:
– Я с ним не знакома, но, если он занимает более или менее видное положение, я все немедленно разузнаю у старика Берто, ты его знаешь – он академик архитектуры… Я два раза в год приглашаю его по вторникам, потому что он когда-то охотился с моим дорогим Адриеном.
Несколько дней спустя я приехал к ней и застал ее взволнованной и мрачной.
– Ах, друг мой, тебе повезло, что ты ко мне обратился, – сказала она, – эта партия не для тебя… Я повидалась со стариком Берто; он хорошо знает Мале; они одновременно получили «Римскую премию»;[8] он говорит, что это человек приятный и не лишенный таланта, но карьера ему не удалась, потому что он никогда ничего не доводил до конца. Он принадлежит к тому типу архитектора, который может составить проект, но сам не следит за постройкой и теряет всех заказчиков… Мне самой довелось иметь дело с таким архитектором, когда я строила дом в Трувиле… А женат твой Мале на женщине, которую я в свое время знавала; тогда она была мадам Бемер – я сразу все вспомнила, как только Берто назвал мне эту фамилию… Ортанс Бемер – как не помнить! Мале ее третий муж… Что же касается дочери, то Берто говорит, как и ты, что она очаровательна и нет ничего удивительного в том, что она тебе понравилась. Однако верь моей опытности, дорогой Филипп: жениться тебе на ней не следует, и ты даже не говори об этом ни отцу, ни маме… Я – иное дело, я перевидала в жизни такое множество людей! Но бедная твоя мама… Не могу представить ее себе рядом с Ортанс Бемер, – нет, нет, нет, не могу!
Я возразил, что Одилия совсем не такая, как ее родители, что к тому же решение мое принято бесповоротно и что самое лучшее – чтобы моя семья одобрила его. После некоторого сопротивления тетя Кора согласилась поговорить с родителями, отчасти по доброте своей, отчасти потому, что она несколько напоминала тех старых дипломатов, которые страстно любят вести переговоры и, видя, что наступает пора международных осложнений, испытывают одновременно и страх, потому что дорожат миром, и затаенную радость, потому что предвкушают возможность проявить свой единственный природный дар.
Отец отнесся к сообщению спокойно и снисходительно. Он только попросил меня хорошенько обдумать этот шаг. Мама же сначала обрадовалась, что я женюсь, но несколько дней спустя она повидалась со старинной подругой, которая знала семью Мале; та сказала маме, что это люди, отличающиеся крайне свободными нравами. У мадам Мале дурная репутация; говорят, что у нее до сих пор есть любовники. Об Одилии не говорилось ничего определенного, но известно было, что она дурно воспитана, выезжает одна с молодыми людьми и что к тому же она уж чересчур хороша собою.
– А есть у них состояние? – осведомился дядя Пьер, который, разумеется, присутствовал при этом разговоре.
– Не знаю, – ответила мама. – Говорят, что господин Мале человек умный, но со странностями… Это люди не нашего круга.
«Люди не нашего круга» – фраза, отлично выражающая психологию Марсена, и в ней заключалось страшное осуждение. Некоторое время я думал, что мне будет крайне трудно уговорить родителей. Одилия с матерью возвратились в Париж через две недели после меня. Я отправился к ним с визитом. Они жили на улице Лафайет, на четвертом этаже. Одилия отворила дверь, скрытую в панно, и повела меня в кабинет и мастерские господина Мале.
Я привык к строгому порядку, которого отец требовал от своих служащих как в Гандюмасе, так и на улице Валуа; увидев три тускло освещенные комнаты, потрепанные зеленые папки и шестидесятилетнего архитектора, я понял, что знакомый моей тети был прав, когда отозвался о господине Мале как об архитекторе без заказчиков. Отец Одилии оказался легкомысленным балагуром; он встретил меня радушно, но, пожалуй, чересчур игриво, заговорил о Флоренции и об Одилии взволнованно и задушевно, потом стал показывать мне проекты вилл, которые он надеется построить в Биаррице.
– Мне очень хотелось бы построить большую современную гостиницу в баскском духе. Я разработал проект для Анде[9] но заказа мне не дали.
Слушая его, я с тоской и страхом представлял себе, какое впечатление он произведет на моих родных.
Госпожа Мале пригласила меня на другой день к обеду. Я приехал в восемь часов и застал Одилию одну с братьями. Архитектор сидел у себя в мастерской и читал; госпожи Мале еще не было дома. Мальчики – Жан и Марсель – были похожи на Одилию, и все-таки я сразу же понял, что мы никогда не сойдемся. Они старались держаться со мной дружески, по-братски, но в течение вечера я несколько раз перехватывал их взгляды и гримаски, которые ясно говорили: «Ну и скучный же малый!» Госпожа Мале вернулась только в половине девятою и даже не извинилась. Заслышав ее шаги, господин Мале появился в самом благодушном настроении, с книгой в руке; когда стали садиться за стол, горничная ввела в столовую молодого человека, американца, приятеля детей; его не ждали и поэтому встретили громкими радостными возгласами. Среди этой суматохи Одилия хранила свойственный ей вид снисходительной богини; она сидела рядом со мною, улыбалась на шутки братьев, а когда заметила, что я несколько смущен, постаралась угомонить их. Она была все так же прекрасна, как и во Флоренции, но, хоть я и не мог бы объяснить этого чувства, мне было больно видеть ее в кругу этого семейства. За раскатистым триумфальным маршем моей любви мне слышался приглушенный мотив Марсена.
Мои родители нанесли господам Мале визит, во время которого родители Одилии бурно изливали свои чувства, между тем как мои хранили вежливо-порицающий вид. К счастью, отец был очень чуток к женской красоте, хоть никогда и не говорил об этом (и тут я заметил свое сходство с ним); поэтому Одилия сразу же покорила его. Выходя, он мне сказал:
– Не думаю, что ты поступаешь разумно… Но понимаю тебя.
Мама сказала:
– Конечно, она прелестна. Она очень своеобразна. Она говорит странные вещи; ей придется измениться.
В глазах Одилии важнее, чем встреча наших родителей, была моя встреча с ее любимой подругой Мари-Терезой, которую она называла «Миза». Помню, я очень смущался; я чувствовал, что мнение Миза имеет для Одилии большое значение; впрочем, она мне понравилась. Она не была так хороша собою, как Одилия, но отличалась правильностью черт и изяществом. Рядом с Одилией она казалась несколько простоватой, но вместе их лица создавали приятный контраст. Вскоре я привык объединять их в один общий образ и считать Миза как бы сестрой Одилии. Но у Одилии во всем сказывалась прирожденная утонченность, и этим она отличалась от Миза, хотя они по происхождению и принадлежали к одной и той же среде. В концертах, куда я перед свадьбой приглашал их каждое воскресенье, я замечал, насколько Одилия слушает лучше, чем Миза. Одилия, закрыв глаза, вся проникалась музыкой, замирала в блаженстве и забывала весь мир. А Миза с любопытством озиралась по сторонам, искала знакомых, то и дело заглядывала в программу и раздражала меня своей суетней. Но она была приятной спутницей – всегда веселой, всегда довольной, и, вдобавок, я был ей признателен за то, что, по словам Одилии, она отозвалась обо мне как об «очаровательном» человеке.
Свадебное путешествие мы совершили в Англию и Шотландию. Не могу представить себе времени более счастливого, чем эти два месяца одиночества вдвоем. Мы останавливались в маленьких гостиницах, среди цветов, на берегах рек и озер, и проводили дни, растянувшись в плоских свежевыкрашенных лодках, на подушках из светлого кретона. Одилия дарила мне эту страну, с лужайками, усеянными синими гиацинтами, с тюльпанами, взметнувшимися над высокой травой, с подстриженным мягким газоном и с ивами, которые склоняли к воде свои ветви, подобно женщине, распустившей пышные волосы. Я узнавал новую, неведомую Одилию, еще более прекрасную, чем во Флоренции. Смотреть на нее, следить за каждым ее движением – о, это было упоительно! Едва войдя в обычный номер гостиницы, она сразу же преображала его в произведение искусства. Она хранила простодушную, трогательную привязанность к вещицам, которые ей были дороги в детстве; она и теперь всюду возила их с собою: настенные часики, кружевную подушку и сочинения Шекспира в сером замшевом переплете. Позже, когда наш брак расстроился, она ушла от меня все с той же кружевной подушкой и Шекспиром в руках. Одилия реяла над жизнью и казалась скорее духом, чем женщиной. Мне хотелось бы нарисовать ее Вам скользящею по берегу Темзы или Кэма; она шла так легко, что это скорее напоминало танец.
Когда мы вернулись в Париж, город показался нам нелепым. Наши родители воображали, будто у нас единственное желание – почаще видеться с ними. Тетя Кора задумала устраивать обеды в нашу честь. Друзья Одилии жаловались, что целых два месяца были лишены ее общества, и умоляли меня хоть ненадолго уступать ее им; но нам с Одилией хотелось только одного – жить по-прежнему уединенно. Как только мы водворились в нашем домике, где еще не были постланы ковры и пахло свежей краской, Одилия в порыве ребяческой шалости подошла к двери и перерезала провод звонка. Так она отгородила нас от всех посетителей.
Мы обошли вдвоем всю квартиру, и она спросила, можно ли ей оставить себе комнатку рядом с ее спальней.
– Это станет моим убежищем… Вы будете входить туда только по моему приглашению; как вам известно, Дикки, – у меня неискоренимая потребность в независимости. – (Она стала звать меня Дикки после того, как в Англии какая-то девушка назвала так при ней своего спутника.) – Вы еще меня не знаете, вот увидите – я чудовище.
Она принесла шампанского, пирожные и букет крупных астр. Низенького столика, двух кресел и хрустальной вазы оказалось для нее достаточно, чтобы на скорую руку создать уютный уголок. Мы ужинали в самом веселом, самом задушевном настроении. Мы были одни и любили друг друга. Как ни быстротечны оказались те мгновения, мне не забыть их; их отголосок еще отдается в моей душе, и достаточно мне заглушить шум настоящего и прислушаться, чтобы уловить их чистый, замирающий отзвук…
Мне приходится, однако, отметить тут первый удар, который уже на другой день после этого ужина оставил легкую царапину на прозрачном хрустале моей любви. Эпизод сам по себе ничтожнейший, но он явился прообразом всего последующего. Случилось это у обойщика; мы заказывали мебель. Одилия выбрала шторы, которые показались мне чересчур дорогими. Мы немного – и вполне дружелюбно – поспорили, потом Одилия уступила. Продавец, красивый молодой человек, горячо поддерживал мою жену, чем очень раздражал меня. Когда мы уходили, я перехватил в зеркале взгляд, которым они обменялись: он выражал сожаление и вместе с тем говорил о полном взаимопонимании. Не могу описать Вам, что я почувствовал. Со времени помолвки во мне укоренилась бессознательная, нелепая уверенность, что отныне ум моей жены неразрывно связан с моим и что, в силу беспрестанного восприятия моих мыслей, она всегда будет думать, как я. Я не допускал даже предположения, что человек, живущий возле меня, может оставаться самостоятельным. Еще более непостижимой казалась мысль, что этот человек может с кем-то объединиться против меня. Взгляд, которым они обменялись, был еле уловим и вполне невинен; я ничего не мог бы возразить, я даже не был вполне уверен в том, что действительно заметил его, и все же именно в это мгновение я впервые узнал, что такое ревность.
До женитьбы я никогда не думал о ревности иначе как о чувстве чисто театральном, и она неизменно вызывала у меня глубокое презрение. В моем представлении существовал трагический ревнивец – Отелло, и ревнивец смешной – Жорж Данден. Мысль, что в один прекрасный день мне придется играть роль одного из этих персонажей, а то и обоих вместе, показалась бы мне тогда совершенно вздорной. Наскучив возлюбленной, я всегда первый бросал ее. А если она мне и изменяла, то я этого не знал. Помню, как однажды я ответил приятелю, который пожаловался мне, что ревнует: «Не понимаю тебя… Я никак не мог бы любить женщину, если бы она меня не любила…»
Почему я стал ревновать Одилию, как только вновь увидел ее в кругу друзей? Характер у нее был ровный, ласковый, но отчего-то она создавала вокруг себя атмосферу непонятной таинственности. Ни до женитьбы, ни во время свадебного путешествия я этого не замечал, потому что в те дни уединение и полное слияние наших жизней не оставляли места для какой-либо тайны, а в Париже я сразу почувствовал некую отдаленную, смутную опасность. Мы были очень дружны, очень нежны друг с другом, но я хочу быть с Вами совершенно откровенным и поэтому должен признаться: уже на второй месяц нашей совместной жизни я понял, что реальная Одилия – не та Одилия, которую я люблю. Ту, которую я открывал теперь, я любил не меньше, но совсем иной любовью. Во Флоренции мне казалось, что я, наконец, встретил Амазонку; я в душе своей создал Одилию мифическую и идеальную. Я ошибся. Одилия не была богиней, созданной из слоновой кости и лунного света; она была женщиной. Как я, как Вы, как весь злополучный людской род, она была многообразна и разнолика. И она тоже, конечно, понимала, что теперь я сильно отличаюсь от того влюбленного спутника, каким был во Флоренции. По возвращении из поездки мне вновь пришлось серьезно заняться гандюмасской фабрикой и конторой в Париже. Отец был очень занят в сенате и за время моего отсутствия переутомился. Некоторые из наших лучших заказчиков при встрече со мной жаловались на недостаточно внимательное отношение к их требованиям. От дома, который мы сняли на улице Фезандери, до делового квартала было далеко. Я сразу же убедился, что не могу приезжать домой к завтраку. Если добавить к этому, что раз в неделю мне приходилось бывать в Гандюмасе и что эта поездка второпях была чересчур утомительна, чтобы брать туда Одилию, то Вы поймете, что мы с ней сразу же оказались разобщены.
Возвращаясь вечером домой, я бывал счастлив, что сейчас вновь увижу прекрасное лицо жены. Мне нравилась обстановка, которою она окружила себя. Я не привык жить среди красивых вещей, но у меня была, по-видимому, неосознанная потребность в них, и тонкий вкус Одилии приводил меня в восторг. Дом моих родителей в Гандюмасе был загроможден всевозможной мебелью, беспорядочно накопленной тремя-четырьмя поколениями; она заполняла гостиные, обитые зеленовато-синим штофом, с витражами, где под деревьями бродили грубо написанные павлины. Одилия распорядилась выкрасить у нас стены в спокойные, мягкие тона; ей нравились почти пустые комнаты, большие пространства, устланные светлыми коврами. Входя в ее будуар, я испытывал ощущение чего-то прекрасного – и это ощущение бывало столь остро, что меня охватывала смутная тревога. Я заставал Одилию в шезлонге, почти всегда в белом платье; возле нее, на низком столике – том самом, что служил нам для первого ужина, – стояла венецианская ваза с узким горлышком, а в ней – один-единственный цветок или же изящная листва. Одилия любила цветы больше всего, и мало-помалу я тоже полюбил выбирать их для нее. Я научился наблюдать у витрин цветочных магазинов смену времен года; мне доставляло удовольствие замечать, что настает пора хризантем, пора тюльпанов, потому что их яркие или нежные оттенки могли вызвать на устах жены счастливую улыбку. Когда я возвращался из конторы с букетом в белой бумаге, она вставала мне навстречу, и у нее вырывался радостный возглас: «Дикки! Как я благодарна!» Она в восторге любовалась цветами, потом лицо ее становилось серьезным и она говорила: «Сейчас разберу их». И чуть ли не целый час она подбирала вазу, обдумывала освещение, отмеривала длину стебля, чтобы придать ирису или розе наиболее изящный изгиб.
Но нередко вслед за тем вечер проходил необъяснимо печально – так в солнечные дни над морем вдруг нависают тяжелые темные тучи. Нам нечего было сказать друг другу. Я много раз пытался посвятить Одилию в свои дела; они не интересовали ее. Рассказы о моей молодости теперь уже потеряли для нее прелесть новизны; новых мыслей у меня появлялось мало, потому что мне некогда было читать. Она чувствовала это. Я попробовал вовлечь в нашу жизнь двух моих ближайших друзей. Андре Альф решительно не понравился Одилии; она нашла, что он относится к ней насмешливо, почти враждебно, да так оно и было. Я сказал ему однажды:
– Ты не любишь Одилию.
– По-моему, она восхитительна, – ответил он.
– Да, но не особенно умна?
– Пожалуй… Женщине не обязательно быть умной.
– А вот и ошибаешься: Одилия очень умная, но у нее ум не твоего типа. У нее ум интуитивный, конкретный.
– Весьма возможно, – отозвался он.
С Бертраном дело обстояло иначе. Он попытался завязать с Одилией дружеские отношения, искал ее доверия, но с ее стороны встретил настороженный отпор. Мы с ним любили просиживать целые вечера вдвоем, покуривая, обсуждая мировые вопросы. А Одилия предпочитала театры, ночные кабаре, ярмарочные гулянья. Как-то вечером она часа три водила меня по цирковым манежам, балаганам, лотереям и тирам. Мы взяли с собою ее братьев; избалованные, веселые и чуть шалые мальчишки, да и сама Одилия, забавлялись от души. Около двенадцати я сказал:
– Одилия, неужели вам в конце концов не надоело? Согласитесь, это все-таки нелепо. Неужели вам в самом деле доставляет удовольствие бросать обручи на бутылки, ездить на игрушечных автомобилях и выиграть стеклянную лодочку, после того как вы раз сорок промахнетесь?
Она мне ответила словами философа, книгу которого я однажды посоветовал ей прочитать: «Не все ли равно, что радость ложная; лишь бы верить, что она истинная…» – и, взяв брата под руку, она бегом понеслась к другому тиру; она была хорошим стрелком; выбив десять очков из десяти возможных, она вернулась домой в прекрасном настроении.
В начале нашего знакомства мне казалось, что Одилия так же, как и я, не любит свет. Я ошибался. Ей нравились званые обеды, балы; когда она убедилась, что тетя Кора принимает у себя интересное, избранное общество, ей захотелось бывать на авеню Марсо каждый вторник. А у меня после свадьбы, наоборот, было одно только желание – проводить время наедине с Одилией; я чувствовал себя спокойно лишь тогда, когда знал, что эта несравненная красота надежно укрыта в узком домашнем кругу; дело доходило до того, что я бывал счастлив, когда Одилии, очень хрупкой и быстро утомлявшейся, приходилось лежать по нескольку дней в постели. Тогда я просиживал целые вечера в кресле возле нее; мы заводили долгие разговоры, которые она называла «канителью», или же я читал ей вслух. Я быстро понял, какой тип книг может привлечь ее внимание на несколько часов. Вкус у нее был неплохой, а особенно нравились ей книги меланхолического и страстного характера. Она любила «Доминика»,[10] романы Тургенева, кое-кого из английских поэтов.
– Как странно, – говорил я. – Когда мало вас знаешь, кажется, что вы – легкомысленная, а в сущности, вам нравятся только грустные книги.
– Но ведь я вообще очень мрачная, Дикки. Может быть, поэтому я и легкомысленна. Я не хочу показываться всем такою, какая я есть.
– Даже мне?
– Нет, вам – другое дело… Вспомните Флоренцию…
– Да, во Флоренции я вас знал хорошо… Но теперь, дорогая, вы стали совсем другой.
– Не надо быть всегда одинаковой.
– Теперь вы даже никогда не скажете мне ласкового слова.
– Ласковые слова не говорят по заказу. Будьте терпеливы. Все придет.
– Как во Флоренции?
– Конечно, Дикки. Ведь я все та же…
Она протягивала мне руку, я брал ее, и вновь продолжалась «канитель» – о моих и ее родителях, о Миза, о платье, которое она собирается шить, и просто так, о жизни. В такие вечера, томная и нежная, она действительно была похожа на созданную мною мифическую Одилию. Милая, слабая – она вся находилась в моей власти. Я был ей признателен за это изнеможение. Но едва только к ней возвращались силы и она начинала выезжать, предо мною вновь возникала Одилия загадочная.
Никогда она не рассказывала мне сразу же о том, чем она занималась в мое отсутствие, как это делают многие болтливые, бесхитростные женщины. Если я спрашивал, она отвечала кратко, почти всегда невразумительно. Из ее слов мне никогда не удавалось более или менее ясно представить себе последовательность событий. Помню, что позже одна из ее приятельниц сказала мне с той жестокостью, с какой женщины относятся друг к другу: «Одилия страдала манией обманывать и лгать». Это неправда. В первую минуту такой отзыв просто возмутил меня, но позже, поразмыслив, я понял, что именно в характере Одилии могло дать повод для такого отзыва… Небрежность в изложении фактов… Презрение к точности… Когда меня поражала какая-нибудь неправдоподобная фраза, я начинал ее расспрашивать, но вскоре замечал, что она замыкается в себе, как ребенок, которому неопытный учитель задает непосильные вопросы.
Однажды мне, против обыкновения, удалось приехать домой к завтраку; в два часа Одилия попросила горничную подать ей шляпу и пальто. Я спросил:
– Куда вы собираетесь?
– У меня зубной врач.
– Но, дорогая, я слышал, как вы говорили с ним по телефону; вам к трем часам. А что вы будете делать до этого?
– Ничего, я хочу идти не спеша.
– Но, дитя мое, это же вздор; врач живет на авеню Малахова. До него десять минут ходьбы, а у вас впереди целый час. Куда вы идете?
Она ответила: «Вы меня смешите» – и ушла. Вечером, после обеда, я не удержался и спросил:
– Ну так что же вы делали от двух до трех?
Она попробовала отшутиться, а когда я вздумал настаивать, ушла в свою комнату и легла спать, не попрощавшись. Этого у нас еще никогда не бывало. Я вошел к ней и попросил прощения. Она обняла меня. Перед уходом, убедившись, что она успокоилась, я сказал:
– Ну, теперь будьте паинькой и скажите, что вы делали от двух до трех?
Она расхохоталась. А ночью мне послышался шорох; я зажег свет, вошел к ней и увидел, что она тихо плачет. Почему она плакала? От стыда или с досады? Я стал расспрашивать, и она сказала:
– Вы поступаете неправильно. Я вас очень люблю. Но будьте осторожны: я очень гордая… Если такие сцены будут повторяться, я могу расстаться с вами, хоть вас и люблю… Пусть я не права, но надо принимать меня такою, какая я есть.
– Дорогая, я буду стараться, – ответил я, – но и вы, со своей стороны, постарайтесь немного измениться; вы говорите, что вы гордая; а разве нельзя иногда чуть-чуть поступиться гордостью?
Она упрямо покачала головой:
– Нет, измениться я не могу. Вы всегда говорите, что любите меня главным образом за непосредственность. Если бы я изменилась, я бы перестала быть непосредственной. Перемениться должны вы.
– Дорогая, мне никогда не удастся перемениться до такой степени, чтобы понимать то, чего я не понимаю. Отец всегда учил меня прежде всего уважать факты, уважать точность… Это стало формой моего ума. Нет, никогда я не буду в состоянии сказать, положа руку на сердце, что мне понятно, что вы делали сегодня между двумя и тремя.
– Ну, этого с меня достаточно, – резко ответила она.
И, повернувшись к стене, она притворилась, что спит.
Я думал, что на другой день она встанет в дурном расположении духа, но она, наоборот, поздоровалась со мною очень весело и, по-видимому, уже все забыла. Это было в воскресенье. Она предложила мне поехать в концерт. Исполняли «Страстную пятницу», которую мы оба очень любили. После концерта она попросила зайти куда-нибудь выпить чаю. Нельзя представить себе существа более трогательного, чем Одилия, когда она бывала веселой и упивалась жизнью; все в ней говорило о том, что она рождена для радости, и поэтому казалось преступлением отказать ей в удовольствии.
В то воскресенье она была оживлена, она вся искрилась жизнерадостностью, и, когда я смотрел на нее, мне не верилось, что накануне мы могли поссориться. Но чем лучше узнавал я свою жену, тем более убеждался, что она наделена удивительной способностью забывать все дурное – совсем как ребенок. Черта эта была в корне чужда моему характеру, моему уму, который все отмечал, собирал, регистрировал. В тот день жизнь для Одилии заключалась в чашке чая, во вкусных бутербродах, в свежих сливках. Она улыбалась мне, а я думал: «Больше всего отчуждает людей друг от друга, пожалуй, то, что одни живут преимущественно в прошлом, а другие – только в настоящем мгновении».
Я еще чувствовал горечь ссоры, но долго сердиться на Одилию я не мог; я упрекал себя, давал самому себе обещания; я зарекался не задавать бесполезных вопросов, клялся быть доверчивым. Мы возвратились домой пешком, через Тюильри и Елисейские поля; Одилия с восторгом вдыхала свежий осенний воздух. Мне казалось, что, как и весной во Флоренции, всё – рыжая листва деревьев, золотисто-серый свет, веселая парижская суета, детские кораблики, паруса которых клонились над гладью большого бассейна, и колеблющийся водомет над ними – всё в один голос поет мотив Рыцаря. Я повторял про себя любимую фразу из «Подражания»,[11] которую стал применять к своим отношениям с Одилией: «Вот я пред Тобою, как раб Твой, и я готов на все, потому что ничего не желаю для себя, а все только для Тебя». Когда мне удавалось одерживать такую победу над собственной гордыней и смиряться – не перед Одилией, а, точнее, перед моей любовью к Одилии, – я бывал доволен самим собою.
Больше чем с кем-либо Одилия была близка с Миза. Они звонили друг другу по телефону каждое утро, иногда разговаривали больше часа, а днем выезжали вместе. Я поощрял их дружбу – она занимала Одилию, пока я бывал в конторе. Мне даже доставляло удовольствие видеть по воскресеньям Миза у нас в доме; не раз, уезжая куда-нибудь с Одилией на два-три дня, именно я предлагал взять с собою ее подругу. Попытаюсь объяснить Вам чувства, которые руководили мною, потому что в дальнейшем это поможет Вам понять странную роль, которую Миза сыграла в моей жизни. Прежде всего надо сказать, что если я все еще стремился, как в первые недели, быть наедине с Одилией, то теперь это объяснялось не столько радостью неустанно видеть ее, сколько смутным страхом перед тем, что могут принести с собою новые люди. Я любил ее не меньше, но знал, что общение между нами всегда будет ограничено и что всякий действительно серьезный, задушевный разговор встретит с ее стороны всего лишь снисходительно-благожелательное отношение. Правда, в виде реванша я все чаще ограничивался болтовней – чуть шаловливой, чуть печальной, легкомысленной и неизменно любезной, той «канителью», к какой всегда сводились разговоры Одилии, когда она бывала сама собою. А Одилия никогда не бывала так естественна, как в присутствии Миза. Когда они разговаривали друг с другом, у обеих обнаруживался ребяческий характер ума, который очень забавлял меня и в то же время трогал, потому что давал мне представление о том, какою была Одилия в детстве. Однажды вечером, в Дьеппе, в гостинице, они стали ссориться, как дети, и Одилия в конце концов швырнула в Миза подушкой, крикнув:
– Гадкая девчонка!
Было во мне и другое, тревожное чувство, которое неизбежно появляется в тех случаях, когда молодая женщина становится – в силу внешних обстоятельств, а не любви – повседневной участницей жизни мужчины. Благодаря нашим поездкам, благодаря фамильярности Одилии – а это поощряло и мою фамильярность – отношения мои с Миза были почти столь же непринужденны, как отношения с любовницей. Однажды, когда зашел разговор о физической силе женщин, Миза предложила мне побороться. Схватка продолжалась какое-нибудь мгновение; я повалил ее и встал, несколько смущенный.
– Вы как маленькие! – заметила Одилия. Миза долго лежала, пристально смотря на меня. Она была единственным человеком, которого мы с Одилией оба принимали с удовольствием. Альф и Бертран у нас теперь почти не бывали, и я не особенно жалел об этом. Я очень быстро стал относиться к ним так же, как Одилия. Слушая ее разговоры с ними, я как-то странно раздваивался. Смотря на нее их глазами, я считал, что она рассуждает о серьезных вопросах недопустимо легкомысленно. А в то же время я предпочитал ее легкомыслие теориям моих друзей. Таким образом, я стыдился жены перед ними и гордился ею в глубине души. Когда они уходили, я думал, что Одилия, несмотря ни на что, выше их в силу своей более непосредственной связи с жизнью, с природой.
Одилия не любила мою семью, а я не особенно любил ее родственников. Мама вздумала давать Одилии советы насчет выбора мебели, образа жизни, обязанностей молодой жены. Одилия терпеть не могла никаких советов. Она говорила о Марсена тоном, который крайне шокировал меня. В Гандюмасе мне бывало скучно, я считал, что у нас все радости жизни приносятся в жертву семейным условностям, священное происхождение которых отнюдь не доказано; но в то же время я гордился строгостью наших традиций. Жизнь в Париже, где Марсена решительно ничего собою не представляли, должна была бы излечить меня от мании приписывать им особую значительность. Но, подобно тому как маленькие религиозные общины, переселясь в дикарские страны, хоть и убеждаются в том, что миллионы людей поклоняются другим божествам, все же остаются непоколебимы в своей вере, – так и мы, Марсена, оказавшись в среде светских язычников, свято хранили память о Лимузене и о своем величии.
Даже мой отец, восхищавшийся Одилией, не мог не сердиться на нее. Он этого не показывал – тут сказывалась и доброта его, и сдержанность; но я знал, насколько он деликатен, – я сам унаследовал эту черту, – и я отлично понимал, как должен был огорчать его тон Одилии. Если у моей жены бывал какой-нибудь повод сомневаться или негодовать, она выражала свое чувство резко и тут же забывала об этом. А нас, Марсена, учили иначе обращаться и разговаривать с людьми. Однажды Одилия мне сказала: «Ваша мама приезжала к нам в мое отсутствие и позволила себе сделать замечание лакею; я ей сейчас позвоню и скажу, что не выношу этого…»
Я стал умолять ее не торопиться.
– Послушайте, Одилия. В сущности, вы правы; но не говорите ей это сами, вы ее только рассердите. Предоставьте это мне, а если хотите (и это будет даже лучше), попросите тетю Кора сказать маме, что вы ей сказали, что…
Одилия рассмеялась.
– Вы даже не отдаете себе отчета в том, какая смешная ваша семья, – сказала она. – Но это не только смешно, это ужасно… Да, Дикки, ужасно, потому что как-никак я немного меньше люблю вас, когда вижу все эти карикатуры… ведь ваши родные – не что иное, как карикатуры на вас… Я знаю, вы не такой по природе, а все-таки на вас лежит их отпечаток.
Первое лето, проведенное нами вместе в Гандюмасе, прошло довольно сложно. У нас завтракали ровно в двенадцать, и мне даже в голову никогда не приходило, что можно опоздать и заставить отца дожидаться. А Одилия уходила с книгой на лужайку или отправлялась на берег ручья и забывала о времени. Я видел, как отец шагает взад и вперед по библиотеке. Я бегом бросался на поиски жены, возвращался, запыхавшись, так и не найдя ее, а она появлялась невозмутимая, улыбающаяся, довольная, что погрелась на солнышке. Когда же мы садились за стол молча, чтобы выразить ей осуждение (поскольку оно исходило от Марсена, оно могло быть лишь косвенным и безмолвным), тогда она начинала поглядывать на нас с улыбкой, в которой я улавливал и насмешку и вызов.
В семье Мале, где мы обедали раз в неделю, положение менялось: там изучали и судили меня. У них трапезы не были торжественной церемонией, братья Одилии вставали из-за стола и сами отправлялись за хлебом, господин Мале начинал говорить о какой-нибудь прочитанной фразе, не мог ее в точности припомнить и тоже выходил, чтобы заглянуть в книгу. Беседа отличалась крайней вольностью; мне очень не нравилось, что господин Мале касается в присутствии дочери скользких тем. Я отлично понимал, что глупо придавать значение таким мелочам; но у меня это не было плодом рассуждений, просто на меня это производило тягостное впечатление. У Мале я чувствовал себя неуютно; там климат был не по мне. Я не нравился самому себе, казался напыщенным, нудным и, осуждая себя за молчаливость, становился еще молчаливее.
Как и в Гандюмасе, так и у Мале эти неприятные ощущения все же бывали поверхностны, ибо у меня по-прежнему оставалось неоценимое счастье – быть подле Одилии, постоянно видеть ее. За обедом, сидя напротив жены, я не мог не любоваться ею; от ее облика исходило какое-то лучезарное, белое сияние; она напоминала мне прекрасный бриллиант в лучах лунного света. В то время она одевалась почти всегда в белое, а дома окружала себя белыми цветами. Это очень шло к ней. Как чудесно сочетались в ней простодушие и тайна! Мне казалось, будто я живу возле ребенка, но иной раз, когда она разговаривала с кем-нибудь из мужчин, я ловил в ее взгляде отсвет чувств, неведомых мне, и как бы отдаленный рокот безудержных страстей.
Я попытался донести до Вашего слуха вступление, первую экспозицию тем – еще заглушаемых другими, более громкими инструментами, – тем, на основе которых возникала незавершенная симфония, какою оказалась моя жизнь. Вы видели Рыцаря, Циника, а в нелепой истории с обойщиком (которую я не утаил, чтобы быть вполне откровенным) Вы, вероятно, уловили первый, далекий зов Ревности. Будьте же теперь снисходительны и постарайтесь не судить, а понять. Чтобы продолжать эту историю, мне придется делать над собой мучительные усилия, но я все же хочу быть точным. Хочу тем более, что считаю себя исцеленным и что буду стараться говорить о своем безумии так же объективно, как врач говорит о припадках галлюцинаций, которыми он сам страдал.
Есть болезни, начинающиеся медленно, с легких, повторяющихся недомоганий; другие вспыхивают за один вечер и выражаются в приступе сильнейшей лихорадки. У меня ревность возникла как внезапный, грозный недуг. Когда я теперь, успокоившись, пытаюсь доискаться ее причин, они мне представляются весьма разнообразными. Прежде всего была глубокая любовь и естественное желание сохранить для себя, вплоть до мельчайших частиц, ту драгоценную субстанцию, какую представляли собою жизнь Одилии, ее слова, ее улыбки, ее взгляды. Но это желание не было самым существенным, ибо, когда я имел возможность владеть Одилией безраздельно (например, когда мы оставались одни, вечером, у себя дома, или когда я увозил ее с собою на два-три дня), она жаловалась, что я не столько занят ею, сколько книгами или своими мыслями. Желание располагать ею безраздельно охватывало меня только тогда, когда она могла принадлежать другим, – в этом сказывалась прежде всего гордыня, подспудная гордыня, замаскированная скромностью и сдержанностью и свойственная семье моего отца. Я хотел царить над умом Одилии, подобно тому как в долине реки Лу я царил над водами, лесами, над своей фабрикой с ее длинными агрегатами, по которым текло белое бумажное тесто, над крестьянскими домиками и коттеджами рабочих. Я хотел знать, что творится в этой головке, под этими локонами, – подобно тому как я всегда знал из подробных отчетов, которые мне присылали из Лимузена, сколько кило ватмана остается в наличности и какова была суточная выработка за истекшую неделю.
Боль, которую причиняет мне воспоминание об этом, подтверждает, что именно здесь, в этом остром интеллектуальном интересе, и находился очаг недуга. Я не допускал мысли, что можно не понимать близкого человека. Между тем понимать Одилию было невозможно, и я думаю, что ни один мужчина, любя ее, не мог бы жить возле нее, не страдая. Я даже убежден, что будь она другою – я так и не узнал бы никогда, что такое ревность (ибо человек не рождается ревнивцем, он только наделен восприимчивостью, в силу которой может заразиться этой болезнью); но Одилия, невольно, самой своей натурой, беспрестанно возбуждала во мне подозрительность. События, встречи каждого дня представляли собою для меня, как и для всех моих родственников, вполне определенную картину, и достаточно было точно их описать, чтобы все фразы, все элементы рассказа слились в единое целое, не оставив места для каких-либо сомнений; пройдя же сквозь сознание Одилии, все это становилось каким-то сумбурным, туманным наброском.
Мне не хочется, чтобы у Вас создалось впечатление, будто она умышленно искажала правду. Все было гораздо сложнее. Дело в том, что для нее слова, фразы не имели особого значения; она была прекрасна, как существо, являющееся нам в мечтах, – в мечтах она и проводила жизнь. Я уже говорил Вам, что она всегда жила данной минутой. Она придумывала прошлое и будущее в тот миг, когда они были ей нужны, и тут же забывала вымысел. Если бы она хотела обмануть, она старалась бы согласовать свои выдумки, придать им хотя бы видимость истины, а я никогда не замечал, чтобы она заботилась об этом. Она противоречила себе в одной и той же фразе. Однажды, вернувшись из поездки на фабрику, я спросил:
– Как вы провели воскресенье?
– Воскресенье? Забыла! Ах да, – я очень устала и весь день пробыла в постели.
Пять минут спустя, когда разговор зашел о музыке, она вдруг воскликнула:
– Да! Забыла вам сказать: в воскресенье я была на концерте, слушала «Вальс» Равеля, о котором вы мне говорили. Мне очень понравилось…
– Однако, Одилия, вы отдаете себе отчет в том, что говорите? Это какой-то бред… Неужели вы не знаете, где были в воскресенье: на концерте или в постели?.. Не думаете же вы, что я могу поверить одновременно и тому и другому.
– А я вас и не прошу верить. Когда я утомлена, я говорю Бог весть что… Я сама не слушаю, что говорю.
– Ну, теперь-то вспомните поточнее: как вы провели прошлое воскресенье? Лежали вы или были на концерте?
В таких случаях она на миг смущалась, потом говорила:
– Право, не помню; когда вы расспрашиваете меня таким инквизиторским тоном, я совсем теряю голову.
Такие разговоры были для меня крайне тягостны; я терзался, мучился, не мог уснуть и часами пытался по отрывочным, вырвавшимся у нее словам восстановить картину того, как она в действительности провела время. Я мысленно перебирал тех ее знакомых, к которым относился подозрительно, так как знал, что она дружила с ними в пору девичества. А сама Одилия забывала подобные сцены так же легко, как и все другое. Оставив ее утром хмурой, замкнутой, я вечером заставал ее веселой. Я возвращался, готовясь сказать: «Знаете, дорогая, так больше нельзя; нам нужно подумать о том, не расстаться ли нам. Я не хочу этого, но так продолжаться не может; вам надо сделать над собою усилие, надо вести себя иначе». Одилия встречала меня совсем другая, в новом платье, и говорила, обнимая: «Знаете, звонила Миза, у нее три билета в «Эвр», и мы идем на "Кукольный дом"», – а я из любви к ней и по слабости смиренно принимал эту неправдоподобную, но утешительную выдумку.
Я был слишком горд, чтобы показать, что страдаю. И особенно хотел я во что бы то ни стало скрыть это от моих родителей. В первый год нашего брака только двое, как мне казалось, догадывались о том, что происходит: прежде всего моя кузина Ренэ, и это тем более удивляло меня, что мы видались с нею очень редко. Она вела независимый образ жизни, и долгое время это возмущало всю нашу семью не меньше, чем моя женитьба. Во время пребывания дяди Пьера в Вителе, куда он каждый год ездил лечиться, Ренэ познакомилась с доктором Прюдомом и его женой и очень привязалась к ним. Ренэ всегда была девушкой несколько строптивой и с юности критически относилась к образу жизни семьи Марсена. Она стала ездить к своим новым друзьям в Париж и гостила у них все дольше и дольше. Доктор Прюдом, человек состоятельный, практикой не занимался, а посвятил себя изучению рака; жена работала вместе с ним. Ренэ не могла ужиться с отцом именно потому, что была слишком на него похожа; от него она унаследовала также и исключительную требовательность к себе во всякой работе. Она быстро нашла себе место в кругу ученых и врачей, куда ее ввели друзья. Как только ей исполнился двадцать один год, она попросила отца выдать ей ее приданое и позволить поселиться в Париже. Несколько месяцев она была в ссоре с нашей семьей. Но Марсена слишком дорожили видимостью нерасторжимой любви, которая должна соединять родителей и детей, чтобы долго мириться с разрывом кровных уз. Когда дядя Пьер убедился, что решение дочери бесповоротно, он капитулировал ради восстановления мира. Время от времени его еще обуревали вспышки гнева, но они становились все менее и менее продолжительны; он умолял дочь выйти замуж; она отказывалась; она грозила, что никогда больше ноги ее не будет в Шардейле; обезоруженные дядя и тетя давали обещание больше не заговаривать на эту тему.
Ренэ присутствовала при моей помолвке и прислала в тот день Одилии великолепную корзину белой сирени. Помню, это меня удивило: ее родители уже сделали нам хороший подарок; зачем еще цветы? Несколько месяцев спустя мы встретились с Ренэ за обедом у дяди Пьера, и я пригласил ее к нам. Она была очень мила с Одилией, и я с интересом слушал ее рассказы о путешествиях. С тех пор как я перестал видеться с большинством моих старых друзей, мне не приходилось слышать столь серьезной и содержательной беседы. Когда она собралась уезжать, я проводил ее до двери. «Как прелестна твоя жена!» – сказала она мне с искренним восхищением. Потом посмотрела на меня с грустью и спросила: «Ты счастлив?» – таким тоном, что я понял, как сильно она в этом сомневается.
Другой женщиной, на мгновение приподнявшей передо мной завесу, была Миза. Вскоре после нашей свадьбы она стала вести себя довольно странно. Мне казалось, что теперь она гораздо больше стремится подружиться со мной, чем поддерживать дружбу с Одилией. Как-то вечером, когда Одилии нездоровилось и она лежала в постели, Миза пришла ее навестить (у Одилии одна за другой были две неудачные беременности, и теперь стало очевидным, что у нее, к сожалению, уже не может быть детей). Мы с Миза расположились на диване около кровати. Мы сидели очень близко друг от друга и были настолько скрыты от Одилии высокой спинкой кровати, что она могла видеть только наши головы. Вдруг Миза пододвинулась, прижалась ко мне и взяла меня за руку. Я был настолько ошеломлен, что до сих пор не понимаю, как Одилия ничего не заметила по выражению моего лица. Я, хоть и с сожалением, отстранился, а вечером, провожая Миза домой, в каком-то невольном, внезапном порыве слегка поцеловал ее. Она не противилась.
Я сказал:
– Нехорошо! Бедняжка Одилия…
– Ну! Одилия! – отозвалась она, пожав плечами. Это мне не понравилось, и после того вечера я стал с нею очень холоден; вместе с тем я был встревожен, ибо думал: не следует ли это «Ну! Одилия!» понимать так: «Одилия не заслуживает того, чтобы считались с ней».
Два месяца спустя Миза вышла замуж. Одилия сказала мне, что не понимает выбора Миза. Молодой человек – Жюльен Годе – показался моей жене весьма посредственным. Он был инженер, только что окончил институт, и у него, по выражению господина Мале, «еще не было положения». Миза, видимо, не столько любила его, сколько старалась любить. А он, наоборот, был влюблен без памяти. В то время отец подыскивал директора для отделения бумажной фабрики, которое он открыл в Гишарди, около Гандюмаса. Когда он услышал о замужестве Миза, ему пришла в голову мысль пригласить на эту должность мужа нашей приятельницы. Мне это не особенно нравилось; я уже не доверял Миза, но Одилия, любившая оказывать услуги и доставлять удовольствие, поблагодарила отца и тут же передала предложение.
– А вы подумали о том, что собираетесь отправить Миза в провинцию и что сами лишитесь ее в Париже? – сказал я.
– Да, конечно; но я делаю это ради нее, а не ради себя; к тому же я буду видеться с нею во время противных поездок в Гандюмас, и это станет для меня большой радостью. А если ей вздумается пожить в Париже, она всегда может остановиться у своих родителей или у нас… И ведь нужно же молодому человеку чем-то заняться, а если мы его не наймем, они уедут куда-нибудь в Гренобль или Кастельнодари.
Миза и ее муж сразу же приняли предложение, и Одилия сама, среди зимы, отправилась в Гандюмас, чтобы подыскать для них дом и познакомить их с местными жителями. Самоотверженная забота о друзьях была одной из характерных черт Одилии, которую я еще недостаточно отметил.
Мне кажется, что на нашей семейной жизни отъезд Миза сказался пагубно, ибо непосредственным его следствием явилось сближение Одилии с группой знакомых, которая была мне очень не по душе. До замужества Одилия часто выезжала одна с молодыми людьми: они приглашали ее в театр; она совершала поездки с братьями и с их товарищами. Она откровенно рассказала мне об этом, когда мы были помолвлены, и добавила, что не может отказаться от старых знакомств. В то время я жаждал ее больше всего на свете; я искренне ответил, что считаю это вполне естественным и никогда не стану препятствием между нею и ее друзьями.
Как несправедливо и нелепо возлагать на людей ответственность за обещания, которые они дают! Давая Одилии такой зарок, я отнюдь не представлял себе, что я почувствую, когда увижу, что она встречает другого тем самым взглядом, той самой улыбкой, которые так мне дороги. Вы, пожалуй, удивитесь, если я скажу, что меня огорчало также и сознание, что друзья Одилии в большинстве своем люди довольно посредственные. Это сознание должно было бы меня успокаивать, а мне, наоборот, оно было оскорбительно. Когда любишь жену так, как я любил свою, все связанное с ее образом оказывается наделенным мнимыми достоинствами и добродетелями, и подобно тому как город, где ты встретился с нею, кажется красивее, чем он есть в действительности, и ресторан, где ты обедал с нею, вдруг становится лучше всех остальных, так и на сопернике, как бы он ни был ненавистен, отражается это сияние. Если бы таинственный композитор, оркеструющий нашу жизнь, выделил из всего произведения тему Соперника и мы услышали бы ее отдельно, то оказалось бы, думается мне, что тема эта почти полностью совпадает с темой Рыцаря, но в ироническом и искаженном плане; нам хотелось бы встретить в сопернике противника, достойного нас, и таким образом из всех разочарований, которые может причинить нам женщина, разочарование в сопернике оказывается самым горьким. Я ревновал бы, но не удивлялся бы, видя возле Одилии выдающихся людей нашего времени; между тем я замечал, что она окружена молодыми людьми, которые, если судить беспристрастно, может быть, и не хуже других, но отнюдь не заслуживают ее, да к тому же и не ею выбраны.
– Одилия, зачем так кокетничать? – сказал я ей однажды. – Еще понятно, когда некрасивой женщине хочется испытать свои силы. Но вы… В этой игре вы выиграете наверняка; значит, дорогая, с вашей стороны это жестоко, неблагородно… А главное, выбираете вы так странно… Например, вы постоянно видитесь с этим Жаном Бернье… А что в нем интересного? Он безобразный, грубый…
– Он меня забавляет.
– Как может он забавлять? Вы человек тонкий, с хорошим вкусом. А его шуточки всегда отдают казармой; я ни за что не решился бы сказать при вас что-нибудь подобное.
– Вы, конечно, правы; он некрасив, быть может, даже вульгарен (хотя я этого и не думаю), но мне он нравится.
– Но не влюблены же вы в него, надеюсь?
– Вот уж нет! С ума сошли! Я не потерпела бы его прикосновения, он мне напоминает слизняка…
– Дорогая, пусть вы не влюблены в него, зато он в вас влюблен. Я это отлично вижу. Вы причиняете страдания двоим – ему и мне. К чему это?
– Вы воображаете, что все в меня влюблены… Я уж не так хороша…
Она говорила это с такой прелестной кокетливой улыбкой, что и я не мог не улыбнуться. Я поцеловал ее.
– Итак, дорогая, вы будете встречаться с ним пореже?
Она нахмурилась:
– Я этого не говорила.
– Не говорили, но я вас прощу… неужели вам так трудно? А меня вы очень порадуете. Притом вы сами говорите, что он вам совершенно безразличен…
Она казалась озадаченной, задумалась на минуту, потом ответила, смущенно улыбаясь:
– Не знаю, Дикки, я, кажется, не могу иначе… Меня это забавляет.
Бедная Одилия! Она произнесла эту фразу с таким ребячливым, с таким искренним видом! Тогда я стал с присущей мне неумолимой и безуспешной логикой доказывать, что поступать «иначе» совсем не трудно…
– Вы не правы в том, что принимаете себя такою, какая вы есть, как будто мы при рождении получаем готовые характеры, – сказал я. – А ведь свой характер человек может совершенствовать, изменить…
– Вот и измените свой.
– Я готов попытаться. Но помогите мне в этом и тоже постарайтесь.
– Нет, нет, я уже вам не раз говорила, что не могу. Да и нет желания.
Когда я размышляю о тех, теперь уже далеких днях, у меня возникает вопрос: не определялось ли ее поведение каким-то глубоким инстинктом? Если бы она изменилась, как я того просил, продолжал бы я ее все так же любить? Стал бы я терпеть возле себя постоянное присутствие этого пустого маленького существа, не будь сцен, которые не давали нам обоим соскучиться? К тому же неправда, что она никогда не старалась измениться. Одилия не была злая. Когда она замечала, что я огорчен, ей казалось, что она готова на все, лишь бы помочь мне, но гордость и слабоволие оказывались сильнее доброты, и поведение ее оставалось прежним.
Постепенно я научился улавливать в ней то, что я называл ее «победным видом», – в таких случаях ее обычная веселость поднималась на полтона выше, глаза блестели ярче, лицо становилось еще прекраснее, а свойственная ей томность исчезала. Когда кто-нибудь нравился ей, я узнавал об этом раньше, чем она сама. Это было ужасно… Иной раз мне припоминалась фраза, сказанная ею во Флоренции: «Я была чересчур ласкова, и, женившись на мне, вы, пожалуй, будете опасаться, что я окажусь легкомысленной…»
Я до сих пор часто размышляю над тем горестным временем, и больше всего меня удручает мысль, что, несмотря на свое кокетство, Одилия была мне верна и что, будь я тактичнее, мне, быть может, удалось бы сохранить ее любовь. Но нелегко было понять, как надо вести себя с Одилией; ласковое обращение докучало ей и сразу вызывало враждебную реакцию; угрозы могли толкнуть ее на самые крайние поступки.
Одной из основных черт ее характера была любовь к опасности. Ей особенно нравилось кататься на яхте при ураганном ветре, править гоночным автомобилем в трудном пробеге, брать верхом высокие барьеры. Вокруг нее вертелась целая ватага отчаянных молодцов. Но ни одному из них, видимо, она не отдавала предпочтения, и всякий раз, когда мне доводилось слышать их разговоры, я убеждался, что Одилия говорит с ними просто как с товарищами по спорту. Впрочем, теперь в моих руках (я Вам объясню, как это случилось) множество писем, присланных Одилии этими юношами; все письма говорят о том, что она допускала любовную болтовню, но всегда отвергала близость.
«Странная Вы, Одилия! – писал один из них. – В одно и то же время такая сумасбродная и такая целомудренная! Даже слишком целомудренная, на мой взгляд». А другой, чувствительный и набожный юный англичанин, утешался по-своему: «Так как не подлежит сомнению, дорогая Одилия, что в этом мире Вы никогда не будете моею, я надеюсь быть около Вас в мире ином». Но я рассказываю Вам сейчас то, что сам узнал значительно позднее, а тогда мне не верилось, что можно вести столь независимый образ жизни и оставаться безгрешной.
Чтобы быть вполне справедливым по отношению к ней, я должен добавить еще одну черту, которую упустил из виду. В первое время нашей совместной жизни она старалась приобщить меня к своим старым и новым дружеским связям; она охотно поделилась бы со мною всеми своими друзьями. Того англичанина, о котором я говорил, мы встретили в первые наши каникулы, летом, в Биаррице. В виде развлечения он учил Одилию играть на банджо – тогда еще мало известном инструменте; он пел ей негритянские песни. Перед отъездом он во что бы то ни стало захотел подарить ей свое банджо, и меня это страшно злило. Две недели спустя она мне сказала:
– Дикки, я получила письмо от маленького Дугласа, оно по-английски; прочтите его, пожалуйста, и помогите мне написать ответ.
Не знаю, что за дьявол меня попутал, но я с еле сдерживаемой яростью возразил, что надеюсь, что она ни в коем случае отвечать не будет, что Дуглас – идиот и что и без того он достаточно мне надоел… Все это не соответствовало истине: Дуглас был отлично воспитан, очарователен и до женитьбы очень бы мне понравился. Но у меня уже входило в привычку, слушая жену, доискиваться: что она хочет скрыть? Всякий раз, когда в ее словах что-то казалось мне неясным, я строил замысловатую теорию, чтобы уяснить себе, для чего именно нужна Одилии эта неясность. Была какая-то мучительная радость, упоительная мука в мысли о том, что я разгадал ее ложь. Память у меня, в общем, довольно слабая, но как только дело касалось Одилии, она оказывалась превосходной. Я запоминал малейшие ее фразы; я сравнивал одну с другою, взвешивал их. Мне случалось говорить ей: «Как? Вы ездили на примерку костюма? Значит, это уже четвертая примерка? Вы мерили его на прошлой неделе во вторник, в четверг и в субботу». Она смотрела на меня, улыбалась без малейшего смущения и говорила: «У вас дьявольская память…» Я одновременно чувствовал и стыд от сознания, что меня разыгрывают, и гордость от того, что раскрыл ее хитрость. Впрочем, мои разоблачения ни к чему не вели; я никогда не переходил к действиям, не хотел действовать, и загадочная безмятежность Одилии никогда не давала повода к сценам. Я был в одно и то же время и несчастлив, и не в силах что-либо изменить.
Принять крутое решение и, скажем, запретить Одилии видеться с некоторыми друзьями мешало мне сознание, что мои отчаянные выводы неизменно приводят меня к самым нелепым промахам. Помню, например, что в течение нескольких недель Одилия жаловалась на головные боли, на усталость и говорила, что ей хотелось бы провести несколько дней в деревне. Сам я не мог в то время уехать из Парижа; я долго не отпускал ее. Заметьте, что я отнюдь не сознавал того, сколь эгоистично с моей стороны не верить ее недомоганию.
В конце концов мне пришла в голову мысль, что разумнее согласиться, отпустить ее, как она хотела, в Шантийи,[12] а на другой день, вечером, неожиданно нагрянуть туда. Если я застану ее не одну (а я был уверен в этом), то по крайней мере узнаю что-то определенное и, главное, получу возможность действовать – уличить ее, покинуть (ибо мне казалось, что я хочу с нею расстаться, но это было не так). Она уехала. На второй день я нанял машину (предвидя драму, я не хотел, чтобы она разыгралась в присутствии моего шофера) и после обеда отправился в Шантийи. Проехав почти полпути, я велел шоферу повернуть обратно, а километра через четыре, снедаемый любопытством, опять приказал ехать в Шантийи. В гостинице я спросил, в каком номере остановилась Одилия. Мне отказались сообщить это. Я решил, что все ясно. Тогда я предъявил свои документы, доказал, что я ее муж. В конце концов рассыльный повел меня к ней. Я застал ее одну; на столе у нее лежало несколько книг, и она уже успела написать множество писем. Не удалось ли ей подстроить всю эту декорацию?
– Как далеко вы заходите! – сказала она мне с жалостью. – Что вы думаете? Чего опасаетесь? Что я тут с мужчиной? А зачем он мне?.. Вы никак не можете понять, что я хочу побыть одна именно для того, чтобы побыть наедине с собою. А уж если хотите полной откровенности, то особенно я хочу не видеть вас несколько дней. Вы так утомляете меня своей подозрительностью, что мне приходится следить за каждой своей фразой, остерегаться малейшего противоречия – совсем как преступнику перед лицом следователя… Здесь я провела чудесный день, я читала, мечтала, спала, гуляла в лесу. Завтра я пойду во дворец смотреть миниатюры… Если бы вы только знали, как все это просто!
Но я уже думал: «Теперь, окрыленная успехом, она будет уверена, что в следующий раз можно спокойно пригласить к себе любовника».
Любовник Одилии! С каким упорством я старался определить, что он собою представляет! Я создавал его образ из всего, что в словах и в поведении моей жены казалось мне необъяснимым. С чудовищной проницательностью анализировал я каждое ее слово. Я отмечал все более или менее незаурядные мысли, высказанные ею, чтобы отнести их за счет этого незнакомца. У нас создались странные отношения. Теперь я не скрывал ничего, что думал о ней, – как суровы ни были бы мои суждения. Она выслушивала меня с почти что снисходительным вниманием; мои слова раздражали ее, и вместе с тем ей льстило, что она стала объектом столь острого интереса и неустанных наблюдений.
Она по-прежнему недомогала и теперь стала укладываться очень рано. Я почти все вечера проводил у ее постели. Странные и все же приятные вечера! Я объяснял ей изъяны ее характера, она слушала, улыбаясь, потом протягивала мне руку, чтобы я подал ей свою, и говорила:
– Бедный Дикки! Сколько мучений из-за несчастной девчонки – злой, глупой, надменной, легкомысленной… Ведь я такая, правда?
– Вовсе нет, – отвечал я, – может быть, вы и не особенно умная, но у вас поразительная интуиция и отличный вкус…
– Вот как!.. – подхватывала Одилия. – Значит, кое-что у меня все-таки есть? Послушайте, Дикки, я сейчас прочту вам английские стихи, которые мне недавно попались; они мне очень нравятся.
Одилия обладала удивительно тонким врожденным вкусом; редко случалось, чтобы она похвалила что-либо посредственное, но в самом выборе стихотворения, которое она мне прочла, я с тревогой и удивлением почувствовал жажду любви, глубокое понимание страсти и смутное желание умереть. Особенно вспоминается мне строфа, которую она потом часто повторяла:
From too much love of living.
From hope and fear set tree,
We thank, with brief thanksgiving,
Whatever Gods may be,
That no life lives for ever,
That dead men rise up never,
That even the weariest river
Winds somewhere safe to sea.[13]
– «The weariest river…» – часто повторяла она, – самая усталая река… Как хорошо сказано! Это я, Дикки, самая усталая река… И я тихонько направляюсь к морю.
– С ума сошли, Одилия! – возражал я. – Вы сама жизнь.
– Это только так кажется, – отвечала она с потешно-печальной гримаской, – на самом деле я очень усталая река.
Расставаясь с нею после такого вечера, я говорил:
– Но и при всех ваших недостатках, Одилия, я вас, в сущности, очень люблю.
– И я вас тоже, Дикки, – отзывалась она.
Давно уже отец просил меня съездить в Швецию по делам нашей фабрики. Мы покупали там древесину через маклеров; не подлежало сомнению, что можно покупать ее дешевле, если иметь дело непосредственно с заводами, но отец чувствовал себя недостаточно хорошо, чтобы поехать самому. Я отказывался ехать без Одилии, а она не выражала ни малейшего желания сопутствовать мне. Это казалось мне подозрительным. Она любила путешествовать. Я предложил, если ей не хочется ехать по железной дороге через Германию и Данию, отправиться пароходом из Гавра или Булони; для нее это могло бы стать приятным развлечением.
– Нет, – ответила она, – поезжайте один; Швеция меня ничуть не привлекает, там холодно.
– Вовсе нет, Одилия, это очаровательная страна… Пейзажи, созданные как бы нарочно для вас, уединение, большие озера среди елей, древние замки…
– Вы так считаете? Нет, мне не хочется сейчас уезжать из Парижа… Но раз отец хочет, чтобы вы съездили туда, поезжайте один. Для вас будет полезно увидеть других женщин, помимо меня. Шведки прелестны, высокие бледные блондинки. Как раз тот тип, который вам нравится; измените мне…
В конце концов стало уже невозможно откладывать поездку. Я смиренно признался Одилии, что мысль оставить ее в Париже одну приводит меня в ужас.
– Какой вы странный, – сказала она. – Я не буду никуда выезжать, обещаю вам; у меня накопилось много книг, которые я должна прочитать, а завтракать и обедать я буду у мамы.
Я уехал с болью в сердце и первые три дня провел ужасно. По пути из Парижа в Гамбург в моем воображении беспрестанно возникала картина, как Одилия принимает у себя в будуаре человека, лица которого я не мог себе представить; он играл ей на рояле ее любимые вещи. Мне чудилось, что она оживлена, улыбается и лицо ее сияет счастьем, каким оно некогда светилось только для меня; я хотел бы схватить это счастье, запереть его на замок и ревниво хранить для себя одного. Кто же из ее окружения удерживает ее в Париже? Не дурак ли Бернье или, может быть, американец Ленсдейл, приятель ее братьев? В Мальмё новый, только что выкрашенный поезд и необычность его расцветки наконец вырвали меня из мрачных раздумий. В Стокгольме я получил письмо Одилии. Письма ее бывали очень занятны; она писала как ребенок. Она говорила: «На душе очень спокойно. Я ничего не делаю. Идет дождик… Я читаю. Я перечитала «Войну и мир». Я завтракала у мамы. Ваша мама была у нас». И так далее, – коротенькие фразы, ничего особенного не говорящие, но они почему-то – а может быть, именно в силу своей незначительности и наивной простоты – успокаивали меня.
Последующие дни принесли мне еще большую разрядку. Странно, я любил Одилию в те дни даже сильнее, чем в Париже. Я представлял ее себе серьезной, несколько томной; она лежит на кушетке и читает; возле нее – вазочка с одной великолепной гвоздикой или розой. При всем своем безрассудстве я сохранял обычную проницательность. Я думал: «Почему же мне не тяжело? Я должен бы страдать. Я о ней ничего не знаю. Она свободна и может писать мне все, что ей вздумается». Я отдавал себе отчет в том, что разлука, способствуя, как я уже знал, кристаллизации любви,[14] вместе с тем на время усыпляет ревность, потому что лишает ум всех тех мелких фактов, тех наблюдений, на основе которых он возводит свои коварные, страшные домыслы; тем самым разлука дает ему отдых и успокоение. Переговоры, которые мне предстояло вести, были связаны с разъездами по стране; я останавливался в замках, у владельцев обширных лесов; меня угощали местными наливками, икрой, копченой лососиной; женщины там отличались каким-то кристаллически холодным великолепием; случалось, что я по Целым дням не думал об Одилии и ее поступках.
Особенно мне запомнился один вечер. Я обедал за городом, в окрестностях Стокгольма; после обеда хозяйка предложила погулять в парке. Мы укутались в меха. Воздух был ледяной. Рослые белокурые слуги распахнули кованые железные ворота, и мы оказались у замерзшего пруда, который слабо поблескивал под полуночным солнцем. Моей спутницей была очаровательная, веселая женщина; незадолго до прогулки она сыграла несколько прелюдий с такой воздушной фацией, что растрогала меня до слез. Наступило мгновенье, когда я был необыкновенно счастлив. «Как прекрасен мир, – думал я, – и как легко быть счастливым».
С возвращением в Париж терзавшие меня призраки вновь ожили. Рассказы Одилии о том, как она проводила долгие дни в одиночестве, были настолько пусты, что для заполнения этих обширных пространств напрашивались самые тягостные предположения.
– Чем вы занимались все это время?
– Да ничем. Отдыхала, мечтала, читала.
– Что же вы читали?
– Я вам писала: «Войну и мир».
– Но не две же недели вы читали один роман?
– Нет, я еще занималась всякими делами; разобралась в шкафах, привела в порядок книги, ответила на давнишние письма, ездила к портнихам.
– А с кем вы виделись?
– Ни с кем. Я вам писала: с вашей мамой, со своей, с братьями, с Миза… Я много играла на рояле.
Постепенно она оживилась и стала мне рассказывать об испанских композиторах – Альбенисе, Гранадосе, – которых она только что открыла.
– Знаете, Дикки, я непременно хочу сводить вас на «Ученика чародея»… Это такая умная вещь!
– На сюжет баллады Гёте? – спросил я.
– Да, – ответила Одилия с воодушевлением.
Я посмотрел на нее. Откуда она знает эту балладу? Мне было хорошо известно, что она никогда не читала Гёте. С кем же она была на концерте? Она взглянула на меня и заметила, что я встревожен.
– Это написано в программе, – пояснила она.
В первый же вторник после моего возвращения из Швеции мы обедали у тети Кора. Она приглашала нас два раза в месяц и была единственной моей родственницей, к которой Одилия чувствовала некоторую симпатию. Тетя Кора относилась к Одилии как к изящному украшению ее званого обеда и обращалась с ней очень ласково; меня же она упрекала в том, что после женитьбы я стал молчалив. «Ты мрачен и чересчур занят женой, – говорила она, – супруги терпимы за обеденным столом только с того дня, как вступят в полосу равнодушия. Одилия прелестна, а ты созреешь только года через два, а то и три. Как бы то ни было, ты съездил в Швецию, и надеюсь, что на этот раз покажешь себя во всем блеске».
В действительности же успех за обедом достался не мне, а молодому человеку, которого я хорошо знал, ибо он был приятелем Андре Альфа; Андре отзывался о нем со странной смесью иронии, уважения и опаски. В дом на авеню Марсо его ввел адмирал Гарнье, начальник штаба военно-морского флота. Звали его Франсуа де Крозан, он был в чине капитан-лейтенанта и только что возвратился с Дальнего Востока. В тот вечер он описывал японскую природу, говорил о Конраде, о Гогене, и рассказы его были полны яркой, живой поэтичности, так что я невольно восхищался им, хоть он и не вызывал у меня особой симпатии. Слушая его, я одну за другой вспоминал разные мелочи, рассказанные о нем Альфом.
Он несколько раз бывал на Востоке, и под Тулоном у него имелся домик, полный всевозможных вещей, привезенных из этих странствий. Я знал, что он сочиняет музыку и написал забавную оперу на сюжет из китайской истории. Я припоминал также, что он известен и в спортивном мире, потому что несколько раз ставил рекорды на автомобильных гонках; наконец, он был одним из первых морских офицеров, совершивших полет на гидроплане.
Влюбленный крайне чувствительно реагирует на все переживания любимой им женщины. Одилия сидела на другом конце стола, притом с моей стороны, так что я не видел ее; однако я знал, какое у нее в данный момент выражение лица и с каким живым интересом она слушает рассказы Франсуа. Я отлично помню тот обед. Я чувствовал то, что должен чувствовать отец, который больше всего на свете любит свою единственную дочь и вдруг замечает, что в силу неотвратимых неблагоприятных обстоятельств он привел ее в среду, подверженную страшной эпидемии; и вот он делает отчаянные усилия спасти ее, прежде чем она заразится. Если бы мне удалось не допустить Одилию после обеда в кружок гостей, собравшихся вокруг Франсуа, если бы никто не рассказал ей известных мне подробностей о нем, которые могли только сильнее привлечь к нему ее внимание, то я, быть может, мог бы часов в двенадцать увезти ее еще не зараженной опаснейшим микробом.
Случилось так, что все это мне удалось – и не в результате ловкого хода с моей стороны, а просто потому, что сразу же после обеда Элен де Тианж завладела Франсуа и увела его в китайскую гостиную, которую тетя Кора специально предназначила для парочек, жаждущих уединения. Тем временем у меня произошел любопытный разговор о Франсуа с хорошенькой Ивонной Прево, муж которой, тоже моряк, капитан парохода, был сослуживцем адмирала по министерству.
– Вас интересует Крозан? – спросила она. – Я его хорошо знаю по Тулону, где провела всю жизнь до замужества – ведь мой отец был там начальником морского округа. Помню, что мужчины считали Крозана деланным, а некоторые даже вероломным, зато женщины сходили по нем с ума… Сама я в то время была еще слишком молода, но я слышала, что говорят другие.
– Расскажите, мне интересно.
– Ну, я теперь уже не помню. Кажется, он очень рисовался; делал вид, будто страстно влюблен, настойчиво ухаживал, засыпал свою избранницу письмами, цветами, потом внезапно покидал ее и увлекался другой, причем для первой эта перемена оставалась совершенно необъяснимой… Он соблюдал строжайший режим. Чтобы всегда находиться в форме, он неукоснительно ложился в десять часов вечера; говорили, будто даже самую обворожительную женщину он выставляет за дверь, как только пробьет установленный час… В любви он бывал жестоким, крутым, делал вид, будто само собою разумеется, что все это лишь игра, не имеющая особого значения ни для него, ни, для других. Легко себе представить, как человек с таким характером может мучить окружающих.
– Вполне представляю. Но за что же его любить?
– Ну, знаете, это уже другой вопрос… Я дружила с одной женщиной, которая была в него влюблена; она мне говорила: «Это было ужасно, но я долгое время не могла излечиться. Он такой сложный, влекущий к себе, требовательный, нередко грубый и сухой, зато порою ласковый и покорный… Понадобилось несколько месяцев, чтобы я поняла, что ничего, кроме горя, он мне не принесет».
– И ваша подруга от него отделалась?
– Да, вполне. Теперь она смеется, вспоминая о нем.
– А сейчас он, вероятно, пробует свои чары на Элен де Тианж?
– Да, конечно. Но тут он имеет дело с противницей, которая выше его. Впрочем, такой женщине, как она, – молодой, с определенным положением в обществе, – следовало бы остерегаться. Франсуа калечит жизнь женщины, как только займет в ней какое-то место, потому что он не может не оповещать весь свет о своих победах. Стоило ему добиться победы – и весь Тулон знал об этом на следующий же день.
– Так ваш Франсуа просто-напросто отвратительный субъект.
– Нет, почему же, – возразила она, – у него большое обаяние… Но вот он такой.
Мы почти всегда – сами кузнецы своего несчастья. Я был мудр, когда давал себе зарок не говорить с Одилией о Франсуа. Так почему же, возвращаясь домой, я не удержался и передал ей этот разговор? Вероятно, потому, что я был не в силах отказаться от удовольствия рассказать Одилии что-то интересное, видеть, что мои слова привлекают ее внимание, а может быть, и потому, что у меня была – пусть безрассудная – иллюзия, что эта суровая критика Крозана навсегда отдалит от него Одилию.
– Вы говорите, он композитор? – переспросила она, когда я умолк.
Я опрометчиво вызвал беса. Теперь уже не в моей власти было прогнать его. Остальную часть вечера мне пришлось рассказывать все, что я знал о нем и о его странном образе жизни.
– Он, должно быть, интересный человек. Не хотите как-нибудь пригласить его к нам? – с равнодушным видом спросила Одилия.
– Охотно, если мы опять встретимся. Ведь он собирается к себе в Тулон. Он вам понравился?
– Нет, терпеть не могу этой манеры рассматривать женщин, как будто они прозрачные.
Две недели спустя мы снова встретились с Крозаном у тети Кора; я спросил у него, не ушел ли он из флота.
– Нет, – ответил он со свойственной ему резкостью, почти дерзко, – я прохожу полугодичную стажировку в Гидрографическом комитете.
В тот вечер он долго говорил с Одилией; как сейчас вижу их на ковровом диване, – они сидят, склонившись друг к другу, и оживленно беседуют.
На обратном пути Одилия была молчалива.
– Так как же мой моряк? Что можете о нем сказать? – спросил я.
– Он интересный, – ответила Одилия и за всю дорогу не проронила больше ни слова.
Несколько вторников подряд Франсуа и Одилия после обеда у тети Кора уединялись в ее китайской гостиной. Разумеется, мне это было очень неприятно, но я всячески старался не подавать виду. Однако я не мог удержаться и не говорить о Франсуа с другими женщинами; я надеялся услыхать о нем неодобрительный отзыв, чтобы затем передать его Одилии. Но они, напротив, почти все восхищались им. Даже рассудительная Элен де Тианж, которую Одилия прозвала за ее ум Минервой, и та сказала мне:
– Нет, уверяю вас, он очень обаятелен.
– Да чем же? Я стараюсь с интересом слушать, что он говорит, но напрасно; по-моему, он явно повторяется. Он рассуждает об Индокитае, о народах-завоевателях, о «действенной» жизни, о Гогене. Сначала мне это показалось страшно интересным. Потом я понял, что все это просто-напросто заранее подготовленный номер; один раз послушаешь – и довольно.
– Да, может быть. Отчасти вы правы. Но он рассказывает такие удивительные истории! Женщины, Марсена, – это большие дети. Они по-детски любят все чудесное. Кроме того, для них рамки реальной жизни так тесны, что им всегда хочется выскочить из них. Если бы вы только знали, как скучно изо дня в день заниматься хозяйством, кухней, гостями, детьми. И женатый мужчина, и парижский холостяк тоже причастны к этой домашней и светской суете и не приносят нам ничего нового, ничего свежего, в то время как моряк, вроде Крозана, предстает перед нами как существо необычное и этим-то и привлекает нас.
– Но разве вы не улавливаете в поведении Крозана какой-то нестерпимый лжеромантизм? Вы говорите, что он рассказывает всякие истории… Мне, например, просто противны его приключения… им же самим, видимо, и придуманные.
– Какие приключения?
– Ну, вы знаете: об англичанке из Гонолулу, которая утопилась, когда он оттуда уехал; о русской, которая прислала ему свою фотографию в рамочке из сплетенных волос. По-моему, все это – самого дурного тона.
– Я эти истории не знаю… А вам кто рассказал? Одилия?
– Нет, почему же… все рассказывают… почему именно Одилия? Но скажите откровенно, вам это не кажется возмутительным, отталкивающим?
– Да, если хотите… пожалуй… А все-таки у него такие глаза, что их не забудешь. Кроме того, все, что вы говорите, не вполне точно. Вы судите о нем с чужих слов, а вот поговорите с ним сами, и вы убедитесь, что он очень простой.
В особняке на авеню Марсо часто бывал адмирал Гарнье. Как-то вечером я долго выжидал удобную минуту, чтобы остаться с ним наедине, и мне наконец удалось спросить его мнение о Крозане.
– Ну, это настоящий моряк! – ответил он. – Это один из будущих наших больших командиров.
Я решил заглушить чувство отвращения, которое вызывал во мне Франсуа де Крозан, чаще с ним видеться и стараться судить о нем беспристрастно. Мне это удавалось с трудом. В ту пору, когда я встречался с ним у Альфа, он относился ко мне с заметным презрением, и то же неприятное впечатление я вновь ощутил в первый же вечер нашего вторичного знакомства. Последнее время он, видимо, старался не поддаваться скуке, которую вызывала в нем моя угрюмая, враждебная молчаливость. Но я думал, и, пожалуй, не без оснований, что теперь я интересую его из-за Одилии, и эта мысль не только не сближала меня с ним, а, наоборот, отдаляла.
Я пригласил его к нам на обед. Я старался найти в нем что-либо привлекательное, но мне это никак не удавалось. Он был неглуп, но в глубине души застенчив и свою застенчивость преодолевал при помощи напускной властности и самоуверенности, которых я не выносил. Он представлялся мне гораздо менее содержательным, чем мои прежние друзья Андре и Бертран, и я не мог понять, почему Одилия, столь презрительно отстранившая их, с неослабевающим интересом слушает разглагольствования Франсуа де Крозана. Стоило ему только появиться, как она вся преображалась и становилась еще красивее. Однажды мы с Франсуа заговорили при ней о любви. Я, помнится, сказал, что единственное, что может сделать любовь прекрасным чувством, – это верность, верность несмотря ни на что и до самой смерти. Одилия бросила на Франсуа взгляд, в котором мне почудилось что-то странное.
– Не понимаю, при чем тут верность, – сказал он, чеканя слова, что всегда придавало его мыслям нечто абстрактное и жесткое. – Жить надо в настоящем. Главное – извлекать из каждого мгновения то, что в нем есть действенного. К этому ведут лишь три пути: власть, опасность или желание. Но зачем стараться поддерживать при помощи верности иллюзию желания, когда желание уже отмерло?
– Потому что истинная действенность заключается только в том, что прочно, и в том, что трудно. Помните место из «Исповеди», где Руссо говорит, что прикосновение к платью целомудренной женщины доставляет более острую радость, чем обладание женщиной доступной?
– Руссо был ненормальный, – сказал Франсуа.
– Терпеть не могу Руссо, – сказала Одилия.
Чувствуя, что они объединились против меня, я с неуклюжим пылом стал защищать Руссо, который, в сущности, был мне безразличен, и мы все трое поняли, что отныне любой наш общий разговор, какими масками его ни прикрывай, будет превращаться в разговор многозначительный и чреватый осложнениями.
Не раз Франсуа, говоря о своей профессии, до того увлекал меня, что я на несколько минут забывал свои неприязненные чувства. Однажды после обеда, расхаживая в гостиной по-матросски, вразвалку, он заговорил:
– Знаете, Марсена, за каким занятием я провел вчера вечер? Я изучал сражения Нельсона по книжке адмирала Маана…
И тут я невольно испытал какое-то радостное чувство, как бывало прежде, когда я встречался с Андре Альфом или Бертраном.
– Вот как? – ответил я. – А вы читаете просто ради удовольствия или с расчетом извлечь из этого какую-то пользу? Ведь в морском деле, вероятно, все изменилось. Разве все эти рассуждения об абордаже, о попутном ветре, о положении, которое должно принять судно перед залпом, разве все это еще имеет какое-либо значение?
– Не думайте так, – возразил Франсуа, – качества, приносящие победу на суше и на море, и по сей день остаются те же, что были во времена Аннибала, во времена Цезаря. Возьмите хотя бы Абукир.[15] Чем объясняется успех англичан? Прежде всего, упорством Нельсона; проискав французский флот по всему Средиземному морю и так и не найдя его, он ведь не отказался от преследования. Затем, быстротой его решений, когда он наконец обнаружил врага, стоявшего на якоре, причем ветер был попутный. Так неужели вы думаете, что эти основные качества – упорство, отвага – потеряли ценность оттого, что «Дредноут» заменил «Виктори». Отнюдь нет; да и вообще основные принципы всякой стратегии незыблемы. Вот посмотрите…
Он взял со стола листок бумаги и вынул из кармана карандаш.
– Вот два флота… Стрела указывает направление ветра… Заштрихованные места – мели…
Я склонился к нему. Одилия села к столику, опершись подбородком на сложенные руки; она смотрела на Франсуа с восторгом и время от времени бросала на меня взгляд из-под длинных, загнутых ресниц.
«Стала ли бы она так слушать, – подумал я, – если бы не он, а я начал ей рассказывать о каком-то сражении?»
И еще один факт поразил меня во время посещений нашего дома Крозаном: а именно то, что Одилия не раз начинала с блеском рассказывать всякие смешные истории или развивать идеи, которые некогда, еще до замужества, восприняла от меня. Со мной она никогда к ним не возвращалась; я думал, что она уже все позабыла, и вот вдруг скромные мои познания воскресают и изумляют другого человека мужской ясностью ее женского ума. Слушая ее, я подумал, что то же самое происходило и с Денизой Обри и что почти всегда, беря на себя труд развить ум женщины, мы работаем на кого-то другого.
Странно, что начало их настоящей близости совпало, по-видимому, с кратким периодом моего относительного успокоения. Франсуа и Одилия, уже несколько недель беспечно компрометировавшие себя и в моих глазах, и в глазах всех наших друзей, теперь стали держать себя удивительно осторожно, мало показывались на людях вместе, а находясь где-нибудь в гостиной, никогда не присоединялись к одной и той же группе. Она не заговаривала о нем, а если другая женщина из любопытства произносила при ней имя Крозана, она отвечала с таким безразличием, что даже меня это некоторое время вводило в заблуждение. К несчастью, когда дело касалось Одилии, у меня появлялась, как она сама говорила, дьявольская интуиция, и я не замедлил прийти к выводам, которые вскрывали истинную подоплеку такого поведения. «Они, – рассуждал я, – стали избегать друг друга и делать вид, будто еле обмениваются несколькими словами; а действуют они так именно потому, что беспрепятственно видятся наедине и вечером им уже нечем поделиться друг с другом».
У меня вошло в привычку анализировать все, что говорит Одилия; я делал это с безошибочной проницательностью, и теперь за каждой ее фразой я стал обнаруживать притаившегося Франсуа. Через доктора Поцци Крозан познакомился с Анатолем Франсом и каждое воскресенье, утром, бывал на Вилле Саид.[16] Я это знал. И вот Одилия последнее время стала рассказывать о Франсе прелюбопытнейшие истории; которые могли быть известны только самому узкому кругу его друзей. Как-то вечером, когда мы вышли на улицу после обеда у Тианжей, где Одилия, обычно молчаливая и застенчивая, изумила наших друзей остроумными рассуждениями о политических воззрениях Франса, я ей сказал:
– Как вы блистали сегодня, дорогая. А мне вы ничего этого никогда не рассказывали. Откуда вы все это знаете?
– Откуда? – повторила она, и в голосе ее послышались и беспокойство и досада. – Я блистала? Я и не заметила.
– Это не преступление, Одилия, не оправдывайтесь. Все нашли, что у вас удивительный ум… От кого же вы все это узнали?
– Я уж не помню. Я была где-то на чашке чая, и там присутствовал кто-то, хорошо знавший Анатоля Франса.
– А кто именно?
– Ну, я уж забыла… Я не придала этому никакого значения.
Бедняжка Одилия! Какая она была неловкая! Она старалась говорить в обычном тоне, не проронить ни одного слова, которое могло бы выдать ее, а между тем ее новая любовь сквозила в каждой ее фразе. Это напоминало мне затопленный луг: с виду он остается таким же, как был, и все так же покрыт высокой, густой травой; но стоит только сделать шаг, как обнаружится пелена предательницы-воды, уже глубоко проникшей в почву. Одилия старалась избегать явных улик, старалась не упоминать Франсуа де Крозана, но не замечала улик косвенных, которые вспыхивали над ее словами и освещали это имя в глазах окружающих, как огромные рекламные щиты.
Мне, отлично знавшему вкусы, идеи, верования Одилии, было одновременно нетрудно, занимательно и мучительно наблюдать их быстрые превращения. Не будучи особенно набожной, она все же была верующей; по воскресеньям она всегда бывала в церкви. Теперь она говорила о себе: «Я эллинка четвертого века до Рождества Христова; я – язычница». Эти фразы я приписывал Франсуа с такой же достоверностью, как если бы под ними стояла его подпись. Она говорила: «Что такое жизнь? Несчастных сорок лет, которые мы проводим на земле, этом комочке грязи. И вы хотите, чтобы мы теряли из них пусть хоть одно мгновенье на бесполезную скуку?» Я думал: «Это философия Франсуа, и к тому же философия самая заурядная». Иной раз стоило мне минутку подумать, и я обнаруживал связь между тем, что заинтересовало ее (как мне казалось – неожиданно), и истинным объектом ее мыслей. Например, однажды она, никогда не читавшая газет, случайно заметила заголовок «Лесной пожар на юге» и тотчас же взяла газету у меня из рук.
– Вы интересуетесь лесными пожарами, Одилия?
– Нет, – ответила она, возвращая газету, – я только хотела узнать, где именно пожар.
Тут я вспомнил, что у Франсуа домик в Бовалоне, в сосновом бору.
Подобно ребенку, который, играя, прячет какой-нибудь предмет посреди комнаты, на ковре, у всех на глазах и вызывает у нас умильную улыбку, так и Одилия была почти трогательна – настолько наивными оказывались ее предосторожности. Когда она рассказывала что-нибудь, что узнала от кого-то из наших друзей или родственников, она всегда называла этого человека. Если же она передавала что-то, слышанное от Франсуа, она начинала так: «Говорят… Мне рассказывали… Кто-то мне сказал, что…» Иной раз она проявляла поразительные познания в вопросах, касающихся флота. Она знала, что у нас строится новый, более быстроходный крейсер, подводная лодка новой конструкции, знала, что английский флот посетит Тулон. Знакомые удивлялись:
– В газетах об этом не писали…
Одилия пугалась, чувствовала, что сказала лишнее, и шла на попятную:
– Ах, вот как? Не знаю… Может быть, это и неправда.
Но это всегда была правда.
Теперь она говорила только языком Франсуа. Обычное содержание его разговоров, то содержание, которое, как я сказал однажды Элен де Тианж, превращало его беседу в «номер», – все это повторялось теперь Одилией. Она рассуждала о «действенной жизни», о радостях завоеваний и даже об Индокитае. Но, проходя сквозь туманный ум Одилии, острые темы Франсуа утрачивали свои резкие контуры. Я отлично улавливал их и замечал, насколько они видоизменились, – так река, впадающая в большое озеро, утрачивает четкие очертания своих берегов и становится всего лишь расплывчатым пятном, которое бороздят и окружают мелкие волны.
Эти улики, подкреплявшие одна другую, с несомненностью доказывали мне, что, даже если Одилия и не стала любовницей Франсуа, она тайно встречается с ним. И все же я никак не решался заговорить с ней об этом. К чему? Я приведу ей множество тончайших оттенков, множество словесных совпадений, накопленных моей безжалостной памятью. Она рассмеется, ласково взглянет на меня и скажет: «Вы меня потешаете!» Что мне ответить? Разве можно ей пригрозить? Разве я хочу расстаться с ней? К тому же, быть может, я, вопреки очевидности, все же ошибаюсь? Когда я бывал искренен с самим собою, я отлично понимал, что не ошибаюсь, но тогда жизнь становилась нестерпимой, и я в течение нескольких дней цеплялся за какую-нибудь неправдоподобную версию.
Мне было невыносимо тяжело. Думы о поведении Одилии, об ее тайных помыслах стали для меня каким-то наваждением, не оставлявшим меня ни на минуту. В конторе, на улице Валуа, я уже почти ничего не делал; я проводил целые дни, закрыв лицо руками, в раздумьях и забытьи; по ночам я засыпал лишь часа в три-четыре, после того как на тысячи ладов тщетно перебирал возникающие вопросы, единственное возможное решение которых мне было совершенно очевидно.
Настало лето. Срок стажировки Франсуа кончился, и он уехал обратно в Тулон. Одилия казалась вполне спокойной, отнюдь не грустной – и это несколько ободряло меня. Я не знал, писал ли он ей; во всяком случае, я его писем никогда не видел, а в словах Одилии теперь реже мелькала его тревожащая тень.
Я мог взять отпуск только в августе, потому что в июле отец собирался на воды в Виши, а так как Одилия почти всю зиму проболела, было решено, что июль она проведет на вилле Шуэн, у моря. За две недели до отъезда она мне сказала:
– Если вы не возражаете, я предпочла бы не гостить у тети Кора, а пожить в каком-нибудь другом месте, поспокойнее. Мне очень не нравится нормандское побережье, там так многолюдно, особенно в это время…
– Как, Одилия? С каких это пор вы стали бояться многолюдия, вы, всегда упрекающая меня в том, что я не люблю общества?
– Но ведь все зависит от настроения. Сейчас мне хочется покоя, уединения… Разве нельзя найти какой-нибудь уголок в Бретани? Я совсем не знаю Бретани, а говорят, там такие красивые места…
– Места там красивые, конечно, дорогая, но это далеко. Я не смогу приезжать к вам по воскресеньям, как ездил бы в Трувиль. К тому же в Трувиле весь дом будет в вашем распоряжении, тетя Кора поедет туда не раньше первого августа… Зачем же менять?
Но ей явно хотелось в Бретань, и она кротко настаивала на этом плане до тех пор, пока я наконец не уступил. Мне это было непонятно. Я ждал, что она выразит желание отправиться куда-нибудь поближе к Тулону; в тот год погода была ей на руку, лето стояло ужасное, и все жаловались, что в Нормандии очень сыро. Мне было грустно с нею разлучаться, однако я радовался тому, что она едет в места, не внушающие мне опасений. Я ехал на вокзал провожать ее в довольно печальном настроении. В тот день она была особенно ласкова. На перроне она меня поцеловала.
– Не скучайте, Дикки, развлекайтесь… Если вздумается, выезжайте с Миза, ей будет приятно.
– Но Миза в Гандюмасе.
– Нет, всю будущую неделю она проведет в Париже, у родителей.
– Без вас мне нигде не хочется бывать… Я сижу дома в одиночестве и хандрю.
– Не надо, – сказала она, материнским жестом погладив меня по щеке. – Я не заслуживаю так много внимания. Я совсем не интересная… Вы слишком всерьез принимаете жизнь, Дикки… Это всего лишь игра.
– Притом невеселая.
– Да, – согласилась она, и тут в ее голосе прозвучала грусть, – игра невеселая. А главное – трудная. Совершаешь поступки, которых не хотел бы совершать… Кажется, пора в вагон… До свидания, Дикки! Все наладится, не так ли?
Она еще раз поцеловала меня; уже стоя на подножке, она улыбнулась мне той лучезарной улыбкой, которая привораживала меня к ней, и тотчас же исчезла в купе. Она терпеть не могла прощанья у окна и вообще не выносила никаких нежностей. Позже Миза сказала мне, что она черствая. Это не совсем так. Напротив, она была способна на великодушные и добрые порывы, но ее обуревали непреодолимые желания, и именно потому, что она боялась, как бы чувство жалости не понудило ее сдерживать эти желания, она не хотела поддаваться этому чувству. Вот в таких-то случаях лицо ее принимало хмурое, как бы непроницаемое выражение – единственное, когда она становилась некрасивой.
На другой день был вторник, и я вечером обедал у тети Кора. Она принимала до августа, но летом у нее бывало меньше народу. Я оказался рядом с адмиралом Гарнье. Мы поговорили о погоде, о грозе, которая днем затопила весь город, потом он мне сказал:
– Кстати, я только что устроил вашего друга Франсуа де Крозана… Ему хотелось познакомиться с бретонским побережьем, я подыскал ему временную должность в Бресте.[17]
– В Бресте?
Бокалы и цветы закружились у меня в глазах; казалось, я теряю сознание. Но инстинкт, выработанный жизнью в обществе, настолько у нас развился, что скоро мы, вероятно, даже умирая, будем прикидываться равнодушными.
– Вот как, – ответил я, – а я и не знал… Давно?
– На днях.
Я продолжал вести с адмиралом долгую беседу о Бресте, о том, какой это отличный порт, о его старинных зданиях, о Вобане.[18] Мои мысли развивались в двух совершенно различных планах. На поверхности рождались банальные, корректные фразы, при помощи которых я поддерживал у адмирала впечатление, будто я существо спокойное и в данную минуту наслаждаюсь прекрасным свежим вечером и последними исчезающими облаками. Но где-то в глубине мой беззвучный, померкший голос твердил: «Так вот почему Одилии хотелось в Бретань!» Я представлял себе, как она гуляет по улицам Бреста, опершись на его руку, представлял себе ее оживление, которое так хорошо знал и так любил. Быть может, она проведет с ним вечер. Местечко на берегу моря, которое она выбрала, – Морга, находится недалеко от Бреста. А может быть, наоборот, – он приедет к ней на взморье. У него, вероятно, моторная лодка. Они вместе отправятся в шхеры. Я знал, как присутствие Одилии может украсить природу во время такой прогулки. Поразительно было и самого меня удивляло то, что, как мучительно я ни страдал, я все же испытывал жестокую радость от сознания, что наконец все понял. Когда дело касалось поступков Одилии, передо мной всегда возникали страшные, неразрешимые вопросы; на этот же раз, едва она заговорила о поездке в Бретань, ответ предстал с небывалой ясностью: «Франсуа уже там». И вот он действительно там. Сердце у меня разрывалось, но ум был почти что удовлетворен.
Вернувшись домой, я всю ночь обдумывал, как поступить. Отправиться в Бретань? Явившись туда, я, конечно, застану Одилию в веселом, спокойном настроении; я покажусь ей сумасшедшим, а сам ничуть не успокоюсь, ибо стану думать, что Франсуа был там и уехал, и это будет, к тому же, вполне правдоподобно. В переживаниях, подобных моим, страшнее всего то, что их ничем не умеришь, ибо любой факт всегда можно истолковать в неблагоприятном для себя смысле. Я впервые подумал: «Неужели придется расстаться с Одилией? Раз ее и моя натура таковы, что я никогда не буду спокоен, раз она не хочет и не захочет в будущем считаться со мной, – не лучше ли нам жить врозь? Детей у нас нет; развод не представит затруднений». Тут мне отчетливо припомнилось то состояние заурядного благополучия и доверчивости к людям, какое было мне присуще до встречи с нею. В ту пору моя жизнь, если и не отличалась особым величием и размахом, все же была не лишена непринужденности и приятности. Но, принимая этот план, я в то же время отлично сознавал, что не желаю его осуществления и что сама мысль жить без Одилии теперь для меня уже непостижима.
Я ворочался с боку на бок; я пробовал уснуть, пересчитывая овец или рисуя себе воображаемый пейзаж. Но когда ум во власти тревоги – все тщетно. Временами я бурно возмущался самим собою. «Отчего любить ее, а не другую? – говорил я. – Она красива? Да, но есть и другие красивые женщины, которые к тому же еще и умнее. У Одилии крупные недостатки. Она не всегда правдива, а лживость мне особенно отвратительна. Так что же? Неужели я не в силах освободиться, сбросить с себя это ярмо?» И я твердил себе: «Ты не любишь ее, ты не любишь ее, ты не любишь ее», а вместе с тем я знал, что это неправда, что я люблю ее как никогда, хотя и не могу понять почему.
Потом я начинал упрекать себя, что отпустил ее в Бретань. Но в силах ли я был ее задержать? Я заметил, что ее влечет туда какое-то роковое и неодолимое чувство. В моем воображении пронеслось несколько образов античных героинь. Я чувствовал, что она сама сожалеет о своем поступке и, однако, не может не совершить его. Я мог бы в тот день лечь на рельсы – ради встречи с Франсуа она с жестоким милосердием проехала бы через мой труп.
Под утро я попытался убедить себя в том, что это совпадение еще ничего не доказывает и что, быть может, Одилия даже не знает о присутствии Франсуа так близко от нее. Но я сознавал, что это самообман. На заре я уснул, и мне приснилось, будто я гуляю по какой-то парижской улице, неподалеку от Пале-Бурбон. На улице горел старинный фонарь, и я увидел перед собою быстро шагающего человека. Я узнал спину Франсуа, выхватил из кармана револьвер и выстрелил. Он упал. Я почувствовал облегчение и стыд. Тут я проснулся.
Через два дня я получил от Одилии письмо: «Погода хорошая. Скалы очень красивые. В гостинице я познакомилась с пожилой дамой, которая Вас знает; ее зовут мадам Жуан; у нее дом в окрестностях Гандюмаса. Я каждый день купаюсь. Вода теплая. Я совершила прогулки по окрестностям. Бретань мне очень нравится. Я каталась на лодке по морю. Надеюсь, что Вы не особенно скучаете. Вы развлекаетесь? Обедали ли Вы во вторник у тети Кора? Виделись ли с Миза?» Кончалось письмо словами: «Я Вас очень люблю. Целую Вас, дорогой».
Почерк был чуть покрупнее обычного. Видно было, что ей хотелось заполнить все четыре страницы, чтобы не огорчить меня, и что вместе с тем она не знала, чем их заполнить. «Она спешила, – думал я, – он ждал ее; она ему говорила: "Надо же все-таки написать мужу"». Я представил себе, какое должно было быть лицо у Одилии, когда она произносила эти слова, и не мог не восхищаться им. Я страстно жаждал ее возвращения.
Неделю спустя после отъезда Одилии мне позвонила Миза:
– Знаю, что вы в одиночестве, – сказала она, – Одилия вас бросила. Я приехала к родителям, у меня тут кое-какие дела, кроме того, хотелось подышать парижским воздухом, но родители в отъезде, и вся квартира в моем распоряжении. Навестите меня.
Я подумал, что за разговором с Миза я, быть может, отвлекусь от страшных и бесплодных мыслей, которые не дают мне покоя, и мы с ней назначили встречу на тот же вечер. Она сама отворила мне; слуг она отпустила. Она показалась мне очень красивой; на ней было розовое шелковое дезабилье – точно такое же, как у Одилии, у которой она взяла образец. Я заметил, что она причесана по-новому и почти так же, как Одилия. После грозы погода переменилась, к вечеру стало холодно. Миза затопила камин и устроилась у огня среди груды диванных подушек. Я сел возле нее, и мы стали беседовать о наших семьях, об ужасной погоде, о Гандюмасе, о ее муже, об Одилии.
– Она вам пишет? – спросила Миза. – Мне она не прислала ни строчки, это нехорошо с ее стороны.
Я ответил, что получил два письма.
– Встретила она там кого-нибудь из знакомых? В Брест она ездила?
– Нет, – ответил я. – Брест довольно далеко от того места, где она живет.
Но вопрос показался мне странным. На Миза был браслет из синих и зеленых бус; я сказал, что он мне нравится, и взял ее за руку, чтобы рассмотреть работу. Миза склонилась ко мне. Я обнял ее за талию, она не отстранилась. Я почувствовал, что, кроме розового капота, на ней ничего нет. Она смотрела на меня лихорадочным, вопрошающим взглядом. Я повернулся к ней, приник губами к ее губам и, как в тот день, когда мы боролись, почувствовал на груди двойное упругое прикосновение. Она откинулась навзничь и тут же, у огня, на подушках, отдалась мне. Я не чувствовал к ней ни малейшей любви, но она будила во мне желания; кроме того, я думал: «Если я не овладею ею, она сочтет меня малодушным».
Мы вновь сидели у камина перед последним догоравшим поленом. Я держал ее за руку; она смотрела на меня со счастливым, торжествующим видом; мне было грустно. Хотелось умереть.
– О чем вы думаете? – спросила Миза.
– О бедной Одилии…
Она вспыхнула; на лбу у нее появились две резкие черты.
– Послушайте, – сказала она, – я люблю вас и теперь не желаю, чтобы вы говорили глупости.
– Почему глупости?
Она не решалась ответить и долго смотрела на меня.
– Вы действительно не понимаете, – проговорила она, – или только делаете вид?
Я предвидел все, что она скажет, и сознавал, что надо бы остановить ее, но мне хотелось знать.
– Действительно не понимаю, – ответил я.
– Вот как? – продолжала она. – А я-то думала, что вы все знаете, но слишком любите Одилию, чтобы расстаться с нею или хотя бы объясниться… Мне часто приходило в голову, что надо все вам рассказать. Но я подруга Одилии, мне это было трудно. Что ж! Теперь я люблю вас в тысячу раз больше, чем ее…
И она мне рассказала о том, что Одилия – любовница Франсуа, что это длится уже полгода и что Одилия даже просила ее, Миза, быть посредницей в их переписке, чтобы письма из Тулона не привлекли моего внимания.
– Вы понимаете, как мне это было тяжело… тем более что я любила вас… Неужели вы не замечали, что я уже три года люблю вас? Мужчины ничего не понимают. Ну теперь наконец все устроилось. Вот увидите – со мной вы будете счастливы. Вы заслуживаете счастья, и я так восхищаюсь вами… У вас чудесный характер.
В течение нескольких минут она засыпала меня похвалами. Меня это ничуть не радовало, я думал: «Какая тут во всем фальшь! Я вовсе не такой хороший. Я не могу отказаться от Одилии… Зачем я здесь? Зачем обнимаю эту женщину?» Ибо мы все еще сидели обнявшись, в позе счастливых любовников, между тем я ненавидел ее.
– Миза, как могли вы предать Одилию? Это ужасно!
Она взглянула на меня в недоумении.
– Ну это уже переходит всякие границы! – сказала она. – Вы ее защищаете, вы!
– Да, я считаю, что вы поступаете дурно, даже если поступаете так ради меня. Одилия ваша подруга…
– Была. Я ее разлюбила.
– С каких пор?
– С тех пор, как люблю вас.
– Но я все-таки надеюсь, что вы меня не любите… Что же касается меня, то я люблю Одилию такою, какая она есть, – (я вызывающе смотрел на Миза; она дрожала), – и когда я стараюсь определить, за что я ее люблю, я не в состоянии этого сделать… Вероятно, люблю потому, что мне никогда не надоедает быть с нею, потому, что для меня она жизнь, счастье.
Миза сказала язвительно:
– Вы оригинал.
– Пожалуй.
Она задумалась на мгновенье, потом склонила голову мне на плечо и проговорила с глубокой страстью, которая должна бы растрогать меня, не будь я сам влюблен и так же слеп:
– Что ж, я люблю вас и дам вам счастье наперекор вам самим… Я буду верна, преданна… Жюльен в Гандюмасе; он не докучает мне; вы можете, если хотите, приезжать ко мне и туда, потому что он по два дня в неделю проводит в Гишарди. Вы отвыкли от счастья, теперь вы убедитесь в этом; я вновь приучу вас быть счастливым.
Эта сцена продолжалась почти всю ночь. Мы говорили и вели себя как влюбленные, а в душе у меня нарастала непонятная, дикая злоба. Все же мы расстались нежно, после бесчисленных поцелуев.
Я дал себе клятву к ней не возвращаться и тем не менее, пока отсутствовала Одилия, часто бывал у нее. Миза вела себя отчаянно смело и отдавалась мне в гостиной родителей, куда каждую минуту могла войти горничная. Я сидел у нее до двух-трех часов ночи и почти всегда был молчалив.
– О чем вы думаете? – беспрестанно спрашивала она, стараясь мило улыбаться.
Я думал: «Как она лжет Одилии!» – и отвечал:
– О вас.
Теперь, вспоминая все это спокойно, я вполне сознаю, что Миза не была дурной женщиной, но в то время я относился к ней сурово.
Наконец Одилия вернулась; вечером я встречал ее на вокзале. Я дал себе слово ничего ей не говорить. Я хорошо представлял себе, во что неизбежно выльется такой разговор. Я стану упрекать ее, она будет отрицать. Я передам ей слова Миза; она возразит, что Миза лжет. А я буду знать, что Миза говорила правду. Все это ни к чему. Идя по перрону, где пахло углем и мазутом, в толпе незнакомых людей, я твердил: «Раз я счастлив только возле нее и раз я знаю, что не расстанусь с нею, благоразумнее радоваться свиданию и стараться не раздражать ее». Но порою я думал: «Какое малодушие! Ведь достаточно было бы неделю проявлять твердость, и я мог бы заставить ее перемениться или привык бы обходиться без нее».
Железнодорожник вывесил объявление: «Скорый из Бреста». Я остановился.
«В конце концов, что за глупость! Предположим, что в мае 1909 года, во Флоренции, ты остановился бы в другой гостинице. Ты всю жизнь и не подозревал бы о существовании Одилии Мале. И, однако, ты жил бы, считал бы себя счастливым. Почему бы не начать сначала и вот теперь, в данный момент, не предположить, что она не существует?»
Тут я заметил вдалеке огни локомотива и изогнутую линию приближающегося поезда. Все вокруг показалось мне нереальным. Я уже даже не мог представить себе лицо Одилии. Я прошел несколько шагов вперед. Из окон высовывались головы. Еще не дождавшись остановки поезда, мужчины соскакивали на перрон. Потом образовалась движущаяся толпа. Вокзальные рабочие везли тележки. Вдруг я смутно разглядел вдали силуэт Одилии, и несколько секунд спустя она была возле меня, а рядом с нею носильщик с ее серым саквояжем в руке. Вид у нее был отличный, и я заметил, что она в хорошем настроении.
В автомобиле она сказала:
– Дикки, надо заехать купить шампанского и икры, и мы устроим ужин, как в тот день, когда вернулись из свадебного путешествия.
Вам это может показаться страшным лицемерием, но надо было знать Одилию, чтобы судить о ней. Она, видимо, весело провела время в обществе Франсуа; теперь ей хотелось продлить хорошее настроение и, по возможности, порадовать и меня. Она заметила, что я мрачен и не улыбаюсь в ответ на ее слова; она с горечью спросила:
– Опять что-то случилось, Дикки?
Не раз я принимал решение молчать, но мне это никогда не удавалось на деле. В присутствии Одилии я сразу же высказывал мысли, которые собирался утаить.
– Случилось вот что: мне сказали, что Франсуа в Бресте.
– Кто это сказал?
– Адмирал Гарнье.
– Что Франсуа в Бресте? Ну и что же? Почему это вас огорчает?
– Огорчает оттого, что он жил совсем близко от Морга и что ему было очень удобно приезжать к вам.
– Конечно, очень удобно! До того удобно, что – если хотите все знать – он навестил меня. Вы недовольны?
– Вы мне об этом не писали.
– Вы уверены? А мне казалось, что я написала… Во всяком случае, если и не написала, то только потому, что не придавала этому никакого значения, да и в самом деле это не имеет ни малейшего значения.
– Я придерживаюсь иного мнения. Кроме того, мне сказали, что у вас с ним тайная переписка.
На этот раз мои слова, видимо, задели ее и даже испугали; я впервые видел у нее такое выражение лица.
– Кто это вам сказал?
– Миза.
– Миза! Что за подлость! Она лжет. Она вам показывала письма?
– Нет, но зачем ей, по-вашему, выдумывать такие вещи?
– Почем я знаю?.. От зависти.
– Ну это вздор, Одилия!
Мы подъезжали к дому. Ради слуг Одилия вновь улыбалась ясной, прелестной улыбкой. Она прошла к себе в спальню, сняла шляпу, поправила перед зеркалом прическу и, заметив, что я стою у нее за спиной и смотрю на ее отражение, улыбнулась и мне.
– Что за Дикки! – промолвила она. – Нельзя его оставить на неделю, чтобы ему не померещились всякие напасти… Вы, сударь, неблагодарный! Я все время думала о вас и сейчас вам это докажу. Дайте мне саквояж.
Она открыла его, вынула сверток и подала мне. В свертке оказались две книги: «Прогулки одинокого мечтателя» и «Пармская обитель» – и то и другое в старинных изданиях.
– Да что вы, Одилия! Благодарю… Восхитительно! Как вам удалось их разыскать?
– Я, сударь, обошла всех брестских букинистов. Мне хотелось непременно вам что-нибудь привезти.
– Значит, вы бывали в Бресте?
– Конечно, это совсем близко от меня. Туда ходят пароходы, а мне уже лет десять хотелось посмотреть Брест… Что же вы не поцелуете меня за мой маленький подарок? А я-то так надеялась на успех!.. Знаете, я положила на это немало труда… Эти книги редко попадаются, Дикки. Я истратила на них все свои сбережения.
Тут я поцеловал ее. В ее присутствии меня обуревали такие сложные чувства, что я сам не разбирался в них. Я ненавидел и обожал ее. Я считал ее невиновной и преступной. Резкая сцена, к которой я готовился, превращалась в миролюбивый, задушевный разговор. Мы весь вечер проговорили о предательстве Миза так, словно ее разоблачения (которые, несомненно, соответствовали истине) касались не Одилии и меня, а какой-то дружественной нам четы, счастье которой мы оберегаем.
– Надеюсь, – сказала Одилия, – что вы с ней больше не будете видеться.
Я обещал.
Я так и не узнал, что произошло на другой день между Одилией и Миза. Объяснились ли они по телефону? Ездила ли Одилия к Миза? Уверен только, что объяснение было бурное и без недомолвок. Это вполне согласовалось с той почти дерзкой резкостью, которая пленяла и возмущала меня в Одилии тем более, что самому мне присуща молчаливая сдержанность, унаследованная от отца. Я больше не встречался с Миза, ничего о ней не слышал, и от этой мимолетной связи у меня сохранилось смутное воспоминание, похожее на сон.
Подозрения, заложенные в наше сознание, взрываются не одновременно, а одно за другим, как цепь подземных мин, и уничтожают любовь лишь путем последовательных взрывов. В тот вечер, когда Одилия приехала, ее очарование, ее такт и радость, какую я испытывал, вновь видя ее около себя, несколько задержали катастрофу. Но, начиная с этого вечера, оба мы понимали, что живем в минированной зоне и что недалек день, когда мы взлетим в воздух. Даже в дни, когда я особенно любил Одилию, я уже не мог обращаться к ней иначе как с оттенком горечи – пусть иногда еле заметным. В самых обыденных моих фразах чувствовались, словно далекие тучи, затаенные, невысказанные упреки. Оптимистическое, радостное отношение к миру, которое было мне присуще в первые месяцы брака, сменилось пессимизмом и грустью. Природа, которую я горячо полюбил, после того как Одилия открыла мне ее, теперь пела только меланхолические, унылые песни. Сама красота Одилии перестала быть безупречной, и я порой обнаруживал в ней признаки фальши. Это бывало мимолетно; пять минут спустя я снова видел перед собою открытое лицо, простодушный взгляд и снова любил ее.
В начале августа мы уехали в Гандюмас. Уединение, безлюдье, полное отсутствие писем и телефонных звонков повлияли на меня успокоительно, и я на некоторое время получил передышку. Деревья, залитые солнцем луга, темные склоны, поросшие елками, оказывали на Одилию сильное и благотворное действие. Природа доставляла ей почти что чувственные радости, и она бессознательно переносила их на своего спутника, даже если этим спутником был я. Уединение вдвоем, когда оно не затягивается до пресыщения и скуки, способствует медленному нарастанию чувств и доверия и тем самым очень сближает тех, кто вместе наслаждается этой обстановкой. «В общем, – казалось, думала Одилия, – он удивительно милый…» И я чувствовал, что мы очень близки.
Особенно запомнился мне один вечер. Мы сидели одни на террасе; перед нами расстилался огромный горизонт с холмами и лесом. Я как сейчас вижу вдали поросший вереском склон песчаной ланды. Солнце садилось; было очень тихо, очень тепло. Людские треволнения представлялись чем-то совсем ничтожным. Вдруг я стал говорить Одилии нежные, смиренные слова, но все это говорил (как странно!) человек, уже примирившийся с мыслью, что лишится ее.
– До чего прекрасна могла бы быть наша жизнь, Одилия… Я так люблю вас… Помните Флоренцию и время, когда я не мог выдержать и минуты, чтобы не взглянуть на вас?.. Я и теперь недалек от этого, дорогая…
– Мне очень приятно это слышать… Я вас тоже нежно любила. Боже, как я верила в вас!.. Я говорила матери: «Я встретила человека, который удержит меня… навсегда». А потом разочаровалась…
– Значит, с моей стороны… Почему вы не разъяснили мне?
– Вы сами понимаете, Дикки… Потому что это было невозможно. Потому что вы чересчур высоко вознесли меня. Поймите, Дикки, ваша главная ошибка в том, что вы слишком многого требуете от женщин. Слишком многого от них ждете. Они не могут… Но все-таки приятно думать, что вы станете жалеть обо мне, когда меня не будет возле вас…
Она произнесла эти слова, как скорбное пророчество, и это произвело на меня глубокое впечатление.
– Но вы всегда будете возле меня.
– Вы отлично знаете, что нет, – проронила она. В эту минуту к террасе подошли мои родители.
В тот приезд я часто уводил Одилию в свою обсерваторию, и мы подолгу наблюдали, как небольшой поток бурлит в своем деревянном русле. Ей нравилось это место; она рассказывала мне тут о своей юности, о Флоренции, вспоминала наши мечты над Темзой; я обнимал ее, и она не противилась. Казалось, что она счастлива. «Почему не допустить, – думал я, – что мы беспрестанно начинаем новую жизнь и что в каждой из них прошлое – всего лишь сон? Разве я, например, тот же юноша, который некогда обнимал здесь Денизу Обри? Может быть, за то время, что Одилия находится здесь, она совсем забыла Франсуа?» Такими рассуждениями я пытался во что бы то ни стало восстановить свое счастье, но вместе с тем я знал, что это счастье призрачно и что источником блаженной мечтательности, в которую впадает Одилия, является, конечно, сознание, что она любима Франсуа.
Было еще одно лицо в Гандюмасе, которое с поразительной ясностью понимало, что происходит между мной и Одилией, – это моя мать. Я Вам уже говорил, что она никогда особенно не любила Одилию, но у нее было доброе сердце, она видела, что я влюблен, и никогда не заговаривала со мной о своем отношении к моей жене. Накануне нашего отъезда я встретил ее утром в огороде, и она предложила мне прогуляться. Я взглянул на часы; Одилия еще не скоро соберется; я ответил: «Конечно, я с удовольствием пройдусь до долины; я не ходил туда с вами, с тех пор как мне было двенадцать-тринадцать лет».
Напоминание о детстве тронуло ее, и она стала откровеннее обычного. Сначала она коснулась здоровья отца; он страдал артериосклерозом и внушал доктору опасения. Потом, смотря на камушки, валявшиеся на дороге, она спросила:
– Что произошло у тебя с Миза?
– Почему вы спрашиваете?
– Потому что за все время, пока вы живете здесь, вы с ними ни разу не виделись… На прошлой неделе я их пригласила к завтраку, а она отказалась; раньше этого не бывало… Я отлично вижу, что что-то произошло.
– Да, произошло, мама, но я не могу вам сказать… Миза дурно вела себя в отношении Одилии.
Мама прошла несколько шагов молча, потом проговорила вполголоса и как бы с усилием:
– А ты уверен, что не Одилия дурно повела себя в отношении Миза? Послушай. Я отнюдь не хочу вмешиваться в твои отношения с женой, но должна хотя бы раз тебе сказать, что тебя все осуждают, даже отец. Ты слишком мягок с ней. Ты знаешь, как я ненавижу сплетни; мне хочется верить, что все, что рассказывают, – выдумки; но если это выдумки, тебе следовало бы добиться от нее, чтобы она вела себя так, чтобы этих сплетен не было.
Я слушал, сбивая тростью хрупкие стебельки травы. Я знал, что мама права, что она долго сдерживалась; я думал также, что Миза, вероятно, говорила с ней и, пожалуй, все ей рассказала. С тех пор как Миза поселилась в Гандюмасе, мама с ней подружилась и очень ценила ее. Да, несомненно, она знала истину. Но это нападение на Одилию, нападение справедливое и умеренное, вызвало во мне рефлекс Рыцаря, и я стал горячо защищать жену. Я говорил о своем доверии к Одилии, которого у меня в действительности не было, я наделял ее достоинствами, которые сам отрицал в разговорах с нею.
Любовь создает странные формы солидарности; в то утро мне казалось, что мой долг – объединиться с Одилией для совместной борьбы с истиной. Думаю, что во мне говорило также желание убедить самого себя, будто она меня еще любит. Я перечислил маме все черточки, которые могли служить доказательством привязанности Одилии ко мне, – рассказал о книгах, с таким трудом добытых ею в Бресте, об ее ласковых письмах, об ее поведении во время нашего пребывания в Гандюмасе. Я говорил так пылко, что, кажется, поколебал уверенность мамы, но – увы! – не поколебал своей собственной: она была незыблема. Одилии я ни слова не сказал об этом разговоре.
Как только мы возвратились в Париж, тень Франсуа, неясная, но всегда ощутимая, снова стала реять над нашей жизнью. После ссоры с Миза я не знал, как он сообщается с Одилией. Я и теперь не знаю этого, но тогда я стал замечать, что у Одилии появилась привычка подбегать к телефону, едва только он зазвонит; она, видимо, опасалась, как бы я не перехватил то, что должно быть от меня скрыто. Она читала теперь только те книги, в которых говорилось о море, и впадала в сладостную истому, рассматривая самые заурядные гравюры с изображением прибоя, кораблей. Как-то вечером ей подали телеграмму. Она распечатала ее и, сказав: «Пустяки!» – разорвала листок на мелкие клочки.
– Какие пустяки, Одилия? Что это такое?
– Платье… Еще не готово, – ответила она.
Со слов адмирала Гарнье, у которого я справлялся, я знал, что Франсуа находится в Бресте. Казалось, я мог бы не беспокоиться, но я беспокоился и был прав.
Все же случалось, что под впечатлением взволновавшего нас концерта или прекрасного осеннего дня мы снова переживали краткие мгновенья нежности.
– А если бы вы, дорогая, сказали мне правду, всю правду о прошлом?.. Я постарался бы забыть, и мы доверчиво отправились бы в новую, безоблачно-светлую жизнь.
Она качала головой – без злобы, без обиды, но безнадежно. Теперь она уже не отрицала это прошлое. Не то что она призналась в нем, нет. Признание было молчаливое, невысказанное.
– Нет, Дикки, не могу, я чувствую, что это бесполезно. Теперь все так неясно, так запутанно… Я уже не могу привести это в порядок… Кроме того, я не в состоянии объяснить вам, почему совершила тот или иной поступок, сказала ту или иную фразу… Я уже ничего не понимаю… Нет, тут ничего не поделаешь… Я уже не верю, что можно что-то исправить.
Впрочем, эти дружелюбные беседы почти всегда заканчивались настойчивым допросом. Какое-нибудь произнесенное ею слово удивляло меня; я бросался по свежему следу, я уже не слушал ее, коварный вопрос уже готов был сорваться у меня с языка; на мгновенье я удерживался, потом он начинал душить меня и вырывался наружу. Одилия всегда старалась придать сцене, по возможности, шутливый характер, но, видя, что я вполне серьезен, в конце концов приходила в бешенство.
– Ну нет! – говорила она. – Нет и нет! Провести с вами вечер становится для меня пыткой. Лучше мне уйти. Если я тут останусь – я сойду с ума…
Тогда меня охватывал ужас, что я могу потерять ее, и я успокаивался. Я приносил ей извинения – не совсем искренние – и видел, что каждая такая ссора неизбежно ослабляет и без того хрупкие узы. Детей у нас не было, так что же удерживало ее так долго? Думаю, что чувство большой жалости ко мне и даже немного любви, ибо чувства иной раз наслаиваются одно на другое, не разрушаясь, и особенно у женщин можно иногда наблюдать любопытное желание все сохранить.
К тому же Одилия, в силу своих религиозных представлений, которые она редко выражала и которые под влиянием Франсуа значительно ослабли, испытывала отвращение к разводу. Возможно также, что ее привязывала, если не ко мне, то к нашей совместной жизни, ее ребяческая любовь к вещам? Она любила наш дом, который сама обставила с таким вкусом. В ее будуаре, на столике, лежали ее любимые книги и стояла венецианская ваза, в которой всегда был цветок – один-единственный, но прекрасный. Укрывшись в этом убежище, она чувствовала себя защищенной от меня и от себя самой. Ей трудно было расстаться с этим окружением. Уйти от меня и соединить свою судьбу с Франсуа значило проводить большую часть года в Тулоне или Бресте; это значило отказаться от большинства друзей. Франсуа, как и я, не мог всецело заполнить ее жизнь. Ей необходимо было – теперь я отдаю себе в этом отчет, – чтобы вокруг нее было движение, было занимательное зрелище раскрывающихся перед нею разнообразных человеческих душ.
Но сама она этого не сознавала. Ее удручала разлука с Франсуа, ей казалось, что она была бы вполне счастлива, если бы находилась возле него. Он привлекал ее, как привлекает человек, которого мы мало знаем и который поэтому, не будучи еще исчерпан, представляется нам полным неожиданностей и открытий. Во Флоренции и во время поездки в Англию я тоже был для нее таким же сказочным, чарующим персонажем. Но я не мог удержаться на высоте того вымышленного идеального существа, чертами которого она меня наделила. И я был отвергнут. Теперь очередь Франсуа. Он тоже подвергнется испытанию путем близкого знакомства; выдержит ли он его?
Мне думается, что если бы он жил в Париже, то его связь с Одилией развивалась бы так же, как почти все недуги такого рода, и закончилась бы без всякого инцидента, – просто Одилия обнаружила бы, что глубоко ошиблась в достоинствах Франсуа. Но он находился далеко, и она не могла без него обходиться. Каковы были его чувства? Не знаю. Не может быть, чтобы его не волновала победа над столь прекрасным существом. В то же время, если он действительно был такой, как мне его описывали, мысль о браке должна была претить ему.
Вот что я узнал. Под Рождество он заезжал в Париж по пути из Бреста в Тулон, куда опять надолго возвращался. Он провел в Париже двое суток, в течение которых поведение Одилии было безрассудно неосторожным. О его приезде она узнала по телефону; он позвонил ей утром, еще до моего ухода в контору. Я сразу понял, что это он, – такое удивительное выражение появилось на лице Одилии, когда она с ним говорила. Я никогда не замечал у нее столь покорного, нежного, почти умоляющего тона. Держа в руке трубку, она говорила со своим далеким возлюбленным и вся светилась восторженной, ясной улыбкой; она, разумеется, не сознавала, что эта улыбка выдает ее.
– Конечно, я так рада слышать ваш голос, – говорила она. – Конечно… Да, но… Конечно, конечно, но…
Она взглянула на меня в смущении и сказала:
– Знаете, позвоните мне через полчаса.
Я спросил, с кем она говорила, но она с равнодушным видом повесила трубку и ничего не ответила, как бы не расслышав вопроса. Я устроил дела так, что вернулся домой к завтраку. Горничная подала мне листок, на котором было написано: «Если приедете домой – не волнуйтесь. Мне придется завтракать в городе. До вечера, дорогой».
– Госпожа уехала давно? – спросил я.
– Давно, – ответила горничная, – часов в десять.
– На машине?
– Да, сударь.
Я завтракал один. Потом мне стало так нехорошо, что я решил остаться дома. Я хотел увидеться с Одилией, как только она вернется, и собирался на этот раз предложить, чтобы она выбрала между нами двумя. День прошел мучительно. Около семи раздался телефонный звонок.
– Это вы, Жюльетта? – послышался голос Одилии.
– Нет, – ответил я, – это я, Филипп.
– Вот как, вы уже дома? – продолжала она. – Я хочу спросить: вам не будет неприятно, если я пообедаю здесь?
– То есть как это? – возразил я. – Где вы собираетесь обедать? Почему? Вы и так уже завтракали не дома.
– Да, но послушайте… Я в Компьене. Я сейчас звоню вам из Компьена, и все равно я уже не успею к обеду…
– Что вы делаете в Компьене? Ведь уже темно.
– Я гуляла в лесу; здесь чудесно, погода сухая, дивная. Я не думала, что вы приедете к завтраку.
– Одилия, я не намерен объясняться по телефону, но все это до крайности нелепо. Возвращайтесь домой.
Она вернулась в десять часов и в ответ на мои упреки сказала:
– Так вот, завтра я тоже уеду. Я не могу сидеть взаперти в такую погоду.
И опять в ней мелькнула та непреклонная решимость, которая поразила меня, когда она уезжала в Брест; я подумал тогда, что даже если бы я лег на рельсы – это ее не остановило бы.
На другой день она сама с большой грустью попросила меня согласиться на развод и отпустить ее к родителям, у которых она будет жить, пока не выйдет замуж за Франсуа.
Мы сидели в ее будуаре перед обедом. Я почти не возражал; я давно уже знал, что этим должно кончиться, а ее поведение во время приезда Франсуа в Париж навело меня даже на мысль, что благоразумнее было бы больше не видеться с ней. Однако прежде всего во мне родилось мелочное чувство: я подумал о том, что никогда еще ни один Марсена не разводился и что я почувствую себя униженным, когда мне придется завтра сказать об этой драме родным. Потом мне стало так стыдно за эту мысль, что я почел делом чести не думать ни о чем другом, кроме благополучия Одилии. Вскоре разговор поднялся на большую нравственную высоту и, как всегда случалось, когда мы бывали искренни, стал очень сердечным. Доложили о том, что кушать подано. Мы спустились вниз. Мы сидели друг против друга и почти не разговаривали – из-за лакея. Я смотрел на тарелки, бокалы, на все эти вещи, в которых сказывался вкус Одилии; потом я посмотрел на нее и подумал, что, пожалуй, в последний раз вижу перед собой это лицо, в котором для меня могло бы заключаться так много счастья. Она тоже смотрела на меня, бледная и задумчивая, смотрела мне прямо в глаза. Быть может, ей, как и мне, хотелось надолго запечатлеть в памяти черты, которые она, конечно, уже не увидит больше никогда. Лакей, равнодушный и ловкий, бесшумно сновал по комнате, подавая и убирая блюда. Сознание, что он ничего не знает, делало нас с Одилией молчаливыми сообщниками. После обеда мы пошли к ней в будуар и говорили долго и серьезно о том, как пойдет в дальнейшем наша жизнь. Она дала мне кое-какие советы. Она сказала:
– Вам надо снова жениться. Для другой, я уверена, вы будете отличным мужем… А я создана не для вас… Только не женитесь на Миза, мне это было бы очень неприятно, да она и скверная женщина. Знаете, кто вам очень подошел бы? Ваша кузина Ренэ…
– Да что вы, дорогая! Я ни в коем случае не женюсь.
– Женитесь, женитесь… Это необходимо. И тогда, вспоминая меня, вспоминайте без обиды. Я очень любила вас, Дикки, и отлично знаю вам цену. Уверяю вас, что я никогда вас особенно не хвалила только потому, что застенчива, да и не люблю этого… Но я не раз замечала, что вы поступаете так, как другой на вашем месте никогда не поступил бы. Я думала: «Что ни говори, какой Дикки молодец…» Я даже хочу сказать вам одну вещь, которая, пожалуй, вас порадует: во многих отношениях вы мне нравитесь больше, чем Франсуа, и все-таки…
– Что «все-таки»? – спросил я.
– И все-таки… я без него не могу жить. Стоит мне провести с ним несколько часов, и у меня создается иллюзия, что я сильная, что я живу лучшей, более полной жизнью. Может быть, это не так; может быть, с вами я была бы счастливее. Но вот ведь – не вышло… Вы в этом не виноваты, Филипп; никто тут не виноват.
Мы разошлись очень поздно; расставаясь, она неожиданно протянула мне губы.
– Какие мы все-таки несчастные, – проронила она.
Несколько дней спустя я получил от нее письмо – доброжелательное и грустное; она писала, что любила меня долго и что до Франсуа никогда не изменяла мне.
Такова история моего брака. Не знаю, удалось ли мне, рассказывая Вам ее, быть к моей бедной Одилии столь справедливым, как мне хотелось. Я хотел бы, чтобы Вы почувствовали ее прелесть, ее таинственную грусть и глубокую наивность ее детской души. Все окружающие – наши друзья, мои родители – после ее отъезда судили о ней, конечно, очень строго. Я же, отлично знавший ее – насколько вообще можно было знать эту молчаливую девочку, – я думаю, что редко найдется женщина менее виновная.
Уход Одилии поверг меня в страшное горе. Дома все казалось таким унылым, что я старался куда-нибудь уйти. Иной раз, вечером, я заходил в ее комнату; я садился в кресло возле ее кровати, как делал, когда она была тут, и погружался в раздумья о нашей жизни. Меня тревожило смутное раскаяние. Однако ни в чем определенном я упрекнуть себя не мог. Я женился на ней по любви, хотя моим родным и хотелось бы, чтобы я сделал более блестящую партию; я был ей верен до случая с Миза, а моя мимолетная измена была вызвана не чем иным, как ее изменой. Я, правда, ревновал, но она ничего не делала, чтобы успокоить меня, хотя и знала, что я люблю ее и терзаюсь. Все это так, я это сознавал, и все же я чувствовал себя виноватым. Я начинал понимать некую истину – для меня совершенно новую – об отношениях, какие должны существовать между мужчинами и женщинами. Последние, думал я, крайне неустойчивы и всегда ищут твердого руководителя, который помог бы укорениться их блуждающим мыслям и желаниям; быть может, эта потребность обязывает мужчину стать своего рода непогрешимым компасом, незыблемой точкой опоры. Великой любви недостаточно, чтобы привязать к себе любимое существо, если не умеешь в то же время наполнять его жизнь все новыми и новыми радостями. Что могла Одилия найти во мне? Вечерами я возвращался из конторы, где изо дня в день видел одних и тех же людей, обсуждал одни и те же вопросы; я усаживался в кресло, любовался женой и радовался, что она так прекрасна. Такое неподвижное созерцание не могло дать ей представления о счастье. Женщины обычно привязываются к таким людям, жизнь которых – постоянное движение, к таким, которые увлекают их в это движение, дают им определенную задачу, многого от них требуют… Я смотрел на кроватку Одилии; чем бы я только не пожертвовал теперь, чтобы вновь увидеть ее белокурую головку, увидеть, как она покоится здесь! И сколь малым я жертвовал в те времена, когда так легко было все это сохранить! Вместо того чтобы постараться понять ее вкусы, я осуждал их; я хотел навязать ей свои собственные. Жуткая тишина, царившая теперь в опустевшем доме, являлась карой за поведение, в котором не было, конечно, дурного намерения, но не было и величия души.
Мне следовало бы уехать, бросить Париж, но я никак не мог на это решиться; мне доставляло мучительную радость цепляться за малейшие предметы, напоминавшие об Одилии. В этом доме по утрам, едва проснувшись, я еще мог представить себе, будто через отворенную дверь доносится ясный, ласковый голос: «С добрым утром, Дикки!» В тот год в январе можно было подумать, что начинается весна. Обнаженные деревья четко вырисовывались на фоне безоблачного синего неба. Будь Одилия тут, она надела бы свой, как она выражалась, «простенький костюмчик», накинула бы на плечи черно-бурую лису и с самого утра отправилась бы гулять. «Вы гуляли одна?» – спросил бы я вечером. «Ну уж я теперь не помню…» – последовало бы в ответ. Эта никчемная таинственность повергла бы меня в тоску и тревогу, – но теперь я сожалел об этом.
Я целые ночи раздумывал, стараясь понять, с чего начался разлад. Возвратившись из Англии, мы были вполне счастливы. Быть может, достаточно было бы во время первой размолвки произнести какую-то фразу другим тоном, возразить ласково, но твердо. Наша судьба часто зависит от какого-нибудь жеста, какого-нибудь слова: вначале достаточно сделать малейшее усилие, чтобы остановить ее, а позже уже приходит в движение гигантский механизм. Теперь я чувствовал, что даже самые героические деяния не могли бы возродить у Одилии любовь, которую она некогда питала ко мне.
Перед ее отъездом мы условились относительно деловой стороны развода. Решено было, что я пошлю ей оскорбительное письмо, которое послужит поводом признать меня виновной стороной. Несколько дней спустя меня пригласили в суд – для примирения. Как ужасно было встретиться с Одилией в такой обстановке! Тут ждали очереди около двадцати супружеских пар, причем, во избежание прискорбных сцен, мужчины и женщины были разделены решеткой. Кое-кто перебранивался на расстоянии; некоторые женщины плакали. Мой сосед, шофер, заметил, обращаясь ко мне:
– Единственное утешение – что нас так много. Одилия кивнула мне очень ласково, очень приветливо, и я понял, что все еще люблю ее.
Наконец пришла наша очередь. Судья был человек благожелательный, с седой бородой. Он приободрил Одилию, сослался на наши общие воспоминания, на узы брака; потом предложил нам сделать последнюю попытку примирения. Я сказал: «К сожалению, это уже невозможно». Одилия пристально смотрела перед собой. Ей, видимо, было тяжело. «Быть может, она немного сожалеет, – подумал я, – быть может, она не настолько любит его, как мне кажется… Быть может, она уже разочаровалась?» Мы оба молчали, поэтому судья проговорил: «В таком случае, будьте любезны подписать протокол». Мы вышли вместе. Я сказал ей:
– Хотите немного пройтись?
– Охотно, – ответила она. – Сегодня так хорошо! Какая чудесная зима!
Я напомнил ей, что у нас в доме осталось много ее вещей; я спросил, не отправить ли их к ее родителям.
– Что ж, отправьте… Впрочем, знаете, оставьте себе все, что вам нравится… Мне ничего не надо. Да я и проживу недолго, Дикки, и вы очень скоро отделаетесь от воспоминаний обо мне.
– Зачем так говорить, Одилия? Разве вы больны?
– Да нет, ничуть! Просто у меня такое ощущение… Главное, поскорее замените меня; если я буду знать, что вы счастливы, и мне будет лучше.
– Без вас я никогда не буду счастлив.
– Что вы, напротив. Вы очень скоро почувствуете облегчение оттого, что освободились от такой несносной женщины. Вот увидите, уверяю вас. Я и в самом деле несносная… Как хороша Сена в такую погоду!
Она остановилась перед витриной. Там были выставлены географические карты; я знал, что она любит их.
– Купить вам?
Она взглянула на меня грустно и ласково.
– Какой вы милый! – сказала она. – Да, купите; это будет ваш последний подарок.
Мы вошли и купили две карты; она подозвала такси и сняла перчатку, чтобы я мог поцеловать ей руку. Она сказала:
– Благодарю за все…
Затем вошла в машину, не обернувшись.
Я оказался в полном одиночестве – у родных я не встретил поддержки. Мама в глубине души была довольна, что я избавился от Одилии. Она этого не высказывала, потому что понимала, насколько мне тяжело, а также и потому, что у нас в семье мало говорили; а я понимал ее, и поэтому мне было трудно касаться с нею этой темы. Отец был серьезно болен после инсульта: левая рука у него была парализована и слегка перекосился рот; это портило его прекрасное лицо. Он знал, что обречен, и стал очень молчаливым, очень задумчивым. Мне не хотелось бывать у тети Кора – ее званые обеды будили во мне слишком много грустных воспоминаний. Единственным человеком, с которым я мог видеться тогда без особого отвращения и скуки, была моя кузина Ренэ. Я застал ее однажды у родителей. Она проявила большой такт и не стала говорить со мной о разводе. Она занималась научной работой и писала диссертацию. Она говорила, что не хочет выходить замуж. Беседа с нею – очень интересная – впервые отвлекла меня от бесконечного психологического анализа, который изнурял меня. Она посвятила свою жизнь научным исследованиям, определенной профессии; она казалась уравновешенной и довольной. Значит, отречение от любви возможно? Сам я еще не допускал, что можно употребить жизнь на что-то иное, кроме служения некой Одилии, но присутствие Ренэ действовало на меня умиротворяюще. Я предложил ей позавтракать вместе, она согласилась, и впоследствии я довольно часто виделся с нею. После нескольких встреч я к ней привык и вскоре рассказал ей очень искренне о моей жене, стараясь объяснить, что мне в ней нравилось. Она спросила:
– После развода ты снова женишься?
– Ни за что, – ответил я. – А ты не думаешь о замужестве?
– Нет, – сказала она, – теперь у меня есть профессия; она заполняет всю мою жизнь; я независима; я никогда не встречала человека, который мне нравился бы.
– А все твои врачи?
– Это только коллеги.
В конце февраля я решил провести несколько дней в горах, но меня вызвали оттуда телеграммой – отца снова постиг удар; я вернулся и застал его при смерти. Мама ухаживала за ним с полнейшей самоотверженностью; помню, как в последнюю ночь, когда он лежал уже без сознания, а она стояла возле его неподвижного тела, утирала ему лоб, смачивала водой перекошенные губы, я дивился спокойствию, которое она хранила в час столь огромного горя, и думал о том, что этим спокойствием она обязана тому, что прожила жизнь безупречно. Жизнь, какую я наблюдал у моих родителей, казалась мне прекрасной и в то же время почти непостижимой. Мама никогда не стремилась ни к одному из тех развлечений, которых так жаждали Одилия и большинство знакомых мне женщин; она очень рано отказалась от всякой романтики, от всяких перемен; теперь она обретала заслуженную награду. Я мучительно оглянулся на собственную жизнь; как отрадно было бы представить себе, что в конце этого тернистого пути Одилия стоит возле меня, утирает мне лоб, уже покрытый предсмертной испариной; представить себе Одилию поседевшую, умиротворенную годами, для которой давно уже миновала пора юношеских бурь. Неужели в роковой день я окажусь один перед лицом смерти? Мне хочется, чтобы это случилось как можно раньше.
Об Одилии у меня не было никаких известий, даже со стороны. Она предупредила, что писать не будет, ибо считает, что так я скорее успокоюсь; она перестала встречаться с нашими общими друзьями. Я предполагал, что она сняла небольшую виллу где-нибудь поблизости от домика Франсуа, но не был в этом уверен. Сам я решил выехать из нашего дома – для меня одного он был чересчур просторен и к тому же постоянно напоминал мне о прошлом. Я подыскал себе удобную квартиру на улице Дюрок, в старинном особняке, и постарался обставить ее так, как обставила бы сама Одилия. Почем знать? Быть может, в один прекрасный день она вернется – несчастная, оскорбленная – и попросит у меня приюта. При переезде я обнаружил целые груды писем, полученных Одилией от друзей. Я прочел их. Пожалуй, и не следовало этого делать, но я не мог устоять перед соблазном все выяснить. Как я уже говорил Вам, письма были нежные, но вполне невинные.
Лето я провел в Гандюмасе, почти в полном одиночестве. Мне удавалось обрести немного покоя только в часы, когда я лежал в густой траве, вдали от дома. Тогда мне казалось, что все нити, связывающие меня с обществом, порваны и я на несколько мгновений приближаюсь к постижению каких-то более глубоких истин. Стоит ли женщина подобных мук?.. Но книги вновь погружали меня в мрачные раздумья; я искал в них только свою собственную скорбь и почти бессознательно выбирал такие, которые могли напомнить мне мою печальную историю.
В октябре я возвратился в Париж. У меня стали бывать молодые женщины – как это часто случается, их привлекало ко мне мое полное одиночество; не хочется их описывать; они только мелькнули в моей жизни. Для Вас же должен отметить, что я без труда (но не без удивления) вновь вернулся к своей юношеской манере держаться. Я стал вести себя так, как вел себя со своими возлюбленными в годы, предшествовавшие женитьбе; я добивался их шутя, меня забавляло наблюдать, какое действие оказывает на них та или иная фраза, тот или иной смелый жест. Одержав победу, я забывал о ней и затевал новую игру.
Ничто не порождает большего цинизма, как неразделенная глубокая любовь, но в то же время ничто не внушает человеку большей скромности. Я искренне удивлялся, когда обнаруживал, что любим. Истина заключается в том, что страсть, безраздельно владеющая мужчиной, притягивает к нему женщин как раз в то время, когда он этого менее всего желает. Всецело плененный одною, он становится – будь он даже чувствительный и ласковый от природы – безразличным и почти грубым с другими. Когда он несчастен, ему случается поддаться нежности, которую ему предлагают. Но стоит ему только вкусить ее – она начинает его тяготить, и он этого уже не скрывает. Сам того не желая и не ведая, он ведет коварнейшую игру. Он становится опасен и покоряет оттого, что сам побежден. Я оказался именно в таком положении. Никогда еще я не был так убежден, что не могу никому понравиться, никогда я так мало не стремился обольщать и никогда еще не получал такого множества непреложных доказательств преданности и любви.
Но душа моя была слишком омрачена, чтобы радоваться этим успехам. Просматривая свои записные книжки 1913 года, я на каждой странице, среди пометок о назначенных свиданиях, нахожу следы Одилии. Привожу для Вас наугад несколько строк.
«20 октября. Ее прихоти. Мы сильнее любим именно капризных, несговорчивых людей. Как приятно бывало не без тревоги подбирать для нее букет полевых цветов – васильков, лютиков и ромашек, или симфонию в белых мажорных тонах – арума и белых тюльпанов…
Ее смирение. «Я отлично знаю, какою Вы хотели бы меня видеть… строгой, непорочной… настоящей французской буржуазкой… и все же чувственной, но только с вами… Придется Вам оплакивать свою мечту, Дикки, – такой я никогда не буду».
Ее скромная гордость. «Но у меня есть и кое-какие маленькие достоинства… Я читала больше, чем обычно читают женщины… Я знаю наизусть много стихов… Умею составлять букеты… Хорошо одеваюсь… и люблю Вас; да, сударь, Вам, может быть, не верится, но я Вас очень люблю».
25 октября. Должна бы существовать такая совершенная любовь, которая давала бы возможность мгновенно улавливать все чувства любимой женщины и разделять их с нею. Бывали дни (пока я еще мало знал Франсуа), когда я испытывал к нему чувство, близкое к благодарности, за то, что он так похож на человека, которого могла бы любить Одилия… Потом ревность оказалась сильнее, а Франсуа – слишком далек от совершенства.
28 октября. Я люблю в других ту крохотную частицу тебя, которая в них содержится.
29 октября. Иногда ты уставала от меня; мне и эта усталость нравилась».
Немного позже нахожу следующую краткую заметку:
«Я потерял больше того, чем обладал».
Она отлично выражает мое тогдашнее состояние. Когда Одилия находилась возле меня, как я ее ни любил, я замечал в ней недостатки, которые несколько отдаляли меня от нее; когда же Одилии не стало рядом, я вновь боготворил ее; я наделял ее добродетелями, которыми она не обладала, и, создав ее в воображении по вечному образу Одилии, я получал возможность быть по отношению к ней Рыцарем. То же, что совершали в дни нашей помолвки поверхностное знакомство и идеализирующее желание, теперь совершалось забвением и разлукой, и я любил Одилию, неверную и далекую, так, как – увы! – не умел ее любить, когда она была любящей и близкой.
В декабре я узнал о браке Одилии и Франсуа. Мне было очень тяжело, но сознание, что отныне беда непоправима, даже укрепило во мне мужество и помогало жить.
После смерти отца я внес значительные изменения в управление фабрикой. Я меньше занимался ею, у меня появилось больше свободного времени. Это позволило мне вновь завязать отношения кое с кем из товарищей юности, от которых я отдалился после женитьбы, – в частности, с Андре Альфом; он теперь стал членом Государственного совета. Виделся я иногда и с Бертраном – он был в чине лейтенанта кавалерии; его полк стоял гарнизоном в Сен-Жермене, и на воскресенья он приезжал в Париж. Я попробовал вновь взяться за чтение, за научные занятия, которые забросил несколько лет тому назад. Я посещал лекции в Сорбонне, в Коллеж де Франс. Тут я понял, как сильно я изменился. Я с удивлением замечал, что многие вопросы, волновавшие меня раньше, стали мне теперь совершенно безразличны. Неужели я когда-то мог мучительно биться над вопросом: кто я – материалист или идеалист? Какая бы то ни было метафизика теперь казалась мне пустой забавой.
Еще чаще, чем с мужчинами, как я уже говорил Вам, я встречался с несколькими молодыми женщинами. Я уходил из конторы часов в пять. Теперь я гораздо больше стал бывать в свете и с грустью замечал даже, что ищу (быть может, потому, что это напоминало мне Одилию) такие развлечения, к каким в свое время она меня приобщала с большим трудом. Многие женщины, бывавшие у тети Кора на авеню Марсо, приглашали меня, зная, что я свободен и живу в одиночестве. По субботам, к шести часам вечера, я отправлялся к Элен де Тианж – это был ее приемный день. Морис де Тианж, депутат от департамента Эр, собирал у себя своих политических единомышленников. Наряду с общественными деятелями здесь можно было встретить литераторов, друзей Элен, и крупных дельцов, ибо Элен была дочерью господина Паскаль-Буше, фабриканта, который иногда тоже приезжал к ней в этот день из Нормандии с младшей дочерью Франсуазой. Среди завсегдатаев салона царила искренняя непринужденность. Я любил занять здесь место возле какой-нибудь молодой женщины, завести с ней беседу о чувствах и разбирать их тончайшие оттенки. Рана моя все еще не зажила, однако мне случалось по целым дням не думать ни об Одилии, ни о Франсуа. Иногда кто-нибудь при мне упоминал о них. Одилию теперь называли «госпожой де Крозан» и поэтому некоторые не знали, что она была моей женой; встретив ее в Тулоне, где она прославилась как первая красавица, они рассказывали о ней всякие истории. В таких случаях Элен де Тианж старалась переменить тему или увести меня в другую комнату, но мне хотелось знать все, что о ней говорят.
В общем считали, что их семейная жизнь идет не вполне благополучно. Ивонна Прево, которой часто доводилось бывать в Тулоне, на мою просьбу откровенно рассказать мне все, что ей о них известно, ответила уклончиво:
– Это очень трудно объяснить; я их мало видела… У меня такое впечатление, что когда они еще только собирались жениться, то оба уже понимали, что совершают ошибку. Однако она любит его… Простите, что я это вам говорю, но ведь вы сами просите. Она его любит гораздо больше, чем он ее, – это несомненно. Но она гордая, она это скрывает. Один раз я обедала у них. Атмосфера была тягостная… Понимаете, она щебетала, говорила всякие милые пустяки, иной раз немного наивные, которыми вы так восторгались, а Франсуа ее одергивал… Иногда он бывает очень груб. Уверяю вас, мне было ее жаль… Видно было, что она всячески старается ему угождать, что она пытается во что бы то ни стало говорить с ним о вещах, которые его интересуют… и, разумеется, это выходило у нее не особенно удачно, а Франсуа отвечал ей презрительно, с раздражением: «Ну конечно, Одилия, ну конечно…» Нам с Роже было больно за нее.
Вся зима 1913/14 года прошла у меня в легком флирте, в деловых разъездах без особой надобности, в довольно поверхностных научных занятиях. Я не хотел ничего принимать всерьез; я подходил к идеям и к людям настороженно, старался всегда быть готовым к их утрате, чтобы меньше страдать, если и в самом деле лишусь их. В начале мая Элен де Тианж уже могла устраивать приемы у себя в саду. Для женщин она раскидывала подушки, а мужчины садились прямо на газон. В первую субботу июня я застал у нее оживленную группу литераторов и политических деятелей, расположившихся вокруг аббата Сениваля. Собачка хозяйки дома прибежала и устроилась у ее ног, и Элен спросила очень серьезно:
– Господин аббат, а есть у животных душа? Если нет – то я ничего не понимаю. Судите сами: мой песик так мучился, когда…
– Конечно, есть, мадам, – ответил аббат, – почему бы ей не быть… Но душа у них крошечная.
– Это не вполне ортодоксально, однако наводит на размышления, – заметил кто-то.
Я сидел чуть подальше с американкой Беатрисой Хоуэлл; мы прислушались к разговору.
– Я уверена, что у животных душа есть… В сущности, нет никакой разницы между животными и нами… Я только что думала об этом. Я провела день в зоологическом саду. Я обожаю животных, Марсена.
– Я тоже, – ответил я. – Хотите, сходим туда как-нибудь вместе?
– С удовольствием. О чем я вам говорила? Ах да: сегодня я смотрела тюленей. Мне они очень нравятся, они как мокрая резина. Они кружили под водой и то и дело высовывали голову, чтобы вдохнуть немного воздуха, и мне стало их жаль, я подумала: «Бедняжки, какая у вас однообразная жизнь». А потом сказала себе: «Ну, а мы? Мы что делаем? Мы всю неделю кружим под водой и только в субботу, часов в шесть, высовываем голову у Элен де Тианж, да во вторник – у герцогини де Роан, у Мадлен Лемер или, в воскресенье, – у госпожи де Мартель… Это совершенно то же самое. Согласны?
В эту минуту в саду появился майор Прево с женой; меня поразило сосредоточенное выражение их лиц. Они шли с озабоченным видом, словно под их ногами был не гравий, а какое-то ломкое вещество. Элен встала, чтобы поздороваться с ними. Я наблюдал за ней, потому что мне очень нравились оживление и изящество, с какими она обычно встречала гостей. Я всегда говорил ей: «Вы похожи на белую бабочку… как и она, вы едва касаетесь предметов».
Прево стали ей что-то рассказывать, и я заметил, что и она тоже мрачнеет. Она в смущении оглянулась вокруг, а когда заметила меня, тотчас же отвела взгляд. Они втроем немного отошли в сторону.
– Вы знакомы с Прево? – спросил я у Беатрисы Хоуэлл.
– Знакома, – ответила она. – Я бывала у них в Тулоне. У них там чудесный старинный особняк… Я очень люблю тулонские набережные. Море и старые французские дома… Восхитительное сочетание!
Теперь к Элен и супругам Прево присоединилось еще несколько человек. Они образовали кружок и говорили довольно громко; мне послышалось, будто упоминают мое имя.
– Что там такое? – сказал я миссис Хоуэлл. – Пойдемте, узнаем.
Я помог ей встать и стряхнуть несколько травинок, приставших к платью. Элен де Тианж нас увидела и сама подошла ко мне.
– Простите, – обратилась она к Беатрисе, – мне надо кое-что сказать Марсена… Знаете, – начала она, – мне очень прискорбно, что я первая должна сообщить вам эту страшную весть, но я не хочу рисковать… Словом, Прево сказали мне сейчас, что ваша жена… что Одилия сегодня утром в Тулоне… застрелилась…
– Одилия? – проронил я. – Боже мой! Отчего?
Я представил себе хрупкое тело Одилии с кровоточащей раной, и в мозгу моем завертелась фраза: «Осужденная роком…»
– Еще неизвестно, – ответила она. – Уезжайте, не прощаясь. Если мне удастся что-нибудь выяснить, я вам позвоню.
Я машинально зашагал по улицам в направлении к Булонскому лесу. Что же случилось? Бедная моя девочка, почему не обратилась она ко мне, если ей было тяжело? С какой безумной радостью я пришел бы ей на помощь, опять взял бы ее к себе, утешил бы! С первого дня, как я увидел Франсуа, я понял, что он станет ее злым гением. Я вновь представил себе тот обед и вспомнил ощущение – очень сильное, что я отец, который опрометчиво привел своего ребенка в зараженную среду. Я почувствовал в тот вечер, что надо не откладывая спасать ее. Я ее не спас… Одилия умерла… Проходившие мимо женщины смотрели на меня с тревогой. Может быть, я говорил сам с собою вслух… Такая красота! Такое совершенство!.. Я представлял себя возле ее постели: я держал ее за руку, а она декламировала:
From too much love of living,
From hope and fear set free…
– The weariest river, Дикки, – говорила она потешно-жалобным голоском.
А я отвечал:
– Не говорите так, дорогая; я расплачусь.
Одилия умерла… С тех самых пор, как я познакомился с ней, я взирал на нее с суеверным страхом. Слишком прекрасна!.. Однажды в Багатели старик садовник сказал нам с Одилией: «Чем красивее роза, тем скорее она вянет…» Одилия умерла… Я думал о том, что, если бы мне дано было вновь увидеть ее хоть на четверть часа, а потом пришлось бы умереть вместе с нею, я не колеблясь согласился бы на это.
Не знаю, как я вернулся домой, как улегся. На рассвете я задремал и мне приснилось, будто я на обеде у тети Кора. Тут были Андре Альф, Элен де Тианж, Бертран и кузина Ренэ. Я всюду искал Одилию. Наконец, после долгих волнений, я ее нашел: она лежала на диване. Она была очень бледна и казалась тяжелобольной, но я подумал: «Да, она нездорова, но ведь она не умерла. Какой страшный сон мне приснился!»
Первой моей мыслью было на другой же день отправиться в Тулон, но у меня началась нервная горячка с бредом, и я проболел целую неделю. Бертран и Андре самоотверженно ухаживали за мной; Элен несколько раз навещала меня, привозила цветы. Придя в себя, я стал с мучительным нетерпением и тревогой расспрашивать ее обо всем, что она узнала. Рассказы, которые ей довелось слышать, как, впрочем, и те, что позже я слышал сам, были противоречивы. Истина, по-видимому, заключалась в том, что Франсуа, привыкший к полной независимости, быстро устал от супружеской жизни. Он разочаровался в Одилии. Она была очень избалована мною и начала – пусть довольно мягко – проявлять требовательность в такой момент, когда любовь Франсуа стала уже немного остывать. Он думал, что она умная; умной она не была – во всяком случае, в обычном значении этого слова. Я это знал, но мне это было безразлично. Он хотел подчинить определенной дисциплине и ум ее, и поведение. Оба они были гордые, и столкновение приняло очень резкую форму.
Много позже, с полгода тому назад, одна знакомая передала мне, что в задушевной беседе говорил ей Франсуа об Одилии. «Она была изумительно хороша собою, – говорил он, – и я ее действительно любил. Но первый муж дурно воспитал ее. Она была кокетлива до безрассудства. Это единственная женщина, которой удавалось мучить меня… Я защищался… Я как бы анатомировал ее… Она лежала предо мной на столе, нагая и с зияющим нутром… Я рассмотрел весь механизм ее мелких обманов… Я ей доказал, что отлично вижу их… Она думала, что, пустив в ход свое обаяние, ей удастся вновь покорить меня… Потом она поняла, что победа не за ней… Я, конечно, сожалею о случившемся, но угрызений совести у меня нет. Я не виноват».
Когда я узнал об этом разговоре, Франсуа стал мне совсем отвратителен. Тем не менее порою я восхищался им. Он оказался сильнее меня и, пожалуй, умнее; во всяком случае – сильнее, ибо я тоже, как и он, разгадал Одилию, но разница между нами заключалась в том, что у меня не хватило мужества сказать об этом. Имеет ли цинизм Франсуа преимущество перед моей слабостью? После долгих раздумий я тоже не стал сожалеть о своем поведении: побеждать людей и доводить их до отчаяния не трудно. И теперь еще, потерпев поражение, я попрежнему думаю, что лучше стараться их любить – даже вопреки им самим. Все это, впрочем, отнюдь не разъясняет причин самоубийства Одилии. Одно достоверно: в день, когда она покончила с собою, Франсуа не было в Тулоне. Во время войны Бертран встретился с неким молодым человеком, который накануне самоубийства Одилии ужинал с нею и еще тремя молодыми женщинами и тремя морскими офицерами. Компания была веселая. Выпив бокал шампанского, Одилия сказала друзьям, смеясь: «А знаете, завтра в полдень я застрелюсь». Весь вечер она была вполне спокойна, и знакомый Бертрана был поражен ее белоснежной, лучезарной красотой (как он сам говорил о том Бертрану).
Я проболел целый месяц. Потом уехал в Тулон. Я прожил там несколько дней и каждый день покрывал могилу Одилии белыми цветами. Как-то вечером на кладбище ко мне подошла пожилая женщина; она сказала, что была горничной госпожи де Крозан и что узнала меня по фотографии, которая лежала у ее госпожи в ящике стола. Она сказала, что первое время Одилия бывала на людях очень веселой, но, как только оставалась одна, легко было понять, что ее охватывает отчаяние. «Несколько раз, – сказала эта женщина, – мне случалось, войдя в ее комнату, заставать ее в кресле – она сидела, опустив голову на руки… Она, казалось, видела перед собой смерть».
Я долго говорил с этой женщиной, и мне было приятно, что она боготворила Одилию.
В Тулоне я не мог ни за что взяться и в начале июля решил переехать в Гандюмас. Там я пытался заниматься делами и читать. Я совершал долгие прогулки по зарослям вереска, и усталость помогала мне уснуть.
Почти каждую ночь мне снилась Одилия. Чаще всего я оказывался в церкви или в театре; место рядом со мною оставалось пустым. Вдруг у меня возникал вопрос: «А где же Одилия?» Я искал ее. Я видел вокруг себя бледных, простоволосых женщин, но ни одна из них не была похожа на Одилию. И я просыпался.
Я забросил дела. Я даже не ходил на фабрику. Я не хотел никого видеть. Я упивался своим горем. Каждое утро я в одиночестве спускался вниз, к деревне; из церкви доносились звуки органа – такие легкие, такие прозрачные, что они сливались с воздухом и казались его журчанием. Я воображал рядом с собою Одилию в светлом платье – в том, какое было на ней в благословенный день, когда мы впервые прогуливались вместе под флорентинскими черными кипарисами. Почему я потерял ее? Я искал слово, поступок, которые привели великую любовь к столь трагическому исходу. Я не находил их. Всюду вокруг в садах цвели розы, которые так радовали бы ее.
Во время одной из таких прогулок, в одну из августовских суббот, я услышал в Шардейле барабанную дробь и голос деревенского полицейского, который объявлял: «Мобилизация армии и флота».
ИЗАБЕЛЛА
Филипп, сегодня вечером я пришла поработать в твой кабинет. Когда я входила, мне не верилось, что я не застану тебя здесь. Для меня ты по-прежнему живой, Филипп. Я вижу, как ты сидишь вот в этом кресле, поджав под себя ноги, с книгой в руках. Вижу тебя за столом в те минуты, когда взор твой блуждал где-то далеко и ты переставал слушать, что я говорю. Вижу, как ты разговариваешь с кем-нибудь из друзей и без конца вертишь в длинных пальцах карандаш или резинку. Я всегда любовалась твоими жестами.
Уже три месяца минуло с той страшной ночи. Ты мне сказал: «Мне душно, Изабелла, я умираю». Мне все еще слышится этот голос, уже не похожий на твой. Забуду ли я его? Самым ужасным мне кажется то, что и сама моя скорбь, конечно, тоже умрет. Если бы ты только знал, как мне становилось грустно, когда ты со свойственной тебе беспощадной искренностью говорил: «Теперь я утратил Одилию навеки. Я уже даже не могу представить себе ее черты».
Ты очень любил ее, Филипп. Недавно я опять прочла подробный рассказ, который ты мне прислал перед нашей свадьбой, и я позавидовала ей. От нее останется по крайней мере эта исповедь. От меня – ничего. А все-таки и меня ты тоже любил. Передо мною твои первые письма – письма 1919 года. Да, тогда ты любил меня; любил, пожалуй, даже слишком. Помню, как однажды я сказала тебе: «Вы оцениваете меня в триста, а стою я не больше сорока, и это, Филипп, ужасно. Когда вы обнаружите свою оплошность, вам покажется, что я стою десять, а то и вовсе ничего». Таков уж ты был. Ты вспоминал, что Одилия тебе говорила: «Вы чересчур многого ждете от женщин. Вы слишком превозносите их; это опасно». Она, бедняжка, была права!
Последние две недели я борюсь с желанием, которое день ото дня становится все сильнее. Мне хочется для самой себя запечатлеть свою любовь, как ты для себя запечатлел свою. Думаешь ли ты, Филипп, что мне удастся – пусть неумело – описать нашу историю? Следовало бы это сделать, как сделал ты, – с полной беспристрастностью, с великим усилием, чтобы не утаить ничего. Чувствую, что это будет трудно. Всегда возникает опасность растрогаться и изобразить себя такой, какой хотелось бы быть. Меня это касается в особенности, ты сам упрекал меня в том, что я жалею самое себя. «Не жалей себя», – говорил ты. Но у меня сохранились твои письма, сохранилась красная записная книжка, которую ты так тщательно прятал, сохранился дневник, который я завела было и который ты меня просил бросить. Не попробовать ли? Я сажусь на твое место. Зеленый кожаный бювар, закапанный чернилами, напоминает мне о руке, которая так часто касалась его. Вокруг меня – жуткое безмолвие. Не попробовать ли?..
Дом на улице Ампера. В кадках, обтянутых зеленым сукном, высокие пальмы. Готическая столовая; буфет с выступающими рыльцами химер; стулья, на жестких спинках которых вырезана голова Квазимодо. Гостиная, обитая красным штофом, кресла с излишней позолотой. Моя девичья комната, выкрашенная в целомудренный белый цвет, который со временем превратился в грязноватый. Классная комната и запасная, куда складывали ненужную мебель и где в дни больших приемов я обедала со своей воспитательницей. Не раз нам с мадемуазель Шовьер приходилось ждать часов до десяти. Сбившийся с ног, усталый, раздраженный лакей приносил нам на подносе загустевший суп, растаявшее мороженое. Мне думалось, что он, как и я сама, понимает, до чего незаметную, почти унизительную, роль играет в этом доме единственный ребенок.
Ах, какое грустное было у меня детство! «Вам так кажется, дорогая», – говорил Филипп. Нет, я не ошибаюсь. Я была очень несчастна. Вина ли тут моих родителей? Я часто упрекала их. Теперь, умиротворенная более глубокой скорбью, хладнокровнее смотря в прошлое, я признаю, что они верили в правильность того, что делали. Но метод их был чересчур суров, опасен, и, думается мне, результаты подтверждают его полную негодность.
Я говорю «родители», а следовало бы говорить «мать», ибо отец, человек очень занятой, не требовал от дочери ничего другого, как только не вертеться на виду и вести себя тихо. Его недоступность долгое время придавала ему в моих глазах особое величие. Я считала его своим естественным союзником против матери по той причине, что раза два-три слышала, как он в скептически-шутливом тоне отвечал ей, когда она сокрушалась о моем дурном характере:
– Вы напоминаете мне моего начальника, господина Делькассе: он прячется за Европу и говорит при этом, что толкает ее вперед… Вы думаете, что можно влиять на формирование характера… Нет, дорогая, мы мним себя актерами, а на самом деле мы всего лишь зрители.
Мама бросала на него взгляды, полные упрека, и беспокойным жестом указывала на меня. Она была не злая, но она приносила и мое и свое счастье в жертву воображаемым бедам. Позже Филипп как-то сказал мне:
– Ваша мать страдает всего лишь гипертрофией осторожности.
Он был прав. Мать считала человеческую жизнь суровой битвой, для которой надо себя закалять. «Избалованная девочка превращается в несчастную женщину, – говорила она. – Не следует приучать ребенка к мысли, что он богат; одному Богу известно, что готовит ему жизнь». Или: «Хвалить девушку – значит оказывать ей дурную услугу». И вот она постоянно твердила мне, что я отнюдь не красавица и вряд ли кому-нибудь понравлюсь. Она видела, что слова ее огорчают меня до слез, но детство в ее глазах было тем же, чем является земная жизнь в представлении людей, которые страшатся ада; надлежало – пусть ценою жестоких лишений – вести мою душу и тело к возможному земному спасению, на пороге которого брак является как бы Страшным судом.
Впрочем, такое воспитание, быть может, и оказалось бы вполне разумным, будь у меня, как у нее, сильная душа, уверенность в себе и незаурядная красота. Но я была от природы робкой и под влиянием постоянной боязни стала нелюдимой. С одиннадцати лет я начала избегать людей и искать убежища в книгах. Особенно нравилась мне история. В пятнадцать лет моими любимыми героинями были Жанна д'Арк, Шарлотта Корде; в восемнадцать – Луиза де Лавальер. Мне доставляло странное наслаждение читать о страданиях кармелитки, о казни Жанны д'Арк. Мне казалось, что и я нашла бы в себе беспредельные физические силы для подвига. Отец питал глубокое презрение к страху и заставлял меня, когда я еще была совсем маленькой, проводить целую ночь в саду одной. Если я болела, он требовал, чтобы меня лечили без жалости, без нежностей. Я приучилась относиться к посещениям дантиста как к определенным этапам героического подвижничества.
Когда отец расстался с набережной д'Орсэ и был назначен послом в Белград, мама стала на несколько месяцев в году запирать наш особняк на улице Ампера, а меня отсылать к бабушке и дедушке в Лозер. Там я чувствовала себя еще несчастнее. Я не любила деревни. Памятники я предпочитала пейзажам, храмы – лесам. Когда я перечитываю свой девичий дневник, у меня такое впечатление, будто я медленно пролетаю над пустыней скуки. Мне казалось, что моему шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому году не будет конца. Искренне считая, что они хорошо меня воспитывают, родители убивали во мне вкус к счастью. Первый бал, который остается в памяти большинства женщин как лучезарное, радостное событие, у меня связан с мучительным, неизгладимым чувством унижения. Это произошло в 1913 году. По распоряжению мамы платье мне было сшито дома, ее горничной. Оно получилось безобразное, я это знала, но мама глубоко презирала роскошь. «Мужчины не смотрят на платья, – говорила она, – женщину любят не за то, что на ней надето». В свете я успеха не имела. Я была девушкой угловатой и очень нуждалась в ласке. Меня сочли замкнутой, неловкой, с претензиями. Я казалась замкнутой потому, что постоянно сдерживала себя, неловкой потому, что мне никогда не давали свободно высказываться и свободно поступать, с претензиями – потому, что, будучи чересчур застенчива, чересчур скромна, чтобы изящно говорить о себе или о забавных пустяках, я искала прибежища в серьезных темах. На балах мой строгий, несколько педантичный вид отпугивал молодых людей. Ах, как я призывала того, кому удалось бы вырвать меня из этого рабства, избавить от долгих месяцев, которые я проводила в Лозере, где я ни с кем не виделась, где я с утра знала, что день пройдет без малейших событий, если не считать часовой прогулки в сопровождении мадемуазель Шовьер! Человек этот представлялся мне прекрасным, пленительным. Каждый раз, когда в Опере давали «Зигфрида», я умоляла мадемуазель Шовьер упросить родителей, чтобы меня сводили в театр, потому что в своих собственных глазах я была плененной валькирией, которую мог освободить только герой.
Моя тайная экзальтация, принявшая ко времени первого причастия религиозную форму, получила в годы войны другой исход. Начиная с августа 1914 года я стала просить (поскольку у меня был аттестат сестры милосердия), чтобы меня послали в какой-нибудь госпиталь в действующую армию. Отец находился тогда на своем посту в Белграде, мать жила при нем. Дедушка с бабушкой, ошеломленные вспыхнувшей войной, отпустили меня. Полевой госпиталь в Бельмоне,[19] куда я получила назначение, был создан на средства баронессы Шуэн. Сестру милосердия, заведовавшую госпиталем, звали Ренэ Марсена. Это была девушка довольно красивая, очень умная, надменная. Она сразу же заметила, что во мне таится скрытая, но подлинная сила, и, несмотря на мою молодость, назначила меня своей помощницей.
Здесь я впервые убедилась, что могу нравиться. Однажды Ренэ Марсена сказала при мне госпоже Шуэн:
– Изабелла моя лучшая сестра; у нее один только недостаток: она слишком красива.
Это очень обрадовало меня.
Один из больных, младший лейтенант пехоты, который лечился у нас после легкого ранения, при выписке из госпиталя попросил у меня позволения писать мне. Я знала, какие опасности ожидают его впереди, и поэтому ответила более взволнованно, чем сама хотела; между нами завязалась переписка, он становился все ласковее и ласковее, и в итоге я стала его невестой. Мне самой не верилось. Мне это казалось нереальным, но в то время все жили словно в каком-то чаду и все совершалось скоропалительно. Я обратилась за советом к родным; они мне ответили, что Жан де Шеверни – из хорошей семьи и что они одобряют мой выбор. А я сама ничего не знала о Жане. Он был весел, хорош собою. Мы провели с ним четыре дня в гостинице на площади Этуаль. Потом муж вернулся в свой полк, а я – в госпиталь. Этим и кончилась моя супружеская жизнь. Жан надеялся снова получить отпуск зимой, но в феврале 1916 года, под Верденом, его убили. В этот момент мне показалось, что я любила его. Когда мне прислали его документы и маленькую мою фотографию, найденную на нем, я плакала долго и искренне.
Подписание перемирия совпало с назначением моего отца на пост посла в Пекине. Он предложил мне поехать вместе с ним; я отказалась. Я слишком привыкла к независимости и не хотела снова терпеть семейный гнет. Я зарабатывала достаточно, чтобы жить одной. Родители позволили мне переделать третий этаж их особняка на отдельную квартирку, и я поселилась там вместе с Ренэ Марсена. После войны она поступила в Пастеровский институт и работала в лаборатории. Ее очень ценили, и ей не стоило особого труда устроить меня в ту же лабораторию. Я очень привязалась к Ренэ. Я преклонялась перед нею. Характер у нее был властный, и в этом я завидовала ей. Тем не менее я чувствовала, что и у нее есть слабое место. Она делала вид, будто отказалась от мысли о замужестве, но по тону, каким она рассказала мне об одном из своих двоюродных братьев – Филиппе Марсена, я поняла, что ей хотелось бы выйти за него.
– Это человек очень замкнутый, – говорила она, – пока его мало знаешь, он кажется черствым, а на самом деле у него такое доброе сердце, что это даже пугает… Война повлияла на него благотворно, потому что вырвала его из привычной обстановки. Он так же создан руководить бумажной фабрикой, как я – быть великой актрисой…
– А разве он занимается теперь чем-нибудь другим?
– Нет, но он много читает; он очень образован… Это человек незаурядный, уверяю вас… Он вам понравится.
Я не сомневалась, что она в него влюблена.
Теперь я оказалась в окружении мужчин – и юношей, и людей постарше. Послевоенные нравы отличались крайней свободой. В среде врачей и молодых ученых, куда ввела меня Ренэ, встречались люди, привлекавшие мое внимание. Но мне не стоило особых усилий противостоять им. Я не верила, когда они говорили, Что любят меня. Слова мамы «до чего же ты некрасивая!» тяготели надо мной, несмотря на то что не раз были опровергнуты, когда я служила в госпитале. Недоверие к себе было у меня все так же сильно. Я думала, что на мне хотят жениться ради денег или хотят найти во мне удобную, нетребовательную любовницу на несколько вечеров.
Однажды Ренэ передала мне приглашение баронессы Шуэн на обед. Сама она часто бывала там по вторникам.
– Мне не хочется, – сказала я. – Я не выношу светского общества.
– Нет, вот увидите, у нее почти всегда собираются интересные люди. А в этот вторник там будет мой двоюродный брат Филипп, и, если вы соскучитесь, мы уединимся втроем.
– Это другое дело, – ответила я, – буду очень рада с ним познакомиться.
Я говорила искренне. Ренэ так часто вспоминала о нем, что мне в конце концов захотелось с ним встретиться. Когда она мне рассказала историю его женитьбы, я припомнила, что встречалась с его женой и что она показалась мне редкостной красавицей. Говорили, что он все еще любит ее, и сама Ренэ, хоть и не одобряла поведения кузины, все же не могла не признать, что трудно найти другое столь прекрасное лицо.
– Но я никак не могу простить ей, что она так дурно вела себя в отношении Филиппа, который, напротив того, всегда был олицетворенное благородство, – говорила Ренэ.
Мне хотелось узнать все подробности их семейной жизни. Во время войны я даже читала некоторые места из писем Филиппа к Ренэ, и мне пришелся по душе их меланхоличный тон.
Парадная лестница госпожи Шуэн, ее бесчисленные лакеи мне не понравились. Войдя в гостиную, я сразу же увидела Ренэ – она стояла у камина, рядом с очень высоким человеком, заложившим руки в карманы. Филиппа Марсена нельзя было назвать красивым, но он показался мне добрым и внушающим доверие. Когда мне его представили, я в первый раз в жизни не почувствовала робости перед незнакомым человеком. За столом я с удовольствием заметила, что меня посадили рядом с ним. После обеда мы инстинктивно подошли друг к другу.
– Хотите поговорить спокойно? – спросил он. – Пойдемте со мной, я хорошо знаю этот дом.
Он привел меня в китайскую гостиную. Помню, что разговор наш состоял из воспоминаний детства. Да, уже в тот вечер Филипп рассказал мне о своей жизни в Лимузене, и нас забавляло, что в юности нашей и в наших семьях оказывалось много общего. Дом в Гандюмасе был обставлен совсем так же, как особняк на улице Ампера. Мать Филиппа, так же как и моя, говорила: «Мужчины не смотрят на наряды».
– Да, во многих французских семьях еще сильно сказывается крепкая крестьянская и буржуазная наследственность, – сказал Филипп. – В каком-то отношении это очень хорошо, но я уже не могу следовать ей, я утратил веру…
– А я нет, – ответила я, смеясь. – Знаете, есть вещи, которые для меня просто невозможны… Теперь, например, хоть я и живу одна, я не могла бы купить для себя самой цветы или конфеты. Мне это покажется безнравственным и не доставит ни малейшего удовольствия.
Он взглянул на меня с удивлением.
– Вот как? – проронил он. – Вы не можете покупать себе цветы?
– Могу купить, когда у меня гости к обеду, к чаю. Но для себя, просто для того, чтобы любоваться ими, – нет, не могу.
– Но вы их любите?
– Да, разумеется… Но я прекрасно обхожусь без них.
Мне показалось, будто в его глазах мелькнуло что-то ироническое и грустное, и я заговорила о другом. И по-видимому, именно вторая часть нашей беседы особенно поразила Филиппа, так как в его красной записной книжке есть следующая заметка:
«23 марта 1919 г. Обед у тети Кора. Весь вечер провел с госпожой де Шеверни, прелестной подругой Ренэ, на диване в китайской гостиной. Странно… Она совсем не похожа на Одилию, и тем не менее… Может быть, дело просто в том, что она была в белом платье… Нежная, застенчивая… С трудом вызвал ее на разговор. Потом она стала доверчивее.
– Сегодня был случай, который… не знаю, как сказать… словом, который страшно возмутил меня. Представьте себе, одна дама – не только не близкая подруга, а даже мало знакомая – звонит мне и говорит: «Не забудьте, Изабелла: сегодня я завтракаю у вас». Как можно так лгать, да еще подыскивать себе сообщницу! По-моему, это низость!
– Надо быть снисходительной. Многим женщинам живется очень тяжело.
– Им живется тяжело по собственной вине. Они воображают, что, если не создадут вокруг себя атмосферы таинственности, им станет скучно… Это неверно: прелесть жизни не в мелких, пустых интригах… Нет необходимости вечно забавляться игрою в чувства… Вы не находите?
Ренэ подсела к нам: «Можно нарушить ваш флирт?» Мы оба запнулись, а она встала, смеясь, и отошла. Ее приятельница задумалась на минуту, потом продолжала:
– Словом, не считаете ли вы, что единственная истинная любовь, которая стоит того, чтобы ей посвятить Жизнь, заключается в полном взаимном доверии; она должна быть как хрусталь, в котором, сколько ни смотри, не увидишь ни единого пятнышка?
Тут она, вероятно, подумала, что огорчила меня; она в смущении покраснела. И в самом деле, эти слова слегка задели меня. Чтобы загладить произведенное впечатление, она добавила несколько очень милых фраз, причем сделала это с трогательной неловкостью. Потом опять подошла Ренэ, на этот раз с доктором Морисом де Флери. Разговор зашел о секреции эндокринных желез. «Непременно надо принимать такие препараты, – сказал он, – позор врачу, который их не прописывает!» Занятные профессиональные шутки. Восхищен ясным умом Ренэ. Милый взгляд ее подруги при прощании».
Это верно. Я тоже помню фразу, которая задела Филиппа. Я тоже думала о ней вечером, когда вернулась домой, а на другой день я написала Филиппу Марсена несколько строк, чтобы сказать, что очень сожалею, что накануне так неловко пыталась выразить свои чувства, свою симпатию, ибо давно уже, по рассказам Ренэ, питаю к нему искреннее расположение. Я добавила, что, раз он в одиночестве, буду рада, если он навестит меня. Он ответил:
«Ваше письмо, сударыня, подтвердило то, о чем говорило мне Ваше лицо. Вы наделены той тонкой добротой, которая придает очарование уму. Как только мы встретились, Вы заговорили со мной о моей грусти и моем одиночестве с такой простой, такой искренней непосредственностью, что я тотчас же почувствовал к Вам доверие. Я с благодарностью принимаю дружбу, которую Вы мне предлагаете. Вы, вероятно, не представляете себе, как она будет для меня драгоценна».
Я пригласила Филиппа и Ренэ на завтрак. Потом Филипп предложил нам обеим побывать у него. Мне очень понравилась небольшая квартирка, в которой он нас принял. Особенно запомнились мне два восхитительных Сислея (виды Сены в зеленовато-голубых тонах) и на столе – цветы очень нежных оттенков. Беседа завязалась непринужденная, одновременно и веселая и серьезная, и было очевидно, что каждому из нас приятно находиться вместе.
Потом нас с Филиппом пригласила к себе Ренэ. У нее он предложил нам пойти на другой день в театр, и с тех пор мы стали выезжать втроем раза два-три в неделю. Меня очень забавляло, что, когда мы оказывались вместе, Ренэ старалась показать, будто они с Филиппом составляют единое целое, а я – только гостья. Я мирилась с таким положением, но знала – хотя Филипп мне этого и не говорил, – что он предпочитает быть наедине со мной. Как-то раз Ренэ заболела, и ей пришлось остаться дома, а мы с Филиппом поехали вдвоем. За ужином Филипп первым (и очень благородно) заговорил о своем браке. Тут я поняла, что все рассказы Ренэ об Одилии, хоть и соответствуют истине, все же не вполне точны. Слушая Ренэ, я представляла себе Одилию женщиной очень красивой, но в то же время и очень коварной. Когда я слушала Филиппа, передо мной возникал образ хрупкой маленькой девочки, которая всячески старалась вести себя наилучшим образом. В тот вечер Филипп мне очень понравился. Я отметила, с какой нежностью он вспоминает о женщине, причинившей ему столько горя. Тут мне впервые пришла в голову мысль, что, быть может, он и есть тот герой, которого я так долго ждала.
В конце апреля он надолго уехал из города. Он плохо себя чувствовал, сильно кашлял, и доктора посоветовали ему пожить в теплом климате. Из Рима я получила от него открытку: «Cara Signora,[20] пишу Вам у растворенного окна; небо синее, без единого облачка; колонны, триумфальные арки на Форуме выступают из золотистого тумана. Все невообразимо прекрасно». Потом пришла открытка из Танжера: «Первая остановка в сказочном плавании по гладкому, жемчужно-серому и лиловатому морю. Что такое Танжер? Немного похоже на Константинополь, Аньер и Тулон. Как всегда на Востоке – грязно и вместе с тем благородно». Потом телеграмма из Орана: «Приходите ко мне завтракать четверг час. Дружеский почтительный привет. Марсена».
В то утро, встретившись с Ренэ в лаборатории, я сказала:
– Итак, в четверг завтракаем у Филиппа?
– Как? – удивилась она. – Разве он приехал?
Я показала ей телеграмму; на лице ее появилось страдальческое выражение, какого я еще никогда у нее не замечала. Но она тотчас же взяла себя в руки.
– Приехал… – молвила она. – Что же, значит, вы завтракаете вдвоем, ведь меня он не приглашает.
Я была крайне смущена. Позднее я узнала от самого Филиппа, что поездка его была вызвана главным образом желанием положить конец его близости с Ренэ. Их родственники считали, что они помолвлены, и это приводило его в отчаяние. Впрочем, Ренэ ушла из его жизни без единой жалобы. Она осталась нашим другом – другом, порою вносившим в наши отношения каплю горечи. Именно у нее я научилась восхищаться Филиппом. Однако, начиная с этого дня, она порою с жестокой грустью старалась отмечать все, что могло его принизить. Филипп говорил: «Это свойственно человеку», но я была не так снисходительна.
Все лето мы с Филиппом проводили много времени вместе. Он был занят своими делами, но каждый день находил несколько свободных часов, а в Гандюмас ездил только раз в месяц. Почти каждое утро он звонил мне, и в хорошую погоду мы шли гулять, или же вечером вместе ужинали, или отправлялись в театр. Для женщины Филипп был превосходным другом. Он подстерегал малейшие мои желания, чтобы тотчас же исполнить их. Я получала от него цветы, книгу, о которой мы говорили, вещи, которые ему понравились во время наших прогулок. Я сказала: «которые ему понравились», потому что вкусы Филиппа очень отличались от моих, а он прислушивался к своим. Здесь была какая-то тайна, которую я тщетно старалась разгадать. Когда мы вместе сидели в ресторане, он высказывал свое мнение о входящих женщинах, об их нарядах, об оттенках их изящества и о том, что скрывается за их внешностью. Я с каким-то ужасом отмечала, что его впечатления почти всегда прямо противоположны моим. Со свойственной мне методичностью я пыталась выработать какие-то правила, чтобы «думать, как Филипп», «воспринимать, как Филипп». Но у меня ничего не выходило. Я пробовала. Я говорила:
– Но ведь вот это – красиво, не правда ли?
– Что вы! – отвечал Филипп с отвращением. – Платье цвета сомон? Ну уж нет!
Я допускала, что он прав, но не понимала – почему.
То же самое происходило, когда вопрос касался книг или театра. С первых же наших бесед я заметила, как он возмущается тем, что я искренне считаю Батайля выдающимся драматургом, а Ростана – выдающимся поэтом.
– «Сирано», правда, очень нравился мне и даже приводил в восторг, когда я был молод, – говорил он, – но это отнюдь не великое творение.
Я находила, что он несправедлив, однако не решалась отстаивать свое мнение, потому что боялась шокировать его. Книги, которые он давал мне читать (Стендаль, Пруст, Мериме), сначала показались мне скучными. Но вскоре я полюбила их, потому что стала понимать, чем именно они ему нравятся. Понять вкусы Филиппа было совсем нетрудно: он принадлежал к числу тех читателей, которые ищут в книгах только самих себя. На полях книг, которые он мне давал, часто оказывалось множество его пометок; я с трудом разбирала их, и они помогали мне следить за ходом его мыслей сквозь мысли автора. Меня безгранично интересовало все, что позволяло проникнуть в его характер.
Я видела, что он всячески старается развлекать меня и развивать, и это меня особенно удивляло. У меня, конечно, было немало недостатков, но я отнюдь не страдала тщеславием; я считала себя глупой, некрасивой. Я беспрестанно задавала себе вопрос: что он может находить во мне привлекательного? Было очевидно, что ему приятно в моем обществе и что он старается добиться моего расположения. И не потому, что я с ним кокетничаю. Из уважения к правам Ренэ я на первых порах и не помышляла о дружбе с ним; следовательно, выбор исходил от него. Почему? Я испытывала одновременно и приятное и тревожное чувство, видя, что он прилаживает ко мне свою душу, которая прекраснее и богаче моей, – подобно тому как вешают на крючок пальто. В записи, которую я уже приводила, он говорил: «Она совсем не похожа на Одилию, и тем не менее… Может быть, дело просто в том, что она была в белом платье…» Конечно, я ни в чем не была похожа на Одилию, но существуют впечатления сокровенные и неуловимые, и они сильнее других воздействуют на нашу жизнь.
Напрасно говорят, будто любовь слепа; истина в том, что любящий безразличен к тем или иным недостаткам, которые он отлично видит, лишь бы ему казалось, что он находит в человеке то, что для него самое важное и что часто не поддается определению. В глубине души, и, быть может, не признаваясь в этом самому себе, Филипп знал, что я женщина кроткая, застенчивая и ничем не примечательная, но ему необходимо было мое присутствие. Он ждал от меня готовности всем пожертвовать, чтобы последовать за ним. Я не была ни женой его, ни возлюбленной, а он, казалось, уже требовал от меня неукоснительной верности. Несколько раз, как это у меня вошло в обыкновение после войны, я выезжала с другими друзьями. Я говорила ему об этом, и он так огорчался, что я решила отказаться от этих развлечений. Теперь он звонил мне каждое утро, в девять часов. Если он уже не заставал меня дома (когда долго не мог дозвониться или позже приходил к себе в контору), он вечером бывал в таком волнении, что я решила уйти из Института; теперь он всегда мог быть уверен, что застанет меня. Так мало-помалу он завладевал моей жизнью.
У него вошло в привычку после завтрака заходить ко мне на улицу Ампера. В хорошую погоду мы вместе отправлялись гулять. Я отлично знала Париж и очень любила водить Филиппа по церквам, музеям, показывать ему старинные особняки. Его забавляла моя не в меру скрупулезная ученость. Он говорил, смеясь: «Вот вы какая – знаете хронологию всех царствований и телефоны всех знаменитых писателей». Однако он очень любил эти прогулки. Теперь я знала, что может ему понравиться: яркий цветник вдоль какой-нибудь длинной серой стены, вид на уголок Сены из окна какого-нибудь дома на острове Сен-Луи, садик, скрытый позади церкви. Нередко я уходила утром одна на разведку, чтобы днем с большей уверенностью показать места, которые ему понравятся. Иногда мы ходили на концерт; в музыке наши оценки почти совпадали. Это меня удивляло, потому что мои вкусы сформировались не в результате полученного воспитания, а под влиянием сильных переживаний.
Так вели мы жизнь очень дружную, в некоторых отношениях почти супружескую, но Филипп никогда не говорил мне о своей любви, а, наоборот, твердил, что не влюблен в меня и что именно это благоприятствует нашей дружбе. Однажды, встретив меня случайно в Булонском лесу, он мне сказал:
– Мне доставляет такое удовольствие вас видеть, что кажется, будто вновь возрождаются мои юношеские чувства. В шестнадцать лет я так же искал на улицах Лиможа женщину; ее звали Дениза Обри.
– Вы любили ее?
– Да, но потом она мне наскучила, как и я вам наскучу, если не буду ограничивать себя в счастье.
– Но почему? – возразила я. – Разве вы не верите во взаимную любовь?
– Любовь, даже если она взаимна, страшная вещь. Одна женщина как-то сказала мне: «Любовь благополучная, то есть плетущаяся кое-как, с трудом переносима; а уж неблагополучная – сущий ад». И это вполне справедливо.
Я промолчала: я решила во всем уступать и следовать его желаниям. Несколько дней спустя мы поехали в Оперу, на моего любимого «Зигфрида». Для меня было великим наслаждением слушать музыку возле того, кто стал моим героем. Во время «Шелеста леса» я, сама того не сознавая, положила руку на руку Филиппа; он повернулся и взглянул на меня вопросительно и радостно. В машине он взял мою руку, поцеловал и задержал в своей. Когда мы остановились у подъезда, он сказал: «Спокойной ночи, дорогая». Я ответила весело и не без волнения: «Спокойной ночи, мой лучший друг». На другое утро он прислал мне с рассыльным письмо, написанное ночью: «Изабелла, это ни с чем не сравнимое, всепоглощающее чувство – не только дружба…» Он рассказывал о смене своих детских романтических мечтаний; говорил о женщине, которую называл «Королевой», потом «Амазонкой», о том, что она всегда владела его помыслами:
«Женщины, которые вдохновляли меня, относились к одному и тому же типу. Идеальная женщина – это хрупкое создание, преследуемое судьбою. Она несчастна, но в то же время беспечна и при всем том умна. Как видите, властность Ренэ с этим образом несовместима. Но стоило мне только встретиться с Одилией, и я сразу почувствовал, что она – та, которую я постоянно ждал. Что сказать Вам? У Вас есть доля того таинственного начала, в котором сосредоточена для меня вся ценность жизни; когда я его лишился, мне хотелось умереть. Любовь? Дружба? Что слова? Это чувство нежное и глубокое, это великое упование, безмерное блаженство. Дорогая, я тянусь к Вашим губам, к головке, чтобы приласкать на шее жесткую щетинку подстриженных волос.
Филипп».
Вечером мы поехали на концерт, слушать русскую музыку. Встреча была назначена в зале Гаво. Приехав, я сказала ему, улыбнувшись:
– Здравствуйте… Ваше письмо я получила.
Он ответил довольно холодно: «Получили?» – и заговорил о другом. Но на обратном пути, в машине, он привлек меня к себе и стал целовать; я не сопротивлялась, исполняя это его давнее желание.
В следующее воскресенье мы отправились в лес Фонтенбло.
– Вы заядлая вагнерианка, – сказал он, – поэтому мне хочется показать вам одно местечко около Барбизона; по-моему, оно очень напоминает дорогу, поднимающуюся к Валгалле.[21] Там нагромождены скалы; они поросли соснами, которые устремляются к небесам. Это в одно и то же время и хаотично, и грандиозно, и удивительно стройно, – словом, совсем «Гибель богов». Знаю, что вы равнодушны к пейзажам. Но этот должен вам понравиться, потому что он несколько театрален.
Я надела белое, совсем гладкое платье, чтобы самой походить на валькирию. Филипп его похвалил. Как я ни старалась, ему редко нравились мои наряды; почти на все он посматривал критически, ничего не говоря. В тот день я заметила, что он смотрит на меня с удовольствием. Лес показался мне прекрасным, именно таким, как он мне его описывал. Между огромными замшелыми утесами тянулась вверх извилистая тропинка. Филипп несколько раз то брал меня под руку, чтобы помочь взобраться на камни, то обеими руками поддерживал, когда надо было спрыгнуть вниз. Мы отдыхали, лежа в траве; я прислонилась головой к его плечу. Сосны, кольцом вздымавшиеся вокруг нас, образовали как бы уходящий ввысь темный колодец, в отверстие которого был вправлен кусочек неба.
Я задавалась вопросом: намерен ли Филипп жениться на мне или хочет только сделать меня своей любовницей? Даже сомнения эти – и те были мне приятны. Итак, Филипп станет вершителем моей судьбы; решение вопроса должно исходить только от него. Я доверчиво ждала.
Иной раз казалось, что за его словами сквозит что-то более определенное. Филипп говорил: «Надо непременно показать вам Брюгге, это восхитительный уголок… к тому же мы с вами еще не совершили ни одного даже небольшого путешествия». Перспектива съездить куда-то вместе с ним приводила меня в восторг; я улыбалась, преисполненная нежности; но в следующие дни о поездке уже не говорилось ни слова.
Июль стоял знойный. Все наши друзья разъезжались, отправлялись на каникулы; мне не хотелось покидать Париж – это значило бы расстаться с Филиппом. Как-то вечером он пригласил меня поужинать в Сен-Жермене. Мы долго сидели на террасе. У наших ног расстилался Париж – черный океан, где отражались мерцающие звезды. Из сумрака доносился смех влюбленных пар. В аллеях кто-то напевал. Совсем близко, в траве, кузнечик пел нам колыбельную песенку. На обратном пути, в автомобиле, он рассказывал мне о своей семье и несколько раз сказал: «Когда вы будете в Гандюмасе… когда вы поближе познакомитесь с мамой…» Слово «женитьба» не было произнесено ни разу.
На другой день он уехал в Гандюмас и пробыл там две недели; за это время я получила от него много писем. Перед тем как вернуться, он прислал мне подробный рассказ, о котором я уже упоминала, – историю его жизни с Одилией. Этот рассказ очень заинтересовал и удивил меня. Я обнаруживала здесь Филиппа беспокойного и ревнивого, каким никогда не представляла его себе, а также, в некоторых острых ситуациях, и Филиппа циничного. Я поняла, что он хочет предстать предо мною таким, каков он есть, чтобы избежать всяких тягостных неожиданностей. Но нарисованный им портрет не испугал меня. Что мне до того, что он ревновал? У меня не было намерения изменять ему. Что мне до того, что он иногда развлекался в обществе молодых женщин? Я готова была согласиться на все.
Теперь все и в его поведении, и в речах говорило о том, что он решил на мне жениться. Это очень радовало меня, однако мое счастье несколько омрачалось смутным беспокойством: мне казалось, что какая-то долька раздражения, которую я порою улавливала в нем, когда он меня слушал или следил за тем, что я делаю, теперь стала мелькать у него чаще и явственнее. В течение вечера, начавшегося с полного духовного единения, мне не раз случалось замечать, что от какого-нибудь сказанного мною слова он вдруг замыкался в себе и впадал в задумчивость. Тогда я тоже умолкала и начинала припоминать все, что было мною сказано. Все мои фразы представлялись мне вполне невинными. Я силилась понять, что именно могло его задеть, но понять это мне никак не удавалось. Реакция Филиппа на те или иные слова казалась мне загадочной и совершенно неожиданной.
– Знаете, что вам надо сделать, Филипп? Скажите мне обо всем, что вам во мне не нравится. Я вижу, что кое-что… Ведь я не ошибаюсь?
– Нет, – согласился он. – Но все это мелочи.
– Мне хочется знать их, постараться их исправить.
– Хорошо, – ответил он, – в следующую поездку я вам о них напишу.
В конце месяца он уехал на два дня в Гандюмас, и я получила от него следующее письмо:
«Гандюмас, близ Шардейля (Верхняя Вьенна)
ЧТО МНЕ В ВАС НРАВИТСЯ: Вы сами.
ЧТО НЕ НРАВИТСЯ: Нравится все.
Да; то, что я сейчас написал, в известном смысле правильно, но не совсем. Может быть, было бы точнее отметить в обеих колонках одни и те же черты, ибо есть мелочи, которые мне нравятся как часть Вашего существа, в то время как они мне не нравились бы сами по себе у другой женщины. Попробуем продолжить.
ЧТО МНЕ В ВАС НРАВИТСЯ:
Черные глаза, длинные ресницы, линия шеи и плеч, фигура.
Прежде всего – сочетание мужества и слабости, смелости и застенчивости, целомудрия и пылкости. В Вас есть нечто героическое; оно глубоко скрыто под безволием в отношении мелочей, но оно есть.
Черты, свойственные юной девушке.
Спортивные платья.
Душа с присущей ей добросовестностью; бесхитростность, любовь к порядку. Бережно хранимые книги и тетради.
Разумность.
Скромность.
ЧТО НЕ НРАВИТСЯ:
Чуточку неловкая резкость движений. Вид девочки, застигнутой за шалостью.
Прежде всего – нежелание видеть и принимать жизнь такою, какова она есть; идеализм в духе англосаксонских иллюстрированных журналов; несносная сентиментальность… Строгость по отношению к недостаткам окружающих.
Черты, свойственные пожилой даме.
Платье с желтой туникой; отделка шляп (голубое перо); коричневое кружевное платье; все, что перегружено; все, что искажает линию.
Бережливость; осторожность и в хозяйстве и в чувствах.
Отсутствие легкомыслия. Отсутствие гордости.
В левую колонку я мог бы вписать еще очень многое. Все, что справа, – крайне неточно. Во всяком случае, следует добавить:
ЧТО МНЕ В ВАС НРАВИТСЯ:
То, что мне в Вас не нравится.
Ибо все это составляет часть Вашей личности, и я не хотел бы ничего в ней менять, не считая нескольких совершеннейших мелочей, которые случайно пристали к Вашему облику. Ну вот, например… Однако мне надо все-таки заняться делами фабрики. Фирма Ашет просит изготовить особую бумагу для нового издания, а сейчас ко мне явился мастер, чтобы обсудить улучшенный состав бумажного теста. Как не хочется отвлекаться от письма, предназначенного Вам! Добавлю еще одну черточку для завершения картины:
ЧТО МНЕ В ВАС НРАВИТСЯ:
Долгая, сладостная мечтательность, в которую я погружаюсь, когда думаю о Вас.
Шамфор рассказывает следующее: «Некая дама стала говорить кавалеру де В.: «Что мне в вас нравится…» – «Ах, сударыня, – прервал он ее, – если вы это знаете – я погиб!..»
Что мне нравится в Вас, Изабелла…
Филипп».
Это письмо погрузило и меня в размышления. Мне вспомнилось, как Филипп порою критически посматривает на меня. Я уже давно замечала, что он придает какую-то особенную значительность не только моим словам, но и платьям, шляпкам, всем мелочам моего туалета, и это огорчало, даже оскорбляло меня. Теперь я с удивлением обнаруживала у себя некоторые взгляды моей матери и ее инстинктивное презрение к роскоши. Меня очень удивляло, что Филипп придает значение таким вещам. Я понимала, что мы не можем быть совершенно одинаковы, но мне казалось, что всерьез обращать внимание на такие мелочи – недостойно его. Однако Филиппу это было свойственно, а мной руководило одно желание – нравиться ему. Поэтому я старалась стать такою, какою ему, по-видимому, хотелось меня видеть. Я не вполне преуспела в этом, а особенно мучило меня сознание, что я не вполне ясно понимаю, чего именно он хочет. Моя бережливость? Отсутствие легкомыслия? Да, он был прав. Я знала, что я уравновешенна, осмотрительна. «Как странно, – думала я, – в детстве я всегда была девочкой романтической, я восставала против окружающей суровой, рассудочной среды, а теперь Филипп, наблюдая меня со стороны, находит во мне такие наследственные черты, которые, казалось, совсем мне не свойственны». Читая и перечитывая его письмо, я невольно оправдывалась: «"Вид девочки, застигнутой за шалостью". Но как же мне, Филипп, не казаться девочкой, которую только что разбранили?.. Меня воспитывали так строго, что Вы даже представить себе не можете. Я не могла выйти из дому иначе как в сопровождении мадемуазель Шовьер или мамы… Ваша Одилия, Филипп, провела детство при беззаботных родителях, которые предоставляли ей полную свободу… Вы жестоко страдали от этого… Моя «несносная сентиментальность»? Дело в том, что окружающие меня люди были так мало сентиментальны… Я жду от любви климата теплого, ласкающего, которого семья мне не дала… Моя скромность? Отсутствие гордости? Но как я могла быть уверена в себе, если мне в детстве постоянно внушали, что у меня одни недостатки, что я жалкая посредственность…» Когда Филипп возвратился, я попробовала изложить ему эту горячую защитительную речь, но он только улыбнулся и был так ласков, что я тут же забыла об его письме. День нашей свадьбы был назначен, и я чувствовала себя несказанно счастливой.
К свадьбе вернулись из-за границы мои родители. Филипп им понравился, а ему тоже пришлась по вкусу сдержанная ирония моего отца; в непреклонной суровости матери он нашел поэзию «в духе Марсена». Родители были удивлены, узнав, что мы отказываемся от «свадебного путешествия». Мне хотелось бы поехать; посетить Италию или Грецию в обществе Филиппа было бы для меня великой радостью, но я почувствовала, что у него такого желания нет, и не стала настаивать. Я понимала его чувства; зато мои родители очень дорожили тем, чтобы весь «ритуал счастья» был в точности соблюден, и в день свадьбы мама сказала мне, что нашей семейной жизни грозит в будущем большая опасность. «Не допускай, чтобы у твоего мужа создалось впечатление, что ты безмерно любишь его, – сказала она, – иначе пропадешь». Я уже стала самостоятельной и ответила ей суховато: «Я сама позабочусь о своем благополучии».
О трех первых месяцах нашей совместной жизни у меня остались самые светлые воспоминания. Ни с чем не сравнимое счастье быть рядом. Постепенное познание любви. Физическая гармония. Его деликатная доброта, предупредительность. Как все казалось мне упоительно вблизи тебя, Филипп, – и как легко! Мне хотелось устранить из твоей памяти все тягостные воспоминания, подарить тебе все возможные радости, сесть у твоих ног, целовать твои руки. Я чувствовала себя совсем юной. Мое исковерканное детство, тяжелая работа на войне, отчаяние одинокой женщины – все это забылось; жизнь казалась прекрасной.
Эти три первых месяца мы провели в Гандюмасе, который мне очень пришелся по душе. Мне давно хотелось увидеть дом и парк, где рос Филипп. Филипп-ребенок, маленький мальчик – я думала о том, каким он был тогда, с нежностью, одновременно и материнской и любовной. Его мать показывала мне его фотографии, школьные тетрадки, локоны, которые она бережно хранила. Она мне казалась рассудительной и умной. У нас было много общего во вкусах, и обе мы испытывали какой-то нежный и мучительный страх перед теперешним Филиппом, ставшим не совсем таким, каким она его воспитала.
Она говорила, что влияние Одилии сказывалось на нем очень сильно и не вполне благотворно.
– До женитьбы Филипп никогда не бывал нервным, беспокойным, – говорила она. – У него был положительный, уравновешенный ум; он очень увлекался чтением, работой и во всем походил на отца, который был прежде всего рабом долга. Под влиянием жены характер у него стал гораздо… труднее. Правда, все это только поверхностно и по натуре он остался прежним; тем не менее я не удивлюсь, если на первых порах вам будет трудновато.
Я стала расспрашивать ее об Одилии. Она не могла простить ей, что из-за нее Филипп был несчастлив.
– Но, мама, ведь он ее боготворил, – возразила я. – Он и теперь все еще любит ее; значит, он находил в ней что-то хорошее…
– А мне кажется, – ответила она, – что с вами он будет гораздо счастливее, и я очень признательна вам за это, милая моя Изабелла.
Мы несколько раз беседовали так, и наблюдателю было бы любопытно подслушать наши разговоры, ибо не кто иной, как я выступала в них защитницей той мифической Одилии, которая была создана Филиппом и воспринята мною от него.
– Вы меня удивляете, – говорила свекровь. – Право же. Вы думаете, что знали ее лучше меня, а никогда с Ней даже не виделись… Нет, уверяю вас; к этому несчастному существу я не питаю никаких иных чувств, кроме жалости, но все же надо говорить правду, и я должна описать вам ее такою, какою знала.
Время неслось с прямо-таки сказочной стремительностью; мне казалось, будто я начала жить только в день свадьбы. Утром, перед тем как уйти на фабрику, Филипп подбирал мне книги для чтения. Некоторые из них, особенно философские, все же были для меня малодоступны, зато те, где говорилось о любви, я прочитывала с наслаждением. Я выписывала в тетрадочку фразы, которые в свое время Филипп отметил карандашом на полях.
Часов в одиннадцать я выходила в парк. Я очень любила сопровождать свекровь в городок-сад, который она построила в память своего мужа на склонах, спускающихся к долине реки Лу. Он состоял из нескольких чистеньких, благоустроенных домиков; Филипп считал, что они очень некрасивы, зато они были хорошо оборудованы и удобны. В середине городка госпожа Марсена устроила комплекс общественных заведений, которые меня очень интересовали. Она показала мне свою домовую школу, больницу, ясли. Я стала ей помогать; тут мне пригодился опыт работы на войне. К тому же меня всегда привлекала организационная работа, строгий порядок.
Мне доставляло также большое удовольствие сопровождать Филиппа на фабрику. За несколько дней я ознакомилась с его работой. Меня это очень интересовало; я любила сидеть против него в его кабинете, заваленном кипами бумаги всевозможных цветов, читать письма редакторов газет, издателей, слушать доклады рабочих. Иногда, когда в кабинете не оставалось посторонних, я садилась к Филиппу на колени, а он обнимал меня, тревожно посматривая на дверь. Я с радостью замечала, что его постоянно влечет ко мне. Стоило мне только оказаться поблизости, он брал меня за талию, за плечи; я убеждалась, что самое сильное, совершенное и самое истинное в его натуре – это начало любовное, и во мне самой рождалась упоительная чувственность, которая до сих пор была мне неведома, а теперь окрасила всю мою жизнь.
Лимузен, край несколько суровый и, как мне казалось, весь насыщенный присутствием Филиппа, пришелся мне очень по душе. Единственным местом, которого я избегала, была так называемая обсерватория в парке, где, как я знала, он бывал с Денизой Обри, с Одилией. Мною начинала овладевать странная ревность к умершей. Иногда мне хотелось разузнать о ней побольше подробностей. Я расспрашивала Филиппа об Одилии с почти что жестокой настойчивостью. Но эти припадки неуравновешенности бывали мимолетны. Одно только меня тревожило: я замечала, что Филипп счастлив не совсем так, как я. Он любил меня, в этом я не сомневалась, но он не испытывал, подобно мне, чувства изумления перед нашей жизнью и благодарности за нее.
– Филипп, мне хочется кричать от счастья, – признавалась я ему иногда.
– Боже, какой вы еще ребенок! – говорил он в ответ.
В начале ноября мы возвратились в Париж. Я сказала Филиппу, что мне хотелось бы оставить за собой квартиру, которую я занимала до сих пор в доме родителей.
– Тут много преимуществ. Я за нее не плачу, она обставлена и достаточно просторна на двоих, а родители не могут нам мешать, раз они проводят в Париже всего лишь несколько недель в году. Когда они вернутся во Францию и поселятся в своем доме, тогда мы и поищем что-нибудь другое.
Филипп не согласился.
– Вы иногда говорите странные вещи, Изабелла, – сказал он. – Я не могу жить в этом доме; он безобразный, плохо отделан; на стенах и потолках какие-то немыслимые пирожные из штукатурки. Ваши родители ни за что не позволят его переделать. Нет, уверяю вас, это было бы большой ошибкой… Мне станет неприятна собственная квартира…
– Даже со мной, Филипп? Вы не считаете, что главное в жизни – люди, а не обстановка?
– Да, конечно, всегда так можно утверждать, и на первый взгляд это даже кажется неоспоримым… Но если вы будете придерживаться этой поверхностной сентиментальности, у нас ничего не выйдет… Когда вы говорите: «Даже со мной?» – я вынужден отвечать: «Да что вы, дорогая!» – но это неправда, потому что я отлично знаю, что мне в этом доме будет неприятно.
Я уступила, однако хотела взять с собою в новую квартиру, которую снял Филипп, свою прежнюю мебель, подаренную мне родителями.
– Изабелла, дорогая моя, но что же можно сохранить из вашей мебели? Пожалуй, два-три белых стула из ванной, кухонный стол… если хотите, несколько бельевых шкафов. Все остальное ужасно.
Я очень огорчилась. Я понимала, вся эта мебель отнюдь не прекрасна, но я привыкла к ней, и меня она не возмущала; наоборот, она казалась мне уютной, а главное – я считала, что покупать другую безрассудно. Я знала, что, когда мама приедет, она сурово осудит меня и что в глубине сердца я буду на ее стороне.
– Что же нам с нею делать, Филипп?
– Продать, дорогая.
– Вы сами знаете, что продать ее трудно; когда хочешь избавиться от чего-нибудь, все начинают говорить, что это не стоит ни гроша.
– Это правда. Да она и в самом деле ничего не стоит. Столовая, например, – подделка под стиль Генриха Второго… Просто удивительно, Изабелла, что вы цепляетесь за эту безвкусицу, которая к тому же и выбрана-то не вами.
– Да, пожалуй, я не права, Филипп. Делайте как хотите.
Подобные сценки повторялись так часто, по поводу самых незначительных предметов, что в конце концов я сама стала над этим подтрунивать; однако в красной тетрадке Филиппа есть следующая запись:
«Бог мой, я и сам понимаю, что все эти вещи не имеют ни малейшего значения. У Изабеллы есть превосходные черты: самоотречение… стремление сделать так, чтобы вокруг нее все были счастливы. Она совершенно преобразила мамину жизнь в Гандюмасе… Быть может, именно оттого, что у нее нет ярко выраженных пристрастий, она постоянно старается предугадать мой вкус и удовлетворить его. Достаточно мне выразить какое-нибудь желание, чтобы вечером она вернулась домой с той вещью, которой мне хотелось. Она балует меня как ребенка, как я баловал Одилию. Но я с грустью, с ужасом замечаю, что эти знаки внимания скорее удаляют ее от меня. Я попрекаю себя за это, борюсь сам с собою, но ничего поделать не могу. Мне надо было бы… Чего? Что случилось? Случилось, кажется, то, что случается со мной всегда: я хотел воплотить в Изабелле мою Амазонку, мою Королеву, а также, в некотором смысле, и Одилию, которая теперь в моих воспоминаниях сливается с Амазонкой. А Изабелла – женщина не такого склада… Я поручил ей роль, играть которую она не может. Главное – что я сознаю это, что стараюсь любить ее такою, какая она есть, что понимаю, насколько она достойна любви, и что я все-таки мучаюсь.
Но отчего же, Боже мой, отчего? Мне даровано редкое счастье: великая любовь. Я провел жизнь, взывая к «романтическому», мечтая о счастливой любви: она мне ниспослана, а я ее не хочу. Я люблю Изабеллу и вместе с тем чувствую в ее присутствии хоть и не гнетущую, но все же непреодолимую скуку. Теперь я понимаю, как сам я некогда удручал Одилию. В этой скуке нет для Изабеллы ничего оскорбительного, как не было оскорбительного и для меня, ибо источник ее – не заурядность того, кто любит нас, а то, что человек этот, сам удовлетворенный нашим присутствием, уже не ищет и не имеет основания искать чего-то для заполнения жизни, стремиться к тому, чтобы жизнь каждое мгновение била ключом… Вчера мы с Изабеллой провели весь вечер в библиотеке. Читать мне не хотелось. Я предпочел бы куда-нибудь поехать, увидеть новых людей, что-то предпринять. А Изабелла, безмятежно счастливая, время от времени отрывала взор от книги и улыбалась мне».
Филипп, дорогой, молчаливый Филипп, почему же ты ничего не сказал? Я уже тогда отлично понимала то, что ты записывал тайно. Нет, ты вовсе не огорчил бы меня, если бы все это высказал: наоборот, ты меня, возможно, вылечил бы. Может быть, если бы мы всё высказали друг другу, нам удалось бы сойтись теснее. Я знала, что поступаю неосторожно, когда говорю тебе: «Как мне дорого каждое мгновение! Сидеть рядом с Вами в машине, ловить за обедом Ваш взгляд, слышать, как отворяется дверь Вашей комнаты…» Правда, тогда у меня не бывало иного желания, как только быть наедине с тобою. Видеть тебя, слышать твой голос – мне не надо было ничего другого. Я не испытывала ни малейшего желания видеть каких-либо новых людей; я страшилась их, но если бы я знала, что они тебе так необходимы, я, вероятно, отнеслась бы к ним иначе.
Филипп хотел, чтобы я познакомилась с его друзьями. Я очень удивилась, узнав, что их так много. Я воображала, надеялась, что мы будем жить более уединенно, более замкнуто. По субботам Филипп проводил вечера у госпожи де Тианж, которая, по-видимому, являлась его наперсницей; он любил также и ее сестру, госпожу Кенэ. В салоне собиралось приятное общество, но меня оно как-то пугало. На этих вечерах я невольно цеплялась за Филиппа. Я замечала, что мое неотступное присутствие возле него несколько его раздражает, однако я была не в силах побороть себя и присоединиться к какой-нибудь группе гостей, где нет Филиппа.
Все женщины бывали там очень милы со мною, но я не стремилась с ними подружиться. Они чувствовали себя непринужденно и уверенно; это удивляло меня и приводило в смущение. Особенно удивлялась я тому, насколько они близки с Филиппом; я этого не ожидала. У них с ним были такие приятельские отношения, каких мне никогда не приходилось наблюдать в моей семье. Филипп выезжал с Франсуазой Кенэ, когда она бывала одна в Париже, или с Ивонной Прево, женой моряка, или с молодой женщиной по имени Тереза де Сен-Ка, которая сочиняла стихи и казалась мне несимпатичной. Эти выезды были, по-видимому, вполне невинны. Филипп посещал с приятельницами выставки, иногда они вечером ездили в кино, по воскресеньям – на музыкальные утренники. На первых порах он всегда приглашал и меня, и я несколько раз присоединялась к ним. Мне с ними бывало неприятно. Филипп в таких случаях становился веселым и оживленным, каким некогда бывал со мною. Я огорчалась, видя, что это общество доставляет ему такое удовольствие. Особенно неприятно мне было то, что ему нравится столько совершенно различных женщин. Думаю, что мне легче было бы вынести какую-нибудь одну, непреодолимую страсть. Конечно, это было бы ужасно и гораздо опаснее для моего семейного благополучия, но по крайней мере, такое несчастье было бы так же возвышенно, как и моя любовь. Я с горечью наблюдала, что мой герой придает столько значения существам, быть может, и милым, но с моей точки зрения все-таки довольно посредственным. Однажды я осмелилась высказаться:
– Филипп, дорогой, я вас не совсем понимаю. Неужели вам доставляет удовольствие общество Ивонны Прево? Вы говорите, что между вами ничего нет, – и я вам верю, – но, в таком случае, какие же у вас с нею отношения? Вы считаете ее умной? А на меня она наводит скуку скорее, чем кто-либо другой.
– Ивонна? Да что вы, она вовсе не скучная. С ней надо говорить о том, что ей знакомо. Она дочь и жена моряков; она отлично знает море, корабли. Прошлой весной я провел несколько дней с нею и ее мужем на юге. Мы плавали, катались на яхтах, было очень интересно… Кроме того, она веселая, хорошо сложена, на нее приятно смотреть; чего же вы еще хотите?
– Для вас? Очень многого… Поймите же, дорогой; по-моему, вы достойны самых замечательных женщин, между тем я вижу, что вы дружите с какими-то хорошенькими, но самыми заурядными существами.
– Как вы несправедливы и строги! Элен и Франсуаза, например, женщины замечательные. Кроме того, это мои очень давние приятельницы. Перед войной, когда я был тяжело болен, Элен была ко мне исключительно добра и внимательна. Она приезжала ухаживать за мной; я, быть может, обязан ей жизнью… Какая вы странная, Изабелла! Чего вы хотите? Чтобы я со всеми перессорился ради того, чтобы остаться наедине с вами? Но не пройдет и двух дней, как мне это наскучит, да и вам тоже.
– Нет, мне не наскучит. С вами я готова хоть в темницу до конца своих дней. А вот вы этого не выдержите.
– Да и вы тоже, дорогая моя; вы так говорите потому, что этого нет. А заставь я вас вести подобный образ жизни, и вы пришли бы в ужас.
– Попробуйте, друг мой, тогда увидим. Послушайте. Подходит Рождество; уедемте куда-нибудь одни, вдвоем; мне это доставит огромное удовольствие. Ведь у нас не было свадебного путешествия.
– Охотно. А куда вы хотите поехать?
– Мне совершенно безразлично, куда угодно, только бы быть с вами.
Было решено, что мы отправимся на несколько дней в горы, и я тут же написала в Санкт-Мориц, чтобы заказать комнаты.
Уже одна мысль об этой поездке приводила меня в восторг. Но Филипп хмурился.
«Становится грустно, и к этой грусти примешивается ирония, когда подумаешь, как мало бывает разнообразия в отношениях друг к другу двух человеческих существ, – записывал он. – В комедии любви мы поочередно играем роль то более любимого, то любимого меньше. Тут фразы лишь переходят в другие уста, но сами остаются теми же. Теперь мне, возвратясь домой после долгого отсутствия, приходится подробно, час за часом, рассказывать, что я делал, где был. Изабелла старается подавлять ревность, но мне слишком хорошо знаком этот недуг, чтобы колебаться в его диагностике. Бедная Изабелла! Я жалею ее, но не могу излечить. Думая о том, насколько в действительности все невинно, о тусклых часах, проведенных мною в работе, которые кажутся ей полными тайны, я не могу не вспоминать Одилию. Чего бы я только не дал тогда, чтобы Одилия придавала столько значения моим поступкам! Но, увы, не потому ли я так желал этого, что они не вызывали в ней ни малейшего интереса!
Чем дольше мы с Изабеллой живем вместе, тем больше я убеждаюсь, насколько различны наши вкусы. Иной раз я предлагаю ей съездить куда-нибудь, побывать в новом ресторане, в кино, в мюзик-холле. Она соглашается с такой грустью, что я уже заранее недоволен вечером.
– Раз вам не хочется – так не надо. Посидим дома.
– Да, если вам все равно, я предпочла бы остаться дома, – говорит она с облегчением.
Когда мы выезжаем куда-нибудь в компании, меня совершенно обескураживает ее безразличие; мне кажется, что это моя вина.
– Как странно, вы не способны хоть час провести весело, получить от этого удовольствие, – говорю я ей.
– Все это мне кажется таким ненужным! – отвечает она. – По-моему, это даром потерянное время, а ведь дома на столе у меня чудесные книги и осталось много работы по хозяйству. Но если вас это забавляет – я готова поехать.
– Нет, – отвечаю я не без раздражения, – теперь уже не забавляет».
А несколько месяцев спустя он записал:
«Летние вечера. Мне удалось, Бог ведает какими путями, увлечь Изабеллу на ярмарку в Нейи. Вокруг нас вертелись карусели, шарманки наигрывали негритянские мелодии, в тирах трещали пистоны, дребезжали колеса лотерей; в воздухе разливался теплый запах вафель. Нас несет медлительная густая толпа. Мне почему-то хорошо; мне нравится этот шум, это оживление; я улавливаю во всем этом какую-то необъяснимую мощную поэзию. Я думаю: «Всех этих мужчин и женщин стремительный поток несет к смерти, а они растрачивают быстротечные мгновения на то, чтобы накинуть обруч на горлышко бутылки или так сильно ударить деревянным молотом по ящику, чтобы оттуда выскочил чумазый негр. И конечно, в сущности, они правы; с точки зрения небытия, которое нас ожидает, Наполеон или Ришелье воспользовались отведенным им временем ничуть не лучше, чем эта маленькая женщина и ее спутник-солдат».
Я даже забыл о жене, которая держала меня под руку. Вдруг она сказала:
– Поедемте домой, мой друг: меня все это страшно утомляет.
Я подозвал такси, и мы медленно поехали, рассекая недовольную толпу. «Каким очаровательным, каким веселым был бы такой вечер в обществе Одилии, – думал я. – Ее глаза светились бы, как всегда бывало, когда она чему-нибудь радовалась. Она участвовала бы во всех лотереях и была бы счастлива, что выиграла игрушечный кораблик. Бедная Одилия, она так любила жизнь и так мало насладилась ею, в то время как люди, созданные для смерти, – вроде Изабеллы и меня – тянут, сами того не желая, свое унылое существование!»
Изабелла, словно угадав мою мысль, взяла меня за руку.
– Вы плохо себя чувствуете? – спросил я. – Ведь вы редко устаете.
– Нет, нет, – ответила она. – Но ярмарка до того раздражает меня, что я устаю тут скорее, чем где бы то ни было.
– Раздражает? Как жаль, Изабелла! А мне все это так нравится.
В этот момент мы проезжали мимо карусели и до нас донеслись звуки шарманки, – играли мотив, популярный еще до войны; и тут в моей памяти внезапно зазвучали слова, сказанные Одилией давным-давно, когда мы с ней бродили по этой же ярмарке. Тогда она упрекнула меня в том, что мне скучно. Неужели я так изменился? Как дом, покинутый теми, кто его построил и обставил, и перешедший к новым владельцам, все еще хранит запахи и даже образ мыслей прежних хозяев, – так и я, весь пронизанный Одилией, иду теперь по жизни с душой, которая уже не вполне моя. Свои истинные вкусы, свой несговорчивый ум, унаследованный от Марсена, теперь я скорее находил у Изабеллы, чем у себя самого, и странно было думать, что в этот вечер я осуждал в ней суровость и нелюбовь к развлечениям, которые были присущи моему собственному характеру, но стерты другою женщиной».
Приближался день нашего отъезда в горы. Незадолго до того Филипп встретился у Элен де Тианж с супругами Вилье, знакомыми ему по Марокко. Мне очень трудно подобрать слово для характеристики госпожи Вилье. Надменная? Да, конечно. Но и победоносная; пожалуй, это точнее: победоносная. Под копной белокурых волос четкий, изящный профиль. Что-то от прекрасного чистокровного животного. Как только мы появились в гостиной, она подошла к нам.
– Мы с господином Марсена однажды вместе участвовали в восхождении на Атлас, – сказала она мне. – Помните, Марсена, Саида?.. Саид, – добавила она для меня, – был наш гид, маленький арап с блестящими глазами.
– Он был поэт, – подхватил Филипп. – Когда мы брали его к себе в машину, он воспевал стремительность руми[22] и красоту госпожи Вилье.
– Вы не покажете в этом году Марокко вашей супруге?
– Нет, – ответил Филипп, – мы совершим лишь небольшую поездку, хотим отправиться в горы. Не соблазнитесь?
– Вы спрашиваете серьезно? Представьте себе, что нам с мужем хочется встретить Рождество и Новый год где-нибудь среди снегов. Вы куда собираетесь?
– В Санкт-Мориц, – ответил Филипп.
Я была вне себя; я делала ему знаки, но он их не замечал. В конце концов я сказала, вставая:
– Надо ехать, Филипп.
– Ехать? Почему? – удивился он.
– Нас будет ждать управляющий. Я назначила ему прийти сегодня.
– В субботу?
– Да, мне казалось, что вам это будет удобно.
Он с недоумением посмотрел на меня, но ничего не возразил и поднялся.
– Если такая поездка вас привлекает – позвоните мне, – обратился он к госпоже Вилье, – мы сговоримся. Очень приятно было бы съездить вчетвером.
Когда мы вышли, он сказал мне довольно резко:
– С какой стати вы велели управляющему прийти к шести часам в субботу? Что за странная выдумка! Вы же знаете, что по субботам собираются у Элен и что я люблю посидеть у нее подольше.
– Я никому ничего не назначала, Филипп. Просто мне хотелось уехать.
– Что за вздор! – воскликнул он в недоумении. – Вы больны?
– Ничуть, но мне совсем не нужны эти Вилье в нашей поездке. Я вас не понимаю, Филипп; вы знаете, что самое приятное для меня именно в том, что я проведу время наедине с вами, а вы приглашаете каких-то людей, с которыми едва знакомы, с которыми случайно встретились в Марокко.
– Зачем так кипятиться? Я вас такой еще никогда не видел. Я вовсе не «едва знаком» с Вилье. Мы прожили вместе две недели. Я провел в их саду в Марракеше несколько восхитительных вечеров. Вы не представляете себе, какой это чудесный дом: водоемы, фонтаны, четыре кипариса, благоухание цветов. У Соланж Вилье изумительный вкус. Она превосходно подобрала обстановку: марокканские диваны, мягкие ковры – и больше ничего. Право же, с Вилье я подружился теснее, чем с некоторыми парижскими знакомыми, которых видишь раза три в год на званых обедах.
– Допустим, что все это так, Филипп; возможно, что я не права, но не отнимайте у меня этой поездки; она была мне обещана, она – моя.
Филипп, смеясь, положил руку на мою:
– Хорошо, сударыня. Вы ее получите.
На другой день, когда мы пили кофе после завтрака, госпожа Вилье позвонила Филиппу. По его ответам я поняла, что она посоветовалась с мужем, что муж одобрил ее план и что они отправятся в Швейцарию вместе с нами. Я заметила, что Филипп не только не настаивает, а наоборот, старается отговорить их. Однако в заключение он сказал:
– Ну что же, в таком случае мы будем очень рады встретиться с вами там.
Он повесил трубку и взглянул на меня в некотором смущении.
– Как видите, я сделал все, что мог, – сказал он.
– Да, но как же все-таки? Они поедут? Нет, Филипп, это нестерпимо!
– Но что я могу поделать, дорогая? Ведь не могу же я позволить себе грубость.
– Нет, но вы могли придумать какой-нибудь предлог, сказать, что мы едем в другое место.
– Они и туда поедут. Во всяком случае, не стоит все это преувеличивать. Вы убедитесь, что они очень милые люди, и вам самой будет приятно в их обществе.
– Тогда вот что, Филипп. Прошу вас: поезжайте с ними один. Мне уже не хочется ехать.
– С ума сошли! Они будут в полном недоумении, станут доискиваться, в чем дело. К тому же, по-моему, это не особенно любезно с вашей стороны. У меня не было ни малейшего намерения куда бы то ни было ехать, бросать Париж; это ваше желание; я согласился только потому, что хотел сделать вам удовольствие, а теперь вы готовы отправить меня одного!
– Не одного… А с вашими самыми близкими друзьями.
– Изабелла, с меня достаточно этой нелепой сцены, – сказал Филипп резко, как еще никогда со мной не говорил. – Я ни в чем перед вами не виноват. Я не приглашал Вилье. Они сами выразили желание ехать. К тому же мне они абсолютно безразличны. Я никогда не ухаживал за Соланж… С меня довольно, – продолжал он, чеканя слова и порывисто шагая по столовой. – Я чувствую, что вы настолько ревнивы, настолько насторожены, что уже не решаюсь ни шага сделать, ни слова сказать… Поймите, ни на что так понапрасну не растрачивается жизнь, как на такие нелепые капризы, уверяю вас…
– Растрачиваешь жизнь, главным образом, когда делишься ею со всеми… – возразила я.
Я сама удивлялась своим словам. Я заметила, что говорю с сарказмом, со злобой. Я огорчала единственного дорогого мне человека и не могла сдержаться.
– Бедняжка Изабелла! – сказал Филипп.
А я, так хорошо знавшая его жизнь с его же собственных слов, я, жившая его воспоминаниями больше, быть может, чем он сам, я поняла его мысль: «Бедняжка Изабелла! – думал он. – Теперь твоя очередь…»
В ту ночь мне не спалось. Я мучительно упрекала себя. Есть ли у меня реальные основания жаловаться? Между моим мужем и Соланж Вилье, разумеется, нет близости, раз они так давно не виделись. Следовательно, никакого повода ревновать у меня нет. Быть может, эта встреча, наоборот, – обстоятельство благоприятное. Разве Филиппу было бы весело в Санкт-Морице наедине со мной? Он вернулся бы в Париж недовольный, и у него осталось бы впечатление, что я навязала ему ненужную, скучную поездку. В обществе супругов Вилье ему будет интереснее, и хорошее его настроение отразится и на мне… Но мне было грустно.
Мы предполагали отправиться на день раньше четы Вилье, однако задержались и уехали все четверо в одном и том же поезде.
Утром Филипп встал рано; выйдя из купе, я застала его в коридоре за оживленной беседой с Соланж – она тоже была уже совсем одета. Я взглянула на них, и меня поразил их счастливый вид. Я подошла и сказала:
– Доброе утро, госпожа Вилье.
Соланж обернулась. У меня невольно мелькнул вопрос: «Неужели в ней есть какое-то сходство с Одилией?» Нет, сходства с Одилией не было; она была гораздо крупнее, в чертах ее лица не было ничего детского, ничего ангельского. Соланж казалась женщиной, которая померилась силами с жизнью и одолела ее. Когда она улыбнулась мне, ее улыбка меня на мгновенье покорила. Потом к нам подошел ее муж. Поезд катил между высокими горами; вдоль полотна бежал бурный поток. Пейзаж казался мне нереальным и грустным. Жак Вилье заговорил со мной на какие-то скучные темы: я знала (потому что таково было общее мнение), что он человек умный. Он не только удачно сделал карьеру в Марокко, но и вообще стал крупным дельцом. «Он занимается всем, чем угодно, – пояснил мне Филипп, – и фосфатами, и транспортом, и рудниками». Но я, сказать по правде, прислушивалась к разговору Филиппа с Соланж, который наполовину ускользал от меня из-за ритмичного стука колес. Я слышала (голос Соланж): «Так что же такое, по-вашему, обаяние?», (голос Филиппа): «…очень сложно… И лицо имеет значение, и фигура… Но главное – характер, наклонности…», (какое-то слово я не расслышала, потом голос Соланж): «А также вкус, воображение, склонность к приключениям… Не правда ли?»
– Вы правы, – сказал Филипп, – тут необходимо сочетание. Женщина должна быть способна и на серьезное и на ребячливое… И совершенно невыносимо…
Грохот колес опять заглушил конец фразы. Перед нами высились горы. Возле лесной хижины с широкой крышей, которая свисала наподобие пелерины, мелькнула поленница, сверкнув капельками смолы. Неужели всю неделю будет длиться эта мука? Жак Вилье закончил свой длинный рассказ словами:
– …Как изволите видеть, сделка отличная во всех отношениях.
Он засмеялся; по-видимому, он поделился со мной какой-то весьма остроумной комбинацией, но я восприняла только одно имя: «группа Годе».
– Действительно, отличная! – согласилась я, и мне стало ясно, что он считает меня дурочкой. Мне это было безразлично. Я уже начинала ненавидеть его.
Конец этого переезда вспоминается мне как какой-то бред. Коротенький поезд, пыхтя, полз вверх среди сверкающей белизны ландшафта, и порою все скрывалось под облаком пара, который несколько мгновений клубился над снегами. Дорога тянулась долгими таинственными изгибами, благодаря чему белые гребни гор, увенчанные елями, как бы вращались вокруг нас. Потом возле полотна внезапно разверзалась пропасть, и на дне ее видна была тонкая черная извилина, по которой мы недавно проехали. Соланж с детской радостью любовалась этим зрелищем и беспрестанно обращала внимание Филиппа на отдельные уголки пейзажа.
– Посмотрите, Марсена, как хороши эти подносы из веток, на которых елки сберегают снег… Как чувствуется крепость дерева – оно выносит такую тяжесть, не сгибаясь… А вот еще… Что за прелесть!.. Посмотрите вверх, на гостиницу, она сверкает на самой вершине, как бриллиант в белом ларце… А оттенки снега… Обратите внимание – ведь он никогда не бывает чисто-белым, он то голубоватый, то чуть розовый… Ах, Марсена, Марсена! Я просто" в восторге!
В этом не было ничего дурного, и даже, если рассудить беспристрастно, все это говорилось довольно мило, но меня она раздражала. Я удивлялась, как Филипп, который всегда говорит, что больше всего ценит естественность, может выносить эти лирические тирады. «Допустим, что все это ей очень нравится, – думала я, – но все же в тридцать три года (а пожалуй, и в тридцать пять… шея у нее в морщинках) нельзя выражать свой восторг как ребенок… Кроме того, все и без нее видят, что снег голубой, розовый… Зачем об этом говорить?» Мне казалось, что Жак Вилье того же мнения, что и я, потому что время от времени он подчеркивал восторги жены циничным и чуть усталым «н-да!». Когда он произносил это «н-да», он на миг становился мне симпатичным.
Отношения между супругами Вилье были мне непонятны. Они были чрезвычайно предупредительны друг к другу; Соланж держалась с ним непринужденно-нежно, звала его то Жако, то Жаку и даже ни с того ни с сего целовала его. А между тем достаточно было провести с ними несколько часов, чтобы стало ясно, что настоящей близости между ними нет, что Вилье не ревнив и заранее, с некой высокомерной покорностью, мирится с сумасбродными выходками жены. Ради чего он живет? Ради другой женщины? Ради своих рудников, пароходов и марокканских пастбищ? Я этого не понимала и недостаточно интересовалась им, чтобы ломать себе над этим голову. Я его презирала за то, что он так снисходителен. «Ему так же не хочется находиться здесь, как и мне, – думала я, – и будь он чуть потверже, ни он, ни я тут не оказались бы». Филипп купил швейцарскую газету и стал переводить курс ценных бумаг на французские франки; думая угодить Вилье, он завел с ним разговор об акциях. Вилье с небрежным видом игнорировал причудливые названия каких-то мексиканских или греческих фирм – подобно тому как знаменитый писатель усталым жестом отмахивается от почитателя, который некстати ссылается на его произведения. Повернувшись ко мне, он спросил, читала ли я «Кенигсмарк».[23] А маленький поезд все кружил среди мягких, белых очертаний гор.
Почему Санкт-Мориц остался в моей памяти как декорация для комедии Мюссе – веселой, нереальной и в то же время полной сосредоточенной меланхолии? Словно сейчас вижу, как мы ночью выходим из вокзала; ощущаю суровый и благотворный мороз, вижу на снегу яркие пятна света, сани, осликов в сбруях с красными, синими, желтыми помпонами и множеством колокольчиков. Потом чудесное, нежащее тепло гостиницы, в холле – англичане в смокингах и наша огромная теплая комната, где я была счастлива почувствовать себя наконец хоть на несколько минут наедине с мужем.
– Филипп, поцелуйте меня, надо освятить эту комнату… Ах, как мне хотелось бы поужинать тут же, только вдвоем… А придется переодеться, опять встретиться с этими людьми и говорить, говорить…
– Но ведь они очень милые…
– Очень милые… когда их не видишь перед собою.
– Как вы суровы! Разве вы не считаете, что в дороге Соланж была очаровательна?
– Послушайте, Филипп, вы в нее влюблены!
– Ничуть не бывало. Почему вы так думаете?
– Потому что, если бы вы не были влюблены, вы не вынесли бы ее и в течение десяти минут… В общем, о чем она говорила? Можете вы извлечь хоть одну мысль из всего, что она наболтала?
– Отчего же… У нее тонкое чувство природы. Она очень поэтично говорила о снеге, о елках… Вы не согласны?
– Да, иной раз она схватывает какой-то образ; но это доступно и мне, как и вообще всем женщинам, когда они дают себе волю… Это их естественная манера мыслить… Но между Соланж и мной большая разница: я слишком вас уважаю, чтобы выкладывать перед вами все, что мне взбредет в голову.
– Дорогая моя, – возразил он с мягкой иронией, – я никогда не сомневался ни в вашей способности придумывать всякие милые вещи, ни в скромности, которая не позволяет вам высказывать их вслух.
– Не смейтесь надо мной, мой друг… Я говорю серьезно… Если бы вы не были немного увлечены этой женщиной, вы заметили бы, что она непоследовательна, что она перескакивает с одного на другое… Разве я не права? Ответьте, положа руку на сердце. – Совсем не правы – ответил Филипп.
Эту поездку в горы я вспоминаю как жестокую пытку. Уезжая, я, конечно, сознавала, что от природы не способна к спорту, однако я думала, что мы с Филиппом вместе станем преодолевать трудности как начинающая пара и что это будет очень увлекательно. В первое же утро я убедилась, что Соланж Вилье во всех этих играх проявляет божественную ловкость. Филипп был менее натренирован, однако обладал изяществом и гибкостью; мне сразу же пришлось стать свидетельницей, как они, веселые, вместе катаются на коньках, в то время как я с трудом ковыляю по льду, поддерживаемая инструктором.
После обеда, когда мы располагались в холле гостиницы, Филипп и Соланж сдвигали свои кресла и весь вечер проводили в болтовне, в то время как мне не оставалось ничего лучшего, как выслушивать финансовые теории Жака Вилье. Это было время, когда фунт стерлингов котировался в шестьдесят франков; помнится, Вилье сказал мне как-то:
– Сами понимаете, что это далеко не соответствует действительной ценности фунта. Вам следовало бы посоветовать мужу, чтобы он хотя бы часть состояния обратил в иностранную валюту, потому что, разумеется…
Иногда он мне рассказывал о своих возлюбленных, не скрывая при этом имен:
– Вам, вероятно, говорили, что у меня роман с Дженни Сорбье, артисткой? Это уже не соответствует истине, нет! Я очень любил ее, но все это уже в прошлом… Теперь у меня мадам Лотри… Вы ее знаете? Это красивая женщина, очень тихая… Человеку вроде меня, которому приходится вести беспрестанную деловую борьбу, нужна в женщине нежность очень спокойная, почти животная…
Тем временем я всячески старалась приблизиться к Филиппу и завязать общий разговор. Когда мне это удавалось, между Соланж и мной сразу же обнаруживался непримиримый антагонизм двух различных житейских философий. Главной темой Соланж было «приключение». Так она называла погоню за неожиданными и рискованными случайностями. Она говорила, что не терпит «комфорта» – ни нравственного, ни физического.
– Я счастлива, что родилась женщиной, – сказала она мне как-то вечером, – у женщины гораздо больше «возможностей», чем у мужчины.
– Как же так? – возразила я. – Перед мужчиной открывается карьера; он может действовать.
– Перед мужчиной открывается одна карьера, в то время как женщина может жить жизнью всех мужчин, которых она любит, – продолжала она. – Офицер несет ей с собою войну, моряк – океан, дипломат – интригу, писатель – радость творчества… Она может испытать волнения, выпадающие на долю десятка жизней, и в то же время избавлена от их скучной повседневности.
– Какой ужас! – воскликнула я. – Значит, она должна любить десять совершенно различных мужчин?
– И все десять должны быть умными, а это весьма неправдоподобно, – вставил Вилье, сильно подчеркнув слово «весьма».
– Заметьте, однако, что совершенно то же можно бы сказать и о мужчинах, – сказал Филипп. – Женщины, которых они любят, тоже приносят им одна за другой совершенно различные жизни.
– Может быть, оно и так, – возразила Соланж, – но у женщин индивидуальность гораздо тусклее, им нечего принести.
Однажды я была крайне поражена ее ответом на мои слова и особенно тоном, каким это было сказано. Она говорила о том, как приятно вырваться из цивилизованного уклада жизни, а я заметила:
– Зачем вырываться, если ты счастлив?
– Затем что счастье никогда не бывает незыблемым, – возразила Соланж. – Счастье – это передышка в смятении.
– Совершенно верно, – согласился Вилье, и я была крайне удивлена, что он так сказал.
Тут Филипп, в угоду Соланж, подхватил тему бегства от действительности:
– Да, что и говорить… вырваться бы на волю… какая благодать!
– Для вас? – сказала Соланж. – Уж вам-то меньше, чем кому-либо, хочется вырваться.
Я обиделась за него.
Соланж не прочь была хлестнуть по самолюбию, чтобы его подзадорить. Стоило только Филиппу показать, что он меня любит, ласково обратиться ко мне, как она сейчас же отзывалась на это иронией. Но чаще всего у них с Филиппом был такой вид, словно они жених и невеста. Каждое утро Соланж спускалась из своего номера в новом, ярком свитере, и каждый раз Филипп шептал: «Боже, какой у вас чудесный вкус!» К концу нашего пребывания в горах они очень подружились. Особенно ранил меня тон, каким они обращались друг к другу, – тон непринужденный и нежный, а также его манера подавать ей пальто, в которой чувствовалась ласка. Она, конечно, знала, что нравится ему, и тешилась своею властью. Она была ярко выраженная «кошечка». Не могу подыскать более точного определения. Когда она выходила в вечернем платье, мне чудилось, что по ее обнаженной спине пробегают электрические искры. Однажды, возвратившись к себе, я не удержалась и спросила – впрочем, без горечи:
– Значит, вы в нее влюблены, Филипп?
– В кого, дорогая?
– В Соланж, конечно.
– Да что вы! Ничуть!
– А между тем у вас влюбленный вид.
– Влюбленный вид? – удивился Филипп, втайне польщенный. – В чем же это выражается?
Я стала подробно излагать ему свои впечатления; он охотно слушал меня; я замечала, что стоит только заговорить о Соланж, как Филипп всегда с интересом прислушивается к моим словам.
– Все-таки они – странная пара, – сказала я Филиппу накануне отъезда. – Он мне объяснил, что по шесть месяцев в году проводит в Марокко и что жена приезжает к нему только через год и только на три месяца. Следовательно, она большую часть времени живет в Париже одна. Если бы вам приходилось жить в Индокитае или на Камчатке, я, как собачонка, всюду следовала бы за вами… Впрочем, я бы страшно надоела вам, не правда ли? В сущности, она права.
– Другими словами – она избрала лучшее средство, чтобы не надоесть.
– Это назидание Изабелле?
– До чего вы мнительны! Это вообще не назидание. Отметим еще один факт: Вилье обожает жену…
– Это она вам так говорит, Филипп…
– Во всяком случае, он восхищается ею.
– И не следит за ней.
– А зачем ему следить? – возразил Филипп несколько раздраженно. – Я никогда не слыхал, чтобы она вела себя дурно.
– Ах, Филипп. Я и трех недель с нею не знакома, а уже слышала имена по крайней мере трех ее бывших любовников.
– Так говорят обо всех женщинах, – проронил Филипп, пожав плечами.
Я чувствовала, что поддаюсь совсем мещанским, почти низменным чувствам, мне совершенно не свойственным. Но по натуре я не злая, поэтому я сразу же брала себя в руки, силилась обходиться с Соланж как можно любезнее и заставляла себя гулять с Вилье, чтобы оставить ее на катке с Филиппом. Я горячо желала, чтобы эта поездка поскорее кончилась, но из щепетильности избегала малейшего слова, которое могло бы положить ей конец.
Когда мы возвратились в Париж, оказалось, что директор фабрики заболел, и Филиппу пришлось работать больше обычного. Часто он не мог даже прийти домой позавтракать. Я думала о том, видит ли он Соланж Вилье, но спросить у него не решалась. По субботам у Тианжей, если там бывала Соланж, Филипп сразу же завладевал ею на весь вечер: они усаживались где-нибудь в уголке гостиной и не расставались до разъезда гостей. Это можно было толковать как добрый знак. Если бы он свободно встречался с нею в течение недели, то, быть может, в субботу делал бы вид, будто сторонится ее. Я не могла не говорить о ней с другими женщинами, но никогда не отзывалась о ней дурно, а только слушала. Она слыла коварной кокеткой. Однажды Морис де Тианж, сидевший рядом со мной, при виде входящего Жака Вилье сказал мне вполголоса: «Вот как? Он еще не уехал? А я думал, что жена уже отправила его обратно на Атлас». При упоминании о Вилье почти все вздыхали: «Бедный малый!»
Однажды я долго говорила о ней с Элен де Тианж; они были очень дружны, и Элен набросала образ Соланж одновременно и пленительный, и внушающий тревогу.
– Соланж – прежде всего великолепное животное, наделенное сильными инстинктами, – сказала она. – Она страстно любила Вилье в те времена, когда он еще был очень беден, и любила потому, что он был хорош собою. Это было смело; она – дочь графа де Вожа, из очень знатного пикардийского рода; она была восхитительна; она легко могла бы сделать блестящую партию. Но она предпочла уехать в Марокко с Вилье, и на первых порах они вели там образ жизни колонистов; приходилось им туго. Когда Вилье заболел, Соланж не осталось ничего другого, как заняться бухгалтерией, вести расчеты с рабочими. Примите во внимание, что все де Вожи очень гордые и что она, конечно, очень страдала от такого образа жизни. И все же она не отступила. В этом отношении у нее действительно все качества порядочного человека. В то же время у нее два больших недостатка или, если хотите, две большие слабости: она страшно чувственна и ей необходимо всюду торжествовать. Она, например, рассказывает (не мужчинам, только женщинам), что, когда ей хотелось кого-нибудь завоевать, это ей всегда удавалось, – и это правда; она покоряла людей самого различного склада.
– Значит, у нее в прошлом много связей? – спросила я.
– Видите ли, такие вещи трудно утверждать. Известно, что такой-то и такая-то часто видятся. А в близких ли они отношениях? Как знать?.. Говоря «она всегда завоевывала», я хочу только сказать, что ей удавалось покорить их ум и что они зависели от нее, что она могла их вдохновлять на что-то, понимаете?
– Вы считаете, что она умная?
– Да, для женщины очень умная… Словом, ничто ей не чуждо. Конечно, интересы ее зависят от интересов человека, которого она любит. В те времена, когда она боготворила своего мужа, она блистала в вопросах, касающихся экономики и колоний; в пору Ремона Берже она интересовалась искусством. У нее отличный вкус. Ее дом в Марокко – просто чудо, а дом в Фонтенбло тоже очень своеобразен. Она живет больше жизнью сердца, чем ума. И все-таки когда она подходит к вопросу хладнокровно, то может прекрасно обо всем судить.
– А чем, по-вашему, Элен, объясняется ее очарование?
– Прежде всего тем, что она так женственна.
– Что вы под этим подразумеваете?
– Ну, некое сочетание достоинств и недостатков: нежность, безграничную преданность тому, кого она любит… на время… А также полное отсутствие щепетильности… Когда Соланж хочет покорить кого-нибудь, она не считается ни с чем, не считается даже с лучшей подругой. Тут дело не в бессердечии; это инстинкт.
– А по-моему – бессердечие. И о тигре можно сказать, что, когда он раздирает человека, в нем говорит не жестокость, а инстинкт.
– Вот именно, – возразила Элен. – Тигр не жесток, во всяком случае, не сознательно жесток… Вы сейчас очень удачно сказали: Соланж – тигрица.
– А с виду она такая ласковая!
– Ласковая? Ну нет. У нее проскальзывают вспышки злобы. Это одна из основ ее красоты.
Другие женщины оказались не столь снисходительны. Старая госпожа де Тианж, свекровь Элен, мне сказала:
– Нет, ваша приятельница Вилье мне не по душе… Она причинила много горя моему племяннику, очень хорошему юноше, который если не ради нее, то из-за нее погиб на войне… Его тяжело ранили; после этого он получил вполне заслуженное место в Париже… Она его околдовала, совсем свела с ума, потом бросила ради другого… Бедный Арман решил во что бы то ни стало вернуться на фронт и погиб нелепо, в авиационной катастрофе… С тех пор я ее у себя не принимаю.
Я не хотела передавать эти враждебные отзывы Филиппу, однако в конце концов всегда рассказывала ему о них. Он не придавал им никакого значения.
– Да, возможно, – говорил он. – Быть может, у нее были связи. Это ее дело, нас это не касается.
Однако постепенно, в ходе разговора, он начинал нервничать.
– Во всяком случае, – говорил он, – я был бы крайне удивлен, если бы оказалось, что она и сейчас изменяет мужу. Жизнь ее как на ладони. Если ей позвонить, можно почти весь день застать ее дома; она мало выезжает, и для тех, кто хочет ее видеть, она всегда свободна. Женщина, у которой есть любовник, ведет себя гораздо таинственнее.
– А откуда вам это известно, Филипп? Вы ей звоните? Бываете у нее?
– Иногда.
Немного позже я сразу получила доказательства и того, что они подолгу беседуют друг с другом, и того, что эти беседы вполне невинны. Как-то утром, когда Филипп уже ушел из дому, мне подали письмо, на которое я могла ответить, только посоветовавшись с ним, и я позвонила ему в контору. Случилось так, что меня подключили к проводу, по которому говорила Соланж Вилье. Я узнала ее голос и голос Филиппа. Мне следовало бы повесить трубку; у меня не хватило на это силы воли, и некоторое время я слушала. Тон у них был веселый; Филипп показался мне остроумным, оживленным, каким я его давно не видела, и я уже почти забыла, что он может так шутить. Сама я предпочитала Филиппа сосредоточенного и грустного, каким мне его описывала когда-то Ренэ и каким я его узнала вскоре по окончании войны, однако мне был знаком и тот, совершенно иной Филипп, который в данную минуту говорил Соланж милые, изящные пустяки. То, что я услышала, меня вполне успокоило. Они рассказывали друг другу о том, что делали последние два дня, что читали. Филипп кратко изложил содержание пьесы, которую мы с ним видели накануне, и Соланж спросила:
– А Изабелле понравилось?
– Кажется, понравилось, – ответил Филипп. – Как вы себя чувствуете? В субботу у Тианжей у вас был плохой вид; меня огорчает, когда у вас такой нездоровый цвет лица.
Значит, они не виделись с субботы, а тогда была среда. Вдруг мне стало стыдно, и я повесила трубку. «Как я могла до этого дойти? – думала я. – Это так же ужасно, как распечатать чужое письмо». Я не понимала Изабеллы, которой хотелось подслушать. Через четверть часа я опять позвонила Филиппу.
– Простите меня, – сказала я. – Я сейчас вам звонила, а вы с кем-то разговаривали. Я узнала голос Соланж и положила трубку.
– Да, она мне звонила, – ответил он без малейшего замешательства.
Этот эпизод показался мне очень естественным, ясным и на некоторое время успокоил меня. Потом я опять стала обнаруживать в жизни Филиппа явные признаки влияния Соланж. Во-первых, теперь у него вошло в обыкновение отлучаться по два-три раза в неделю; я не спрашивала, куда он едет, но знала, что их встречали вместе. Среди женщин у Соланж было много врагов; они считали меня своей естественной союзницей и пробовали ближе сойтись со мной. Женщины добрые (я хочу сказать – добрые в той мере, в какой женщины могут быть добрыми в отношении друг друга) относились ко мне с молчаливой жалостью и намекали на мое горе только фразами общего характера; злые же делали вид, будто думают, что мне уже известны некоторые факты, которых я на самом деле не знала, и под этим предлогом доставляли себе удовольствие, сообщая мне о них.
– Я вполне понимаю вас, – говорила мне одна из таких дам, – что вы не пошли с мужем смотреть акробатов; ведь это такая скука.
– Филипп смотрел акробатов? – вырвалось у меня, ибо любопытство одержало верх над самолюбием.
– А как же? Он вчера был в Альгамбре. Он вам не говорил? Он был с Соланж Вилье; я думала, вы знаете.
Мужчины тоже делали вид, будто жалеют меня, в расчете предложить мне утешение.
Когда мы получали приглашение на званый обед или я сама предлагала Филиппу куда-нибудь поехать, не раз случалось, что он отвечал: «Да, конечно, почему бы не поехать? Однако подождите до завтрева; завтра я скажу окончательно».
Единственным объяснением такой отсрочки, казалось мне, может быть то, что Филипп собирается позвонить утром Соланж и узнать, приглашена ли и она на этот обед или не собирается ли она в этот вечер поехать куда-нибудь вместе с ним.
Мне казалось также, что во вкусах, даже в характере Филиппа теперь сказывалось – пусть еле ощутимо – влияние этой женщины. Соланж любила сады, деревню. Она умела ухаживать за цветами, за животными. В Фонтенбло, на опушке леса, она построила дачку, где проводила субботу и воскресенье. Филипп много раз жаловался, что устал от Парижа и хотел бы владеть клочком земли где-нибудь в окрестностях.
– Но у вас Гандюмас, Филипп, а вы стараетесь ездить туда как можно реже.
– Это совсем другое дело; до Гандюмаса семь часов езды. Нет, мне хотелось бы иметь домик, куда я мог бы уединяться дня на два, а то и вовсе на день. Например, в Шантийи, или в Компьене, или в Сен-Жермене.
– Или в Фонтенбло, Филипп.
– Или в Фонтенбло, если хотите, – ответил он, невольно улыбнувшись.
Я почти обрадовалась этой улыбке; она превращала меня в его сообщницу.
«Конечно, я знаю: вам все известно, – как бы говорил Филипп. – Я доверяю вам».
Я чувствовала, однако, что не следует настаивать, что он не скажет мне ничего определенного; но я была уверена, что между его внезапной любовью к природе и моими тревогами есть определенная связь и что жизнь Филиппа в значительной мере зависит теперь от Соланж.
Не менее удивительно было, впрочем, наблюдать, как Филипп влияет на вкусы Соланж. Думаю, что для всех окружающих, кроме меня, это было совсем неуловимо; в общем я не отличаюсь наблюдательностью, но, как только дело касалось Филиппа и Соланж, я сразу замечала любую мелочь. По субботам у Элен мне часто приходилось слушать отзывы Соланж о прочитанных ею книгах. И тут оказывалось, что она читает любимые книги Филиппа, те, которые он и мне советовал прочесть, а подчас это бывали книги, которые когда-то рекомендовал Одилии Франсуа и вкус к которым Одилия привила Филиппу. Я легко распознавала это «наследие Франсуа», циничное и крепкое: тут всплывали и кардинал де Ретц,[24] и Макиавелли.[25] Сказывались и врожденные вкусы Филиппа: «Люсьен Левен», «Дым» Тургенева и первые тома Пруста. Когда я услышала рассуждения Соланж о Макиавелли, я не могла сдержать горькой улыбки. Как женщина, я отлично понимала, что Макиавелли ей столь же безразличен, как ультрафиолетовые лучи или лиможские эмали, но что она может заинтересоваться и теми и другими и довольно вразумительно распространяться о них, чтобы создать у мужчины какую-то иллюзию и понравиться ему.
Когда я познакомилась с Соланж, я обратила внимание на ее тяготение к ярким цветам, которые, впрочем, очень шли к ней. А последние несколько месяцев она почти всегда появлялась вечером в белом платье. Белый цвет был одним из пристрастий Филиппа, унаследованных им от Одилии. Как часто он вспоминал ослепительную белизну Одилии! Странно и грустно было думать, что бедная крошка Одилия продолжает жить, благодаря Филиппу, в других женщинах – в Соланж, во мне и что каждая из нас (Соланж, быть может, сама того не ведая) силится воссоздать ее исчезнувшее очарование.
Странно и грустно было так думать, а мне это было особенно грустно – и не оттого только, что я мучительно ревновала, но также и потому, что Филипп, казалось мне, изменяет памяти Одилии. Когда я с ним встретилась, его беззаветная верность покорила меня, и я приняла ее за одну из прекраснейших черт его характера. Позже, когда он вручил мне рассказ о своей жизни с Одилией и когда я узнала правду об ее уходе, неизменное благоговение Филиппа к памяти его единственной любви стало вызывать у меня еще больший восторг. Я восхищалась и понимала его тем более, что у самой меня создался пленительный образ Одилии. Ее красота… ее хрупкость… и ее непосредственность… ее живой, поэтичный ум… Да, теперь и я, прежде ревновавшая к Одилии, полюбила ее! Она одна – такая, какою он мне ее описывал, – казалась мне достойной Филиппа – такого, как я его понимала и каким, быть может, видела его я одна. Я соглашалась быть принесенной в жертву столь возвышенному культу; я знала, что побеждена, хотела быть побежденной и склонялась перед Одилией с искренним смирением, находя в этом смирении тайное удовлетворение и, конечно, втайне гордясь им. Но, вопреки видимости, это чувство не было вполне чистым. Я мирилась с любовью Филиппа к Одилии, я даже желала, чтобы она длилась дольше, я старалась забыть очевидные прегрешения и ветреность Одилии, но все это объяснялось у меня надеждой, что умершая защитит меня от живых. Я рисую себя сейчас более коварной и более расчетливой, нежели я была в действительности. Нет, я думала не о себе, а о моей любви к Филиппу. Я так любила мужа, что хотела, чтобы он был выше, совершеннее всех окружающих. Его привязанность к существу почти божественному (поскольку смерть избавила это существо от людских изъянов) придавала ему в моих глазах особое величие. Но как мне было не страдать при виде того, что он становится рабом какой-то Соланж Вилье, которую я могла изо дня в день видеть, критиковать, осуждать; которая состояла из той же плоти, что и я сама; о которой дурно отзывались в моем присутствии другие женщины; которую я считала красивой и даже довольно умной, но уж никак не божественной и не выходящей за грани человеческого.
Филипп несколько раз говорил мне: «Соланж всячески старается сблизиться с вами, а вы все время уклоняетесь. Она чувствует, что вы относитесь к ней враждебно, нетерпимо…» Действительно, после поездки в Швейцарию госпожа Вилье мне несколько раз звонила, но я всегда отказывалась поехать с ней куда-нибудь. Мне казалось, что разумнее видеться с нею как можно меньше. Однако, в угоду Филиппу и в доказательство своего дружелюбия, я обещала как-нибудь побывать у нее.
Она приняла меня в небольшом будуаре, который мне показался вполне «в стиле Филиппа» – мебели было очень мало, стены совсем пустые. Я чувствовала себя неловко. Соланж весело и непринужденно растянулась на диване и сразу же заговорила со мной как с близкой подругой. Я обратила внимание на то, что она называет меня «Изабелла», в то время как сама я колеблюсь между «сударыня» и «дорогая».
«Как странно, – соображала я, слушая ее рассказы, – Филипп терпеть не может фамильярности, бесстыдства, а меня в этой женщине особенно поражает именно то, что она так несдержанна, говорит все напрямик… Почему она ему нравится?.. В ее взгляде есть какая-то нежность… Она кажется вполне счастливой… Счастлива ли она?»
В уме моем мелькнул образ Вилье – его лысоватая голова, усталый голос. Я спросила, как он поживает. Он, по обыкновению, был в отъезде.
– Я ведь очень мало вижусь с Жаком, вы знаете, – ответила Соланж. – Но он мой лучший друг. Он человек очень прямой, очень честный… Но поддерживать иллюзию пылкой любви после тринадцати лет супружеской жизни было бы лицемерием… А я не лицемерка.
– Но ведь вы замуж вышли по любви, не правда ли?
– Да, я обожала Жака. Мы пережили чудесные дни. Но страсть недолговечна… Кроме того, нас разъединила война. За четыре года мы так привыкли жить друг без друга…
– Как это грустно! И вы не пробовали восстановить прежнее счастье?
– Знаете, когда уже нет любви… или, вернее, когда уже нет физического влечения (ибо у меня осталось к Жаку самое доброе отношение), то очень трудно поддерживать видимость тесно сплоченной четы… У Жака есть любовница; мне все известно; я это одобряю… Вам это еще непонятно, но настает момент, когда появляется потребность в независимости…
– Зачем же? Мне кажется, брак и независимость – понятия, друг друга исключающие.
– Так говорят. Вначале. Но брак, в том виде, как вы его понимаете, несет в себе нечто обременяющее. Я вас шокирую?
– Да, немного… То есть…
– Я очень откровенна, Изабелла. Я не выношу поз… Притворяясь, что я люблю Жака… или что я его ненавижу… я завоевала бы ваше расположение. Зато я перестала бы быть собой… Понимаете?
Она говорила, не глядя на меня, и карандашом выводила звездочки на обложке какой-то книги. Когда она опускала глаза, ее лицо казалось немного злым и как бы отражающим затаенное страдание. «В общем, она не так-то уж счастлива», – подумала я.
– Нет, мне не совсем понятно, – продолжала я. – Беспорядочная, сумбурная жизнь – ведь это должно быть так обманчиво… Кроме того, у вас есть сын.
– Есть. Но вы сами узнаете, когда у вас будут дети, – между женщиной и двенадцатилетним школьником не может быть ничего общего. Когда я навещаю его, у меня всегда создается впечатление, что ему со мной скучно.
– Значит, по-вашему, и материнская любовь тоже поза?
– Нет, почему же… Все зависит от обстоятельств… Как вы нападаете, Изабелла!
– Я вас все-таки не понимаю. Почему, говоря: «Я откровенна, я не допускаю никакого лицемерия», вы в то же время не решаетесь идти до конца… Муж ваш вернул себе независимость. Вам он предоставляет полную свободу… Почему же вы не разводитесь? Это было бы честнее, определеннее.
– Что за странная мысль! У меня нет ни малейшего желания еще раз выйти замуж. Жак тоже не собирается жениться. Так зачем же нам развод? Кроме того, мы связаны общими интересами. Наши владения в Марракеше куплены на мое приданое, а обработал их, усовершенствовал Жак… Наконец, я всегда бываю очень рада встрече с ним… Все это гораздо сложнее, чем вы думаете, милая моя крошка.
Потом она стала рассказывать о своих арабских конях, о жемчугах, об оранжереях в Фонтенбло.
«Как странно, – думала я, – она говорит, что презирает роскошь, что живет чем-то совсем иным, а между тем не в силах удержаться, чтобы не говорить о роскоши… И может быть, это тоже нравится Филиппу, нравится та ребяческая радость, с какой она наслаждается всем этим… А все-таки занятно наблюдать, до чего разным тоном она произносит лирические монологи перед мужчиной и перечисляет свои богатства перед женщиной».
Провожая меня, она сказала, смеясь:
– Вы, конечно, возмущены моими рассуждениями… ведь вы замужем недавно и еще влюблены… Все это очень мило. Но не создавайте трагедий… Филипп вас очень любит, вы это знаете. Он всегда очень тепло отзывается о вас.
Уверения Соланж относительно моей семейной жизни и чувств Филиппа показались мне совершенно нестерпимыми. Она сказала:
– До скорого свидания; заходите почаще. Но я к ней больше не пошла.
Несколько недель спустя я заболела. Появился кашель. Меня знобило. Филипп провел вечер у моей постели. Сумрак, а быть может, также и лихорадочное состояние придали мне смелости. Я заговорила с Филиппом о переменах, которые в нем замечаю.
– Сами вы, Филипп, не можете видеть себя, но для меня просто невероятно… Даже в том, что вы говорите… Недавно, когда вы спорили с Морисом де Тианжем, я была прямо-таки поражена; в ваших суждениях сказывалось нечто до того резкое…
– Боже, как много вы придаете значения тому, что я говорю, дорогая моя; гораздо больше, чем я сам, уверяю вас! Что же я сказал в тот вечер такого существенного?
– Я всегда высоко ценила ваши убеждения относительно честности, верности обетам, уважения к данному слову, а на этот раз – помните? – не вы, а Морис защищал все это; вы же, наоборот, утверждали, что жизнь быстротечна, что люди – это жалкие создания, что им редко случается быть счастливыми, а поэтому они должны хвататься за первую возможность, и тут, Филипп… – чтобы выговорить это, я отвернулась и не смотрела на него, – тут мне показалось, что вы говорите все это для Соланж, которая прислушивалась к вашему спору.
Филипп рассмеялся, взял меня за руку.
– Какая горячая ручка, – сказал он, – и что за воображение! Да нет же, я говорил не для Соланж. Я говорил то, в чем убежден. Мы почти всегда связываем себя, сами не сознавая, что делаем. Потом мы желаем быть честными; мы не хотим оскорблять тех, кого любим; мы из малоубедительных соображений отказываем себе в несомненных удовольствиях, о которых позже жалеем. Я говорил, что в этом сказывается некая подлая доброта, что мы почти всегда сетуем на тех, ради кого принесли себя в жертву, и что в конечном счете лучше и для них и для нас вооружиться мужеством, осознать, что именно нам нравится, и смотреть жизни в лицо.
– А разве вы, Филипп, сейчас о чем-нибудь сожалеете?
– Вы все общие вопросы всегда сводите к нам двоим. Нет, я ни о чем не сожалею; я вас очень люблю, я вполне счастлив с вами, но был бы еще счастливее, если бы вы не ревновали.
– Я постараюсь.
На другой день пришел врач и определил у меня тяжелую форму ангины. Филипп проводил возле меня много времени и очень внимательно следил за тем, как за мной ухаживают. Соланж прислала мне цветы, книги и приехала меня навестить, как только мне позволили принимать друзей. Я стала казаться самой себе несправедливой, противной, но, лишь только я выздоровела и зажила общей жизнью, меня вновь поразила их близость и вновь охватило беспокойство.
Впрочем, не одна я беспокоилась. К нам часто приходил завтракать директор нашей фабрики, эльзасец-протестант господин Шрейбер; я с ним очень подружилась, ценя его прямоту и рассудительность; однажды, когда я зашла к Филиппу в контору и не застала его там, господин Шрейбер робко спросил у меня:
– Простите, госпожа Марсена, что я задаю вам такой вопрос; не знаете ли вы, что такое с господином Филиппом? Он стал совсем другим.
– В каком отношении?
– Ему теперь, сударыня, все безразлично; теперь он очень редко возвращается в контору после завтрака; он не приходит для переговоров со своими лучшими клиентами; он уже три месяца не ездил в Гандюмас… Я делаю все, что от меня зависит, но я ведь не хозяин… Я не могу его заменить.
Значит, когда Филипп говорил, что занят делами, он иногда говорил неправду, – он, прежде такой щепетильно честный. Может быть, он говорил неправду, чтобы не тревожить меня? К тому же разве я со своей стороны помогала ему быть откровенным? Иной раз мне больше всего хотелось, чтобы он был счастлив, и я собиралась не нарушать его покоя, и все же я мучила его расспросами и упреками. Я бывала раздражительной, требовательной, несносной. Он мне отвечал очень терпеливо. Я думала о том, что в довольно сходных обстоятельствах он относился к Одилии лучше, чем я к нему, но я сразу оправдывала себя, считая, что для меня положение гораздо трагичнее. Мужчина не посвящает всей своей жизни любви; у него есть деятельность, друзья, определенные идеи. Женщина моего типа существует только ради любви. Чем заменить ее? Я ненавидела женщин, мужчины мне были безразличны. Мне казалось, что после долгого ожидания я выиграла ту единственную партию, которую мне хотелось сыграть: партию, где ставкою – всепоглощающая, неповторимая любовь. Эту партию я проиграла. И моему страшному горю не видно было ни конца, ни облегчения.
Так прошел второй год моего замужества.
Между тем два обстоятельства принесли мне успокоение. Филипп уже давно собирался в Америку, чтобы познакомиться с постановкой дела в бумажной промышленности, а также с условиями жизни американских рабочих. Мне очень хотелось поехать вместе с ним. Несколько раз он начинал готовиться к путешествию, посылал меня в Трансатлантическую компанию за справками о расписании пароходов, о стоимости билетов. Но все кончалось тем, что после долгих колебаний он решал отказаться от поездки. В конце концов у меня создалось впечатление, что мы так никогда и не поедем; я уже примирилась с этим; отныне я заранее смирялась со всем, что может произойти. «Теперь идеи Филиппа о рыцарской любви перешли ко мне. Я люблю его и буду любить, что бы ни случилось. Но я никогда не буду вполне счастлива».
Как-то вечером, в январе 1922 года, Филипп сказал мне:
– На этот раз я решил окончательно; весной мы отправимся в Америку.
– Я тоже поеду?
– Разумеется. Я и собираюсь главным образом потому, что обещал вам. Мы проведем там полтора месяца. Работы у меня будет только на неделю; остальное время мы употребим на поездки, познакомимся со страной.
– Какой вы милый, Филипп. И как я рада!
Я действительно очень ценила его доброту. Сомнения в самой себе приводят к великой и простодушной покорности. Откровенно говоря, я не думала, что поездка со мной может доставить Филиппу большое удовольствие. Особенно благодарна я ему была за то, что он на два месяца отказывается от какой-либо возможности видеться с Соланж Вилье. Если бы он ее любил так сильно, как это мне порою казалось, он бы не мог расстаться с нею на такой срок – особенно он, столь ревниво относившийся к тем, кто был ему дорог. Значит, все менее серьезно, чем я предполагала. Помню, что весь январь я была в веселом, спокойном настроении и ни разу не докучала Филиппу своими жалобами и расспросами.
В феврале я поняла, что беременна. Я очень обрадовалась этому. Мне страстно хотелось иметь ребенка, особенно сына; мне казалось, что это будет второй Филипп, но такой Филипп, который по крайней мере лет пятнадцать будет принадлежать только мне. Филипп тоже обрадовался, и мне это было особенно приятно. Но начало беременности протекало у меня очень тяжело, и вскоре стало очевидно, что я не в состоянии вынести путешествие по морю. Филипп предложил отказаться от поездки. Но я знала, что он уже написал много писем, условился об осмотре фабрик, о деловых встречах, и я настояла на том, чтобы он не менял своих планов. Когда я теперь стараюсь понять, почему именно я добровольно обрекала себя на столь тягостную для меня разлуку, то нахожу этому несколько причин: во-первых, я знала, что становлюсь очень некрасивой; лицо у меня поблекло; я боялась, что не буду ему нравиться. Затем, мысль о том, как бы отдалить Филиппа от Соланж, по-прежнему владела мною, и ради этого я готова была пожертвовать даже присутствием мужа. Наконец, я не раз слышала от Филиппа, что именно разлука придает женщине величайшее могущество, что вдали от человека мы забываем его недостатки, его причуды, что тогда мы обнаруживаем, как много ценного, необходимого привносит он в нашу жизнь – чего мы не замечали только потому, что были слишком тесно связаны с ним. «Это все равно что соль, – говорил он, – мы даже и не сознаем, что потребляем ее, но стоит только изъять ее из нашей пищи, и мы, несомненно, умрем».
А что, если Филипп, расставшись со мной, обнаружит, что я – соль его жизни?..
Он уехал в начале апреля, посоветовав мне развлекаться, побольше бывать на людях. Несколько дней спустя после его отъезда я стала чувствовать себя лучше и попробовала выезжать. Писем от него еще не было; я знала, что их может не быть недели две, но все же меня охватила грусть, и надо было как-нибудь ее развеять. Я позвонила кое-кому из друзей, и мне показалось, что будет одновременно и корректно и уместно пригласить также и Соланж. Я долго не могла дозвониться; наконец лакей сказал мне, что она уехала на два месяца. Это привело меня в страшное волнение. Я решила – впрочем, весьма безрассудно, потому что это казалось совершенно невероятным, – что она уехала с Филиппом. Я спросила, оставила ли она адрес; мне ответили, что она в своем имении в Марракеше. Ну конечно, все ясно: она отправилась, как обычно, в Марокко. Однако, когда я повесила трубку, мне стало так нехорошо, что пришлось прилечь, и я погрузилась в долгие, печальные размышления. Так вот почему Филипп с такой легкостью отправился в поездку! Я чувствовала себя обиженной главным образом тем, что он мне ничего об этом не сказал, а сделал вид, будто великодушно приносит мне жертву.
Теперь, на расстоянии, я гораздо снисходительнее. Будучи не в силах отдалиться от нее и в то же время хорошо относясь ко мне, Филипп старался поступить как можно лучше и отдать мне все, что мог спасти от страсти, которая становилась все более очевидной.
Впрочем, первые его письма из Америки сгладили тягостное впечатление. Они были ласковы и очень колоритны; казалось, он сожалеет о моем отсутствии и хотел бы разделить со мной все то хорошее, что нашел там.
«Это – страна для Вас, Изабелла, страна комфорта и благоустройства, страна порядка и отличных изделий. Нью-Йорк мог бы превратиться в гигантский дом, управляемый аккуратной и всемогущей Изабеллой».
Или в другом письме:
«Как мне не хватает Вас, моя дорогая! Как мне хотелось бы видеть Вас здесь, вечерами, в комнате, единственный обитатель которой – чересчур деятельный телефон. Мы завели бы с Вами долгую беседу, одну из тех, что я так люблю; мы перебрали бы людей, вещи, виденные за день, и в Вашей милой ясной головке родилось бы много мыслей, для меня драгоценных. Потом Вы бы мне сказали – разумеется, не без колебаний и как бы равнодушно: «И вы действительно находите, что госпожа Купер Лоуренс, с которой вы просидели весь вечер, необыкновенная красавица?» В ответ на это я бы Вас поцеловал, и мы взглянули бы друг на друга, улыбнувшись. Не так ли, дорогая?»
Читая эти строки, я и в самом деле улыбалась, и я была благодарна ему за то, что он так хорошо меня знает и принимает такою, какая я есть.
Все в жизни неожиданно, и, пожалуй, даже до самого конца. Разлуку с Филиппом, которой я так боялась, я вспоминаю как относительно счастливую пору моей жизни. Я была довольно одинока, но много читала, занималась. Вдобавок я чувствовала большую слабость и много спала – даже днем. Болезнь – одна из форм душевного покоя, потому что она твердо ограничивает наши желания и заботы. Филипп был далеко, но я знала, что он доволен, здоров. Он писал мне прелестные письма. У нас ни разу не было ни малейшей размолвки, в переписке не мелькнуло ни малейшей тени. Соланж жила в глуши Марокко, от моего мужа ее отделяло семь-восемь дней морского пути. Мир казался мне прекраснее, жизнь – проще, приятнее; я так не воспринимала ее уже давно. Теперь мне стала понятна фраза, сказанная однажды Филиппом и показавшаяся мне чудовищной: «Любовь лучше переносит разлуку и смерть, нежели сомнения и измену».
Филипп взял с меня обещание, что я буду видеться с нашими друзьями. Один раз я обедала у Тианжей, раза два-три – у тети Кора. Она заметно дряхлела. Ее коллекция престарелых генералов, престарелых адмиралов, престарелых послов редела под натиском смерти. Многих ценных образцов недоставало вовсе, потому что нечем было их заменить. Да и сама тетя подчас засыпала в кресле, окруженная дружелюбными и насмешливыми гостями. Острили, что так вот, за обедом, она и умрет. Но я была ей по-прежнему признательна: ведь именно у нее я встретилась с Филиппом. И я не пропускала ни одного вторника. Два-три раза мне даже случалось завтракать с нею наедине, что в корне противоречило традициям этого дома, но как-то вечером я отважилась на откровенный разговор, и она его охотно поддержала. В конце концов я рассказала тете всю свою историю, начиная с детских лет, потом рассказала о замужестве, о роли Соланж и своей ревности. Она слушала меня, улыбаясь.
– Что ж, милая моя деточка, – сказала она, – если вас не постигнут более существенные горечи, значит, вы окажетесь очень счастливой женщиной… На что вы жалуетесь? Муж вам изменяет? Но мужчины всегда изменяют…
– Простите, тетя. Отец Филиппа…
– Отец Филиппа – отшельник, что и говорить. Я знала его лучше вашего… Но заслуга тут невелика. Эдуар прожил всю жизнь в провинциальной глуши, в совершенно чудовищной среде… У него не было соблазнов… Но возьмите, например, моего дорогого Адриена. Вы думаете, что он мне никогда не изменял? Милая моя деточка, я знала, что целых двадцать лет он был в связи с моей ближайшей подругой Жанной Каза-Риччи… Конечно, я не стану утверждать, что поначалу мне это было безразлично, но все устроилось… Помню, в день нашей золотой свадьбы… Я пригласила весь Париж… Бедный Адриен, у которого голова была уже не совсем в порядке, произнес небольшой спич и все тут перемешал – и меня, и Жанну Риччи, и адмирала… За столом, конечно, посмеивались, но в общем все получилось очень мило. Мы были уже стары, жизнь мы прожили как могли лучше, мы не исковеркали ее… Все прошло превосходно, к тому же и обед был такой изысканный, что никто ни о чем другом не думал.
– Конечно, тетя, но все зависит от характеров. Для меня главное – жизнь сердца. Светская жизнь мне совершенно безразлична. Поэтому…
– Но кто же советует вам, деточка, отказаться от жизни сердца? Само собою разумеется, племянника я очень люблю, и не мне подсказывать вам завести любовника… Конечно, я не стану подавать вам таких советов… Но все-таки, если господину Филиппу угодно жуировать где-то на стороне, когда у него есть молодая красивая жена, опять-таки не я стану возмущаться, если и вы постараетесь как-то заполнить свою жизнь… Мне хорошо известно, что даже здесь, в моем доме, немало людей, кому вы нравитесь…
– Увы, тетя, я верю в брак.
– Ну, что и говорить… Я тоже верю в брак, я это доказала. Но одно дело – брак, а другое – любовь… Надо иметь прочную канву, но отнюдь не запрещается вышивать по ней узоры… Весь вопрос – как это делать… В теперешних женщинах мне не нравится, что они чересчур бесцеремонны.
Старая тетушка долго рассуждала в этом духе. Я слушала с большим интересом, она удивляла меня. Мы даже любили друг друга, но были слишком разные, чтобы друг друга понимать.
Меня пригласили к себе также Соммервьё – семья, связанная с Филиппом деловыми интересами. Я решила, что должна принять приглашение, потому что эти люди могут быть полезны Филиппу. Приехав к ним, я сразу же пожалела об этом, ибо оказалась в совершенно незнакомой среде. Дом у них был прекрасный; обставлен он был безупречно, хоть и в слишком для меня современном вкусе. Внимание Филиппа привлекли бы собранные здесь картины: тут было несколько работ Марке, один Сислей, один Лебур. Госпожа Соммервьё представила меня гостям. На женщинах, в большинстве очень красивых, было множество драгоценностей. Почти все мужчины относились к типу крупных инженеров, все были рослые, с энергичными лицами. Я выслушивала имена, не вникая в них, так как знала, что все равно их не запомню. «Госпожа Годе», – сказала хозяйка дома. Я взглянула на госпожу Годе: это была красивая, чуть поблекшая блондинка. Находился тут и господин Годе, офицер ордена Почетного легиона; вид у него был властный. Я ничего о них не знала, однако подумала: «Годе? Годе? Я, кажется, где-то слышала это имя». Я спросила у хозяйки:
– Кто такой господин Годе?
– Годе – это один из магнатов металлургии, он директор Западной сталелитейной компании. Кроме того, он пользуется большим влиянием в каменноугольной промышленности.
Я решила, что, вероятно, Филипп упоминал это имя, а может быть, Вилье.
Годе оказался моим соседом за столом. Он внимательно посмотрел на лежавшую передо мной карточку (потому что не расслышал моей фамилии) и тотчас же спросил:
– Не супруга ли вы Филиппа Марсена?
– Да, как же.
– Так я отлично знал вашего мужа! У него, вернее, у его отца, в Лимузене, я и начал работать. Начало было довольно унылое. Мне приходилось заведовать бумажной фабрикой; меня это ничуть не интересовало. Положение у меня было подчиненное. Ваш свекор был человек суровый, работать с ним было нелегко. Да, для меня Гандюмас – тяжелое воспоминание. – Он рассмеялся и добавил: – Простите за откровенность.
Пока он говорил, я все поняла… Миза! Это муж Миза!.. В памяти у меня ожил весь рассказ Филиппа, ожил так отчетливо, словно все промелькнуло у меня перед глазами. Итак, эта красивая женщина с ласковым и жалобным взглядом, сидящая вон там, на другом конце стола, и весело улыбающаяся соседу, – это та, которую когда-то вечером, на подушках перед угасающим камином обнял Филипп! Мне не верилось. В моем воображении жестокая, чувственная Миза приняла облик и тон новой Лукреции Борджа,[26] новой Гермионы.[27] Неужели Филипп так неверно описывал мне ее? Однако мне приходилось поддерживать разговор с ее мужем.
– Действительно, Филипп часто называл мне ваше имя. – И я добавила с некоторым усилием: – Ведь ваша жена была, если не ошибаюсь, близкой подругой первой жены Филиппа?
Он отвел от меня взор, видимо тоже почувствовав неловкость. («Что ему известно?» – мелькнуло у меня.)
– Да, они были друзьями детства, – сказал он. – Потом разошлись. Одилия не совсем хорошо вела себя в отношении Миза – то есть в отношении Мари-Терезы. Миза – это я так зову жену.
– Понимаю.
Я тут же спохватилась, что мой ответ может показаться двусмысленным, и заговорила о другом. Он стал объяснять мне взаимные интересы Франции и Германии в области стали, кокса и каменного угля, говорил о том, как эти важнейшие проблемы промышленности влияют на международную политику. Взгляды у него были широкие, и я слушала его с интересом. Я спросила, знаком ли он с Жаком Вилье.
– Из Марокко? – ответил он. – Как же, он состоит в правлении одной из фирм, которые я возглавляю.
– Вы считаете его очень умным?
– Я его мало знаю. Знаю только, что он преуспел. После обеда я постаралась остаться с глазу на глаз с его женой. Я знала, что Филипп запретил бы мне это, и пыталась побороть свое желание, но жгучее любопытство толкало меня, и я к ней подошла. Она, видимо, удивилась. Я сказала:
– За обедом господин Годе напомнил мне, что вы когда-то хорошо знали моего мужа.
– Да, знала, – сухо ответила она. – Мы с Жюльеном несколько месяцев прожили в Гандюмасе.
Она бросила на меня странный взгляд – вопросительный и в то же время грустный. Словно она подумала: «А известна ли вам правда? И не напускная ли это любезность?» Странное дело – она не производила на меня отталкивающего впечатления, даже наоборот. Она показалась мне симпатичной. Меня трогало ее изящество, ее меланхолический и сосредоточенный вид. «Чувствуется, что это женщина, много выстрадавшая, – подумала я. – Как знать? Может быть, она хотела дать Филиппу счастье? Может быть, хотела, из любви к нему, предостеречь его от женщины, которая не могла принести ему ничего, кроме горя? Разве это так уж преступно?»
Я подсела к ней и попробовала внушить ей больше доверия. Час спустя мне удалось вызвать ее на разговор об Одилии. Она отозвалась о ней с каким-то смущением, и по этому я могла судить, до какой степени еще живы были чувства, которые всколыхнулись в ней при этих воспоминаниях.
– Мне очень трудно говорить об Одилии, – сказала она. – Я ее очень любила, очень восхищалась ею. Потом она причинила мне много горя, потом умерла. Мне не хочется бросать тень на ее память, особенно в ваших глазах.
Она снова посмотрела на меня все тем же странным вопрошающим взглядом.
– Вы не думайте, прошу вас, будто я враждебно отношусь к ее памяти. Я столько слышала об Одилии, что в конце концов, напротив, стала считать ее как бы частью самой себя. Она, по-видимому, была необыкновенно хороша.
– Да, – сказала она с грустью, – изумительно хороша. Однако в ее взгляде чувствовалось нечто такое, что было мне неприятно. Немного… нет… не то что фальши… это чересчур резко, но… Не знаю, как вам это объяснить, пожалуй, какой-то торжествующей хитрости. Одилия принадлежала к числу людей, которым необходимо властвовать. Она всегда хотела навязать свою волю, свои убеждения. Она сознавала свое обаяние и поэтому была очень уверена в себе; она считала – пожалуй, вполне искренне, – что если она что-то утверждает, то тем самым это становится истиной. С вашим мужем, который ее боготворил, ей это удавалось, а со мною нет, и она мне этого не прощала.
Я слушала с болью в сердце. Я вновь видела Одилию такою, какою изображала ее Ренэ, какою изображала ее мать Филиппа; это была скорее Соланж Вилье в толковании Элен де Тианж, а вовсе не образ, созданный Филиппом, – не тот, который я любила.
– Как странно, – заметила я, – вы ее рисуете существом сильным, властным. А когда Филипп рассказывает о ней, я представляю себе хрупкую, часто недомогающую женщину, немного ребячливую и, в сущности, очень добрую.
– Да, – согласилась Миза, – это тоже верно, но мне кажется, все это было только внешнее. В глубине истинной сущности Одилии лежала дерзновенная отвага… как бы это сказать… отвага солдата, партизана. Например, когда она решила скрыть… впрочем, нет, вам мне не хочется об этом рассказывать.
– То, что вы называете дерзновенной отвагой, Филипп называет мужеством; он говорит, что мужество было одним из ее самых существенных достоинств.
– Да, пожалуй. В каком-то отношении это верно; но у нее не хватало мужества ограничивать самое себя. У нее доставало мужества, чтобы осуществлять то, чего ей хотелось. Это тоже превосходно, но куда легче.
– У вас есть дети? – спросила я.
– Есть, трое, – ответила она, потупившись, – двое сыновей и дочь.
Мы проговорили весь вечер и расстались почти что подругами. Впервые мое мнение в корне расходилось с мнением Филиппа. Нет, эта женщина не бессердечная. Она была влюблена и ревновала. Мне ли осуждать ее? В последнюю минуту у меня вырвались слова, в которых я вскоре раскаялась. Я сказала:
– До свидания. Очень рада, что довелось поговорить с вами. Сейчас я одна, может быть, мы с вами съездим куда-нибудь?
Едва переступив порог гостиной, я почувствовала, что вела себя неправильно и что Филипп отнюдь не одобрил бы моего поведения; если он узнает, что я говорила с Миза, он станет негодовать на меня, и, конечно, будет прав. Миза, по-видимому, тоже было приятно поговорить со мной; вероятно, ей хотелось побольше разузнать обо мне, о моей семейной жизни, ибо через два дня она мне позвонила и мы сговорились вместе съездить в Булонский лес. Мне хотелось главным образом вызвать ее на разговор об Одилии, узнать от нее о вкусах, привычках, причудах Одилии, чтобы перенять их и тем самым больше нравиться Филиппу, которого я уже не решалась расспрашивать о прошлом. Я засыпала Миза вопросами: «Как одевалась Одилия? У кого заказывала шляпки? Мне говорили, что она обладала удивительным даром подбирать букеты… Неужели в подборе цветов может так сильно проявляться индивидуальность? Объясните мне… И как странно: вы говорите, да и все говорят, что от нее веяло необыкновенным обаянием, а некоторые мелочи, которые вы приводите, свидетельствуют скорее о черствости, о чем-то отталкивающем… В чем же тогда заключалось это обаяние?»
Но тут Миза оказалась не в силах дать хотя бы самое расплывчатое определение, и я поняла, что она и сама часто задавалась этим вопросом и не находила ему ответа. Из того, что она мне рассказала об Одилии, я отметила лишь ее любовь к природе, свойственную также и Соланж, и непосредственную живость, которой недоставало мне. «Я слишком методична, – подумала я, – я чересчур страшусь своих порывов. Вероятно, ребячливость Одилии и ее веселость нравились Филиппу не меньше, а может быть, и больше, чем ее нравственные достоинства». Потом мы так же откровенно заговорили о Филиппе. Я призналась, как сильно люблю его.
– Хорошо, а счастливы ли вы с ним? – спросила она.
– Очень. Почему вы спрашиваете?
– Да так… Просто спрашиваю. Впрочем, я вполне вас понимаю, он очень привлекателен. Вместе с тем ему свойственна такая бесхарактерность в отношении женщин типа Одилии, что его жене должно быть нелегко.
– Почему вы сказали «в отношении женщин»? Разве у него были и другие, кроме Одилии?
– Не знаю, но так мне кажется. Понимаете, это такой человек, которого преданность, беззаветная любовь должны скорее отдалять… Впрочем, я только говорю так, я ведь не знаю; я мало с ним знакома, но так мне кажется. Когда я с ним встречалась, он бывал порою несколько легкомыслен, поверхностен, и это его умаляло. Но, поймите – опять-таки повторяю, – все, что я говорю, не может иметь никакого значения. Я знала его совсем недолго.
Мне было очень не по себе, а ей это, по-видимому, доставляло удовольствие. Прав ли Филипп? Неужели она женщина бессердечная? Я вернулась домой в отчаянном настроении. На камине меня ожидало очень ласковое письмо Филиппа. Я мысленно попросила у него прощения за то, что усомнилась в нем. Конечно, он был слабохарактерен, но и эта черта мне в нем нравилась, и в двусмысленных отзывах о нем Миза мне хотелось видеть только горечь безответной любви. Она еще несколько раз звала меня на прогулку и даже пригласила на обед. Я отказалась.
Близился день возвращения Филиппа. Я ждала его с великой радостью. Здоровье мое восстановилось, я чувствовала себя даже лучше, чем до беременности. Это ожидание и ощущение жизни, которая рождалась во мне, несли с собою покой и просветление. Я всячески старалась, чтобы Филипп нашел дома приятный сюрприз. В Америке он, несомненно, видел много красивых женщин, прекрасных домов. Несмотря на мое состояние или именно поэтому я тщательно заботилась о своих платьях. Я заменила кое-какую мебель, потому что из разговоров с Миза поняла, что именно могло бы понравиться Одилии. В день его приезда я расставила в доме множество белых цветов. На этот раз я поборола в себе то, что Филипп шутя называл моей «противной бережливостью».
Когда Филипп вышел из вагона трансатлантического экспресса, он показался мне помолодевшим и жизнерадостным; от шестидневного переезда по океану лицо его слегка загорело. Он был полон воспоминаниями, много рассказывал. Первые дни мы прожили очень приятно. Соланж еще не вернулась из Марокко; я предусмотрительно справилась об этом. Прежде чем приняться за дела, Филипп решил неделю отдохнуть и эти дни всецело посвятил мне.
Именно в эту неделю и произошло событие, которое ярко осветило для меня его душевные глубины. Как-то утром я часов в десять уехала из дома, на примерку. Филипп еще не вставал. Вскоре, как он рассказал мне впоследствии, раздался телефонный звонок. Он взял трубку, и какой-то незнакомый мужской голос спросил:
– Госпожа Марсена?
– Нет, – ответил он, – это господин Марсена. Кто говорит?
Послышался сухой щелчок: трубку повесили.
Это его удивило; он позвонил в проверочную, чтобы узнать, кто звонил; после долгих переговоров ему ответили: «Вас вызывали из автомата на бирже», что представлялось явным недоразумением и ничего не поясняло. Когда я возвратилась, он у меня спросил:
– Могли вам звонить с биржи?
– С биржи? – переспросила я в изумлении.
– Да, с биржи. Кто-то вам звонил, я назвал себя, и сразу же дали отбой.
– Что за странность! Вы уверены?
– Что за вопрос, недостойный вас, Изабелла! Конечно, уверен, да и голос был слышен вполне отчетливо.
– Мужской или женский?
– Мужской, разумеется.
– Почему «разумеется»?
Никогда еще мы не разговаривали друг с другом в таком тоне; я не могла скрыть своего смущения. Хотя Филипп и сказал «голос мужской», я была уверена, что звонила Миза (она звонила мне очень часто), но назвать ее я не решалась. Мне было обидно, что Филипп чуть ли не предъявляет обвинения человеку, который боготворит его, и вместе с тем я была несколько польщена. Значит, он дорожит мною? Я почувствовала, как со сказочной быстротой является на свет некая незнакомая мне женщина – Изабелла чуть насмешливая, чуть кокетливая, чуть сострадательная. Дорогой Филипп! Если б он знал, до какой степени я существую только им и только для него, он был бы совершенно спокоен! После завтрака он спросил небрежно, и эта небрежность напомнила мне некоторые мои же фразы:
– Что вы собираетесь делать сегодня днем?
– Да ничего, надо кое-что купить. А в пять часов – чай у госпожи Бремон.
– Вы не против того, чтобы и я поехал с вами, раз я сейчас свободен?
– Напротив, буду очень рада. Вы не приучили меня к таким милым сюрпризам. Я буду вас там ждать около шести.
– Позвольте! Вы сказали – в пять.
– Но всегда же так, в приглашении сказано в пять, а раньше шести никто не приедет.
– А можно мне поехать с вами за покупками?
– Конечно… Я поняла, что вы собираетесь к себе в контору – просмотреть почту.
– Это не к спеху. Схожу завтра.
– После странствий, Филипп, вы становитесь очаровательным мужем!
Итак, мы отправились вместе и провели день в состоянии какой-то совершенно новой напряженности. В записной книжке Филиппа сохранилась заметка об этой прогулке; она открыла мне такую остроту впечатлений, о которой я тогда и не подозревала.
«Мне кажется, что за мое отсутствие она набралась какой-то силы, уверенности в себе, которых прежде у нее не было. Да, именно уверенности в себе. Откуда это? Странно! Выходя из машины, чтобы купить книги, она бросила на меня нежный взгляд, который, однако, показался мне необычным. У госпожи Бремон она долго разговаривала с доктором Голеном. Я поймал себя на том, что стараюсь уловить тон их беседы. Голен рассказывал об опытах над мышами:
– Возьмите мышей, еще не имеющих потомства, – говорил он. – Подсадите к ним мышат; самки не станут о них заботиться, они предоставят им умереть с голоду, если вы не вмешаетесь. Но впрысните самкам вытяжку яичника, и они в два дня превратятся в образцовых матерей.
– Как интересно! – воскликнула Изабелла. – Мне очень хотелось бы это увидеть.
– Приезжайте ко мне в лабораторию; я вам покажу.
Тут на какой-то миг мне почудилось, что голос Голена – тот самый, который я слышал в телефон».
Никогда еще я так ясно не осознавала все безрассудство ревности, как читая эти строки, потому что трудно было себе представить более нелепое подозрение. Доктор Голен был милым, умным врачом, очень модным в тот год в светских кругах, и я с удовольствием слушала его рассказ, но мне и в голову не приходило, что можно интересоваться им в другом отношении. Со времени замужества я вообще утратила способность даже «видеть» кого-либо, кроме мужа; все мужчины представлялись мне какими-то тяжеловесными предметами, предназначенными либо служить Филиппу, либо ему вредить. Я не в силах была представить себе, что могу влюбиться в кого-нибудь из них. Между тем на клочке бумаги, прикрепленной к предыдущей странице, я прочла следующее:
«Я так привык сочетать любовь с мучительными сомнениями, что мне кажется, будто я вновь начинаю чувствовать в себе их борьбу. Ту самую Изабеллу, которую еще три месяца тому назад я считал чересчур неподвижной, чересчур домоседкой, теперь мне не удается удерживать возле себя настолько, насколько мне хотелось бы. Неужели в ее присутствии я прежде действительно ощущал непреодолимую скуку? Теперь я с виду не так счастлив, зато не скучаю ни минуты. Изабелла очень удивлена моим поведением; она до того скромна, что истинный смысл этой перемены остается для нее тайной. Сегодня утром она мне сказала:
– Если вы не против, я поеду днем в Пастеровский институт и посмотрю опыты Голена.
– Само собой разумеется, что я против и никуда вы не поедете, – ответил я.
Она взглянула на меня, пораженная моей резкостью.
– Но почему же, Филипп? Вы слышали на днях, что он рассказывал; по-моему, это крайне интересно.
– Мне не нравится, как Голен держится с женщинами.
– Как держится Голен? Да что вы! За зиму я много раз встречалась с ним и никогда ничего не замечала. А вы его почти совсем не знаете, видели каких-нибудь десять минут у Бремонов…
– Вот именно. Достаточно и десяти минут…
Тут впервые за все время, что я ее знаю, она улыбнулась так, как могла бы улыбнуться Одилия.
– Неужели вы ревнуете? – проронила она. – Вот забавно! Вы меня прямо-таки смешите!»
Я хорошо помню эту сцену. Мне она действительно казалась занятной и, как я уже сказала, порадовала меня. Я вдруг почувствовала, что имею какую-то власть над его духовным миром, который так долго считала для себя недоступным, словно это некий ускользающий предмет, который я тщетно пытаюсь удержать и раскрыть. У меня появилось великое искушение, и если я вообще заслуживаю какого-то снисхождения, то, думается мне, именно за эти месяцы, ибо тогда я почувствовала, что стоит мне только затеять игру – кокетничать и окружить себя таинственностью, – и я могу привязать к себе мужа новыми, гораздо более крепкими узами. Я была в этом вполне уверена. Я позволила себе два-три безобидных опыта. Да, таков был Филипп. Сомнения терзали и вместе с тем привязывали его. Но я знала также, что для него сомнения – беспрестанная мука, навязчивая мысль. Я знала это потому, что прочла историю его прошлой жизни и вдобавок сама убеждалась в этом изо дня в день. Встревоженный каким-нибудь моим поступком, какой-нибудь фразой, он погружался в грустные размышления, не мог уснуть, переставал интересоваться делами. Как мог он доводить себя до такого безумия? Я ждала ребенка через четыре месяца и думала только о ребенке и о нем. Он этого не замечал.
Я отказалась от такой игры, хотя и могла бы выиграть ее. Это единственная маленькая заслуга, которую я прошу за мной признать, это единственная большая жертва, которую я принесла, но я принесла ее, и мне хочется верить, что за нее ты простил мне, Филипп, мою мрачную, мою унылую ревность и мещанскую мелочность, которой я порою досаждала тебе. Я тоже могла бы связать тебя, лишить тебя силы, независимости, счастья; я тоже могла бы вызвать в тебе мучительную тревогу, которой ты так страшился и в то же время искал. Я на это не пошла. Мне хотелось любить тебя бесхитростно, воевать без шлема и доспехов. Я сдалась, не сопротивляясь, хотя ты сам вкладывал оружие в мою руку. Думаю, что я поступила правильно. Мне кажется, что любовь должна быть чем-то большим, нежели жестокой войной между двумя любящими. Нет сомнения, что можно признаваться в своей любви и в то же время заслуживать любовь. Спасения от скуки ты всегда искал в безрассудстве женщин, которых ты любил, – и в этом заключалась твоя слабость. Я понимала любовь иначе. Я готова была на полное самоотречение и даже на рабство. Помимо тебя, ничто не существовало для меня в мире. Если бы какой-нибудь катаклизм уничтожил вокруг нас всех, кого мы знали, но ты уцелел бы, – такую катастрофу я не сочла бы особенно тяжкой. Ты был моей вселенной. Давать тебе понять это и говорить об этом было, пожалуй, неосторожно. Но меня это не тревожило. С тобой, бесценный мой, я не собиралась вести мудрую политику. Я не могла притворяться, быть осмотрительной. Я любила тебя.
Поведение мое было так прозрачно, жизнь так уравновешенна, что в несколько дней мне удалось успокоить Филиппа. Голена я больше не видела – хоть и сожалела об этом, потому что он был очень приятный человек. Я почти совсем уединилась.
Последние месяцы беременности протекали довольно мучительно. Я наблюдала за тем, как все более деформируется моя фигура, и отказывалась ездить куда бы то ни было с Филиппом, потому что боялась быть ему неприятной. Последние недели он самоотверженно проводил со мною время, сидел возле меня целыми днями, и у него вошло в обыкновение читать мне вслух. Никогда еще наша супружеская жизнь так не приближалась к идеалу, о котором я постоянно мечтала… Мы стали перечитывать некоторые прославленные романы. В молодости я читала и Бальзака и Толстого, но я их не совсем поняла. Теперь все представлялось мне гораздо содержательнее. Мне казалось, что Долли, выступающая в начале «Анны Карениной», – это я; сама Анна – отчасти Одилия, отчасти Соланж. Когда Филипп читал, я догадывалась, что и у него напрашиваются такие же сопоставления. Иной раз какая-нибудь фраза так ясно говорила либо о нас обоих, либо обо мне, что Филипп отрывал от книги взор и взглядывал на меня с улыбкой, которой не в силах был сдержать; и я тоже улыбалась.
Я была бы вполне счастлива, если бы не замечала, что Филипп все еще грустит. Он ни на что не жаловался, чувствовал себя хорошо, но нередко он вздыхал, усаживался в кресло возле моей кровати, усталым жестом протягивал руки или закрывал ими лицо.
– Вы устали, дорогой? – спрашивала я.
– Да, немного; вероятно, надо бы побольше находиться на воздухе. Весь день в конторе…
– Конечно, да вы еще целые вечера просиживаете со мной. Съездите, дорогой, куда-нибудь… Развлекитесь… Почему вы никогда не побываете в театре, на концерте?
– Вы знаете, что я не люблю выезжать один.
– А Соланж не скоро вернется? Ведь она уехала только на два месяца. Вы ничего не знаете о ней?
– Да нет, она мне писала, – ответил Филипп. – Она решила еще пожить там. Не хочет оставлять мужа одного.
– Как же так? Ведь она оставляет его одного каждый год… Откуда такая внезапная заботливость? Странно.
– Почем же мне знать? – возразил Филипп с раздражением. – Так она мне пишет – вот все, что я могу сказать.
За несколько недель до моих родов Соланж наконец возвратилась. Филипп так резко преобразился, что у меня сжалось сердце. Однажды вечером он пришел домой помолодевший, веселый. Он принес мне цветы и моих любимых крупных розовых креветок. Заложив руки в карманы, он стал оживленно расхаживать вокруг моей кровати и рассказывать всякие потешные истории о конторе, об издателях, с которыми виделся днем. «Что с ним такое? – думала я. – Откуда эта бурная веселость?»
Он пообедал у меня в спальне, и я небрежно, не глядя на него, спросила:
– От Соланж все еще нет известий?
– Как же? Я разве не говорил, что она мне звонила сегодня утром, – ответил Филипп с нескрываемой радостью. – Она приехала вчера.
– Очень рада за вас, Филипп. Теперь у вас будет спутница на то время, пока я не смогу выезжать с вами.
– Да что вы, Изабелла, я ни на минуту не оставлю вас!
– А я настаиваю, чтобы вы бывали на людях; к тому же я не буду одна, скоро приедет мама.
– Да, верно, – сказал Филипп в восторге, – она, вероятно, уже недалеко. Откуда была последняя телеграмма?
– Радиотелеграмма с парохода, но, как мне ответили в Пароходной компании, завтра она должна прибыть в Суэц.
– Я радуюсь за вас, – сказал Филипп, – очень мило с ее стороны, что она решилась совершить такое долгое путешествие, чтобы присутствовать при рождении внука.
– Моя семья похожа на вашу, Филипп. Рождение и смерть для нас всегда праздник. Помню, что у моего отца самые веселые воспоминания были связаны с похоронами его двоюродных братьев, которые жили в провинции.
– А мой дед Марсена, когда был уже так стар, что врач запретил ему ходить на все похороны, горько жаловался на это. Он говорил: «Меня не пускают на похороны дорогого Пьера, а ведь у меня теперь так мало развлечений».
– Сегодня вы, кажется, в отличном настроении, Филипп.
– Разве? Нет, не сказал бы… Но погода прекрасная, вы чувствуете себя хорошо, девятимесячному кошмару скоро конец. Я доволен. Это вполне естественно.
Видеть его столь жизнерадостным и знать причину его возрождения было для меня унизительно. В тот вечер он обедал с особым аппетитом; такой аппетит я некогда наблюдала у него в Санкт-Морице, а в последнее время он, к великому моему беспокойству, совершенно утратил его. После обеда он стал нервничать. Его одолевала зевота. Я предложила:
– Не хотите немного почитать? Мне очень нравится вещь Стендаля, которую мы начали вчера…
– Да, конечно, – ответил Филипп. – «Ламьель»… Конечно, это поразительно хорошо… Почитаем, если хотите.
На его лице мелькнула скучная гримаса.
– Послушайте, Филипп. Знаете, что вам следовало бы сделать? Съездить поздороваться с Соланж; вы не виделись пять месяцев. Это будет очень мило с вашей стороны.
– Вы думаете? Но мне не хочется вас покидать. Кроме того, я не знаю, дома ли она, принимает ли. В первый день у нее, вероятно, родня, родня Жака.
– Позвоните, узнайте.
Я надеялась, что он станет отказываться упорнее, а он сразу же поддался соблазну.
– Ну что ж, попробую, – ответил он и улыбнулся. Пять минут спустя он вернулся сияющий и сказал:
– Раз вы ничего не имеете против, я загляну к Соланж. На четверть часика.
– Сидите там сколько хотите. Я очень рада, вам это будет на пользу. Но зайдите ко мне, когда вернетесь, даже если очень поздно.
– Это будет не поздно; сейчас девять; без четверти десять я буду дома.
Он зашел ко мне в полночь. В ожидании я немного почитала и долго плакала.
Мама приехала из Китая за несколько дней до родов. Вновь увидевшись с ней, я, к удивлению, почувствовала, что она мне одновременно и ближе и дальше, чем я предполагала. Она раскритиковала наш образ жизни, наших слуг, мебель, друзей, и ее слова вызывали во мне отзвук каких-то незримых, сокровенных струн, слабо вторивших ей. Но эта старая семейная основа уже покрылась у меня толстым «наслоением Филиппа», и то, что ее удивляло и возмущало, казалось мне вполне естественным. Она сразу же заметила, что в последние месяцы моей беременности Филипп не был ко мне так внимателен, как мог бы быть. Меня огорчало, когда она говорила: «Вечером я посижу с тобою, ибо думаю, что у Филиппа не хватит мужества остаться дома». И я тут же упрекала себя в том, что огорчаюсь скорее из гордости, чем из любви. Я жалела, что она не приехала до возвращения Соланж, в те дни, когда Филипп, придя из конторы, все время проводил около меня. Я хотела бы доказать ей, что и меня можно любить. Иной раз, стоя у моей постели, она начинала меня рассматривать, и ее критический взгляд будил во мне былое девичье отчаяние. С сосредоточенным, почти враждебным видом она проводила рукой по моим волосам, разделенным пробором, и говорила: «Седеешь!» И это была правда.
Когда Филипп возвращался домой за полночь и на улице уже бывало мало прохожих, я прислушивалась к их шагам, чтобы различить шаги Филиппа. Как сейчас еще слышу эти обманчивые звуки – они растут, внушают надежду, что человек вот-вот остановится, потом слышатся вновь, начинают удаляться и замирают. Если пешеход действительно собирается остановиться у такого-то подъезда, он еще за несколько метров убавляет шаг; по этому признаку я наконец узнавала Филиппа. Крылатый звонок проносился по дому; вдали хлопала дверь; это он. Я намеревалась быть веселой, снисходительной, но почти каждый раз встречала его жалобами. Мне самой становилось тяжело от однообразия и резкости фраз, которые у меня вырывались.
– Ну я больше не могу, Изабелла, уверяю вас, – говорил он устало. – Неужели вы не замечаете сами, до чего вы непоследовательны? Вы сами уговариваете меня куда-нибудь поехать; я уступаю вам, а потом вы засыпаете меня упреками. Чего вы хотите? Чтобы я не выходил из дому? Так и скажите… Я буду сидеть дома. Да, обещаю вам – буду сидеть дома… Что угодно, лишь бы не эти вечные ссоры… Только, прошу вас, не будьте в десять часов вечера великодушной, а в полночь – мещанкой…
– Да, Филипп. Вы правы. Я отвратительна. Обещаю, что этого больше не будет.
Но на другой день какой-то притаившийся во мне бес вновь подсказывал мне неуместные упреки. Особенно негодовала я на Соланж. Я считала, что в такую пору моей жизни у нее должно бы хватить такта не отвлекать от меня мужа.
Однажды она приехала навестить меня. Разговор не клеился. На ней было прекрасное соболье манто, и она всячески расхваливала мне своего скорняка. Потом пришел Филипп; она, вероятно, предупредила его о своем визите, потому что он вернулся из конторы раньше обычного. Манто стало чем-то ненужным, почти незаметным, и его место занял марракешский сад.
– Вы не можете представить себе, Изабелла, что это такое… Утром я гуляю босиком по теплым фаянсовым плиткам, среди апельсиновых деревьев… Вокруг каждой колонны вьются розы и жасмин… В цветах и листве порхают голубые бабочки… а поверх крыш виднеются снеговые вершины гор, сверкающие, как дивный алмаз… – («Алмазы уже упоминались в Санкт-Морице», – мелькнуло у меня.) – А что за ночи! Ярко светит луна, и кипарисы как бы указывают на нее своими черными перстами… В соседнем саду звучит арабская гитара… Ах, Марсена, Марсена, как я все это люблю!..
Слегка откинув голову, она, казалось, вдыхала благоухание жасмина и роз.
Когда она распрощалась, Филипп проводил ее до двери; он вернулся несколько смущенный и прислонился к камину.
– Надо бы вам как-нибудь съездить со мной в Марокко, – сказал он после долгого молчания. – Там и в самом деле очень хорошо… Вот я как раз принес вам книгу Робера Этьена о берберах, об их быте… Это своего рода роман… и в то же время поэма. Вещь поразительная!
– Бедный мой Филипп, – сказала я, – как мне вас жаль, что вам приходится иметь дело с женщинами! Все они такие ломаки!
– По какому поводу вы это говорите, Изабелла?
– По тому поводу, что это правда, дорогой мой. Я так хорошо их знаю, и такие они неинтересные!
Наконец я почувствовала первые схватки. Роды были трудные, мучительные. Филипп очень волновался, и это меня радовало. Он совсем побледнел и был испуган больше меня. Я убедилась, что он дорожит моей жизнью. Его волнение придавало мне мужества; чтобы успокоить его, я брала себя в руки и говорила о нашем мальчугане – я была уверена, что у нас родится сын.
– Мы его назовем Ален, Филипп. Брови у него будут чуточку слишком высокие, как у вас. Когда что-нибудь начнет его волновать, он станет ходить взад и вперед по комнате, заложив руки в карманы… Ведь он будет очень беспокойный, не правда ли, Филипп? У таких родителей… Еще бы! Наследственность!
Филипп пробовал улыбнуться, но я видела, что он растроган. Когда боли усиливались, я просила его держать мою руку.
– Помните, Филипп, как я положила руку на вашу, когда мы слушали «Зигфрида»… С этого все и началось.
Немного позже я из своей комнаты услышала, как доктор Крес сказал Филиппу:
– У вашей жены удивительная выдержка; я давно не встречал такого мужества.
– Да, жена моя прекрасная женщина, – ответил Филипп. – Надеюсь, что все обойдется благополучно.
– Конечно, вполне благополучно. Никаких отклонений нет.
Под конец он решил дать мне наркоз; мне этого не хотелось. Когда я открыла глаза, я увидела около себя Филиппа; вид у него был растроганный и счастливый. Он поцеловал мою руку: «У нас сын, дорогая». Я попросила, чтобы мне его показали, и почувствовала разочарование.
Моя мать и мать Филиппа сидели рядом, в гостиной. Дверь была растворена, и, лежа с закрытыми глазами, я сквозь дремоту слышала их пессимистические предвидения насчет будущего воспитания ребенка. Хотя они и были очень разные и придерживались совершенно противоположных взглядов в большинстве вопросов, в данном случае они объединились как люди одного и того же поколения, всегда готовые осуждать более молодых.
– Можно себе представить, что получится, – говорила госпожа Марсена, – ведь Филипп будет заниматься чем угодно, но только не воспитанием сына, а Изабелла будет занята только Филиппом, так что мальчик получит полную возможность вытворять все, что ему вздумается.
– Вот именно, – соглашалась мама. – У нынешней молодежи одно только на уме: счастье. Требуется, чтобы дети были счастливы; требуется, чтобы счастливы были муж, хозяйка дома, слуги, и ради этого начинают пренебрегать всеми правилами, уничтожать все препятствия, не хотят больше ни наказаний, ни выговоров; теперь прощают все, что угодно, еще до того, как человек попросит прощения, – я уж не говорю о том, чтобы заслужить его. Просто невообразимо. И какой толк от этого? Если бы они хоть были «счастливее», чем мы с вами, – тогда это было бы еще понятно. Но самое смешное, что они менее счастливы, чем мы, куда менее! Смотрю я на свою дочь… Она все еще спит? Ты спишь, Изабелла?
Я не ответила.
– Странно, что на третий день она все еще дремлет.
– Зачем ей дали наркоз? – продолжала госпожа Марсена. – Я сказала Филиппу, что, будь я на его месте, я бы этого не допустила. Детей надо родить самой. У меня было трое, двоих я, к сожалению, утратила, но они все родились естественным путем. Искусственные роды вредны и ребенку и матери. Я была очень недовольна, когда узнала, что Изабелла оказалась такой неженкой. Думаю, что во всей нашей семье – а Марсена живут по меньшей мере в десяти департаментах – не найдется женщины, которая согласилась бы на эти ухищрения.
– Вы полагаете? – вежливо спросила мама; она сама посоветовала мне прибегнуть к наркозу, но, как жена дипломата, не хотела затевать спор, чтобы не нарушать союза, заключенного с госпожой Марсена для совместных нападок на младшее поколение. – Я уже вам говорила, – шепотом продолжала мама, – я вижу свою дочь насквозь. Она говорит, что не может назвать себя счастливой. Филипп тут не виноват, он очень милый муж и легкомыслен не больше других. Нет, дело в том, что она беспрестанно копается в себе, она неспокойна, она все время поглядывает на барометр своей супружеской жизни, на «их любовь», как она выражается… Много ли вы размышляли, сударыня, о своих отношениях с мужем? Я об этом почти не думала; я старалась помочь мужу в его карьере; на руках у меня находился дом, управлять которым было нелегко; мы были очень заняты, и все шло отлично… То же можно сказать и о воспитании детей. Изабелла говорит, что ей хочется прежде всего, чтобы у Алена детство было не такое, как у нее, а гораздо счастливее. Но уверяю вас, что ее юность прошла вовсе не в таких уж плохих условиях. Я воспитывала ее довольно строго; я об этом не сетую: плоды перед вами.
– Если бы Изабелла не получила того воспитания, которое вы ей дали, из нее не получилось бы такой прелестной женщины, – тоже шепотом ответила госпожа Марсена. – Она вам многим обязана, так же как и мой сын.
Я не шевелилась, – этот разговор очень забавлял меня. «Как знать? Быть может, они и правы», – думала я.
Согласие между ними нарушилось, когда речь зашла о кормлении Алена. Свекровь считала, что я должна кормить сама, и терпеть не могла нянек-англичанок. Мама же мне говорила: «Ты даже не начинай кормить; при твоих нервах не пройдет и трех недель, как молоко пропадет, а ребенок к тому времени уже будет больной». Филипп тоже не хотел, чтобы я кормила. Но я придавала этому символическое значение и настаивала на своем. Результаты получились те самые, которые предсказывала мама.
После рождения столь желанного ребенка одно разочарование следовало у меня за другим. Я возлагала на будущее такие огромные надежды, что они не могли осуществиться в действительности. Я думала, что ребенок станет новым, еще более крепким звеном в узах, связывающих нас с Филиппом. Этого не случилось. Филипп, в общем, мало интересовался сыном. Раз в день он заходил в детскую, охотно обменивался с няней несколькими фразами по-английски, затем становился тем же Филиппом, каким я его всегда знала, – ласковым, далеким, и его мягкую, меланхолическую благовоспитанность окутывало зыбкое облачко скуки. Теперь мне даже казалось, что тут нечто гораздо большее, чем скука. Филипп грустил. Он меньше выезжал из дома. Сначала я думала, что он поступает так по своей доброте, чтобы не оставлять меня одну, пока я еще слаба. И несколько раз, узнав о том, что ко мне собирается мама или кто-нибудь из приятельниц, я ему говорила:
– Филипп, я знаю, вы не любите разговоров о семейных делах. Позвоните Соланж, пригласите ее в кино.
– Почему вы постоянно посылаете меня к Соланж? – отвечал он. – Я вполне могу прожить два дня и без нее.
Бедный Филипп! Нет, он не мог прожить двух дней, не видя ее. Твердо не зная причин, не ведая ничего о личной жизни Соланж, я все же чувствовала, что с тех пор, как она возвратилась из Марокко, в их отношениях что-то изменилось и что Филипп страдает из-за нее.
Я не смела его расспрашивать, но уже по одному только выражению его лица я видела, как растет его сердечный недуг. За несколько недель он страшно похудел; лицо у него пожелтело, глаза потускнели. Он жаловался, что плохо спит, и взгляд у него стал пристальный, как у людей, страдающих бессонницей. За столом он бывал молчалив, потом брал себя в руки, чтобы сказать мне что-нибудь; это явное усилие было для меня еще тягостнее, чем молчание.
Ренэ меня навестила и привезла для Алена платьице. Я сразу заметила, что она как-то преобразилась. Она вся ушла в работу, а о докторе Голене говорила так, что я стала думать – не в близких ли она с ним отношениях. В Гандюмасе уже несколько месяцев поговаривали об этой связи, однако только с тем, чтобы отрицать ее. Родным Ренэ хотелось сохранить с нею добрые отношения, и они боялись, как бы семейные традиции не принудили их отречься от нее, если окажется, что ее добродетель перестала быть непреложной, как аксиома. Но стоило мне только повидаться с Ренэ, и я поняла, что будь то сознательно или невольно, но Марсена пребывают в заблуждении. Ренэ была жизнерадостна, как женщина, которая любит и любима.
После моего замужества мы охладели друг к другу, даже более того – в некоторых случаях она проявила в отношении меня черствость, чуть ли не враждебность, но в тот день мы почти сразу же вернулись к задушевному тону, в каком всегда беседовали во время войны. Вскоре мы заговорили о Филиппе, и заговорили очень откровенно. Ренэ впервые с полной искренностью призналась мне, что была в него влюблена и очень страдала, когда я вышла за него замуж.
– В то время, Изабелла, я вас прямо-таки ненавидела, но потом я перестроила свою жизнь на новый лад, и теперь прошлое кажется как бы чуждым мне… Даже самые наши сильные переживания отмирают, не правда ли? – и на женщину, какою ты была три года тому назад, начинаешь смотреть с таким же удивлением и таким же безразличием, словно это совсем посторонний человек.
– Да, может быть, – ответила я. – Сама я до этого еще не дошла. Я люблю Филиппа так же, как любила вначале, и даже еще больше. Я чувствую, что теперь ради него готова на жертвы, на которые не согласилась бы полгода тому назад.
Ренэ молча посмотрела на меня, как врач.
– Верю вам… – промолвила она наконец. – Я только что сказала, Изабелла, что ни о чем не сожалею – даже более того. Позвольте мне быть вполне откровенной? Я теперь радуюсь, что не вышла за Филиппа.
– А я радуюсь, что вышла.
– Да, понимаю. Вы любите его, и, кроме того, вы, как и он, усвоили несносную привычку искать счастья в страдании. Но Филипп – страшное существо не потому, что он злой, отнюдь; он человек добрый, но он страшен тем, что одержим. Я его знала еще совсем ребенком. Он в детстве уже был таким, с той только разницей, что тогда в нем таилось еще несколько других потенциальных Филиппов. Потом явилась Одилия, и она, без сомнения навсегда, зафиксировала в нем глубоко индивидуальный облик влюбленного. Любовь для него связана с определенным типом лица, с определенным безрассудством, с определенного рода изяществом – волнующим и едва ли добродетельным… А так как он в то же время чувствителен до нелепости, то женщины такого типа – единственного, который может внушать ему страсть, – причиняют ему множество мучений… Разве это неправда?
– Это и правда и неправда, Ренэ. Я знаю, что всегда нелепо говорить: «Я любима», – а все-таки Филипп любит меня. У меня нет поводов сомневаться… В то же время ему действительно нужны женщины совсем иные, женщины типа Одилии, типа Соланж… Вы знаете Соланж Вилье?
– Знаю отлично… Я не решалась назвать ее, но именно ее и имела в виду.
– Отчего же, вы можете говорить о ней сколько угодно, я больше уже не ревную; раньше ревновала… А в свете ходят слухи, что она с ним близка?
– Нет, нет… Наоборот, говорят, что во время последней поездки в Марокко она увлеклась Робером Этьеном… знаете, тем самым, который написал такую интересную книгу о берберах… Последнее время, в Марракеше, они были неразлучны. Этьен на днях возвратился в Париж… Это не только большой талант, но и прелестный человек; Голен его хорошо знает и ценит очень высоко.
Я на минуту задумалась. Да, так я себе все и представляла, а имя Этьена теперь давало разгадку некоторым словам моего мужа. Он одну за другой купил все книги Этьена. Отдельные отрывки он читал мне вслух и спрашивал о них мое мнение. Мне эти книги очень нравились, особенно та, что называется «Молитва в саду Удайа» и представляет собой как бы долгое сосредоточенное размышление. «Прекрасно! – говорил Филипп. – Это действительно прекрасно, самобытно». Бедный мой Филипп, как ему, вероятно, было тяжело! Теперь он, конечно, анализировал малейшие фразы и поступки Соланж, как прежде анализировал слова и поступки Одилии, ища в них следы незнакомца; конечно, именно за этой бесплодной и мучительной работой и проводил он бессонные ночи. Ах, какая злоба внезапно вспыхнула во мне против этой женщины!
– То, что вы сейчас сказали, Ренэ, о несносной привычке искать упоения в страданиях, – удивительно верно. Но когда, в силу сложившихся обстоятельств, первая любовь оказывается сопряженной со страданиями – как это случилось и с Филиппом и со мной, – то может ли человек еще измениться?
– Думаю, что измениться можно всегда, стоит только сильно захотеть.
– Но как захотеть, Ренэ? Для этого уже надо измениться.
– Голен вам ответил бы: «Надо вникнуть в сущность вопроса и преодолеть ее»… другими словами, надо стать умнее.
– Но ведь Филипп умный.
– Очень. Однако Филипп слишком считается с сердцем и недостаточно – с разумом…
Мы весело проговорили до самого возвращения Филиппа. Ренэ подходила ко всему с точки зрения науки, и это умиротворяло меня – я начинала себя чувствовать человеком, похожим на множество других в определенном разряде любящих.
Филипп был, по-видимому, рад встрече с Ренэ; он пригласил ее пообедать с нами и впервые за несколько недель оживленно беседовал за столом. Он интересовался науками, и Ренэ рассказывала об опытах, о которых он еще не знал. Когда она во второй раз назвала имя Го-лена, Филипп отрывисто спросил:
– А ты хорошо знакома с Голеном?
– Еще бы, – ответила Ренэ, – он мой руководитель.
– Не он ли друг Робера Этьена, того, что пишет о Марокко… словом, автора «Молитвы»?
– Да, они друзья, – сказала Ренэ.
– А ты сама, – продолжал Филипп, – знакома с Этьеном?
– Отлично знакома.
– Что это за человек?
– Удивительный человек! – воскликнула Ренэ.
– А-а! – протянул Филипп. Потом с заметным усилием добавил: – Да, мне тоже кажется, что он талантлив… Но бывает и так, что человек гораздо ниже, чем его произведение…
– Ну, к нему это никак не относится, – возразила неумолимая Ренэ.
Я бросила на нее просящий взгляд. После этого Филипп весь вечер был молчалив.
Любовь Филиппа к Соланж Вилье умирала у меня на глазах. Он никогда не говорил со мной об этом. Наоборот, ему, очевидно, хотелось, чтобы я думала, что в их отношениях ничто не изменилось. Впрочем, он еще довольно часто виделся с нею, но все-таки реже, чем прежде, и эти встречи не доставляли ему былой безоблачной радости. После прогулок с нею он возвращался домой уже не веселый и помолодевший, как раньше, а сосредоточенный и порою как бы в отчаянии. Несколько раз мне казалось, будто он собирается поделиться со мной своими переживаниями. Он брал меня за руку и говорил:
– Изабелла, вы избрали благую долю.
– Почему, друг мой?
– Потому что…
На этом он умолкал, но я отлично его понимала и без слов. Он по-прежнему посылал Соланж цветы и обращался с ней как с обожаемой женщиной. Дон-Кихот и Ланселот оставались себе верны. Но в заметках, относящихся к 1923 году, которые я нашла в его бумагах, чувствуется грусть.
«17 апреля. Прогулка с С., Монмартр. Мы поднялись на площадь Холма, зашли в кафе и сели на террасе. Печенье и лимонад. Соланж попросила плитку шоколада и стала есть ее тут же, как девочка. Отчетливо повторились впечатления, забытые мною со времени Одилии – Франсуа. Соланж старается быть непринужденной, сердечной; она очень ласкова со мной, очень добра. Но чувствую, что она думает о другом. У нее та же томность, какая была у Одилии после ее первого бегства, и так же, как Одилия, она тщательно избегает объяснения. Едва только я заговариваю о ней, о нас, она ускользает, выдумывая какую-нибудь забаву. Сегодня она наблюдает за прохожими и потешается, пытаясь по их жестам, по внешнему виду угадать, что они собою представляют. У кафе остановилось такси, и его шофер уселся за столик с двумя женщинами, которых он вез; это дало Соланж повод сочинить целую историю. Я стараюсь разлюбить ее, и ничего у меня не выходит. Она все так же привлекательна – загорелая, сильная.
– Вы грустите, дорогой мой, – говорит она. – Что с вами? Согласитесь: жизнь – занятнейшая вещь. Вы подумайте только – ведь во всех этих несуразных домишках обретаются мужчины и женщины, за жизнью которых любопытно было бы понаблюдать. Подумайте, в Париже найдется несколько сотен местечек вроде этого, а в мире – несколько десятков Парижей. Что ни говорите, это восхитительно!
– Я не согласен с вами, Соланж; по-моему, жизнь – довольно любопытное представление, пока мы еще очень молоды. Когда же приближаешься, подобно мне, к сорока, когда обнаруживаешь суфлера, узнаешь нравы актеров, постигаешь механизм интриги – тогда хочется уйти прочь.
– Не люблю, когда вы так говорите. Вы еще ничего не видели.
– Ну как же, милая Соланж. Я уже просмотрел весь третий акт; по-моему, он не так-то уж хорош и не так-то весел; повторяется все одна и та же ситуация, и я отлично вижу, что так будет до самого конца; с меня достаточно, у меня нет ни малейшего желания видеть развязку.
– Вы – неблагодарный зритель, – возразила Соланж. – У вас прелестная жена, очаровательные приятельницы…
– Приятельницы?
– Да, сударь, приятельницы. Мне ваша жизнь известна.
Все это страшно в духе Одилии. Одного не могу себе простить, а именно – что эта грусть мне по душе. Есть какая-то таинственная услада в том, чтобы господствовать над жизнью, принимая ее всего лишь за печальное зрелище; это, конечно, услада гордыни – основного порока всех Марсена. Надо бы совершенно перестать видеться с Соланж. Тогда, быть может, все улеглось бы; но видеть ее и не любить – невозможно.
18 апреля. Долго беседовал вчера о любви со своим давнишним товарищем; ему уже за пятьдесят, а в свое время он был, говорят, одним из опаснейших донжуанов. Слушая его, я с удивлением убеждался, как мало счастья принесли ему многочисленные романы, которым завидуют окружающие.
– В сущности, – сказал он, – я любил только одну женщину: Клер П… но даже от нее как я под конец устал!
– А ведь она обворожительна, – заметил я.
– Ну, теперь вы уже не можете судить о ней. Она стала манерничать, жеманиться; она подделывается под то, что раньше было у нее совершенно естественно. Нет, я прямо-таки видеть ее не могу.
– А другие?
– А все другие были просто ничто.
Тут я назвал ему женщину, которая, по слухам, и теперь заполняет его жизнь.
– Я ее вовсе не люблю, – ответил он. – Я встречаюсь с ней по привычке. Она причинила мне нестерпимые страдания, много изменяла мне. Теперь я сужу о ней со стороны. Нет, право же, это – ничто.
Я слушал его, и у меня возникал вопрос: существует ли романтическая любовь, не следует ли от нее заранее отказаться? Только смерть спасает ее от поражения («Тристан»), но в этом же и ее смертный приговор.
19 апреля. Поездка в Гандюмас. Первая за три месяца. Несколько рабочих явились ко мне с жалобами: бедность, болезни. Перед лицом этих истинных бед я покраснел за свои воображаемые. Однако и в рабочей среде немало любовных драм.
Провел всю ночь без сна, в раздумьях над своей жизнью. Мне кажется, что вся она – длительное заблуждение. С виду я – человек, занятый определенной профессией. В действительности же единственной моей заботой была погоня за совершенным счастьем, которое я надеялся обрести в женщинах, – а безнадежнее такой погони и представить себе ничего нельзя. Совершенной любви нет, как нет совершенного правительства, и оппортунизм сердца – единственная мудрость в области чувств. Главное, не надо останавливаться на какой-то надуманной, полюбившейся нам позиции. Наши чувства зачастую не что иное, как застывшие слепки с наших чувств. Я мог бы мгновенно избавиться от чар Соланж; для этого нужно только взглянуть на ее истинный облик, который я ношу в себе с того самого дня, как познакомился с ней; это облик, написанный точным и жестоким мастером, и он никогда не изменялся во мне; но я не хочу его видеть.
20 апреля. Хотя Соланж уже не так дорожит мною, все же, едва только я хочу высвободиться, она подтягивает и закрепляет узы. Кокетство или милосердие?
23 апреля. В чем заключалась ошибка? Соланж меняется, как Одилия. Потому ли, что я допустил те же самые оплошности? Или потому, что я вторично избрал ту же участь? Нужно ли неуклонно скрывать то, что чувствуешь, чтобы сохранить то, что любишь? Надо ли быть ловким, изворачиваться, таиться, в то время как хотелось бы бездумно отдаться чувству? Теперь я уже ничего не понимаю.
27 апреля. Следовало бы каждое десятилетие стирать из своего сознания кое-какие мысли, которые опыт опроверг как ошибочные, вредные.
А именно:
а) женщины могут быть связаны обещанием или обетом. – Это неверно. «Женщины лишены нравственной основы, поведение их зависит от тех, кого они любят»;
б) существует совершенная женщина, и тогда любовь превращается в череду ничем не омрачаемых радостей чувственности, ума и сердца. – Это неверно. Два человеческих существа, подошедшие друг к другу, подобны двум кораблям, которые качаются на волнах; борта их сталкиваются и скрипят.
28 мая. Обед на авеню Марсо. Среди пулярдок и орхидей – умирающая тетя Кора. Элен заговорила со мной о Соланж.
– Бедный Марсена! – воскликнула она. – Какой вид у вас последнее время! Но, конечно, я знаю – вам тяжело.
– Не понимаю, что вы хотите сказать, – ответил я.
– Ну как же! Вы ведь все еще влюблены в нее. Я стал уверять, что она ошибается».
Красная записная книжка являет мне Филиппа гораздо более спокойного и лучше владеющего собой, чем он мне тогда казался. Думаю, что рассудок его тогда стал уже освобождаться, но что где-то в сокровенных глубинах еще таился Филипп-раб. Чувствовалось, что он бесконечно несчастен, и я несколько раз думала: не повидаться ли мне с Соланж, не попросить ли, чтобы она пощадила его? Но такой поступок представлялся мне самой до того безрассудным, что я не решалась на него. К тому же теперь я ненавидела Соланж и чувствовала, что, оказавшись с ней с глазу на глаз, буду не в силах держать себя в руках. Мы по-прежнему встречались с ней у Тианжей, однако вскоре Филипп отказался бывать на субботах Элен (чего прежде никогда не случалось).
– Поезжайте вы одна, чтобы показать, что мы ничего против нее не имеем. Не надо ее обижать, она хороший человек. Но я больше не в силах там бывать, уверяю вас. Чем старше я становлюсь, тем противнее мне свет… Камелек, книжка, вы… вот в чем теперь мое счастье.
Я знала, что он говорит искренне. Но я знала также, что, если бы вот сейчас ему встретилась молодая, красивая и легкомысленная женщина, которая украдкой, взглядом подала бы ему знак, которого он ждал, он тотчас же, сам того не сознавая, изменил бы свою философию и стал бы объяснять, что после трудового дня ему совершенно необходимо видеть новые лица и развлекаться. Помню, как я огорчалась в первое время замужества, думая о том, что мысли человека, которого мы любим, навеки скрыты от наших умственных взоров. Теперь я стала видеть Филиппа насквозь. За тонкой оболочкой, под которой бились кровеносные сосуды, я наблюдала теперь все его мысли, все слабости, и я любила его полнее, чем когда бы то ни было. Помнится, как-то вечером, в конторе, я долго смотрела на него, ничего не говоря.
– О чем вы думаете? – спросил он, улыбнувшись.
– Я пытаюсь представить себе, каким бы я вас видела, если бы не любила, – и любить вас и таким.
– Боже, до чего сложно! И вам это удается?
– Любить и таким? Даже очень легко.
В тот вечер он предложил мне переселиться в Гандюмас раньше обычного.
– В Париже нас ничто не держит. Делами я могу с таким же успехом заниматься и там. Зато Алену деревенский воздух пойдет на пользу, и мама будет не так одинока. Все говорит за то, чтобы ехать.
Ничего другого я и не желала. В Гандюмасе Филипп будет принадлежать только мне. Одного лишь я боялась – как бы он там не соскучился, но я заметила обратное: в деревне он вскоре обрел прежнее равновесие. В Париже, хоть он и утратил Соланж, у него оставалась надежда – разумеется, тщетная и все же неистребимая. Стоило раздаться телефонному звонку, и у него вырывался инстинктивный жест – хорошо знакомый мне жест, от которого он еще не отвык.
Во мне всегда болезненно отзывались все волнения Филиппа; поэтому я знала, когда мы куда-нибудь выезжали вместе, что он боится встретить ее и в то же время желает этого. Он понимал, что еще заворожен ею и что, если ей захочется, она легко может его вернуть. Он понимал это, но понимал также, что и чувство собственного достоинства, и забота о своем благополучии велят ему не допускать возврата к прежнему. В Гандюмасе, в обстановке, которая никогда не была связана с образом Соланж, он понемногу начал ее забывать. Через неделю вид у него уже стал лучше, лицо посвежело, взгляд сделался яснее, сон улучшился.
Стояла прекрасная погода. Мы вместе совершали большие прогулки пешком. Филипп сказал, что намерен впредь следовать примеру своего отца и больше внимания уделять фермам, которые он сдавал крестьянам в аренду. Мы каждый день ходили в Гишарди, в Брюйер, в Резонзак.
Филипп бывал на фабрике только утром; днем он всегда отправлялся куда-нибудь вместе со мной.
– Знаете, что нам хорошо бы сделать? Возьмем книжку и будем читать вслух где-нибудь в лесу.
Вокруг Гандюмаса много уединенных тенистых уголков; иногда мы располагались во мху, у широкой просеки, над которой сходились ветви деревьев, образуя как бы приделы нежно-зеленого собора; иной раз устраивались на стволе поваленного дерева, иной раз на скамейке, некогда поставленной по желанию дедушки Марсена. (Филиппу очень нравились оба «Силуэта женщины», «Тайны княгини де Кадиньян»[28] и некоторые новеллы Мериме – например, «Двойная ошибка» и «Этрусская ваза», – а также рассказы Киплинга и стихи.) Иногда он поднимал голову и спрашивал:
– Я вам не надоел?
– Да что вы! Я счастлива, как никогда.
Он на мгновенье задерживал на мне взгляд, потом продолжал. Дочитав книгу, мы обменивались мнениями о героях, об их характерах и нередко переходили на реальных людей. Однажды книжку принесла я, причем не хотела сказать, как она называется.
– Что же это за таинственная книга? – спросил он, когда мы сели.
– Это книжка, которую я взяла из библиотеки вашей мамы и которая сыграла, Филипп, определенную роль в вашей жизни; по крайней мере, так вы мне писали когда-то.
– Догадываюсь! Это мои «Русские солдатики». Как хорошо, Изабелла, что вы их разыскали! Дайте мне.
Он полистал книжку, и мне показалось, что он и рад ей, и немного разочарован.
– «Они предложили избрать королеву, школьницу, которую все мы хорошо знали: Аню Соколову. То была девушка на редкость красивая, стройная, изящная и ловкая… Мы склонили перед королевой головы и поклялись свято блюсти закон».
– Но ведь это же прелесть, Филипп, и, кроме того, это так похоже на вас! «Мы склонили перед королевой головы и поклялись свято блюсти закон». Тут есть еще чудесный рассказ о том, как королева выразила желание получить какую-то вещь и с каким трудом герой добыл ее… Подождите… Дайте-ка мне книжку… «"Боже мой, Боже мой! Как вы старались! – воскликнула королева. – Благодарю вас!" Она была очень довольна. Когда я прощался с нею, она еще раз пожала мне руку и добавила: «Если я останусь вашей королевой, то велю генералу особо наградить вас». Я поклонился и ушел, тоже очень довольный…» Вы на всю жизнь так и остались этим маленьким мальчиком, Филипп… Зато королева не раз менялась.
Сидя под кустом, Филипп срывал с него ветки; он ломал их на кусочки и отбрасывал в траву.
– Да, – сказал он, – королева не раз менялась. Дело в том, что королеву я никогда в жизни так и не встретил… я хочу сказать – королеву в полном смысле слова… Понимаете?
– Кто же был королевой, Филипп?
– Несколько женщин, дорогая. Некоторое время – Дениза Обри… но это была королева далеко не совершенная. Я говорил вам, что бедняжка Дениза Обри умерла?
– Нет, Филипп, я не слыхала… Ведь она, вероятно, была еще совсем молодая?.. Отчего же она умерла?
– Не знаю. Мне об этом сказала на днях мама. Как странно – весть о смерти женщины, которая несколько лет была для меня средоточием вселенной, я воспринял как новость, не имеющую особого значения.
– А после Денизы Обри кто был королевой?
– Одилия.
– Она была ближе всех к тому образу королевы, который вы создали в своих мечтах?
– Да, потому что она была божественно прекрасна.
– А после Одилии?.. Немного Элен де Тианж?
– Может быть, отчасти… И уж конечно, вы, Изабелла!
– И я тоже? Правда? Долго?
– Очень долго.
– Потом Соланж?
– Да, потом Соланж.
– А Соланж и сейчас все еще королева, Филипп?
– Нет. Но невзирая ни на что, у меня не осталось о Соланж дурных воспоминаний. В ней было нечто очень живое, очень сильное. Возле нее я чувствовал себя моложе. Это было приятно.
– Вам надо повидаться с ней, Филипп.
– Да, я с ней повидаюсь – когда совсем излечусь, но она уже больше не будет королевой. Это кончилось навсегда.
– А теперь, Филипп, кто королева?
Он запнулся, потом произнес, смотря на меня:
– Вы.
– Я? Но ведь я давно свергнута.
– Может быть, вы и были свергнуты, – может быть. Потому что вы были ревнивой, мелочной, придирчивой. Но последние три месяца вы проявляли столько мужества, такую искренность, что я вернул вам корону. К тому же вы и представить себе не можете, Изабелла, до какой степени вы изменились. Вы стали совсем другой женщиной.
– Я это отлично сознаю, дорогой мой. В сущности, у женщины действительно любящей никогда не бывает собственной индивидуальности; она говорит, что обладает индивидуальностью, она старается сама уверовать в это, – но все-таки это неправда. Нет, она только силится понять, какую именно женщину хочет найти в ней тот, кого она любит, и она стремится стать такой женщиной… С вами, Филипп, это очень трудная задача, потому что никак не поймешь, чего вы желаете. Вам нужны верность и ласка, но вам нужны также кокетство и тревога. Как же быть? Я избрала удел верности, как самый близкий моей природе… Но мне кажется, что вы еще долго будете чувствовать потребность в присутствии около вас другой женщины, более непостоянной, более ускользающей. Великая моя победа над собою заключается в том, что я принимаю эту другую, и принимаю даже со смирением, с радостью. За последний год я поняла нечто очень важное, а именно, что если действительно любишь, то не надо придавать чересчур много значения поступкам тех, кого любишь. Эти люди нам необходимы; только им дано окружать нас определенной «атмосферой» (ваша приятельница Элен называет это «климатом» – и очень удачно), без которой мы не в силах обойтись. Следовательно – лишь бы уберечь, сохранить их, а остальное, право же, такие пустяки! Жизнь наша столь быстролетна, столь сложна… И неужели у меня хватит мужества, дорогой мой Филипп, лишать вас тех немногих часов счастья, которые могут вам подарить эти женщины? Нет, я сделала большие успехи: я больше не ревную. Я больше не мучаюсь.
Филипп растянулся на траве и положил голову мне на колени.
– А я еще не вполне достиг такого состояния, как вы, – ответил он. – Мне кажется, что я еще могу страдать, и страдать глубоко. Для меня краткость жизни – не утешение. Жизнь коротка, что и говорить, но сравнительно с чем? Для нас она – всё. Однако я чувствую, что медленно вступаю в более спокойную полосу. Помните, Изабелла, когда-то я сравнивал свою жизнь с симфонией, в которой звучит несколько тем: тема Рыцаря, тема Циника, тема Соперника. Они всё еще звучат – и очень громко. Но мне слышится в оркестре еще один инструмент – единственный, не знаю какой; он с вкрадчивой настойчивостью твердит другую тему, всего лишь в несколько звуков, нежную и умиротворяющую. Это тема покоя; она похожа на тему старости.
– Но вы еще совсем молодой, Филипп.
– Да, конечно… знаю… Именно поэтому эта тема и кажется мне очень приятной. С годами она заглушит весь оркестр, и я пожалею о времени, когда слышал и другие темы.
– А меня, Филипп, порой огорчает мысль, что учение идет так медленно. Вы говорите, что я стала лучше, и мне кажется, что это верно. К сорока годам я, пожалуй, начну чуточку понимать жизнь, но будет уже поздно… Вот так-то… А как вы думаете, дорогой, возможно ли полное, без малейшего облачка, единение двух существ?
– Но ведь только что это оказалось возможным в продолжение целого часа, – ответил Филипп, вставая.
Лето, проведенное в Гандюмасе, было самой счастливой порой моего замужества. Мне кажется, что Филипп любил меня дважды: несколько недель до свадьбы и вот эти три месяца – с июня по сентябрь. Он был ласков искренне, без всяких оговорок. Его мать почти что заставила нас поместиться в одной комнате; она горячо настаивала на этом и просто не понимала, как могут супруги жить порознь. Это нас еще более сблизило. Мне доставляло огромную радость, просыпаясь, чувствовать рядом с собою Филиппа. Мы брали к себе Алена, и он играл у нас на постели. У него прорезались зубки, но он вел себя молодцом. Когда он начинал плакать, Филипп говорил: «Ну, ну, улыбнись, Ален! Ведь мама у тебя – герой!» Ребенок, кажется, в конце концов стал понимать слова: «Улыбнись, Ален», – потому что старался сдерживаться и приоткрывал ротик, чтобы показать, что всем вполне доволен. Это выходило очень трогательно, и Филипп начинал привязываться к сыну.
Погода стояла восхитительная. Филипп любил, возвратясь с фабрики, «пожариться» на солнцепеке. Лакей приносил нам на лужайку перед домом два кресла, и мы подолгу сидели молча, погрузившись в смутные мечты. Мне было приятно думать о том, что нами владеют одни и те же образы: заросли вереска, полуразрушенный замок Шардейль, виднеющийся сквозь зыбкую дымку раскаленного воздуха, за ним – туманные очертания холмов, а где-то еще дальше – лицо Соланж и чуть жесткий взгляд ее прекрасных глаз; на горизонте нам мерещился, без сомнения, флорентинский пейзаж, широкие, почти плоские крыши, купола, вместо елей на холмах – кипарисы, и ангельский лик Одилии. Да, и во мне также жили Одилия, Соланж, и это казалось мне естественным и необходимым. Порою Филипп взглядывал на меня и улыбался. Я знала, что мы таинственно связаны друг с другом; я была счастлива. Колокольчик, призывающий к обеду, извлекал нас из этой сладостной истомы. Я вздыхала:
– Ах, Филипп, мне хотелось бы всю жизнь провести так, возле вас, в оцепенении, и ничего мне больше не надо, только была бы тут ваша рука, такие вот теплые дуновения, вереск… Это восхитительно и в то же время так грустно, – не правда ли? А почему?
– Самые прекрасные мгновения всегда полны грусти. Чувствуешь, что они мимолетны, хочется их удержать, а это невозможно. Когда я был маленьким, я всегда ощущал это в цирке, позже – в концертах, когда бывал чрезмерно счастлив. Я думал: «Через два часа все это кончится».
– Но сейчас, Филипп, у нас впереди еще по крайней мере тридцать лет.
– Тридцать лет – это очень мало.
– Ну, я большего и не прошу.
Мать Филиппа, по-видимому, тоже улавливала это прекрасное, чистое веяние нашего счастья.
– Наконец-то я вижу, что Филипп живет так, как мне всегда хотелось бы, чтобы он жил, – сказала она мне однажды вечером. – И знаете ли, милая моя Изабелла, что вам следовало бы сделать, если вы разумная женщина? Попробуйте уговорить Филиппа окончательно вернуться в Гандюмас. Париж ему вреден. Филипп похож на отца, а тот по натуре был робким и чувствительным, хотя и казался очень замкнутым. Парижская суета, сложные переживания – все это отзывается в нем болезненно.
– Но мне кажется, мама, что, к несчастью, здесь ему будет скучно.
– Не думаю. Мы с его отцом провели тут шестнадцать лет – лучшие в нашей жизни.
– Возможно, но Филипп усвоил другие привычки. Самой мне, конечно, здесь было бы лучше, потому что я люблю уединение, но он…
– При нем будете вы.
– Этого ему не всегда будет достаточно.
– Вы скромница, милая моя Изабелла, и недостаточно верите в свои силы. Не надо прекращать борьбу.
– Я не прекращаю борьбу, мама… Напротив, теперь я убеждена, что победа будет за мной… что я останусь в его жизни, в то время как другие мелькнут в ней ненадолго и не оставят следа…
– Другие? – с удивлением повторила она. – Право же, вы удивительно беспомощны.
Она часто возвращалась к своему плану; ей была свойственна ласковая настойчивость. Но я остерегалась заговорить об этом с Филиппом. Я знала, что принуждение сразу же нарушит чудесную гармонию, которой я так наслаждаюсь. Напротив, я до того боялась, что Филипп станет скучать, что несколько раз предлагала ему навестить в воскресный день соседей или съездить в какой-нибудь уголок Перигора или Лимузена, которые он мне описывал и где я никогда не бывала. Я очень любила, когда он возил меня по своим родным местам; мне по душе эта несколько дикая местность и замки с толстыми стенами, высящиеся на обрывистых берегах, откуда открываются нежные речные ландшафты. Филипп рассказывал мне разные легенды, предания. Я всегда любила историю Франции, а тут я с волнением вновь слышала знакомые имена: Отфор,[29] Бирон,[30] Брантом.[31] Иногда я робко связывала рассказ Филиппа с тем, что мне помнилось из книг, и с удовольствием замечала, что он внимательно слушает меня.
– Как много вы знаете, Изабелла, – говорил он. – Вы очень умная – пожалуй, умнее многих других.
– Не смейтесь надо мной, Филипп, – молила я.
У меня создавалось такое впечатление, будто меня наконец понял человек, которого я долгое время любила безнадежно.
Филиппу хотелось показать мне пещеры долины реки Везера. Черная река, вьющаяся среди скал, источенных и отшлифованных водою, мне очень понравилась, зато пещеры меня несколько разочаровали. Приходилось карабкаться по крутым тропинкам, под палящим солнцем, потом проникать в тесные каменные ходы, где на стенах виднелись смутные очертания бизонов, намеченные красной краской.
– Вы что-нибудь видите? – спросила я Филиппа. – Это, пожалуй, бизон… но вверх ногами.
– Я решительно ничего не вижу, – ответил Филипп, – мне хочется на воздух, я прозяб.
Подниматься было очень жарко, а в пещере и я почувствовала ледяной холод. На обратном пути Филипп был молчалив; вечером он сказал, что простудился. На другой день он рано разбудил меня.
– Мне что-то нехорошо, – сказал он.
Я сразу же встала, раскрыла шторы, и меня напугал вид Филиппа: он был бледен, выражение лица у него стало тревожным; глаза ввалились, ноздри странно подергивались.
– Да, у вас совсем больной вид, Филипп; вы вчера простудились…
– Мне трудно дышать, и жар чудовищный. Ничего, пройдет, дорогая. Дайте мне аспирина.
Он не хотел приглашать доктора, а я не решалась настаивать, но, когда вызванная мною свекровь пришла в нашу комнату (это было в девять часов), она заставила его измерить температуру. Она обращалась с ним как с маленьким мальчиком, и ее властность удивила меня.
Невзирая на возражения Филиппа, она велела вызвать из Шардейля доктора Тури. Доктор был немного застенчивый, очень ласковый; прежде чем заговорить, он всегда долго смотрел на вас сквозь роговые очки. Он очень внимательно выслушал Филиппа.
– Изрядный бронхит, – сказал он. – Господин Марсена, вам лежать по меньшей мере неделю.
Он сделал мне знак, чтобы я вышла вместе с ним; он смотрел на меня сквозь очки ласково и смущенно.
– Так вот, сударыня, – сказал он. – Дело довольно неприятное. У вашего мужа бронхопневмония. При прослушивании слышны хрипы во всей грудной полости, почти как при отеке легких. Кроме того, температура – сорок, пульс – сто сорок… Очень тяжелая пневмония.
Я похолодела; я как-то не могла хорошенько понять.
– Но он не в опасности, доктор? – спросила я чуть ли не шутя, так мне казалось невероятным, что мой Филипп, еще накануне совсем здоровый, может быть серьезно болен. Мой тон удивил его.
– Воспаление легких всегда опасно. Высказываться еще преждевременно.
Потом он объяснил мне, что делать.
О последующих днях я почти ничего не помню; я оказалась внезапно ввергнутой в ту таинственную, ту замкнутую обстановку, какая порождается болезнью. Я ухаживала за Филиппом, стараясь быть как можно деятельнее, потому что мне казалось, что настойчивость и старания преодолеют загадочную, грозную опасность. Когда мне уже больше нечего бывало делать, я сидела в белом халате у его постели, смотрела на него и пыталась взглядом передать ему частицу своих сил.
Долгое время он меня узнавал; он был так слаб, что не мог говорить, и только глазами благодарил меня. Потом начался бред. На третий день я пережила особенно страшные минуты: ему померещилось, будто я – Соланж. Вдруг, среди ночи, он заговорил со мной, делая страшные усилия.
– Вот как! Вы пришли, милая Соланж, – говорил он мне, – я так и знал, что вы придете. Это очень мило.
Он произносил слова с большим трудом и смотрел на меня нежно и безнадежно.
– Милая Соланж, поцелуйте меня, – прошептал он, – теперь можно, я очень, очень болен.
Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я склонилась к нему, и, целуя меня, он поцеловал Соланж.
О, как охотно, от всего сердца, я отдала бы тебе Соланж, если бы знала, что ее любовь может тебя спасти! Думаю, что если я любила когда-нибудь совершенной любовью, то именно в эти минуты, ибо тогда я от всего отреклась, я существовала только ради тебя. Пока длился бред, свекрови несколько раз пришлось быть свидетельницей того, как Филипп говорит о Соланж; ни разу во мне не шевельнулось возмущение и чувство оскорбленного самолюбия. Я думала одно: «Только бы он жил, Боже мой, только бы жил!»
На пятый день у меня мелькнула надежда; утром я поставила ему градусник, температура снизилась. Но когда приехал доктор и я сказала ему: «Наконец-то стало получше, сегодня только тридцать восемь», я сразу заметила, что он помрачнел. Доктор осмотрел Филиппа; он находился в почти бесчувственном состоянии.
– Так что же?.. – робко спросила я, когда доктор встал. – Ему не лучше?
Он вздохнул и посмотрел на меня с грустью.
– Нет, – ответил он, – наоборот. Мне такое резкое падение температуры не нравится. Это улучшение мнимое… Это дурной признак.
– Но не признак конца? Доктор промолчал.
В тот же вечер жар снова усилился, черты лица Филиппа страшно исказились. Теперь я знала, что он умрет. Сидя возле него, я взяла его пылающую руку; он, видимо, не почувствовал этого. Я думала: «Значит, ты покинешь меня, дорогой мой!» И я пробовала представить себе эту невообразимую вещь: жизнь без Филиппа. «Боже мой! – думала я. – И я могла ревновать! Ему оставалось жить всего лишь несколько месяцев, а я…»
Тут я дала себе клятву: если чудом Филипп останется в живых, я ни о чем ином не буду думать, как только о его счастье.
В полночь свекровь хотела меня сменить; в ответ я решительно покачала головой: не надо. Говорить я не могла. Я по-прежнему держала в руке руку Филиппа; она покрывалась липким потом. Он дышал с таким трудом, что у меня разрывалось сердце. Вдруг он открыл глаза и сказал:
– Изабелла, мне душно; я, кажется, умираю.
Эти несколько слов он произнес совсем ясным голосом, но тут же снова впал в забытье. Его мать обняла меня за плечи и поцеловала. Пульс, который я нащупывала, все слабел. В шесть часов утра приехал доктор; он сделал укол, и это несколько подкрепило его силы. В семь часов Филипп, не приходя в сознание, испустил последний вздох. Мать закрыла ему глаза. Мне припомнилась фраза, написанная им в связи с кончиной его отца: «Неужели в роковой день я окажусь один перед лицом смерти? Мне хочется, чтобы это случилось как можно раньше».
Это случилось очень рано, Филипп, – как тебе и хотелось, и это грустно, дорогой мой, любимый. Мне кажется, что, если бы мне удалось сохранить тебя, я знала бы, как дать тебе счастье. Но наши судьбы и наша воля почти всегда действуют невпопад.
1
Псевдоним французского философа и писателя Эмиля Шартье (1868–1951). Ален в течение более тридцати лет (с 1906 г.) почти еженедельно печатал в газетах небольшие статьи («Суждения»), посвященные различным проблемам морали, философии, литературы, текущей жизни. В предисловии к сборнику «Суждений» (изд. «La Pleiade») Андре Моруа говорит: «Вот, по моему мнению, одна из прекраснейших книг в мире. Я ставлю ее в один ряд с сочинениями Монтеня и Монтескье». – Здесь и далее примечания переводчика.
2
Стесихор – греческий поэт-лирик (VI век до н. э.). Палинодия (греч.) – опровержение тою, что было сказано раньше, отказ от прежних своих мнений и чувств.
3
Госпожа де Морсоф – героиня романа Бальзака «Лилия долины», госпожа де Реналь – героиня романа Стендаля «Красное и черное»; авторы изобразили их как глубоко и искренне любящих женщин.
4
Храм во Флоренции, построенный в XVI веке и украшенный работами Микеланджело, Брунеллески, Верроккьо, Донателло и др.
5
«Розовая библиотека» – популярная в свое время серия детских книг, издававшаяся во Франции в конце XIX – начале XX века.
6
Камилла и Мадлен – героини детской повести графини де Сегюр (урожденной Ростопчиной) «Примерные девочки» (1858).
7
Извозчики (итал.).
8
«Римская премия» – награда, учрежденная во Франции для оканчивающих художественные учебные заведения с отличием. Лауреатам «Римской премии» предоставляется годичная командировка в Рим для совершенствования в своем искусстве.
9
Курорт на юге Франции, около Байонны.
10
«Доминик» – психологический роман французского художника, писателя и историка искусства Эжена Фромантена (1863).
11
«Подражание» – точнее: «Подражание Христу», духовное сочинение, приписываемое Фоме Кемпийскому (1379–1471).
12
Городок в 40 километрах к северу от Парижа, с замком эпохи Возрождения; в конце прошлого века замок превращен в музей.
13
Освободившись от любви к жизни,
Освободившись от надежды и страха,
Мы воздаем краткое благодарение
Богам – какие бы они ни были —
За то, что ничья жизнь не длится вечно,
За то, что мертвые никогда не выходят из могил,
За то, что даже самая усталая река
В конце концов достигает моря (англ.).
14
Кристаллизация любви – термин, введенный Стендалем в его книге «О любви»; под кристаллизацией Стендаль подразумевает тот момент, когда человек осознает свое чувство.
15
Город в Египте, на берегу Средиземного моря. В морском сражении при Абукире (1798) Нельсон разбил французский флот.
16
Вилла Саид – улица в Париже, около Булонского леса. Здесь, в особняке, купленном в 1894 году, Анатоль Франс прожил около двадцати лет.
17
Брест – военный порт на берегу Атлантического океана, в Бретани.
18
Вобан, Себастьен (1633–1707) – маршал, военный инженер; содействовал укреплению границ Франции, в частности усовершенствовал военный порт Брест.
19
Бельмон – город в департаменте Аверон, соседнем с департаментом Лозер.
20
Дорогая синьора (итал.).
21
Валгалла (сканд. миф.) – чертог, где блаженствуют герои, павшие в сражении.
22
Так арабы называют христиан.
23
Роман французского писателя Пьера Бенуа (1918).
24
Кардинал де Ретц (1613–1679) – один из главарей «фронды» – восстания, организованного феодальной знатью против абсолютизма; автор известных «Мемуаров».
25
Макиавелли, Никколо (1469–1527) – итальянский историк и политический деятель, автор трактата «Государь» (1513).
26
Лукреция Борджа (1480–1519) – дочь папы Александра VI, прославившаяся не только своей красотой, но и распущенностью.
27
Гермиона – героиня трагедии Расина «Андромаха» (1667); девушка, неистовая в своей любви и ревности.
28
«Силуэт женщины», «Второй силуэт женщины», «Тайна княгини де Кадиньян» – повести Бальзака.
29
Отфор, Мари (1616–1691) – фрейлина королевы Анны Австрийской; была другом Людовика XIII.
30
Бирон, Шарль (1562–1602) – французский маршал, изменил родине и был казнен/
31
Брантом, Пьер де Бурдель (1540–1614) – писатель, мемуарист, автор «Жизнеописаний великих мужей и полководцев» и «Биографий галантных дам».