Книга: После любви

После любви
Все события, описанные в романе, вымышлены, сходство с реальными людьми случайно, но это не означает, что подобного не могло произойти и не происходит в действительности.
***
…Смысла в этом не больше, чем в футболках с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо».
По полтора доллара за штуку.
Надев такую футболку, ты наверняка не станешь Рональдо. И уж тем более не станешь Рональдиньо, но футболки все надеваются и надеваются. Десятки Рональдо и десятки Рональдиньо мелькают у меня перед глазами каждую ночь.
Десятки Рональдо и Рональдиньо играют в футбол. На пляже, освещенном прожекторами. Это – не пляжный футбол, как можно было бы предположить. В самом термине «пляжный футбол» есть нечто оскорбительное. Нечто расслабленное, женственное, с таким футболом состояния не наживешь. Чистая любительщина, кружок художественной самодеятельности, да и только. Хотя Доминик утверждает, что пляжный футбол вроде бы внесли в список олимпийских видов спорта.
На мое отношение к пляжному футболу это никак не повлияло.
А десятки Рональдо и Рональдиньо все играют в футбол. Играют и играют. Каждую ночь. На пляже, освещенном прожекторами. Их футбол жесток, как жестока любая несбыточная мечта. Никому из надевших полуторадолларовую футболку не стать Рональдо. И тем более – Рональдиньо. Никому из них не вырваться из этого маленького городишки с большими волнами.
Но и остальной мир не лучше.
Они не знают об этом. И никогда не узнают. Они не знают. Я – знаю.
Этот маленький городишко и есть лучшее место на земле.
Хотя Доминик утверждает, что атлантическое побережье Португалии намного комфортнее атлантического побережья Марокко. Вроде бы.
На мое отношение ко всему остальному миру это никак не повлияло.
Днем футболистов сменяют серферы.
Их десятки, но ни Рональдо, ни Рональдиньо среди них нет. Среди них нет ни Шумахера, ни Майкла Джордана – ни одного имени, ни одного брэнда, чей чих стоит миллионы, а заноза в пальце – десятки миллионов. Но ведь и серфинг не так популярен, как футбол, баскетбол или Формула-1.
Бросовое занятие, так утверждает Доминик.
Мнение Доминика – последнее, идущее в списке за мнением тушканчика и мускусной крысы, кто будет прислушиваться к мнению Доминика? К тому же Доминик боится воды.
Он боится исламских фундаменталистов, русской мафии, глобального потепления, поломок кондиционера, приливов, отливов, электромагнитных излучений от мобильников и микроволновок; он боится застрять в лифте, стать жертвой карманника; даже в такси Доминик не садится, опасаясь, что у него откажут тормоза.
По Эс-Суэйре, маленькому городишке с большими волнами, Доминик передвигается пешком. Я нежно люблю Доминика.
Я нежно люблю отель Доминика.
Не потому, что он называется «Sous Le del de Paris» (я никогда не была в Париже), – потому, что другого дома у меня нет.
Вот уже три года я живу в отеле Доминика, я такая же его достопримечательность, как и доски для серфинга, которые Доминик расписывает вручную. С той лишь разницей, что (в отличие от досок для серфинга) я не сдаюсь в прокат.
Сдаться в прокат – этого бы мне хотелось больше всего. Сдаться.
Отправиться на ужин с кем-нибудь из серферов. Несерьезных мужиков с серьезными намерениями. Смотреть на их жесткие пальцы, жесткие волосы, жесткие солнечные морщины – смотреть и улыбаться. Их шуткам, вырезанным из жести, их комплиментам, зыбким и двусмысленным, как песок: на таком песке в футбол не поиграешь.
Но ужинаю я, как правило, с Домиником.
На террасе второго этажа, отсюда хорошо просматривается океан. И пляж, залитый светом прожекторов, и десятки Рональдо, и десятки Рональдиньо. Пейзаж неизменен, как неизменны ветра Эс-Суэйры. Они меняют лишь направление.
Доминик читает «Фигаро» и рассуждает о том, что хорошо бы съездить в Марракеш. Конец света – еще одна тема, которая живо волнует Доминика.
Для меня конец света уже наступил.
Но я не особо распространяюсь об этом, я полна внимания к бредням Доминика, таким же неизменным, как пейзаж, открывающийся с террасы. Таким же неизменным, как ветра. Ветра приносят песок и соленые морские брызги: маленькие неудобства, их можно считать приправой к нашим ужинам. К мечтам первого порядка: о Марракеше, о Касабланке, о Рабате.
Мечты второго порядка: Франция, благословенная Франция, как восклицает Доминик, блаженно закатывая глаза. Хорошо бы когда-нибудь побывать во Франции, сойти на землю исторической родины, кажется, так выражаются русские, Сашá?..
Сашá – называет меня Доминик. С характерным ударением на последнем слоге: Сашá Гитри, Сашá Дистель – явления того же порядка. Доминик без ума от песенок Sacha Distel, срок их годности вышел лет двадцать назад, Доминик еще не знает об этом.
Я – знаю.
Ты будешь прелестной старушкой, говорит Доминик, charmante petite vieille1. Это можно отнести к мечтам третьего порядка: стареть вместе. Мы не любовники и никогда не были любовниками, и вряд ли станем любовниками, оттого именно эта мечта Доминика кажется мне легко выполнимой. Я так же, как и Доминик, надеюсь встретить старость в Эс-Суэйре, и ничто не может помешать мне. Ничто, кроме смерти. Но думать о смерти в тридцать лет смешно. Смерть актуальна для двадцатилетних, все остальное человечество она волнует не больше, чем таяние айсбергов в Антарктиде, даже Доминик с его карликовыми страхами не исключение.
Надо бы расширить отель, говорит Доминик. Прибавить к двадцати семи номерам еще как минимум пятнадцать, как тебе такая мысль, Сашá?
Я отношусь к этому спокойно, никаких пятнадцати номеров не будет. Ни завтра, ни через год, ни еще через тридцать лет, когда я постарею и превращусь в charmante petite vieille. Номер, который я занимаю в отеле Доминика, носит порядковый номер 27. Ровно столько мне было, когда я впервые появилась в Эс-Суэйре: в полной уверенности, что конец света уже наступил.
Спасаясь от него, я могла бы улететь в Перу или на Мальдивы, но туристическая компания, в которой я тогда подвизалась, не обслуживала ни Перу, ни Мальдивы. Крошечная Европа показалась мне ненадежным укрытием, спрятаться в Европе – все равно что спрятаться в пустой комнате; моя неизжитая Vamour все равно меня найдет. Вот если бы нас разделяло море, а лучше – океан!.. Марокко – вот и все, что мне сумели предложить. Что ж, пусть будет Марокко, решила я.
Пусть.
Встречать чартеры два раза в месяц совсем необременительно. Иногда временной промежуток между ними увеличивался до месяца, как теперь обстоят дела с русскими чартерами, я не знаю. Работу в компании я потеряла спустя полгода, и если бы не Доминик…
Доминик.
Трусоватый, лысеющий со лба ангел-хранитель – вот что такое Доминик. В брюхе Доминика легко уместился бы небольшой отряд морских пехотинцев, поросль на его груди постоянно присыпана крошками – табачными, хлебными; от подмышек Доминика тянет псиной, от бейсболке Доминика тянет козлятиной, и все же я нежно люблю Доминика. Он единственный принял во мне участие, он предоставил мне номер 27 в вечное пользование. У Доминика я получаю жалованье: такое же, как и немногочисленный штат отеля, не больше и не меньше. Да и характер моей работы не изменился: я по-прежнему забираю туристов из аэропорта, русских среди них нет. Французы, бельгийцы, иногда – канадцы, несерьезные мужики с серьезными намерениями. Они отягощены подружками, но чаще – досками для серфинга, доски и весь остальной багаж забрасываются на крышу маленького автобуса. Автобус тоже принадлежит Доминику, и, перекинувшись парой фраз с серферами, я сажусь за руль. Французов и бельгийцев это забавляет, канадцы относятся к путешествию с женщиной-шофером настороженно. В любом случае выбора у них нет. После двух с половиной (а иногда и трехе половиной) часов утомительного горного серпантина я непременно получаю приглашение на ужин. Напрасный труд, ужинаю я с Домиником. Для серферов я потеряна безвозвратно. То же можно сказать о футболистах в майках «Рональдо» и «Рональдиньо», о торговцах орешками, о торговцах коврами, о торговцах поддельным берберским серебром, теперь в моей жизни есть лишь один мужчина.
Доминик.
Доминик не клеится ко мне, он не клеился ко мне и в самом начале нашего знакомства, что способствует этому больше – ангельские крылья или вонючая бейсболка? А может быть, все дело в извечной трусости Доминика? Трусость делает его почти провидцем, в контексте Доминика у нее возникает масса других, куда более приятных синонимов: деликатность, сочувствие, сострадание, осторожная симпатия. Да, именно так: осторожная симпатия.
Доминик привязан ко мне, Доминик остро во мне нуждается, ежедневные свежесрезанные цветы в номере – это тоже Доминик. И все же он не выходит за рамки осторожной симпатии. Мое прошлое страшит его не меньше, чем поломка кондиционера. Что думает о моем прошлом Доминик? Мое прошлое – l'amour2? Мое прошлое – le merde3? На прямой вопрос Доминик не решится и через тридцать лет, когда я стану charmante petite vieille. Жаль, что я поняла это слишком поздно. И мне придется приберечь ответ для кого-нибудь другого, не такого трусливого.
Мое прошлое – любовь.
Мое прошлое – дерьмо.
Любовь и дерьмо пребывают в нем в восхитительном, почти сакральном симбиозе. Любовь и дерьмо, дерьмо и любовь, любовь – дерьмо; стоит тебе поставить между любовью и дерьмом знак равенства – и конец света обеспечен.
Трусишке Доминику лучше не знать об этом.
И мечтать о Марракеше, о Касабланке, о Рабате. И черт с ней, с благословенной Францией, исторической родиной, на которой Доминик никогда не был. Как не были его отец и, возможно, дед и прадед. Род Доминика пустил корни в Эс-Суэйре задолго до появления межатлантических рейсов «Эйр Франс», нижние ветви его генеалогического дерева пошли на изготовление мачт корсарских бригов, средние – на балки и перекрытия отеля «Sous Le del de Paris», а нелепая худосочная верхушка – и есть Доминик.
Назвать ее кроной язык не повернется.
И все же я нежно люблю Доминика.
Его французский похож на мой собственный французский, неправильный, не размножающийся в неволе французский. С той лишь разницей, что бреши в нем Доминик частенько затыкает арабскими, а я – русскими словами.
Все еще – русскими.
Le merde.
Дерьмо.
Это может относиться к чему угодно: к утренним туманам, к ценам на бензин, к пропаже пепельницы из пятнадцатого номера (пепельницы из него исчезают регулярно), к интерьеру виллы Алена Делона в одном из предместий Марракеша (Доминик набрел на фото интерьера в каком-то журнале), к постоянно дующим ветрам.
Тут мы с Домиником расходимся.
Ветра – вовсе не le merde, как полагает Доминик. Ветра – лучшее, что есть в Эс-Суэйре. Переменчивые, прихотливые, всегда влажные ветра навеки приковали меня к маленькому городишке с большими волнами. Вышибить из башки l'amour которая и есть le merde, им не удалось, но во всем остальном они выше всяких похвал. И что-то подсказывает мне: благодаря им я никогда не постарею, история «прелестной маленькой старушкой» обойдет меня стороной. Ветра Эс-Суэйры сдуют с лица любой намек на морщины, а губы так и останутся обветренными, упругими и солоноватыми. Точно такими же, какими они были в тот день, когда я встретила l'amour.
Ветра Эс-Суэйры возвращают меня в него – снова и снова.
Только теперь, по прошествии трех лет, я поняла высший смысл своего побега в Марокко: я здесь не для того, чтобы забыть все, нет. Я здесь для того, чтобы помнить. Не то, что было потом, когда l'amour превратилась в le merde, а то, что было в тот первый день.
Воспоминание о счастье. Не больше и не меньше.
Мое воспоминание о счастье – Эс-Суэйра – всегда под рукой.
«Ты странная», – сказал мне однажды (лишь однажды!) Доминик. Мы напились, без всякого повода; мы напились, хотя до очередного Дня перемирия в Первой мировой войне оставалась ровно неделя. Вот тогда-то из брюха Доминика и полезли морские пехотинцы, один за другим. Крепкие парни, совсем не трусливые, и на осторожную симпатию им было плевать, учинить допрос – вот чего они жаждали.
– Ты странная, Сашá.
– Почему же, Доминик?
– Тебе никто не пишет. Никто к тебе не приезжает. Ты ни разу ни с кем не говорила по телефону. И ты не выглядишь тоскующей по родине. А русские всегда тоскуют по родине, я знаю.
Что ты можешь знать, Доминик? Ты не был ни в Марракеше, ни в Касабланке, ни в Рабате, о благословенной Франции и говорить не приходится. Да что там Франция, даже до Аэропорта тебе не добраться. Ведь для этого придется сесть в машину или в твой дурацкий автобус и целых два с половиной часа трястись по утомительному горному серпантину. Это выше твоих сил, трусишка Доминик.
– Может быть, ты – не русская, Сашá?
– Ты же видел мой паспорт, Доминик.
– Да, но…
Чернокожий громила-сержант, вот в кого превращается Доминик. И стоит только ему почесать переносицу, как летучий отряд морских пехотинцев безропотно отправляется обратно в брюхо. Никаких допросов больше не будет, несмотря на выпитое.
– Тебе не нравится, как я работаю?
– Ты отлично работаешь.
– Может быть, мне пора освобождать номер?
– Что ты! Он твой, ты же знаешь!
– Кстати, вчера в двадцать первом сломался кондиционер, – добиваю я Доминика.
– Дерьмо!..
– Его уже починили.
– Ты прелесть, Сашá! Без тебя бы я пропал!
– Интересно, как шли дела до того, как я здесь появилась?
– Из рук вон, Сашá! Из рук вон!
Это почти правда. Отель ветшает, Доминик не слишком рачительный хозяин. Тем, кто хотел бы получить здесь полный пакет услуг, ловить нечего. Вся надежда на неприхотливых серферов, для них Доминик расписывает доски. Этому занятию посвящено свободное время Доминика. И несвободное тоже. Он – отличный художник, и если бы не трусость, мог бы сделать карьеру именно как художник. Но для этого ему пришлось бы отправиться в Европу и показать доски кому-нибудь из специалистов или ждать, пока такой специалист появится в Эс-Суэйре. И то и другое – из разряда «один шанс на миллион», и простой арифметический подсчет подсказывает, что ждать Доминику придется долго. Я – гораздо деятельнее Доминика и могла бы (в порядке дружеской помощи) сама поискать специалистов; тогда отъезда из Эс-Суэйры не избежать. А покинуть Эс-Суэйру означает снова лицом к лицу столкнуться с концом света.
Переживать его заново у меня нет никакого желания.
И все же я чувствую ответственность за Доминика, вот почему два месяца назад я написала письмо Алексу Гринблату, знаменитому галеристу и теоретику современного искусства. О его существовании я узнала совершенно неожиданно, из того же журнала, в котором были помещены фотографии виллы Алена Делона в одном из предместий Марракеша. Там же имелась сноска на адреса гринблатовских контор. В Лондоне, Париже и Нью-Йорке.
Я остановилась на парижской, потому и письмо было написано по-французски, хотя более расплывчато-космополитичного имени, чем «Алекс Гринблат», и придумать нельзя. Во всяком случае, несомненно одно: Алекс Гринблат – не араб.
К письму были приложены семь фотографий семи досок, расписанных Домиником. Виды рыбного рынка Эс-Суэйры, виды Доминика на Марракеш, Касабланку, Рабат. Оставшиеся три доски – плоды воображения Доминика: женщины, которых он никогда не знал, вещи, которых он никогда не касался, чувства, которые он никогда не испытывал. Все заключено в непроницаемую оболочку из водостойких красок (рецепт их приготовления – ноу-хау Доминика), все мерцает, светится внутренним светом и дразнит неопытные души. Опытные, впрочем, тоже. Плоды воображения моего трусливого друга нравятся мне больше всего. Кой черт, «нравятся»! – я готова сожрать их, откусить по внушительному куску от каждого и потом долго наслаждаться послевкусием. Послевкусие – вот что важно во всем, что делает Доминик, вот что ценно.
Только конченый серфер может попирать это ногами. Что они и делают с разной степенью мастерства.
Никогда, никогда я не приму приглашения на ужин ни от одного из них!..
Ответа от Алекса Гринблата нет и нет.
Поначалу я развлекаю себя тем, что живописую нашу с Гринблатом встречу. В красках, подсмотренных у Доминика.
Алекс Гринблат видится мне поджарым, сильно загорелым мужчиной лет тридцати пяти или около того. Он свободно говорит на нескольких языках и также свободно перемещается по миру, государственных границ для него не существует. Плоды воображения имеют для него такую же ценность, как и для меня, если не большую. Да-да, несомненно, – большую! Ведь Алекс Гринблат – профессионал, открывающий миру новые таланты, то есть человек с совершенно особым зрением. Не исключено, что и глаза его выглядят как-то иначе, чем у других людей. Возможные варианты:
– зрачки вечно сужены, как у египетской кошки;
– зрачки вечно расширены, как у кошки породы камышовый пойнт;
– со зрачками все в порядке, но на радужной оболочке легко просматривается эскиз к ван-гоговским «Виноградникам в Арле».
И, наконец, последний, самый правдоподобный, вариант:
– у него чертовски красивые глаза.
Как бы то ни было, даже чертовски красивые глаза не могут оправдать молчание Алекса Гринблата. И по мере того, как оно затягивается, меняется и облик «теоретика современного искусства». Алексу Гринблату больше не тридцать пять, по меньшей мере – полтинник. Поджарый, сильно загорелый – ха-ха! эта история совсем не про тебя, Алекс Гринблат! Твоему брюху позавидовал бы и простак Доминик; складки жира на шее, омерзительная плешь, кислотой разъедающая череп. Тонкие губы или – напротив – слишком толстые, мокрые, сложенные в скобку. Губы и плешь выдают тебя с головой, сраного мистификатора. То, чем ты занимаешься, – сраная мистификация, не больше и не меньше. Легко представить, что ты втюхиваешь яйцеголовым снобам подвидом современного искусства. Мазню, вот что! Энди Уорхол forever сказал бы Доминик, если бы знал, кто такой Энди Уорхол. Он не знает.
Я – знаю.
Я знаю и много чего другого, но эти знания неприменимы к Эс-Суэйре. И поэтому я люблю ее еще больше, я довольна Эс-Суэйрой так же, как Эс-Суэйра довольна мной. Алекс Гринблат и яйцеголовые снобы пребывают в схожем экстатическом единстве, разночтения вызывает лишь сумма за очередную концептуальную мазню. Алекс Гринблат норовит завысить планку, снобы – занизить, чтоб ты сгорел, Алекс Гринблат!..
Сраный мистификатор, торговец тухлятиной, записной мудак!
Le inerde.
Эта мысль успокаивает меня, я больше не жду ответа от Алекса Гринблата.
Я больше не думаю о нем.
Но в один прекрасный вечер Алекс Гринблат сам напоминает о себе.
Это мог быть и другой вечер, все вечера в Эс-Суэйре одинаково прекрасны, но именно тем вечером я отправляюсь в аэропорт с табличкой «JWONTAGNARD».
«Montagnard» – карликовая фирма, одна из нескольких карликовых фирм, все еще сотрудничающих с отелем Доминика. Идиотов, которые пользуются услугами «Montagnard», наберется не больше двух десятков, в основном это мелкие клерки, владельцы стареньких мопедов, отставные спортсмены с вечными жалобами на мениск или студентики, бурно переживающие любовную драму. Французы, бельгийцы, иногда – канадцы.
В аэропорту я нахожу шестерых, они прибиваются к моей табличке, щерят зубы в одинаковых улыбках: о-lа-lа, mademoiselle, так это вы будете сопровождать нас? правда ли, что здесь сильные ветра? правда ли, что здесь не очень жарко? жары хотелось бы избежать, а волны? правда ли, что здесь лучшие в Морокко волны? (волны интересуют отставных спортсменов, следовательно: двое из шести – отставные спортсмены, судя по въевшемуся в кожу бледному загару – горнолыжники, нытье и стенания по поводу мениска обеспечены).
Досок для серфинга ни у кого из шестерых нет.
Три пластиковых чемодана на колесиках, две спортивные сумки «Athens-2004» и один рюкзак – вот и весь багаж невинных жертв «Montagnard», он легко помещается в салоне автобуса. Горнолыжники с испугом наблюдают, как я занимаю место за рулем, остальные четверо отделываются традиционным «o-la-la, mademoiselle!», вот только энтузиазма и жизнерадостности в голосах явно поубавилось. Мы уже готовы тронуться в путь, когда появляется седьмой.
Седьмой.
Поджарый, сильно загорелый мужчина лет тридцати пяти. Горнолыжником его не назовешь, клиентом дешевенькой «Montagnard» – тоже. Это – vip-персона, ее должен встречать как минимум лимузин (если, конечно, свой лимузин она не возит с собой) и эскорт мотоциклистов. Или вертолет, вертолетная площадка находится неподалеку от терминала.
Vip-персона облачена в тошнотворно дорогой, шитый явно на заказ костюм, кожаные туфли сияют мертвенным блеском. Фотографии таких типов можно отыскать на обложках журналов, подпись под ними гласит: «ЧЕЛОВЕК, СПАСШИЙ ОТ ДЕФОЛТА ЭКОНОМИКУ ПАРАГВАЯ». Да-да, рубрика «Спасители мира» подходит им больше всего, они с легкостью приручают премьер-министров крохотных островных государств, вице-президентов транснациональных корпораций и собак экзотических пород. Лишь с кошками отношения не складываются.
Кошек им ни за что не проглотить.
Но в качестве утешительного приза остаются фотомодели. Такие типы или женаты на фотомоделях, или собираются жениться на фотомоделях, или находятся в состоянии бракоразводного процесса с фотомоделями. Глядя на седьмого, можно предположить как раз второй или третий варианты: обручального кольца у него на пальце нет.
Чемодана на колесиках тоже. И спортивной сумки. И рюкзака. И доски для серфинга. Только небольшой саквояж, с ним удобно спасать мир, в нем нет ничего лишнего. За три года я перевидала тонны багажа, этот – самый оптимальный.
– Погодите, – говорит седьмой, когда мы уже готовы тронуться в путь.
Он стоит метрах в трех от автобуса (при этом дверцы автобуса уже захлопнуты), он не повышает голоса, и все же, все же… Голос проникает в салон, обволакивает горнолыжников и еще четверых, он – везде. Хорошо поставленный, не терпящий никаких возражений голос. Этим голосом хорошо отдавать команду к запуску крылатых ракет, объявление Третьей мировой тоже бы сгодилось, только меня тебе не проглотить, cherami.
Ни за что.
Дверцы автобуса я не распахиваю.
Похоже, седьмого это не смущает. Он не считает ниже своего достоинства обойти автобус и остановиться напротив водительского места. На лице его играет доброжелательная улыбка, определить ее стоимость затруднительно. Сто тысяч долларов? Двести?..
– Привет, – скалится седьмой. – Вы не подбросите меня до Эс-Суэйры?
Звучит вполне демократично, эта фраза подошла бы любому из путешествующих автостопом, она легко вынимается из заднего кармана залатанных джинсов и так же легко приколачивается к физиономии; vip-персона не сделала мне ничего дурного, почему я испытываю к ней чувство острой неприязни?
Классовая ненависть, так будет вернее.
– Это не рейсовый автобус, – отрезаю я. Улыбка седьмого становится еще ослепительнее.
– У вас на лобовом стекле написано «Эс-Суэйра».
– И что?
– Мне бы хотелось туда попасть.
Я тщетно ищу в лице vip-персоны хотя бы один изъян, это позволило бы мне отнестись к ней если не с симпатией, то хотя бы с пониманием. Но ни одного изъяна не обнаруживается, корпоративные психологические тренинги не прошли даром, я даже подозреваю, что vip-персона сама их и разрабатывает. Безупречный нос, столь же безупречная линия рта, натренированные длительным восхождением по карьерной лестнице лицевые мышцы. И глаза.
Чертовски красивые глаза.
Глаза приводят меня в ярость.
– Так я могу войти в салон?
Вместо ответа я вытаскиваю табличку «MONTAGNARD» (о, трижды благословенный «Montagnard»!) и стучу по ней ладонью.
– Мы обслуживаем туристов, воспользовавшихся услугами этой фирмы.
– Вы лично?
– И я… в частности.
– Значит, в Эс-Суэйру я не попадаю?
– Нет. Во всяком случае, на моем автобусе.
– Но у вас в салоне полно мест, – вполне резонно замечает vip-персона.
– Это ничего не меняет.
Меняет, и еще как! Из «o-la-la, mademoiselle» я превращаюсь в упрямую дуру. Стерву, со смаком пользующуюся своим служебным положением, вздорную бабенку и, наконец, просто в истеричку с предменструальным синдромом. Я больше не восседаю на водительском кресле, я стою на сцене, почти голая, освещенная прожекторами. Я полностью провалила роль, и теперь любой, сидящий в зале, может швырнуть в меня яйцом или пакетиком с майонезом, или потребовать вернуть деньги за билет. Яйцо или пакетик с майонезом, да. Горнолыжники точно не промахнутся. Вот и сейчас один из них говорит мне:
– Какие-то проблемы? Почему мы не можем взять этого парня?
– Я не беру кого ни попадя, – отрезаю я. – Это не Европа.
«ЭТО НЕ ЕВРОПА» – убийственный аргумент. Это – не Европа, следовательно, никто не может быть в безопасности. Но безопасности нет и в самой Европе. Хотя я и не читаю газет, но ужины с Домиником оказали свое тлетворное влияние. Я в курсе, что в мире сейчас неспокойно, взрывы гремят повсюду, число невинных жертв растет. Марокко – спокойная страна, может быть – самая спокойная из всех стран; толерантная, как любят выражаться сами европейцы, и сейчас я в некотором роде предаю землю, приютившую меня. И все из-за сукина сына с чертовски красивыми глазами.
– Вы думаете, у него бомба в саквояже? – голос горнолыжника полон иронии.
– Мы летели с ним в одном самолете, – поддерживает его молодой человек, по виду – студентик, переживающий любовную драму. – И ничего подозрительного не заметили.
Четверо других с готовностью хохочут, я по-прежнему стою на сцене, почти голая, полностью провалившая роль. Дура. Стерва. Истеричка с предменструальным синдромом.
– Ох, уж эти женщины, – резюмирует кто-то. – Если кого и стоит опасаться, то только их.
Мы проплываем мимо vip-персоны, нарочито медленно, издевательски посверкивая фарами. Должно быть, это – первый случай, когда Спасителю мира хоть в чем-то было отказано. Несколько секунд его понурая фигура маячит в зеркале заднего вида, ничего, возьмешь такси, сукин сын!..
Первые полчаса разговор в салоне вертится вокруг бомб, спрятанных в укромных местах (в шутку предлагаются самые невероятные); и вокруг того, как может выглядеть террорист (у всех шестерых на этот счет сходные мнения). К тому же все шестеро, прямо или косвенно, почувствовали на себе отголоски взрывов в Нью-Йорке, Мадриде и Лондоне: один едва не сел в поезд, впоследствии взорванный, еще один оказался на Манхеттене, в квартале от башен-близнецов; еще один получил sms-сообщение от двоюродного брата за несколько мгновений до его гибели; еще один парковал велосипед рядом со взлетевшим на воздух лондонским double-decker и видел, как страшно тот горел, и даже заснял это на камеру в мобильнике. Но самой удручающей оказывается история студентика: его невеста, испанка Мерседес, начинающая танцовщица, как раз таки села в поезд. Тело Мерседес – сладкой, как яблоко, – было настолько изуродовано, что ее с трудом опознали. На опознании студентик не присутствовал: горе от этого не стало меньше.
Заколка и дешевенькое кольцо – вот и все, что осталось в память о ней.
Я жду, что студентик начнет демонстрировать – и заколку, и кольцо; к счастью, все обходится без драматических подробностей. Но и просто рассказа оказывается достаточно: все сочувствуют студентику, меланхолично сопят, вздыхают и ерзают на сиденьях. Гибель возлюбленной не идет ни в какое сравнение ни с sms-сообщением от погибшего кузена, ни с заснятым на камеру пожаром; она прибавляет худосочному невзрачному студентику человеческой значимости, на ренту от трагедии он будет существовать еще долго, может быть – всю оставшуюся жизнь.
Я не знаю – стоит ли ему верить и существовала ли когда-нибудь Мерседес – сладкая, как яблоко? А если и существовала – обратила бы она внимание на этого заморыша? О том же, наверное, думает и горнолыжник, который предложил мне прихватить vip-персону. Скорбные складки у носа выдают в нем неудачника, вечного второго, вот кому бы подошла история с Мерседес. И у скорбных складок появился бы совсем другой подтекст.
Некоторое время в салоне стоит напряженное молчание. После Мерседес никто не решается перевести беседу на более легковесные темы, это выглядело бы кощунственно. Все шестеро мучаются немотой, рты их кажутся зашитыми сапожной дратвой, заклеенными скотчем, заткнутыми кляпом. Бедолаги даже посинели от недостатка воздуха и осознания собственной чуткости. И приверженности христианским нравственным ценностям.
Мне плевать на христианские ценности, вот уже три года я живу в мусульманской стране.
– Кстати, погода сейчас стоит отличная, – говорю я.
Причем здесь – «кстати»? К чему относится «кстати»?
К тому, что такая погода обязательно бы понравилась Мерседес – начинающей танцовщице, сладкой, как яблоко? Уж она-то не стала бы сидеть возле бассейна; именно возле бассейнов целыми днями околачиваются европейские неженки, напрочь забыв, что совсем рядом существует океан. Собственного бассейна в отеле Доминика нет.
– А волны? – спрашивает горнолыжник.
– Волны – выше всяких похвал.
– Отлично. Просто отлично.
– Снаряжение вы можете получить в отеле. Стоит оно недорого.
– И есть куда пойти развлечься? – вклинивается в разговор парень, заснявший на камеру взрыв в double-decker.
– Таких мест полно.
За три года я не посетила ни одного и даже не разжилась сувенирной кружкой «MARRAKECH IMPRESSIONS»,такими кружками торгуют на каждом шагу, все они сделаны в Китае.
– Вы посоветуете самое убойное?
В устах парня это звучит как «splendide».
– Список всех убойных заведений вы тоже найдете в отеле.
– А вас? Где можно найти вас?
Это уже студентик, он сидит прямо за моей спиной, он гораздо ближе ко мне, чем все остальные, и, пользуясь этим, решил подбить клинья – вот паршивец! Так и есть, Мерседес никогда не существовало.
– Я не испанка. И тем более – не танцовщица, – шепотом отвечаю я студентику.
– Вы не поняли…
Не дав студентику договорить, я включаю радио. Сразу несколько радиостанций передают французскую музыку, песенок Sacha Distel в их репертуаре не сыскать.
У себя, в Эс-Суэйре, мы катастрофически отстали от жизни.
– Но вы и не марокканка, – продолжает бубнить студентик.
– Нет.
– У вас странный акцент.
Ненавижу бесплодные дискуссии по поводу моего акцента. Они возникают сразу же, стоит мне только открыть рот, еще ни одна догадка не оказалась верной. Французы, бельгийцы, канадцы строят самые фантастические предположения, как-то были упомянуты даже Лихтенштейн и Черногория. Но о России не заикнулся никто. Я рада этому факту, я и сама предпочла бы не вспоминать о ней, я и не вспоминаю. Россия – миф, убеждаю я себя. Фантом. Такой же, как и Мерседес. Я прижилась в марокканской Эс-Суэйре, но с тем же успехом могла прижиться и в Перу, и на Мальдивах – лишь потому, что они – не Россия. После того как моя l'amour превратилась в le merde – Россия мне противопоказана. Там еще остается пара-тройка моих друзей (при встрече я бы вряд ли их узнала), мама (слишком занятая воспитанием трех моих племянников, чтобы переживать еще и обо мне), крохотная однокомнатная квартирка в Питере и человек, который превращает в le merde все, к чему бы ни прикасался.
Моя любовь не стала исключением.
Черт возьми! Я несправедлива к нему, скорее всего, – несправедлива. Но разве существует справедливость, если речь идет о любви? Я несправедлива не больше, чем он сам «твоя страсть порочна», сказал он мне при расставании, «тебе нужно лечиться и вообще… оставь меня в покое, идиотка!»
Оставь меня в покое, идиотка! – достойный финал.
Курс химиотерапии после такого финала необходим. За ним следует выпадение волос и переоценка ценностей. И то и другое счастливо меня миновало.
Горнолыжника зовут Жюль, его приятеля – Джим, студентик откликается на универсальное имя Мишель, подслушать имена остальных не удалось. Да и какая мне разница, одно я знаю точно: русского, любимого мной, я не услышу. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. И сделаю все, чтобы и впредь не слышать его. Раньше все было совсем по-другому. Даже в мои первые месяцы в Эс-Суэйре все было по-другому. Откуда только не доносилось его имя, части его имени, буквы его имени!..
Рыбный рынок.
Когда-то, во времена деда Доминика, он был намного больше, чем сейчас. Но и нынешний – он в состоянии поразить воображение. Груды сетей (с крупными ячейками, с мелкими ячейками) – в них копошатся многочисленные чайки и немногочисленные женщины в пестрых лохмотьях. Чайки выбирают мелочь, оставшуюся от улова, женщины чинят сети. Разделочные столы расставлены прямо на причалах, в лотках копошатся крабы и сваленные в груду королевские креветки, акульи тела отливают серебристым металликом. Запах сырой рыбы смешивается с запахом жареной во фритюре, дым из самодельных мангалов и грилей поднимается к небу. После обеда рыбаки устраиваются отдыхать здесь же, на сетях, в обществе чаек и моллюсков – самая настоящая сиеста, освещенная (освященная?) жарким послеполуденным солнцем.
Определенно, рыбный рынок лидировал по частоте упоминаний. По их изощренности. Связано ли это с самой рыбой – холодной, безжизненной, ослепительно прекрасной? Связано ли это с чешуйками, остающимися на губах, на пальцах? – и не только там, они появлялись и в местах, защищенных от какого-либо вторжения: на груди, животе, тыльной стороне бедер, там, куда Он любил целовать меня до того, как я стала идиоткой, снедаемой порочной страстью. Отделаться от рыбьей чешуи было непросто, сократить визиты на рыбный рынок – еще сложнее. Особенно после того, как была выявлена эта странная взаимосвязь между поцелуями, бывшими когда-то, и нынешней, вполне свежей и жизнеспособной чешуей. Бывали дни, когда я ходила облепленная ею с головы до ног, даже Доминика это беспокоило. Ты неважно выглядишь, Сашá, говорил в таких случаях Доминик. Ясин, Хасан, Хаким – вот кто ничему не удивлялся, ни о чем не беспокоился. Ясин, Хасан Хаким – рыбаки; у Ясина – лодка с мотором, Хасан и Хаким рыбачат вместе, на крошечном катере и так же синхронно жалуются на то, что рыбы в последние годы стало намного меньше. Ясин не жалуется ни на что, у него я чаще всего и делала покупки. В свои двадцать пять Ясин все еще не женат, Хасан и Хаким считают его полупомешанным. И, видимо, не только они: покупателей у Ясина почти нет, его лодчонку (Ясин торгует прямо с лодки) большинство обходит стороной.
У Ясина дурной глаз, дурной глаз.
И у рыбы, которой торгует Ясин, дурной глаз. Сплетни. Враки. Средневековая дремучесть, для Эс-Суэйры это простительно. И все же в глаза рыбы, которой торгует Ясин, я так и не решилась заглянуть, а уж мне-то точно нечего терять.
Оказывается – есть.
Я думаю об этом всякий раз, когда прошу Ясина выпотрошить рыбу. Ясин с готовностью откликается на просьбу и не берет дополнительной платы, хотя пара-тройка дирхам были бы для него не лишними. Я же откровенно пользуюсь статусом постоянного покупателя; дурацкая блажь, рыбу можно выпотрошить и на кухне Доминика, – а все из-за сплетен и врак, их распускают Хаким и Хасан. В брюхе у рыбы, которой торгует Ясин, что-нибудь да сыщется.
Это – правда. Или почти правда.
Еще ни разу я не уходила от Ясина с пустыми (рыба не в счет) руками. Умилительные мелочи, составившие бы счастье пятилетнего ребенка: бусинки, перышки, стеклянные шарики, рыболовные крючки, позеленевшие монетки – возможно, тех времен, когда Эс-Суэйра была португальским Магадором. А однажды Ясин извлек из рыбьего брюха курительную трубку. Маленькую, но самую настоящую. Трубка осталась у меня, так же, как стеклянные шарики и рыболовные крючки. Мне не хватает духу почистить ее и не хватило духу от нее отказаться. Впрочем, Ясин не принял бы отказа, ведь к тому моменту, как он берется за нож, рыба уже куплена. А следовательно, принадлежит мне со всей требухой, курительные трубки – не исключение.
У меня нет оснований подозревать Ясина в мошенничестве, я внимательно слежу за его руками: ни одно движение не ускользнет от меня, ни одно движение не останется незамеченным. Вздумай Ясин подложить хотя бы перышко, я сразу вывела бы его на чистую воду. Но нет, он просто разрезает рыбу. Просто разрезает – и все. И – о-опс, в его пальцах оказывается курительная трубка. И дело не в том, что именно он извлек сегодня. Дело в том, что он извлечет завтра.
Сплетни и враки, которые распускают Хасан и Хаким, принесли свои плоды. Где-то в глубине моей души зреет уверенность: когда-нибудь Ясин вытащит из рыбьего брюха то, что можно будет посчитать предзнаменованием. Дурным предзнаменованием, потому что ничего хорошего я давно не жду. Пока все ограничивалось мелкими безобидными предметами, меня это устраивает. Вполне.
Мне бы хотелось поговорить с Ясином, но его французский оставляет желать лучшего. Так же, как и мой арабский: двадцать дежурных фраз, на большее я не способна. Остаются интернациональные улыбки, мы обмениваемся ими постоянно. За три года я хорошо изучила все их оттенки, за ними не скрывается ничего, кроме почтительности, дружеского расположения и страха потерять постоянного покупателя. По здравом размышлении, улыбка может предполагать и нечто большее: мужскую заинтересованность, например. Такой заинтересованности робкий холостяк Ясин не проявляет. А о том, что произошло со мной и Ясином три года назад, ни он, ни я предпочитаем не вспоминать.
Тот день.
Тот день, названный мною впоследствии Днем Рыбьей Чешуи.
Он совпадает с моим четвертым визитом на рынок. Третий был предпринят накануне: я уже несколько месяцев в Эс-Суэйре, боль особенно сильна, и одиночество, на которое я сознательно обрекла себя, не делает ее слабее. Поход на рынок – еще один способ отвлечься от нее. Или – напротив – усилить. Но салака, сельдь и ставрида – плохие союзники, если вообще можно считать их союзниками. Вернувшись с рынка, я обнаруживаю прилипшие к губам и пальцам чешуйки. Тело тоже покрыто чешуей: грудь, живот, тыльная сторона бедер. Смыть, содрать ее не представляется возможным.
Что если она так и останется на моей коже?
Как оставалась впоследствии не раз, но тогда это произошло впервые. В крошечной библиотеке Доминика я нахожу потрепанную энциклопедию рыб и, запершись в номере, внимательно изучаю ее. Если уж мне предстоит стать рыбой, хотелось бы знать, какой именно.
Салака, ставрида, сельдь – не самый подходящий вариант.
Может быть, тунец?
За ужином я в шутку обсуждаю свои возможные перспективы с Домиником. В ответ он и произносит: ты неважно выглядишь, Сашá.
Неважно выглядеть еще не означает стать рыбой, но именно это замечание заставляет меня на следующее же утро вернуться к Ясину. Мы улыбаемся друг другу и стараемся из нескольких французских и арабских фраз слепить подобие разговора:
– Я была у вас вчера, – говорю я Ясину. – Я покупала рыбу.
– Я помню, – отвечает он.
– А теперь не могу от нее отделаться.
Причал почти пуст, если не считать катера Хасана и Хакима, пришвартованного метрах в пятидесяти. И чаек, кружащихся в поисках пищи; над лодкой Ясина не видно ни одной. Ясин разводит руками: он не понимает, чего от него хочет белая женщина.
– Губы. Вы видите, какие у меня губы?
Мне не хватает словарного запаса, чтобы объяснить ему: я промучалась всю ночь, пытаясь избавиться от чешуи, стоит прикоснуться к ней – и кожа начинает кровоточить.
Ясин смотрит на меня снизу вверх, широко расставив ноги и покачиваясь вместе с лодкой.
– Идите сюда.
– Куда?
– Спускайтесь.
Я прыгаю в лодку к Ясину, чешуйки – одна к одной – сверкают на солнце, должно быть, со стороны они смотрятся красиво, смотрятся волшебно.
– Что мне с этим делать?
Несколько секунд Ясин рассматривает мое лицо, затем тихо произносит:
– Malheur…
Несчастье, вот как. Французское слово, сказанное арабом, выдает его русскую сущность. Мою русскую сущность – несчастье.
Я несчастна. Со мной случилось несчастье. Спасаясь от него, я бежала в Эс-Суэйру, но покоя нет и здесь. Лучше бы я заразилась герпесом.
Ясин манит меня пальцем. Чтобы добраться до него, приходится приложить усилие: лодка гораздо больше, чем казалась мне с пирса. К тому же она забита рыбой, но характерного запаха я почему-то не чувствую.
Стоит мне приблизиться, подойти вплотную, как Ясин крепко обхватывает мой подбородок и целует меня в губы.
Все происходит так внезапно, что я не успеваю ни возмутиться, ни отшатнуться. Ни ткнуть Ясина в зубы. Но даже если бы успела… Я не стала бы этого делать. Что-то внутри подсказывает мне: в поцелуе молодого рыбака нет ничего оскорбительного. Он – рука помощи, протянутая человеку, с которым случилось несчастье. Вот и все.
Пять секунд – ровно столько времени занимает поцелуй. Ровно столько понадобилось бы официанту со стажем, чтобы смахнуть со стола крошки и перестелить скатерть. Ясин – опытный официант, что он забыл в утлой рыбачьей лодчонке – непонятно.
– Теперь лучше? – спрашивает Ясин.
– Намного.
Я провожу языком по губам: они свободны, осталось выяснить судьбу живота и тыльной стороны бедер. Но и без дополнительных изысканий ясно: с ними тоже все в порядке Мне хотелось бы объясниться с Ясином.
– Как это у вас получилось?
– Меня зовут Ясин, мадам.
Именно тогда он и представился; момент если не торжественный, то хотя бы запоминающийся. Приходится признать: так эффектно со мной не знакомился еще никто.
– Это фокус?
Ясин энергично трясет головой: нет.
– Шутка?
Ясин отделывается взмахом руки: нет.
– Профессиональный трюк?
Ясин дарит мне одну из своих многочисленных болтливых улыбок (впоследствии мне даже удастся классифицировать их): нет.
Ясно, что истины я не добьюсь; не сегодня, не в этот раз.
– Как бы то ни было… Спасибо, Ясин.
– Хотите что-нибудь купить? Профессиональный трюк. Мне хочется думать, что это был профессиональный трюк: не исключено, что именно таким экстравагантным способом хитрый рыбак заманивает в свои сети покупателей. Но для этого нужно, как минимум, договориться с рыбой и рыбьей чешуей. А это уже не трюк, это – самое настоящее… С ходу подобрать слово не удается. Может быть – волшебство?.. Я в Магрибе, не стоит об этом забывать.
– Купить? Пожалуй.
Рыба не нужна мне, после происшедшего глаза бы мои ее не видели, но нужно ли разочаровывать Ясина?
– Возьмите вот эту. Настоящая красавица. Такая же красавица, как вы.
Комплимент более, чем сомнительный. Особенно в свете того, что я произношу через мгновение:
– Вы почистите ее?
– Конечно, мадам. – Ясин нисколько не удивлен.
– И… м-м… удалите внутренности?
– Да.
Ясин с ловкостью вспарывает рыбий живот и извлекает из него первую бусину. Теперь я вспоминаю, что первая бусина была извлечена тем утром. За три года их набралось на несколько комплектов бус, но та бусинка была первой. Темная с едва заметными зеленоватыми прожилками, очаровательная вещица, ничего не скажешь.
– Возьмите, мадам. – Ясин протягивает мне бусинку.
– Зачем? – Неприхотливый подарок из глубин Атлантики почему-то пугает меня.
– Рыба ведь уже ваша. И все, что в ней, – тоже ваше.
– Лучше бы там обнаружилась кредитка, – неуклюже шучу я. – На пару тысяч евро.
Неизвестно, на сколько потянет курительная трубка, но ждать ее придется еще несколько лет. О Ясине же я и теперь знаю не больше, чем в момент нашего поцелуя, да и то – все мои знания сводятся к сплетням и вракам, которые распускают Хаким и Хасан.
Сплетни и враки, составляющие элемент конкурентной борьбы.
Не все в них – неправда.
…Что же заставляет меня обратиться к мыслям о странном рыбаке Ясине сейчас, по дороге из аэропорта в Эс-Суэйру? И дурацкий День Рыбьей Чешуи, и поцелуй, которым он ознаменовался? Во всем этом не больше смысла, чем в футболках с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо» по полтора доллара за штуку.
Или – больше?
Мне нужно увидеться с Ясином. Прихоть и блажь, если учесть, что мы и так видимся с ним довольно часто, и я все так же покупаю у него рыбу. И все так же получаю подарки, составившие бы счастье пятилетнего ребенка. Прихоть и блажь, если учесть, что его французский не улучшился. Так же, как и мой арабский.
И все же – мне нужно увидеться с ним.
Просто потому, что что-то неуловимо изменилось. За последние несколько часов. Это «что-то» меняется и теперь, каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение. И Эс-Суэйра, к которой мы стремительно приближаемся, больше не кажется мне конечным пунктом назначения. Моим собственным конечным пунктом. Я так надеялась на это – и надежды рассыпались во прах.
Неужели всему виной чертовски красивые глаза?..
***
…Жюль и Джим занимают номер семнадцать. Студентику Мишелю достается двадцать первый. Двадцать один – его счастливое число, об этом он сам сообщил мне, когда я попыталась впихнуть его в четырнадцатый. Что ж, двадцать первый тоже свободен, к тому же там совсем недавно починили кондиционер, так что сбоев быть не должно.
Кондиционеры – слабое место отеля Доминика.
Парню, заснявшему на камеру взрыв в double-decker, все равно где остановиться. Его зовут Франсуа Пеллетье. На это имя я и заполняю регистрационную карточку, от руки внося данные в плохо пропечатанный листок – компьютера у нас до сих пор нет.
– Мне все равно, где вы меня поселите, – говорит Франсуа. – Номер тринадцать тоже подойдет.
– В отелях нет тринадцатых номеров.
– Нет?
– Как правило, нет.
– Ваш отель – исключение из правил?
– Не думаю.
– Жаль.
Ему нисколько не жаль, это видно по его жизнерадостной физиономии.
– Можете звать меня Фрэнки.
«Фрэнки» – очень уж по-американски это звучит, а еще говорят, что французы ненавидят все американское по определению. Фрэнки, ха-ха, Фрэнки, с таким именем трахают шлюх в придорожных кемпингах на Среднем Западе и выигрывают у одноруких бандитов фантастическую сумму в тридцать баксов. С Фрэнки проблем не будет, даже если потечет кондиционер.
Фрэнки – симпатяга.
– Вы обещали мне список самых убойных заведений этого городишки.
– Держите.
Я протягиваю ему список, составленный со слов прежних постояльцев; вопрос лишь в том, совпадут ли их вкусы со вкусом продвинутого живчика Фрэнки.
– Только если вы надеетесь обнаружить здесь Лас-Вегас… Или квартал красных фонарей…
– То?..
– Боюсь, мне придется вас разочаровать.
– Вы не можете меня разочаровать. Вы – само очарование.
Это звучит как приглашение посетить придорожный кемпинг на Среднем Западе, из недостатков подобных заведений можно отметить тонкие стены, хлипкие задвижки на дверях и отсутствие горячей воды.
– И, кстати, у вас странный акцент. Вы ведь не марокканка?
– Нет.
– Может быть, Техас? Аризона? Небраска?
Фрэнки так и норовит съехать с автострады к греющим его душу картонным мотелям с вечно живой неоновой вывеской «VACANCY»4.
– Номер семь. Возьмите ключи.
– А дубликаты у вас есть? – интересуется Фрэнки.
– Конечно.
– Если вы когда-нибудь решите воспользоваться дубликатом, я буду рад.
– Когда-нибудь?
– В течение двух недель. Я пробуду здесь две недели.
Не такой уж он симпатяга, как мне показалось вначале.
Не симпатяга, но и не липучка, форсировать события не стал, просто внес предложение и отвалил от стойки. Я смотрю на прямую, лишенную всяких сантиментов спину, на аккуратную практичную задницу: никакой он не Франсуа Пеллетье, он и правда – Фрэнки.
Из двадцати семи номеров заняты (с учетом прибывших шестерых) десять. День, когда мы с Домиником прогорим, гораздо ближе, кажется. «Мы с Домиником» – эта чудесная формула спасала меня до сегодняшнего дня. Ради нее я занимаюсь кондиционерами и кухней, езжу в аэропорт за псевдосерферами и целыми днями торчу на ресэпшене. Но теперь все изменилось. И меняется – каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение.
К чудесной формуле прибавился новый элемент, и одного этого оказалось достаточно, чтобы полностью исказить ее сущность.
Чертовски красивые глаза – что я делаю на проклятом ресэпшене?
Чертовски красивые глаза – что я забыла в проклятой Эс-Суэйре, забытой богом задолго до меня?
Чертовски красивые глаза – мне нужно увидеться с Ясином. Я почти уверена, что одна из его улыбок скажет мне больше, чем говорила до сих пор.
Чертовски красивые глаза – они и сейчас передо мной.
Это – не наваждение, нет.
Чертовски красивые глаза принадлежат vip-персоне, внимательно изучающей меня с противоположной стороны стойки.
– Вы?! – я не верю собственным глазам, совсем не таким красивым. – Что вы здесь делаете?
– Мне пришлось арендовать машину, – сообщает vip-персона вместо приветствия. – Это обошлось недешево.
– Надеюсь, вы не выставите мне счет?
– Нет.
Я начинаю перекладывать бумаги, я щелкаю ручкой, я отодвигаю ящик стола – все эти жалкие ухищрения направлены на то, чтобы не встретиться с чертовски красивыми глазами.
– Чем могу быть полезна?
– Вы уже могли быть полезны, – в голосе vip-персоны нет злости, но и ничего другого тоже нет. Полное безветрие, я чувствую себя застрявшей в складках ледника, без всякой страховки, без всякого снаряжения.
– О'кей. Давайте начнем все сначала.
– О'кей. Давайте попытаемся. Это отель «Sous Le del de Paris»?
– Если верить вывеске – да.
– Свободные места есть?
Отель Доминика (и без того небольшой) съеживается до размеров коробки из-под пиццы с последним черствым куском на дне: он не полезет в глотку даже электромонтеру, даже разносчику овощей – что уж говорить о vip-персоне!
– Свободные места… э-э… свободные места…
– С ними какие-то затруднения?
– Нет. Никаких затруднений нет. Хотя в разгар сезона свободные места отыскать трудно. – Мне важно поддержать престиж отеля Доминика. А заодно – и свой собственный престиж. Остаток ночи уйдет на выяснение причин, почему это так важно. Но ночь еще не наступила.
– Сейчас ведь не разгар сезона?
– Нет. Вам нужен номер с видом?
– Ау вас имеются номера с видом? – vip-персона удивлена, если не сказать – потрясена. – Вообще-то мне нужен просто номер. Любой номер. Желательно – с работающим сливным бачком.
Еще никому не удавалось вот так, походя, оскорбить отель Доминика.
– У нас здесь, конечно, не «Риц» и не «Амбассадор», но на бачки еще никто не жаловался. Второй этаж и вид на океан вас устроит?
– Валяйте второй этаж.
– За океан придется доплатить.
– Сколько?
– Пятьдесят евро.
Vip-персона перегибается через стойку: теперь чертовски красивые глаза приблизились ко мне вплотную, и я могу рассмотреть их. Темные с едва заметными зеленоватыми прожилками, что-то это мне напоминает. Нуда – ту первую бусину, которую выложил передо мной Ясин.
Забавно.
– Дополнительных пятьдесят евро в сутки. За океан, – говорю я.
– А он того стоит, океан?
Океан шумит, не умолкая, – подобно испорченному сливному бачку. Прожекторы горят всю ночь. И десятки Рональдо, гоняющих мяч в свете прожекторов. И десятки Рональдиньо.
– Нет. Он того не стоит.
– Тогда я оставлю пятьдесят евро себе. Давайте ключ.
Полностью раздавленная железной логикой vip-персоны, я отдаю ей ключ от двадцать пятого номера.
И только спустя несколько минут, когда она уже скрылась в недрах отеля, до меня доходит смысл произошедшего:
– я не потрудилась взять у vip-персоны паспорт;
– я не заполнила регистрационную карточку;
– я поселила его в номере рядом с собой.
Последнее обстоятельство пугает меня больше всего. «Воспользоваться служебным положением», вот как это называется. У двадцать пятого номера и номера двадцать семь, который занимаю я, – смежный балкон, разделенный узкой фанерной перегородкой. И дверь в стене, закрытая с незапамятных времен. Но это не означает, что ее невозможно открыть. Просто ключа от нее не существует.
Меня ждет ужин с Домиником.
Я так заинтригована чертовски красивыми глазами, что почти забыла об этом. И мне совсем не хочется есть, мне хочется вернуться к себе в номер.
Не сейчас.
Вернуться сейчас означало бы капитулировать. Признать, что состариться в Эс-Суэйре мне не суждено, что привязанность к Доминику – фантом, что привязанность к отелю Доминика "-ложь, я просто использовала их – и Доминика, и отель; я пережидала время – именно так. В любом случае – был бы другой город, и другой отель, и другой Доминик.
Они ничего не стоят, ровным счетом ничего.
…Ничего не стоящий Доминик ждет меня на террасе. В окружении песка – он летит с океана, в ореоле прожекторов – их. только что включили. Картину дополняют несколько парашютов и несколько воздушных змеев, несмотря на вечер болтающихся в небе. Идиллическая картина сотворения мира по серферу, Доминик здесь нужен так же, как лыжи в пустыне.
–.Привет! – Я улыбаюсь Доминику самой ласковой из своих улыбок. Самой ласковой и самой фальшивой.
– Все в порядке? – интересуется Доминик.
– Все отлично.
– Ты встретила их?
– Да.
– Никого не потеряла по пути?
– Нет.
Доминик не просто изучает меня, как проделывал это неоднократно после моих возвращений из аэропорта, он пожирает меня глазами.
– Кто прибыл на этот раз?
– Шестеро и один, – врать Доминику я не в состоянии.
– Шестеро и один – будет семеро. Значит, прибыли семеро?
– Я предпочла бы именно эту формулировку – «шестеро и один».
Ужин, как обычно, приготовлен Наби; Наби живет при отеле гораздо дольше, чем я, и даже дольше, чем сам Доминик. Отец Наби работал у отца Доминика, так же, как дед Наби работал у деда Доминика, в то время, когда отель еще процветал. Теперь хозяйство пришло в упадок, на деньги, которые платит Доминик, семью не прокормить, так что Наби едва сводит концы с концами. Он мог бы уехать к зажиточным родственникам в Мекнес или отправиться в Агадир, туристический центр, где спецам, подобным Наби, всегда нашлась бы работа. Но Наби не делает этого, он привык к отелю и верит в то, что однажды все чудесным образом изменится.
Блюда, которые Наби стряпает из морепродуктов, всегда получаются отменными.
Запеченные креветки, салака на гриле и большое количество пряностей – все возбуждает аппетит, все дразнит обоняние, открытие последних пяти минут: я проголодалась!
– Чертовски хочется жрать! – в подтверждение я запускаю пальцы в тарелку с креветками. – М-м… сегодня у креветок замечательный вкус, ты не находишь, Доминик?
Доминик не отвечает. Вернее, отвечает не сразу. В руках Доминика подрагивает тонкий листок «Фигаро» – щит средневекового рыцаря, да и только! Сидя на безопасной террасе в Эс-Суэйре, он защищается им от вызовов Большого Мира, почему никогда раньше мне не приходила в голову такая простая мысль? Почему никогда раньше я не замечала, как печальны глаза Доминика? И этот маленький шрам на подбородке – я тоже не видела его!
– Шрам. Откуда у тебя шрам, Доминик?
– Шрам?
– Вот здесь, на подбородке.
Я перегибаюсь через стол и касаюсь рукой шрама Доминика. Доминик не делает никаких движений, сидит смирнехонько: СТО ПРОТИВ ОДНОГО – для морских пехотинцев из его брюха уже прозвучала команда «отбой».
– Он был всегда, – голос Доминика печален также, как и его глаза. – Всегда. Просто раньше ты не обращала на него внимания.
– Удивительно!
– Нисколько не удивительно. Кстати, и креветки сегодня самые обычные.
– Разве? – преувеличенно удивляюсь я.
– Точно такими же они были и вчера. И позавчера, и месяц назад.
Я больше не слушаю Доминика. Его лысеющий череп – вот что привлекает меня. Не так уж он некрасив, совсем напротив. Приди Доминику идея побриться наголо – все это могло выглядеть даже привлекательно, это подчеркнуло бы линию лба, и скрасило бы излишнюю округлость щек, и уравновесило бы подбородок. Брюху же (скрытому сейчас фиговым газетным листком) не поможет ничто, если, конечно, Доминик срочно не начнет качаться. Или играть в футбол в свете прожекторов.
– …Ты не слушаешь меня, Сашá! – в сердцах бросает Доминик.
– Конечно, слушаю. Еще никогда я не была так внимательна!
Положительно, скинь Доминик килограммов тридцать-сорок, он стал бы настоящим красавцем, колониальной достопримечательностью Эс-Суэйры, а сколько сердец он смог бы разбить! Сколько сердец хрустнуло бы под его пальцами подобно креветочным панцирям, мое сердце – не в счет, мое сердце уже занято.
– О чем я говорил, Сашá? – Доминик проявляет странную, несвойственную ему настойчивость.
– О чем? Мы рассуждали о креветках. О том, что сегодня они необычайно вкусны.
– Это ты сказала, что они необычайно вкусны.
– Просто тают во рту…
– Это ты… Ты сказала. А я сказал, что они самые обычные. Они – обычные, а ты – нет. Сегодня ты не такая, как всегда. Что произошло, Сашá?
Мне не хотелось бы обсуждать это. Во всяком случае, с Домиником.
– Почему ты не женишься, Доминик? – этот вопрос я задаю ему впервые. Впервые за три года, проведенных в отеле «Sous Le del de Paris».
На Доминика жалко смотреть: нелепый пот струится по нелепым вискам, нелепые пухлые губы подрагивают, нелепый подбородок трясется мелкой дрожью.
– Я хотел… Хотел сделать предложение одной чудесной девушке. Я даже купил кольцо…
– И что? Что ответила тебе чудесная девушка?
– Вот, посмотри!
Серебряная цепочка. С каких пор Доминик носит цепочку? Вопрос «почему раньше я не замечала ее» неуместен. Так же, как неуместна сама цепочка на толстой потной шее Доминика. И я испытываю самое настоящее облегчение, когда он снимает ее. И кладет на ладонь, и протягивает ладонь мне. Очевидно, чтобы я оценила кольцо, запутавшееся в цепочке. Очень мило со стороны Доминика.
– Что ж, чудесное кольцо.
Кольцо и вправду замечательное, может быть – слегка тяжеловатое, слегка помпезное и… слегка потертое. Проведшее с Домиником чуть больше времени, чем следовало бы.
– А как зовут девушку? Мерседес?
Мерседес, сладкая, как яблоко, не выходит у меня из головы.
– Мерседес? – удивляется Доминик. – Совсем не Мерседес.
– Тогда почему ты до сих пор не отдал… Чудесное кольцо чудесной девушке?
– Я хотел… Я только ждал подходящего момента.
– И?
– Он так и не наступил. Чудесную девушку увели у меня из-под носа.
– Как жаль.
Мне действительно жаль Доминика. Скинь Доминик килограммов тридцать-сорок, этого никогда бы не произошло.
– Мое сердце разбито, Сашá.
Представить разбитое сердце Доминика не составляет труда, стоит только разобрать завал из досок для серфинга и отогнуть край газетной страницы: там оно и лежит, расколотое на несколько жирных, сочащихся кровью кусков, даже Наби при всем его кулинарном таланте не смог бы сочинить из этого рано состарившегося мяса ничего, кроме банального гуляша.
– Все образуется, Доминик.
– Ничего не образуется.
– Все будет хорошо.
– Я и сам так думал. До сегодняшнего дня.
– А теперь?
– Теперь все кончено.
Доминик швыряет кольцо на тарелку с недоеденными креветками. Возможно, я не слишком хорошо знаю Доминика, но смысл его жеста ясен, как божий день: никогда больше он не прикоснется к этому кольцу, никогда больше. Мне остается лишь оплакивать креветки, сунуться к ним сейчас было бы кощунством по отношению к страданиям Доминика. Придется ограничиться салакой на гриле.
– Мне кажется, ты излишне драматизируешь ситуацию, Доминик. – Реплика, подкрепленная жеванием, со стороны выглядит цинично, но, кто знает, может быть, именно она приведет Доминика в чувство.
– Нисколько.
– Ты хотя бы говорил с ней? О своих намерениях?
– Я ждал…
– Подходящего момента?
– Да.
– Глупый-глупый Доминик! Разве ты не знаешь, что все признания всегда совершаются в самый неподходящий момент? – Я стараюсь развеселить Доминика.
– Правда?
– Конечно, в «Фигаро» об этом не пишут…
– Жаль, – Доминик добросовестно старается подыграть мне. – Мне нужно подписаться на что-нибудь другое?
– Давно пора.
– Я давно хотел сказать, Сашá… Я благодарен тебе.
– За что?
– За все.
Впервые за три года Доминик поднимается из-за стола раньше меня. И уходит, не прощаясь и не поцеловав меня в щеку, как делал это всегда. Я остаюсь в обществе кольца и небрежно брошенной на стул «Фигаро»; кем была девушка, разбившая сердце моего друга? Как печально, что наши отношения ограничивались осторожной симпатией, если бы Доминик чуть больше доверял мне, если бы он был со мной откровенен…
Теперь это не имеет никакого значения.
– …Я могу убирать, мадам Сашá?
Наби. Я и не заметила, как он появился. У Наби подвижное, выразительное лицо карманного воришки: дорого бы я отдала, чтобы посмотреть, как он обносит креветочные карманы, как ловко орудует в жабрах у салаки, как обчищает зажравшиеся пряности.
– Конечно, Наби. И спасибо за ужин. Он был потрясающим.
– Рад, что вам понравилось, мадам.
Наби несколько удивлен, еще никогда я не обращалась к нему с такими признаниями. Но и хватать меня за язык он не станет.
– Кольцо… Это ваше кольцо, мадам?
– Нет.
– Значит, его забыл хозяин.
– Не думаю, Наби.
Лицо Наби искажено непосильной работой мысли. Кольцо, лежащее на тарелке, стоит немалых денег: такого Наби не купить, но… Он может его продать, и это было бы самым лучшим выходом из создавшегося положения. И чудесная девушка, так жестоко обошедшаяся с Домиником, оказалась бы посрамленной. Заочно.
– Я все же поинтересуюсь у хозяина.
– Не стоит, Наби. Ты можешь взять его себе.
…Рональдо и Рональдиньо.
Я видела их сотни раз, пора бы перестать обращать на них внимание. Но именно сегодня они особенно прекрасны в своих футболках по полтора доллара штуку, именно сегодня их удары точны, а движения – полны скрытой грации, любой из них с ходу мог бы подписать контракт на несколько миллионов долларов.
Почему я не владею футбольным клубом?
Почему?
И почему вот уже битый час я стою на балконе, вцепившись руками в поручень?
По той же причине, почему и Эс-Суэйра уже не кажется мне конечным пунктом назначения. У меня еще будет время разобраться в этом, хотя ответ лежит на поверхности – я больше не несчастна.
И еще никогда мир не представал передо мной в таких ярких, таких волнующих красках, еще никогда он не казался таким объемным. Возможно, я ошибаюсь, и подобное случалось со мной – нет, не так: подобное уже случилось со мной однажды.
У меня еще будет время разобраться в этом, весы покачиваются, звенят чашками, на одну готова упасть l'amour, на другую – le merde, но сейчас я свободна и от одного и от другого, а десятки Рональдо и десятки Рональдиньо и вправду хороши. Где-то внутри меня, там, где до сегодняшнего вечера располагалась помойка из самых неприглядных воспоминаний («Осторожно! Радиация!»), играет одинокий саксофонист, и мотив хорошо узнаваем, что-то вроде «UNFORGETTABLE» Ната Кинг Коула. Обстоятельства, при которых я услышала его впервые, не так уж важны.
– …Вы любите футбол? – вот он и потревожил сопение океана. Голос того, кого я жду битый час – вцепившись руками в поручень.
– Нет.
На кого я похожа с точки зрения фанерной перегородки? Спутанные от ветра волосы, лицо, едва ли не занесенное песком, невнятный профиль (анфас был бы намного выигрышнее), невыразительный голосишко обслуги с ресэпшена; теперь я, как никто, понимаю отвергнутого беднягу Доминика.
– Не думал увидеть вас здесь.
– Я тоже не думала увидеть себя здесь. – Не слишком ли провокационно это прозвучало?
Плевать.
– Вы не зарегистрировались.
– Это не моя вина, – тут же уличает меня vip-персона.
– Да, конечно. Но формальности можно отложить до утра.
– Отлично. Значит, сегодня мы…
Vip-персона делает многозначительную паузу, и у меня нет никаких сил дождаться ее окончания.
– Мы – что?..
– Общаемся неформально.
Кто только не клеил меня за последние три года, иногда – такими экстравагантными способами, что выражение «общаемся неформально» выглядит откровенной насмешкой. Почем я знаю, может это и есть насмешка. Скорее всего.
– Меня зовут Алекс. Алекс Гринблат.
АЛЕКС ГРИНБЛАТ. Имя, принадлежащее знаменитому галеристу и теоретику современного искусства, я лично отправила письмо Алексу Гринблату два месяца назад. Какова вероятность того, что знаменитый галерист, презрев свои нью-йоркско-парижско-лондонские дела и сделав ручкой яйцеголовым снобам, появится в заштатной Эс-Суэйре?
Никакова.
Какова вероятность того, что человек, стоящий за фанерной перегородкой, – полный тезка знаменитого галериста и сам является снобом?
Три, максимум – пять процентов. Уже кое-что.
– Не думала увидеть вас здесь.
Я возвращаю Алексу Гринблату фразу, сказанную им самим: отскочив от зеркала моего рта, она упирается в лицо Алекса Гринблата солнечным зайчиком. Алекс Гринблат морщится от света:
– Я тоже не думал увидеть себя здесь.
– Спонтанное решение отдохнуть на побережье?
– Не совсем, – Алекс Гринблат пристально смотрит на меня. – У вас странный акцент.
– Вы не первый, кто пытается определить мою национальную принадлежность. И еще никому это не удавалось.
– Никому?
– Все попадали пальцем в небо.
– Вы – русская. И думать нечего.
Он угадал. Не потратив на процесс узнавания и минуты, он угадал. Все это время мне страшно хотелось приблизиться к Алексу Гринблату, сделать хотя бы шаг в сторону фанерной перегородки, один безнаказанный шаг. Вот и повод.
Сейчас или никогда.
– Вы русская. Я прав?
– Да. – Я делаю его, один безнаказанный шаг.
– Вы русская. И вас зовут Сашá.
«Сашá» в исполнении Алекса Гринблата тоже звучит вполне по-русски, путаницы с ударениями нети в помине. Но, произнесенное верно, оно вызывает во мне глухой протест.
– Я предпочла, чтобы вы называли меня так же, как и все остальные. Сашá.
– Пытаетесь прожить чужую жизнь? – Vip-персона, Спаситель мира Алекс Гринблат улыбается обезоруживающей улыбкой серийного убийцы. Еще мгновение – и он стянет мне горло струной от карниза.
– Просто пытаюсь выжить.
Сказанное мной не производит на Алекса Гринблата никакого впечатления, я же моментально оказываюсь в одной лодке со студентиком Мишелем, сочинившим трагическую историю, чтобы казаться значительнее в глазах окружающих. Та еще картина: русская дуреха на веслах, Мишель – загребной, оба – в одинаково пафосных матросках и парусиновых туфлях, в них-то и подкладывают трагические истории. Два-три сантиметра роста такие истории прибавляют, но выиграть регату… Выиграть регату нам не светит. Все регаты, как правило, выигрывает Алекс Гринблат, и спутники Алекса Гринблата, и спутницы Алекса Гринблата, есть же у него спутницы, черт возьми!.. Спутницы, ха-ха. Любовницы, так было бы точнее. И не какие-нибудь безмозглые фотомодели (за последние несколько часов образ Алекса Гринблата подвергся значительной корректировке), совсем нет. Холеные дамочки со стервинкой и вечнозеленым загаром, подцепленным в вертикальном солярии: они арендуют пентхаусы, драгоценности и платья от Dolche/Gabbana, ведут колонки в life-style журналах и всегда расплачиваются за себя в кабаках. И на вопрос «Пытаетесь прожить чужую жизнь» они, несомненно, нашли бы другой ответ. Гораздо более оригинальный.
– Это шутка, – я горю желанием избавиться от пафосной матроски и парусиновых туфель неудачницы. – Насчет выжить.
– Я так и понял. Так что вы делаете в Эс-Суэйре, Сашá Вяземски?
Он знает не только мое имя, но и фамилию, ого! Потрясающая осведомленность, хотя «Вяземски» звучит не слишком безупречно, в полузабытом подлиннике все было органичнее: Сашá Вяземская.
– Вы даже знаете, как меня зовут?
– Конечно. Ведь это вы написали мне письмо.
Алекс Гринблат, знаменитый галерист и теоретик современного искусства, поджарый, сильно загорелый мужчина лет тридцати пяти. Точно такой, каким я рисовала его в послеполуденных грезах у досок Доминика. И чертовски красивые глаза!..
– Значит, вы и есть Алекс Гринблат. Тот самый…
– Тот самый.
– И вы приехали сюда из-за моего письма?
– Из-за фотографий, приложенных к письму. Но и из-за самого письма тоже.
– Оно вас заинтриговало? – позволяю я себе маленькую вольность.
– Я нашел в нем пять орфографических ошибок, – тут же ставит меня на место Алекс Гринблат. – И три стилистических. И еще три – на согласование времен.
– Французский – не мой родной язык. И я никогда не писала писем на французском. – Зачем я оправдываюсь? Кому нужен этот школьный скулеж?
– А почему вы не послали его электронной почтой? Здесь нет интернета?
– Здесь есть интернет.
– Тогда почему?
В прозрачной, ничем не замутненной воде явно просматриваются подводные камни, моя задача – не налететь на них (я все еще сижу на веслах, пусть и без матроски, и без смытого волной студентика Мишеля); моя задача – не налететь на эти чертовы камни!
– Почему? Мне показалось, что письмо, напечатанное на машинке, вызовет больший интерес. Его нельзя будет стереть, от него нельзя будет отмахнуться.
– Чутье? – Алекс Гринблат пощипывает подбородок.
– Можно сказать и так.
– Вы поступили правильно, Сашá.
Ура! От подводных камней не осталось и воспоминаний, передо мной расстилается водная гладь и где-то впереди маячит спина везунчика Алекса Гринблата. Расстояние между нами сокращается, и – кто знает! – может быть, оно сократится до минимума. И исчезнет совсем.
– Хотите посмотреть доски, Алекс?
– Прямо сейчас?
– Прямо сейчас.
Я полна энтузиазма, я даже готова потревожить Доминика, и я почти уверена: Алекс Гринблат непременно даст согласие, не для того он совершил столь стремительныи бросок в Эс-Суэйру, чтобы остановиться в двух шагах от цели.
– Боюсь, это не слишком хорошая идея.
– Нуда. Не слишком.
Алекс Гринблат устал. Стремительный бросок в Эс-Суэйру еще нужно пережить, учитывая, как я продинамила Алекса в самом начале, закрыв автобусные дверцы у него перед носом. Плюс дорога по утомительному горному серпантину: она изматывает и меня, давно к ней привыкшую, что уж говорить об Алексе Гринблате, столкнувшемся с ней впервые!..
– Вы устали. Понимаю.
– Причина не в этом, Сашá.
– В чем тогда?
– Прежде, чем я увижу их, мне бы хотелось, чтобы вы о них рассказали. О них и об авторе.
– Я ведь не эксперт. И я даже не знаю, с чего начать…
Мне не совсем понятно, куда клонит Алекс Гринблат. И зачем ему мои россказни о том, что и так говорит само за себя. Рыбный рынок. Водостойкие мечты о Марракеше, Касабланке, Рабате. Женщины, вещи, чувства…
– Начните с автора. Кто он?
– Хозяин гостиницы.
Черт возьми, я несправедлива к Доминику, из всех возможных определений я выбрала самое неудачное; «трусишка Доминик» выглядело бы не в пример человечнее, «громила-сержант Доминик» выглядело бы не в пример мужественнее; «Доминик, сделавший предложение запеченным креветкам» могло хотя бы вызвать улыбку. Но нет – «хозяин гостиницы», что может быть унылее? Прости меня, Доминик!
– Ваш хозяин, ага.
– Не совсем так.
– Разве вы не работаете на него?
– Я работаю с ним, но мы, скорее…
– Любовники.
Алекс Гринблат не спрашивает и не утверждает, скорее – уточняет. Ничего, кроме интереса, смахивающего на производственный. В своей прошлой жизни в России я уже сталкивалась с чем-то подобным. Вспомнить бы только: когда и где.
– Нет, мы не любовники. И никогда не были любовниками. И вряд ли станем любовниками. Мы друзья.
Брови Алекса ползут вверх, ощущение такое, что он вообще впервые слышит это слово – «друзья». Не в контексте «Un Homme Et Une Femme»5 и не в контексте американской мыльной оперы; слово «друзья» напрочь отсутствует в лексиконе Спасителя мира Алекса Гринблата, не в этом ли причина возникновения большинства торнадо и скоропостижного таяния антарктических льдов?..
– Мы друзья, но это не имеет никакого значения, Алекс. Доминик талантлив, чертовски талантлив. Вы и сами знаете это.
– Пока еще нет.
– Но вы ведь приехали сюда!
– Ваше письмо показалось мне убедительным. Ваше письмо меня покорило.
Один безнаказанный шаг. Он давно уже сделан. Второй и третий, последовавшие за первым, несущественны. Совершив несколько движений, больше похожих на ритуальный танец, я устраиваюсь прямо на перилах, в опасной близости от Алекса Гринблата. Стоит протянуть руку – и я смогу коснуться его плеча. «Ваше письмо меня покорило» можно считать опосредованным комплиментом, признаком заинтересованности, но что-то мешает мне думать, что дело обстоит именно так. Наскоро прополоскав рот аперитивом «Доминик», мы переходим к главному блюду: – доски Доминика.
В этой теме гораздо больше пространства для маневра. В этой теме я чувствую себя как рыба в воде. Доминик прекрасно осведомлен о вещах, к которым не имеет никакого отношения, никто не смешивает краски с таким вдохновением и с такой дерзостью, как Доминик; никто не в состоянии лучше, чем Доминик, переплавить мечты в реальность и заставить поверить, что эта реальность – единственная из всех возможных. Доминик – это целый континент, целая страна, в ней найдется место и для Марракеша, и для Касабланки, и для Рабата; благословенная Франция тоже не будет забыта. Женщинам в этой стране не нужны паспорта, им не нужны возлюбленные, даже в именах они не нуждаются…
Я и не думала, что могу быть столь красноречива.
И Алекс.
Алекс Гринблат поощряет мое красноречие, незаметно направляет его в нужное русло. Вопросы Алекса точны и изобретательны, мне остается лишь отвечать на них – также точно и изобретательно. Игра в вопросы и ответы настолько увлекает меня, что я испытываю чувство острого сожаления, когда она заканчивается.
– Я не могу понять только одного, Сашá.
– Чего?
– Почему вы до сих пор не любовники, – ставит финальную точку Алекс.
Действительно, почему? Я ловлю себя на том, что удивлена этим обстоятельством не меньше Алекса. Как можно было не увлечься Домиником, смешивающим краски с таким вдохновением и с такой дерзостью, как можно было так долго простоять у границы прекрасной страны и не решиться перейти ее? Как можно было допустить, чтобы кольцо, минуя посредников в лице запеченных креветок, досталось заштатному повару Наби?..
– У него слишком толстое брюхо, – глупо хихикая, произношу я.
Прости меня, Доминик!
– Это меняет дело.
Взгляд Алекса Гринблата проясняется, теперь в нем появилась особая кристальность. Я больше не думаю о том, что у него чертовски красивые глаза, а предположение насчет египетской кошки или кошки породы камышовый пойнт и вовсе оказалось неверным. Фотообъектив, шикарная цейсовская оптика! – вот что приходит на ум, того и гляди раздастся щелчок затвора. Алекс Гринблат – умная машинка, роскошная вещица, позволить ее себе может далеко не каждый. Я – точно не могу.
– Вы разочарованы?
Алекс медлит с ответом. Легкое запаздывание – как раз в духе режимной съемки, я сфотографирована сразу с нескольких точек, но не факт, что ракурс оказался удачным, и совсем уж не факт, что пленка будет когда-либо проявлена.
– Не разочарован. Нет. Все именно так, как я и предполагал. И вы точно такая же, какой я ожидал вас увидеть.
Выходит, не я одна развлекала себя мыслями о гипотетической встрече!
– И вы такой же, Алекс. Или почти такой.
– И поэтому вы захлопнули дверцы у меня перед носом?
– Отчасти.
Щелчок затвора. Еще щелчок. Еще один. Алекс проводит рукой по лицу (очевидно, это жест должен означать смену объектива).
– Откуда вы узнали обо мне, Сашá?
Странный вопрос для vip-персоны, для Спасителя мира. До этой минуты я была полностью убеждена, что подобных вопросов в арсенале Алекса Гринблата не должно возникать в принципе. Откуда все мы узнаем о существовании Иисуса? Телевидения? Кока-колы? Точная дата узнавания вечных ценностей не определена. А Иисус, телевидение, кока-кола – и теперь вот Алекс Гринблат – и есть вечные ценности.
– Прочла в журнале.
– Вы интересуетесь современным искусством?
Современное искусство – вот уж нет!..
– Я совсем не интересуюсь современным искусством. Это был просто журнал. Далекий от проблем современного искусства. Но и там вы умудрились засветиться.
Даже если бы я сказала, что у него шикарный член, даже если бы я выразилась в том смысле, что он роскошный любовник, – даже это не стало бы причиной столь самодовольной мины на лице Алекса. Алекс Гринблат полностью удовлетворен, он любуется собой, он торжествует.
– Обычно так и получается, Сашá. Я умудряюсь светиться в самых непредсказуемых местах.
– Например, здесь, в Эс-Суэйре.
– Например, здесь, – охотно соглашается Алекс.
Алекс Гринблат и крошечная, прилепившаяся к океану Эс-Суэйра – диво, так диво! Фейерверки, иллюминация, шествие верблюдов и джигитовка с пальбой – вот что должно было сопровождать его прибытие, а никак не захлопнувшиеся перед носом дверцы автобуса.
– Я понимаю. Алекс Гринблат – богатый и знаменитый… Вы ведь богатый и знаменитый?
– Это нескромный вопрос, Сашá.
– Почему? – искренне удивляюсь я. – Это просто вопрос.
– Без дальнего умысла? – Алекс Гринблат щурит чертовски красивые глаза.
– Без.
Щелчок затвора. Еще щелчок. Еще один. Когда пленка будет проявлена (если она вообще когда-нибудь будет проявлена) – я могу оказаться запечатленной не только в образе девахи в матроске и парусиновых туфлях, но и в образе типичной охотницы за капиталами: с арбалетом на плече, с патронташем на бедрах, с силком в наманикюренных пальцах. Пустое, Алекс Гринблат! стрелять из арбалета я не умею, и бедра мои совсем не безупречны, что же касается маникюра – я не делала его со времен побега в Эс-Суэйру.
– Я вам верю, Сашá. И я скажу вам больше: вы не похожи на тех русских женщин, с которыми я был знаком до сегодняшнего дня.
На чем зиждется такая уверенность Алекса, мне не совсем понятно.
– А вы были знакомы с русскими женщинами, Алекс?
– С несколькими. И все они начинали именно с этого вопроса…
– Про богатых и знаменитых?
– Да. И все они меня разочаровали.
По ходу пьесы мне не мешало бы вступиться за честь и достоинство неведомых мне соотечественниц, но… Я так давно живу вдали от Родины, что почти не чувствую себя русской. Как не чувствую себя ни француженкой, ни марокканкой; при известных обстоятельствах я могла почувствовать себя доской для серфинга, или доской для разделки рыбы, или нитью, на которые Ясин нанизывает свои бесконечные бусины, или ключом от любого из двадцати семи номеров отеля – но и этого до сих пор не произошло. Мне стоило бы подвергнуть Алекса Гринблата обструкции – по ходу пьесы. Кто ты, собственно, такой, чтобы через губу бросать: «все они меня разочаровали». Хрен моржовый, как сказали бы мои питерские друзья. При встрече я бы вряд ли их узнала, что не умаляет точности и широты выражения моржовый хрен.
– Они тоже писали вам письма?
– Если и писали, то уже после того, как я указывал им на дверь. Эти письма я не читал.
– Мне повезло.
– Вы еще не представляете, насколько сильно вам повезло.
Лицо Алекса Гринблата парит в нескольких сантиметрах от моего собственного лица. Внезапно побледневшее, оно кажется мне лотерейным билетом с водяными знаками глаз, водяными знаками рта, подбородок тоже не забыт. Лотерейный билет, он нашептывает своему счастливому обладателю: ты выиграл, выиграл, ты сорвал джек-пот, дружок! – осталось только выяснить, какую сумму сдерут в качестве налога, и уже потом радоваться.
Если будет, чему радоваться.
– …Вы еще не представляете, Сашá.
– Так просветите меня, Алекс.
– Не сейчас.
– А когда?
– Что вы делаете завтра?
– То же, что и всегда. У меня полно дел в отеле.
– А если я умыкну вас… Скажем, сутра? Мы могли бы позавтракать вместе… Это не слишком нарушит ваш распорядок?
– Не слишком.
– Значит, мы договорились? Часов в десять. Вас устроит?
– Вполне.
– Отлично. В десять на ресэпшене. А теперь разрешите откланяться.
Прежде чем я успеваю сказать что-либо, Алекс Гринблат исчезает. Не отходит от балконных перил, не скрывается за дверью, а именно исчезает. Никогда прежде я не участвовала в лотереях, но и без того знаю, что цена всем этим страстям – полный ноль. Зеро. Даже Алекс Гринблат не убедит меня в обратном. Знаменитый галерист и теоретик современного искусства. Vip-персона и Спаситель мира.
Хрен моржовый.
***
…Мне не хотелось бы столкнуться с Домиником.
Пусть будет кто угодно, включая Жюля и его приятеля Джима. Студентика Мишеля я тоже могла бы пережить, и любителя картонных мотелей и зачахших кадиллаков Фрэнки; пусть будет кто угодно, но только не Доминик.
Я твержу это как молитву, спускаясь к стойке, хотя никаких предпосылок к тому, чтобы Доминик отирался в это время на ресэпшене, нет. По утрам Доминик возится со своими досками и для всего остального мира его не существует, по крайней мере до полудня. Ровно в двенадцать он появляется в вестибюле – опустошенный и размягченный одновременно. Этой размягченностью все и пользуются, иногда интуитивно: еще ни один постоялец не освобождал номер в полдень, как предписывают правила отеля, и еще не один постоялец не доплатил за пребывание в номере сверх положенного срока.
Когда-нибудь мы точно прогорим.
До встречи с Алексом Гринблатом остается пятнадцать минут.
Я убиваю их, стоя перед зеркалом, на площадке между первым и вторым этажами; стойка портье отсюда не просматривается, да и сама зеркальная поверхность почти ничего не отражает. Увидеть на ней хоть что-то весьма проблематично, за зеркалом уже давно никто не следит. То же можно сказать о двух обтянутых пыльной кожей светильниках и о запертом на висячий замок шкафе с такими же пыльными стеклянными дверцами.
«Галерея забытых вещей» – называет шкаф Доминик. На пяти полках выставлены предметы, которые в разное время – нарочно или случайно – были оставлены в номерах. Забыты. Забыты навсегда, пожертвованы отелю – кому придет в голову возвращаться за заколкой для волос, карманным изданием трехлетней давности бестселлера или безопасной бритвой? Впрочем, встречаются экспонаты и позанятнее:
– бритва опасная, с ручкой из слоновой кости и монограммой «P.R.C.», рисунок полустерт, но еще можно различить контуры корабля, терпящего крушение;
– крохотная, размером с ладонь, музыкальная шкатулка, я давно не слышала ее голоса, но знаю, что она играет избитый джазовый мотивчик;
– статуэтка Будды;
– кожаный напульсник с интригующей надписью «Someday my princess will come»6;
– медальон с тремя дешевыми камнями (один уже выпал), я давно не открывала его, но знаю, что внутри спрятан клочок волос, романтический локон;
– ремень из потрескавшейся кожи, Доминик утверждает, что это – кожа буйвола;
– статуэтка Мэрилин Монро.
Я не вижу в зеркале ни Будды, ни Мэрилин, себя я не вижу тоже. Но легко могу представить, какая я: волосы не короткие и не длинные, не темные и не светлые, что-то среднее. «Что-то среднее» – именно эти слова определяют мою нынешнюю ипостась. Хотя почему – нынешнюю? Я всегда была такой, мое лицо – лишь вариация на тему других лиц, шляпная болванка; дорогая помада не делает мои губы выразительнее, дешевая их не портит, интересно, с какого перепугу серферы приглашают меня на ужин? На протяжении трех лет – с завидным постоянством.
А теперь я получила приглашение еще и на завтрак. Если у кого-то и есть дальний умысел, то не у меня – у Алекса Гринблата. Он никак не связан с моей внешностью и с тем, что каким-то чудом я вдруг сразила vip-персону наповал. Ха-ха. Хоть я и обладаю изрядной долей воображения, но представить, что Алекс увлекся мной как женщиной, не в состоянии и оно.
Дальний умысел – совсем в другом.
В зеркале его не разглядеть.
– …Интересная вещица!
Алекс Гринблат, я узнала его по голосу, утренний ничем не отличается от вечернего – такой же надменный. Зеркало не реагирует на появление за моей спиной Алекса Гринблата, на мое в нем появление оно отозвалось так же, или почти так же; все мы – жалкая кучка вампиров, пожирающих друг друга, такой символикой нынче никого не удивишь. Даже в Эс-Суэйре.
Доброе утро, Алекс.
– Доброе, Сашá.
– Ваши планы не изменились? – осторожно спрашиваю я. – Насчет совместного завтрака?
– Напротив. В них добавилось несколько пунктов… Интересная вещица.
– О чем вы?
– Бритва. Я говорю о бритве.
Мне вспоминается вчерашняя улыбка Алекса – улыбка серийного убийцы. Ничего удивительного в том, что он заинтересовался именно бритвой.
– Ее забыл кто-то из гостей года полтора назад. Кажется, она была оставлена в седьмом номере…
Теперь этот номер занимает живчик Фрэнки.
– И за ней не вернулись?
– Нет.
– Странно. Такая вещь дорогого стоит, – говорит Алекс сознанием дела.
– Не думаю, что она стоила так уж дорого.
Даже в Эс-Суэйре. В ней полно антикварных лавчонок (лавчонок, где торгуют туристической дребеденью на порядок больше, но и антикварные имеются). Старинные берберские ружья, старинные ножи, опиумные трубки – все это можно приобрести за вшивых сто долларов, что уж говорить о бритве! Да еще с потрескавшейся ручкой, да еще с зазубринами на лезвии. Три скола – я хорошо их помню, я сама помещала бритву на полку. Затейливая монограмма «P.R.C.» добавит к общей сумме еще доллара три. Или пять – при самом лучезарном раскладе.
– Я ведь не сказал, что она стоит дорого, – поправляет меня Алекс. – Я сказал – она дорогого стоит. Вы ощущаете разницу, Сашá?
Судя по колебаниям на поверхности зеркала, Алексу просто необходимо, чтобы я ответила правильно. Иначе он разочаруется во мне – я чувствую это лопатками.
– Конечно, Алекс.
– Хотелось бы взглянуть на нее поближе.
– На бритву?
– Да.
Пустяковая просьба, чтобы исполнить ее, мне не потребуется никаких усилий: ключ от шкафчика висит у меня на связке. Второй такой же находится у Доминика. Я вынимаю бритву и протягиваю ее Алексу, на лице которого сразу же появляется скучающее выражение.
– Я ошибся, – просто говорит он.
– Ошиблись?
– Увы. Это дешевая поделка.
– Вы же сами сказали – вещь дорогого стоит.
– За стеклом она выглядела иначе.
Он так и не взял чертову бритву в руки, я стою с ней, как последняя дура. Которая (вместе с таким же недоделанным придурком Домиником) занимается коллекционированием ничего не стоящих предметов. Хорошо еще, что я не вякнула в раже – эта бритва гордость нашей коллекции. Хорошо еще, что я не предложила ее Алексу в подарок.
А могла бы.
Досадуя на себя, я засовываю разом потускневшую бритву обратно в шкаф, хотя с большим удовольствием отправила бы ее в мусорное ведро. Все из-за Алекса, из-за его магнетической способности влиять на вещи и людей, обращать их в свою веру, заставлять видеть то, что видят они. И только.
– Куда мы пойдем завтракать?
Я еще успеваю обернуться к Алексу, но не успеваю ответить на его вопрос. Вместо меня отвечает Фрэнки, он появился на площадке и, должно быть, слышал последнюю реплику Алекса. Ничего удивительного, седьмой номер, который занимает Фрэнки, находится совсем неподалеку.
– «Ла Скала». Я бы рекомендовал вам «Ла Скала». Симпатичный ресторанчик, и кухня неплохая. Не знаю, что вам предложат поутру, но вечером я остался доволен.
Фрэнки облачен в водонепроницаемый костюм, черный, с фиолетовым отливом; на плечах у Фрэнки покоится доска для серфинга (где он успел ее раздобыть – неизвестно). Волосы Фрэнки обильно смочены гелем и зачесаны назад. Узкие очки на лбу и широкие квадратные часы на запястье завершают картину.
У Фрэнки отличная фигура.
Фрэнки подмигивает нам обоим:
«а ты не теряешь времени зря, старичок» – Алексу;
«а ты совсем не такая недотрога, какой казалась на первый взгляд» – мне, подобные скабрезности я ненавижу, а непроизнесенные – ненавижу вдвойне.
– Ваш знакомый? – спрашивает Алекс, когда водонепроницаемая задница Фрэнки скрывается в недрах вестибюля.
– Вижу его во второй раз в жизни.
– А это заведение? «Ла Скала», кажется?..
– Никогда в нем не была. Но знаю, что оно существует.
– Тогда не будем тратить время на поиски чего-то другого.
…Мне не хотелось бы столкнуться с Домиником.
Его не должно быть у стойки, и все же первое, что я вижу» спустившись, – унылая бейсболка Доминика. Доминик отирается на ресэпшене, черт бы его подрал! И – черт бы подрал меня! я чувствую себя четырнадцатилетней школьницей, в джинсах которой мама обнаружила пачку презервативов. Мне не нравится быть застигнутой врасплох!..
– Вы подождете меня на улице? Пять минут,. – шепчу я Алексу, прежде чем направиться к стойке с восседающей за ней мамой-Домиником.
– Конечно.
Доминик встречает меня улыбкой, еще более унылой, чем его бейсболка.
– Здравствуй, дорогой мой… – Что это со мной, никогда прежде я не называла Доминика «дорогим».
– Здравствуй, Сашá.
– Почему ты здесь?
– Фатима неважно себя чувствует…
Фатима, жена Наби, сидит на ресэпшене по утрам.
– …вот я и решил подменить ее.
– Ты мог бы сказать мне, Доминик.
– Думаю, сегодня утром у тебя нашлись дела поважнее. – Доминик смотрит вслед удаляющемуся Алексу, смотрит с откровенной неприязнью.
– Не говори глупостей.
– Это и есть он? Один?
– Не понимаю, о чем ты…
– Вчера ты сказала мне: приехали шестеро и один. Это и есть – один?
– Не будь занудой, Доминик!..
В любое другое время я бы рассмеялась и надвинула козырек бейсболки Доминику на глаза, но сейчас… Сейчас я не нашла ничего лучшего, кроме дурацкой, несправедливой, застигнутой врасплох, фразы.
– Решила показать ему город? – не унимается Доминик.
– Решила позавтракать.
– Ты всегда завтракаешь в отеле…
– И ужинаю тоже. Но наступает время, когда хочется что-то изменить в привычном течении жизни. Ты против?
– Я знал, что рано или поздно это произойдет. – Щеки Доминика обвисли, нос вытянулся, хорошо еще, что я не вижу брюха. – Я знал, что рано или поздно ты скажешь мне это…
– Насчет завтрака? – На фоне обвислых щек и скорбящего носа моя шутка смотрится нелепо.
– Насчет того, что тебе хочется что-то изменить в привычном течении жизни. Время пришло, да?
Спасительный козырек бейсболки совсем близко. И я наконец-то надвигаю его Доминику на глаза.
– Дурачок!..
– Останься со мной, Сашá.
– Я ведь и так с тобой.
– Возможно, я неправильно выразился. – Доминик и не собирается поправлять козырек. – Останься со мной – это означает останься со мной навсегда. Будь моей женой, Сашá.
Я не ослышалась, и он сказал «будь моей женой»?
Я ослышалась.
Три года, проведенные в полной безмятежности рядом с Домиником; три года никак нельзя считать трамплином к такого рода признаниям, «будь мой женой», надо же, кто бы мог подумать, что Доминик способен на подлость, иначе, чем подлостью, «будь моей женой» не назовешь!..
– Я давно должен был сказать тебе, Сашá. И кольцо…
– Кольцо, – осеняет меня. – Значит, ты купил его…
– Для тебя. Ни для кого другого.
– Очень мило, – разговаривать с козырьком бейсболки легче легкого. – Но я не ношу колец. Ты же знаешь, Доминик.
– Черт с ним, с кольцом. Пусть ты их не носишь, но ответь – ты будешь моей женой?
– Прямо сейчас? – «Нет» требует гораздо большего времени, чем «да». И выносливости, и ловкости, и спортивной подготовки, и бдений на гребне волны. В обнимку с доской для серфинга. На такие подвиги я не способна.
– Прямо сейчас. – Доминик решительно закусывает толстую верхнюю губу толстой нижней.
– Боюсь, сейчас не самый подходящий момент…
– Но ты же сама сказала мне… Для таких вещей не бывает подходящих моментов…
– И ты не придумал ничего лучшего, чем поймать меня у стойки. В то время как я…
– В то время, как ты решила позавтракать с каким-то хлыщом. Отвратный тип. Похож на крысу, неужели ты не видишь этого, Сашá?
Алекс Гринблат похож на крысу не больше, чем сам Доминик похож на древнегреческую амфору, или на инструктора по фитнесу, или на душку Тома Круза, или на Марлона Брандо, каким симпатяжкой он был, восседая на мотоцикле в середине пятидесятых. Сейчас вряд ли кто помнит, что Марлон Брандо был симпатяжкой.
Я – помню.
– Этот, как ты говоришь, отвратный тип… приехал сюда из-за тебя. Из-за твоих досок. Они понравились ему, и он хочет их купить.
Не слишком ли я погорячилась насчет оптовых закупок творений Доминика? Плевать.
– Интересно, как он о них пронюхал?
– Я. Я ему об этом рассказала.
– Когда же ты успела?
Пересказывать историю с письмом двухмесячной давности у меня нет ни сил, ни желания, пусть Доминик думает, что хочет. Пусть интерпретирует эту историю в тонах и красках, которые выберет сам. В конце концов, кто из нас художник?
– Успела. Я спешу, Доминик.
– Я вижу. – Ничего он не видит из-за козырька, ну да бог с тобой, Доминик.
– Он хочет взглянуть на твои доски. И было бы замечательно, если бы ты их подготовил.
– Все?
В словах Доминика проскальзывает заинтересованность, очень хорошо, общими усилиями мы отодвинули черту, за которой гарцуют «нет» и «да», за которой легко оказаться укушенным змеей, свернувшейся в обручальное кольцо; за которой формируются экспедиции по поиску древнегреческих амфор и происходит набор лабораторных крыс.
– Все. Все до единой, Доминик. Доминик молчит.
– Ты можешь стать знаменитым, милый.
– А если ты не пойдешь с ним завтракать, я не стану знаменитым?
– Я пойду с ним завтракать.
Пять минут давно истекли, и мне не хочется, чтобы Алекс Гринблат томился в ожидании. Я оставляю Доминика на ресэпшене, чтобы ровно через секунду забыть о нем. Алекс стоит у входа, прислонившись спиной к стволу давно высохшей пальмы (Доминик так и не смог выкроить денег на садовника) и скрестив руки на груди.
– Все в порядке? – интересуется Алекс, когда я подхожу к нему.
– В полном.
– Это и есть ваш толстый гений?
– Это и есть.
– Боюсь, с ним будут проблемы.
– С ним не будет проблем, – заверяю я Алекса, может быть – слишком поспешно, слишком пылко. – Я все улажу.
– Вы здесь ни при чем, Сашá.
Наверное, это входит в краткий курс по подготовке Спасителей мира: умение метать слова, как ножи. Метать из любого положения, они ложатся в яблочко, и движущаяся цель поражена. Цель в данном случае я; поправка на обстоятельства – я стою неподвижно. Это существенно облегчает задачу. Мне лишь остается истекать кровью и думать об унизительном значении фразы: «Вы здесь ни при чем, Сашá». Ни при чем. И от меня не зависит ровным счетом ничего. И мне самое время напомнить, что Алекс Гринблат – абсолютная ценность, для отношений с миром ему не нужны ни посредники, ни адвокаты, ни страховые агенты, ни медсестры широкого профиля.
– Я ему не понравился, – говорит Алекс, отлепляясь от пальмового ствола. – Активно не понравился.
Мне требуется мгновение, чтобы влезть в бейсболку Доминика и ощутить к Алексу Гринблату такую же животную ненависть.
– Думаю, это не имеет для вас принципиального значения. Ведь так?
– Вы умница, Сашá. Схватываете все на лету. Идемте завтракать.
…«Ла Скала» находится в двух кварталах от отеля Доминика. Я прохожу мимо нее всякий раз, когда мне приходит в голову мысль навестить рыбачью лодку Ясина. Или когда мне приходит в голову мысль прогуляться по ночной Эс-Суэйре. Фасад «Ла Скалы» – точная копия фасадов других домов на улице: белый, наспех обработанный камень с синими вкраплениями ставен и дверных проемов. Эс-Суэйра вообще – бело-синий город, в отличие от терракотового Марракеша, в отличие от совсем уж разноцветной, застекленной Касабланки, влияние некогда могущественных стран Средиземноморья ощущается в нем до сих пор. А есть еще сердцевина Старого города, а есть еще построенные португальцами форты с узкими бойницами – место выпаса немногочисленных туристов, я никогда не унижусь до показа достопримечательностей. Тем более что Алекс Гринблат в этом не нуждается. Позавтракать вместе – совсем другое дело.
– Мы не пропустим заведение? – волнуется Алекс, разглядывая совершенно одинаковые дома.
– Нет. Мы почти пришли.
– И как только вы не путаетесь?
– Не обращайте внимания на оболочку, Алекс. Начинка здесь всегда разная.
– Очень философски, Сашá.
– Очень по-арабски, Алекс. Важно то, что внутри.
– Вы действительно так думаете?
– Действительно. Вам этого не понять. Вы ведь теоретик современного искусства.
Алекс раздвигает губы в улыбке, и это выглядит почти непристойно, как если бы – здесь и сейчас – раздвинула бы ноги портовая шлюха. Оказывается, и губы Алекса Гринблата иногда можно застать за малопочтенным занятием.
– Вы так ненавидите современное искусство, Сашá?
– Я думаю, его не существует.
Не только Алекс Гринблат в состоянии метать ножи точно в яблочко. Время от времени это удается и простым смертным типа меня. Девицы, закостеневшей на ресэпшене третьеразрядного отеля в третьеразрядном городе не самой популярной страны. Алекс так безмерно удивлен этим фактом, что останавливается прямо у скромной, затерявшейся в складках стены таблички
LA SCALA
Cuisine mediterraneenne7
– Мы поладим, Сашá, – растягивая слова, произносит он.
– Не сомневаюсь, – я не даю ему опомниться. – Добро пожаловать, Алекс.
Ресторанчик находится за синей, местами облупившейся дверью, большую часть дня она плотно закрыта и лишь слегка приоткрывается по вечерам. Чтобы найти «Ла Скала», нужно обладать нюхом на подобного рода места. У живчика Фрэнки, должно быть, нет никаких проблем с обонянием. Несомненное преимущество Фрэнки: он уже побывал здесь. Я же никогда не была. Но допускаю, что этот ресторанчик похож на все другие ресторанчики, которые я видела в Марракеше, Касабланке, Рабате. Европа, Африка и Америка в одном флаконе – это в понимании владельцев и есть средиземноморская кухня. Средиземноморье не как география, а как гастрономия. Щадящий вариант национальной кухни плюс безликий кулинарный мейнстрим.
Зданию, в котором расположена «Ла Скала», не меньше двухсот лет, все в нем устроено по принципу североафриканской риады: внутренний, выложенный плиткой дворике фонтаном посередине и зеленые плети растений, они свешиваются вниз с галереек всех трех этажей. Промежутки между растениями заполнены коврами, преобладающая гамма – красно-песочная. С небольшими вкраплениями черного.
Милое местечко.
Столиков немного – едва ли десяток. Их могло быть и два, но часть пространства занимает импровизированный (как я подозреваю) танцпол. Он функционирует только и исключительно по вечерам, когда в «Ла Скала» просачиваются типы, похожие на Фрэнки. Какому идиоту пришло в голову назвать ресторанчик чопорным итальянским именем «Ла Скала» – неизвестно.
Мы – единственные посетители, но наплыва жаждущих обслужить нас официантов не наблюдается. Алекс не выказывает по этому поводу никакого беспокойства, он устроился на стуле напротив меня и… изучает собственные ногти. Не ковры, не растения, ни даже струящийся фонтан – ногти. Тягостная минута уходит на раздумья: каким образом привлечь обслугу. В последующие три я громко покашливаю, громко барабаню пальцами по столику, и, наконец, наплевав на приличия, снимаю с ног туфлю и отчаянно колочу каблуком по плитам.
Сработало.
Вот она и прибилась к нашему берегу, официантка со студенистым, расплывшимся телом и физиономией американского госсекретаря Кондолизы Райс. Сходство настолько очевидно и настолько пугающе, что я готова немедленно начать с ней переговоры о выводе американских войск из Ирака. И о бизнес-ланче заодно.
Бизнес-ланч.
Никакой это не романтический завтрак, щебет приготовленных на гриле птиц и потрескивание витых свечей исключены, ногти Алекса настаивают на бизнес-ланче. После которого каждый сам заплатит за себя, хорошо еще, что я догадалась прихватить кошелек.
– Меню, пожалуйста, – холодно говорю я Кондолизе. – Ив следующий раз не заставляйте нас ждать.
Официантка морщит узкий, блестящий от пота лоб: о каком следующем разе идет речь?
– Отличная пара вашему гению, – замечает Алекс, как только она покидает столик. – Так и представляю их вместе.
– А я – нет. – Выпады в сторону Доминика мне совсем не по душе.
– Я задел вас за живое, Сашá?
– Не люблю, когда пренебрежительно высказываются о моих друзьях.
Я жду, что Алекс извинится или хотя бы произнесет примиряющую обе стороны фразу, что-то вроде «не надо драматизировать, Сашá», – тщетно.
– Вы сами проехались вчера по его брюху. Не так ли?
Вполне резонный ответ. Алекс ничего не забывает. Ничего не забывает, никогда не повышает голоса и не колотит каблуком по камням, чтобы обратить на себя внимание. И стоит ему повернуть голову, как Кондолиза вновь оказывается рядом с нами – с раскрытым блокнотом и карандашом наизготовку.
– Яичницу с беконом, овощи и сыр.
– Овощи?.. – переспрашивает официантка.
– Брюссельская капуста, тушенная в сметане. Этого будет достаточно.
– Мне то же самое, – кричу я вслед удаляющейся заднице Кондолизы, что здесь, черт возьми, происходит?!
Улекс даже не заглянул в меню, откуда такая уверенность, что в марокканской забегаловке найдется брюссельская капуста, тушенная в сметане? Найдется, и еще как – если верить трем скрепленным друг с другом пергаментным листам. Капуста, сыр и яичница с беконом соответствуют третьему, пятому и одиннадцатому номерам в списке блюд, двенадцатым идет курица в тажине. Национальное блюдо, открывающее раздел «Дары Марокко».
Алекс Гринблат либо равнодушен к экзотике, либо наелся ею еще до того, как американцы заняли Ирак. Что же касается волшебного попадания в номера три, пять и одиннадцать – без тщательного изучения ногтей тут не обошлось, и, боюсь, это не вся информация, которую можно оттуда выудить. Котировки валют, новости с фондовых бирж, демографическая статистика, результаты скачек в графстве Эссекс, лоты на аукционах «Кристи» и «Сотбис» – далеко не полный перечень того, что скрывается под ногтями Спасителей мира.
Я почти верю в это.
– Итак… – торжественно произносит Алекс.
– Итак, – эхом отзываюсь я. – Может быть, закажем кофе?
– Мне не хочется кофе.
– Тогда чай. Мятный чай со специями – визитная карточка Марокко… Попробуете?
– Оставим туземные прелести туристам.
Прокол. Я допустила прокол. Попытку всучить Алексу Гринблату чертов мятный чай можно смело приравнять к явке на собеседование в офис солидной фирмы в одном купальнике и боа из крашеных страусиных перьев. И в том, и в другом случае результаты плачевны. Вопрос только – что меня мучает сейчас? Ведь не на работу же к Алексу я нанимаюсь, в самом деле!..
– Расскажите о себе, Сашá.
– Зачем? Разве это имеет отношение к цели вашего визита?
– Все может быть. Итак… Как долго вы здесь?
– Три года.
– Приехали сюда из России?
– Нетрудно догадаться, Апекс.
– Вам нравится Марокко?
– Мне нравится Эс-Суэйра. И я бы хотела остаться здесь навсегда. – Теперь я вовсе не уверена, что дело обстоит именно так.
– Но теперь вы вовсе не уверены, что дело обстоит именно так?
Ах ты, сукин сын! Хрен моржовый!..
– Идите к черту, Алекс. – Собрав остатки самообладания, я поправляю крашеные перья на боа и оттягиваю резинку на купальнике. И с треском возвращаю ее на место.
– Я еще не позавтракал. – Алексу нельзя отказать в здравомыслии. – Продолжим. Почему вы уехали из России? Насколько я знаю, это динамично развивающаяся страна. Страна больших денег и больших возможностей. И это… это нескучная страна.
– Никогда об этом не задумывалась.
– Напрасно. Динамично развивающаяся страна. Страна больших денег. Страна больших возможностей. Нескучная страна. Даю вам минуту, чтобы выделить главное определение из списка.
У меня есть свое собственное определение, связанное с любовью, связанное с дерьмом, связанное с фразой, брошенной в подтаявшую мартовскую жижу у метро «Петроградская»: «Оставь меня в покое, идиотка!». У меня есть свое собственное определение, но вряд ли оно заинтересует Алекса Гринблата. Возвышающегося сейчас надо мной в ожидании брюссельской капусты, сверкающего огнями взлетных полос, унавоженного рекламой ведущих производителей пива и спортивной обуви, снабженного операционной системой Windows, раскинувшего в пространстве всемирную паутину и не чуждого при этом смазанного штемпеля на самом обычном письме.
Второго прокола быть не должно. Его и не будет.
– Нескучная страна. Я права?
Алекс довольно улыбается – я права!
– Да. Это и есть самое главное. Человечество страдает от скуки, а это – смертельная болезнь. Хуже СПИДа, хуже атипичной пневмонии, хуже лихорадки Эбола.
– Не думаю, что поголовно все человечество скучает. Некоторой его части приходится элементарно выживать.
– Крайние варианты мы не рассматриваем, – одергивает меня Алекс. – И эта неприкаянная часть человечества не должна интересовать нас в принципе. Речь идет совсем о другой.
– О какой же?
– О платежеспособной. О той, которая готова выложить денежки, чтобы избавиться от скуки. Позже мы поговорим об этом поподробнее…
У меня нет желания говорить об этом ни с Алексом, ни с кем бы то ни было – ни сейчас, ни потом. Так почему я медлю, почему не обрываю Алекса на полуслове? Наверное, потому, что подоспели брюссельская капуста, сыр и яичница с беконом. Все три пункта представлены в единственном экземпляре, мой брошенный вдогонку заказ проклятая Кондолиза проигнорировала.
– Девушке – то же самое, дорогуша, – строго говорит Алекс официантке и принимается за яичницу.
Он мог бы и уступить завтрак мне – так вышел бы из положения Доминик и наверняка Фрэнки; Жюль и его приятель Джим и еще несколько сотен миллионов мужчин были бы с ними солидарны.
Атак и не примкнувший к миллионам Алекс Гринблат, орудуя вилкой и ножом, жрет свой бекон. Проглотив первый кусок, он аккуратно промакивает губы салфеткой.
–: Теперь о вас, Сашá. Несчастная любовь, да?
Ни жалости, ни сострадания, ни даже любопытства – голая констатация, кем он себя возомнил, Алекс Гринблат? После такого пассажа я уж точно должна была встать и покинуть «Ла Скала», не дождавшись завтрака и не застегнув пряжки на туфле.
Но я продолжаю сидеть.
– Несчастная любовь. Да.
Что сделал бы Доминик? И что наверняка сделали бы Фрэнки, Жюль, его приятель Джим и еще несколько сотен миллионов мужчин – на том лишь основании, что они – мужчины, волей судеб оказавшиеся в обществе слабой женщины?
Они бы утешили меня.
«Роковая случайность, Сашá! только кромешный идиот не оценил бы вас по достоинству, Сашá, только слепой! вы прекрасны, Сашá!» – этого было бы вполне достаточно.
От Алекса Гринблата такой дежурной галантности придется долго ждать, и (в ожидании) я могу пропустить не только завтрак, но и обед, и ужин.
– Значит, несчастная любовь? И вы не нашли ничего лучшего, чем сбежать от нее в этот городишко?
– Не нашла, – честно признаюсь я.
Алекс Гринблат снова принимается за яичницу.
– Типично женская логика, – говорит он, заглатывая желток. – Время должно спасти, расстояние должно избавить… Все это чушь собачья, Сашá.
– Чушь.
– А ваш избранник – кромешный идиот.
Неужели я дождалась комплимента от Алекса Гринблата?! Как бы не так!..
– …не потому, что вы такая потрясающая, а он вас не оценил. Потому, что женщины чаще всего влюбляются в идиотов. Не думаю, что вы исключение.
– Я не исключение. А что бы вы сказали, если бы я влюбилась в вас?
На судьбу брюссельской капусты моя провокационная фраза никак не повлияла: она преспокойно исчезает в пасти Алекса.
– Не смешите меня, Сашá.
– Почему? Вы не верите в любовь с первого взгляда? – продолжаю нагнетать ситуацию я.
– Только в нее и верю. Но что касается меня… – Алекс делает многозначительную паузу. – У вас нет никаких шансов.
– Абсолютно никаких?
– Абсолютно.
– Потому что ваше сердце занято кем-то другим?
– Потому что я – не идиот. И это – единственная причина.
– Я не могу рассчитывать даже на мимолетную связь?
Бог мой, и во времена отвязного студенчества я не позволяла себе подобных сальностей – вне зависимости от количества выпитой водки и количества выкуренных косячков. А встретив I'amour, впоследствии оказавшуюся le tnerde, и вовсе решила, что полигамия – не для меня. Так же как и дружеский секс, секс по телефону, секс по интернету, секс для нормального функционирования яичников и секс на платформе сходных политических убеждений.
Политических убеждений у меня нет. И я не имею ничего против натурального меха и сафари в Кении, что же касается секса – за последние три года Эс-Суэйра выдула из меня даже воспоминания о нем, занесла их песком и похоронила под набегающими друг на друга волнами.
И вот теперь – разговор с малознакомым мужчиной о мимолетной связи. Как мило.
– На мимолетную связь может рассчитывать любой, – поигрывает ножом Алекс. – Но не всякий оказывается к ней готов.
– А лично я – могу?
– Можете. При условии, что вы – нимфоманка. И вам все равно с кем спать.
– В противном случае…
– В противном случае, секс со мной не доставит вам никакого удовольствия. Как и большинству женщин.
Шокирующее откровение, оценить его по достоинству мешает вновь появившаяся Кондолиза с одинокой тарелкой для mademoiselle, нарочно или не преследуя никакого умысла – но она позабыла о сыре и капусте, можно ли считать крошечный сосуд с соусом компенсацией?..
Устраивать скандал я не стану.
– Хотите еще поговорить о сексе? – интересуется Спаситель мира.
– Пожалуй, нет.
– Тогда вернемся к вам. Ваши волосы…
Не короткие и не длинные, не темные и не светлые, что-то среднее. Какими бы они ни были – страсти в них больше не запутаться. А ведь меня многие считали страстной, иногда – чересчур; человек, бывший моей l’amour, отбыл в неизвестность именно с этим убеждением. Осев в Эс-Суэйре, я совсем махнула на себя рукой.
Чтобы не сказать – опустилась.
Это особенно бросается в глаза на фоне холеной физиономии Алекса. «Хлыщ» – назвал его Доминик. Справедливое замечание.
– …А что – мои волосы? Вам не нравится прическа?
– Мне совершенно все равно, какая у вас прическа. Но если бы вам пришлось выбирать – вы бы отрастили их или наоборот – постригли самым кардинальным образом?
– Я уже выбрала.
– Это не ответ. Отрешитесь от события, которое загнало вас в такую дыру. Что бы вы выбрали?
Тест-драйв продолжается, даже забавно.
– Я бы постриглась. Очень коротко.
– Так я и думал, – удовлетворенно хмыкает Алекс.
– Мне развить эту тему или вы сами разовьете?
– Тут и развивать нечего. Все, что можно было узнать о вас, – я узнал из вашего письма.
– Странно. В нем не содержалось никаких биографических данных. И никаких ссылок на косметические, кулинарные, сексуальные и иные предпочтения. И о состоянии ротовой полости там не было ни слова. Только подпись.
– Я умею читать между строк, Сашá.
– Кто бы сомневался! – Достаточно ли иронично это прозвучало? – Что же такого интересного вы вычитали?
– У вас есть чувство юмора, – принимается загибать пальцы Алекс. – Вы обладаете вкусом, энергичны, умеете убеждать, умеете взглянуть на вещи с неожиданного ракурса, вы русская, наконец…
– Это так важно?
– Это важно. Позже я объясню вам – почему… И потом – вы хороши собой.
Ха-ха.
– Не красавица, конечно, – тут же поправляет себя Алекс. – Далеко не красавица. Но в вас есть то, что обычно называют шармом. Изюминкой.
– Это вы тоже почерпнули из письма?
– Это – нет. Это я увидел уже по приезде сюда. Это можно считать бонусом. Дополнительными баллами.
– Дополнительными – к чему?
– Я объясню вам. Позже.
– После завтрака?
– Позже – значит позже.
Письмо не выглядело ни особенно оригинальным (на мой взгляд), ни особенно длинным, две с половиной страницы, напечатанные на пишущей машинке. Не такой старой, чтобы на ней было совсем уж неудобно работать, Доминик называет ее «portative»8 – она, как и бритва, как и музыкальная шкатулка была забыта в одном из номеров. Никаких дополнительных аксессуаров к машинке не прилагалось, лишь вставленный в каретку лист, с обрывком фразы:
…что мешает нам начать игру? Давай отбросим все и начнем…
По ее поводу у нас даже возник бесплодный спор с Домиником. Доминик считает, что это – финал мегабестселлера, завоевавшего рынок, я же убеждена, что это – начало заурядной книжонки, изданной ограниченным тиражом и полностью провалившейся. В любом случае мы с Домиником так и не узнали о судьбе других фраз на других листах, а машинка осталась у меня. К сочинительству она не особенно располагает.
Мертвый груз.
Алексу так не показалось.
Поэтому он и сидит сейчас напротив меня, отложив вилку и нож и подперев руками подбородок: завтрак окончен.
Как и следовало ожидать, за него мы расплачиваемся отдельно друг от друга.
– Чем займемся теперь? – спрашиваю я у Алекса, кладя в папку со счетом двадцать дирхам – чаевые на вспомоществование толстухе Кондолизе.
Алекс Гринблат ограничился десятью.
– Чем займемся теперь? – спрашиваю я у Алекса, когда мы снова оказываемся на улице.
– Дайте подумать…
– Хотите, покажу вам город?
Глупейший призыв, я ведь знаю, что ответит мне Алекс, как он ответит.
– Оставим туземные прелести туристам.
По узкой улочке несется ветер. По узкой улочке скачет солнце. То здесь, то там хлопают синие ставни, открываются и закрываются синие двери, а в ослепительно синем небе я вижу стаю голубей. Видит ли их Алекс Гринблат?..
Не уверена.
Даже не обладая его чутьем, я могу предсказать, что он сделает в следующую минуту: развернется на сто восемьдесят градусов и пойдет вдоль улицы, навстречу ставням, дверям и ослепительно голубому небу, время «позже – значит позже» еще не пришло.
Но я ошибаюсь. Я все время забываю, что он – Спаситель мира, а значит, следует своей собственной логике. Простому человеку понять ее так же трудно, как представить бег тока по проводам или осознать механизм деления клеток.
Деление клеток. Чертовски красивые глаза Алекса устраивают (специально для меня!) мастер-класс деления: с их радужной оболочкой что-то происходит, она распадается на сотни разноцветных осколков, в каждом из них я вижу свое собственное отражение, и отражение улицы, и еще какие-то отражения, смысл которых мне не совсем ясен. Совсем неясен, если уж быть точной. Штрих-коды, пиктограммы, логотипы, обрывки цифр, обрывки счетов – ничего этого нет в действительности. Мое разыгравшееся воображение, не более, умение взглянуть на вещи с неожиданного ракурса. И еще – чертовски красивые глаза Алекса. Сами по себе. Они обладают гипнотической силой. Гипнотическая сила чертовски красивых глаз, а вовсе не самые обычные (хотя и по-женски ухоженные) руки Алекса прижимает меня к стене. Хлопающий синий ставень слева, то открывающаяся, то закрывающаяся синяя дверь – справа.
И ветер. И солнце. И ослепительно голубое небо со стаей голубей.
– Удивите меня, Сашá, – шепчет Алекс.
– Удивить?..
– Да. Удивите меня. Покажите мне нечто такое…
Нечто такое, что заставит меня изменить взгляды на жизнь. Нечто такое, что заставит меня почувствовать, что она по-настоящему прекрасна.
– Покажите мне нечто такое, что заставит меня выложить энную сумму.
– Наличными? – глупо спрашиваю я. – Или выпишете чек?
Глаза Алекса. Не так уж они и хороши. Но теперь это не имеет принципиального значения.
– Как карта ляжет, Сашá. Удивите меня!
– Доски Доминика, – напоминаю я Алексу. – Вы еще не видели их.
– Я видел их.
– На фотографиях. Это не одно и то же.
– Это – одно и то же. Удивите меня!
– Показать вам фокус? Я не знаю ни одного…
– Удивите меня!
Главный тест. Все остальное, включая наш ночной разговор, и утренний разговор, и завтрак с раздельным счетом, и препирательства по поводу длины волос – все остальное было лишь подготовкой к нему. Вот, что я должна сделать сейчас, – удивить Алекса Гринблата, Спасителя мира! Возможно, тогда неожиданно и прояснится сюжет мегабестселлера (заурядной книжонки) со словами в финале (вступлении)?..
– Что мешает нам начать игру?
– Ничего, – отзывается Алекс.
– Давай отбросим все и начнем!
***
…До причала, где обычно стоит лодка Ясина, пятнадцать минут ходьбы. Последние пять я почти бегу, едва касаясь ногами земли, мне очень хочется побыстрее удивить Алекса Гринблата. Заставить его расстаться с энной суммой.
Ясин подходит для моего плана, как никто другой. Две минуты, минута, причал уже виден, он отделен от самого посещаемого туристами форта – Скалы дю Порт (со смотровой площадкой) длинной крытой улицей и небольшой площадью: несколько магазинчиков, торгующих открытками и сувенирами, кооператив по изготовлению поделок из дерева, агентство недвижимости (головной офис – в Лондоне), два кафе, ведущие жестокую конкурентную борьбу за туристические кошельки. На площадь лучше не соваться, таких площадей Алекс наверняка перевидал немало – похожих друг на друга, вне зависимости от того, являются ли они объектом культурного наследия, охраняемым ЮНЕСКО, или нет.
Слава богу, что ЮНЕСКО еще не пронюхало о существовании Ясина и рыбы, которой он торгует. И не наложило квоту на его трюки со вспарыванием рыбьих животов. У меня есть шанс.
Катер Хасана и Хакима на месте, к нему прилепилось еще несколько лодок, над которыми кружат полчища голодных чаек. И раньше их крики напоминали мне крики муэдзинов, сейчас же сходство особенно очевидно. Чайки везде, а запах рыбы, воды и гниющих водорослей норовит пробраться не только в ноздри, но и под одежду, под кожу.
Знаю я эти штучки, знаю я этот запах, но готов ли к нему чистюля Алекс Гринблат?
Он не выказывает никакого беспокойства, никакой брезгливости, даже когда под его подошвами начинают хрустеть вырванные жабры, выпавшие перья, ошметки чешуи. Алекс предельно сосредоточен, он не отстает от меня ни на шаг.
Только в одном месте заметен просвет, не занятый нахальными птицами. Там и стоит лодка Ясина. А спустя секунду появляется сам Ясин, до этого он возился со снастями. Картинка, достойная быть запечатленной в настенном календаре «MAROC», январская, самая востребованная страница:
фольклорный араб в фольклорном челне, нефольклорные элементы отсечены при ретуши. ПРИВЕТ ИЗ МАГРИБА!
Я испытываю облегчение, когда вижу на Ясине потрепанные спортивные штаны и жилетку с множеством карманов. И штаны, и жилетка вступают в явное противоречие с чалмой на голове, но это даже хорошо, никакой особой экзотики, оставим туземные прелести туристам. К тому же мне не хочется казаться приятельницей Ясина, демонстрировать трогательное единение Запада и Востока – что может быть пошлее? Максимальная сдержанность, вот что от меня требуется. Максимально сдержанно я машу Ясину рукой:
– Здравствуйте, Ясин.
– Здравствуйте, мадам.
Лодка Ясина забита рыбой, сегодня ее еще больше, чем когда-либо. Салака, ставрида, тунец – их тела играют на солнце и поражают своим великолепием. Нет только сельди, но сезон лова сельди еще не наступил. Ближняя к нам с Алексом груда угрожающе шевелится.
Осьминоги.
Четыре маленьких и один побольше.
– Как обычно, мадам?
– Как обычно, Ясин.
«Как обычно» предполагает, что я спущусь в лодку и сама выберу рыбу. После этого Ясин вспорет ей живот и… Может быть, Алекс Гринблат удивится настолько, что отвалит за содержимое живота энную сумму. Алекс стоит за моей спиной, а это означает определенную корректировку «как обычно».
– Можно, мой друг тоже спустится? – спрашиваю я у Ясина.
– Конечно, мадам.
Ясин подает мне руку, и я оказываюсь в лодке, после чего туда же спрыгивает Алекс. Ясин отступает на корму: места для троих в середине маловато.
– Выбирайте рыбу, Алекс, – командую я.
– Зачем?
– Увидите.
– Можно выбрать любую?
– Абсолютно любую.
– Я не поклонник рыбы и морепродуктов.
– Неважно. Вы же хотели, чтобы я вас удивила. Выбирайте!
– Лучше вы. – Нерешительность Алекса мне непонятна.
– Если это сделаю я – вы обвините меня в сговоре с продавцом и подтасовке фактов.
– Не обвиню.
– Хорошо.
Все последующее происходит подавно отработанной схеме: поискав глазами подходящий экземпляр, я останавливаюсь на тунце в руку длиной, с темно-синей спинкой, бледным брюхом и разводами у плавников. В затуманившихся глазах тунца стоят слезы, меня они не разжалобят.
– Эту.
– Хорошо, мадам. Почистить ее?
– Как обычно, Ясин.
Рыбак подбрасывает тунца на ладони, затем укладывает на импровизированную разделочную доску – кусок твердого темного дерева, прочно обосновавшийся между двумя скамьями, – и начинает счищать чешую. Процесс занимает минут пять, причем Ясин считает своим долгом развлечь нас разговором.
– Мне приснился странный сон, мадам.
– Странный?
– Сон со значением.
«Сон со значением » – таких сложных построений еще не встречалось в примитивном французском Ясина, должно быть, он тайком занимается самообразованием. Нужно подарить ему франко-арабский словарь, я видела его в библиотеке Доминика, – жалкий, пыльный, никем не востребованный. Ясину же он может пригодиться.
– Сломанные стрелы. Змея. Несколько кошек. И вы, мадам.
– Пестрая компания.
– Все дело в кошках, мадам. Я не могу сказать, что делали вы и что делали кошки. Но… Это не очень хороший сон.
– Не очень хороший?..
Лицо и руки Ясина скрываются в облаке рыбьей чешуи, больше похожей на пелену снега или дождя, я уже успела забыть, что где-то существует снег, существует дождь. И мартовская жижа как лучшая декорация для эпического финала – «Оставь меня в покое, идиотка!»
Что делали кошки в сне Ясина? Что делала там я? Какое мне вообще дело до снов рыбного божка, от них можно было бы и отмахнуться. Если бы не сплетни и враки, которые распускают Хаким и Хасан. Ясин не может рассказать мне свой сон в подробностях, потому что я пришла не одна, и, значит, все дело в Алексе? Или все-таки в кошках? Но ведь никогда раньше мы не вели разговоры о снах!..
Скорей бы он закончил чистить тунца.
– Я должен вас предостеречь, мадам.
– Отчего?
Я обеспокоена, но не только и не столько словами Ясина, а тем, как они смотрятся со стороны. Путаные символы, путаные окончания, Спасители мира при таком раскладе впадают в скуку и нигилизм первыми.
– Просто предостеречь. Вы должны быть осторожны. Нужно положить конец всему этому. И немедленно.
– Хорошо, я буду осторожна.
– Все как обычно, мадам? – Ясин вовсе не кажется успокоенным, нож, обратной (зазубренной) стороной которого он снимал с тунца чешую, подрагивает.
– Да.
Неожиданно в лодку бьет волна, и, чтобы удержаться, я хватаюсь пальцами за запястье Алекса. Пытаюсь ухватиться – и обнаруживаю пустоту: Алекс даже не подумал помочь мне. Такие мелочи, как волны и девушки, нуждающиеся в помощи, его не занимают. Тем более что Ясин уже вспорол рыбье брюхо.
Я молю бога, чтобы все прошло «как обычно».
Есть!..
Покопавшись в потрохах, Ясин извлекает на свет ключ. Не такой эффектный, какой была курительная трубка, но тоже заслуживающий внимания. Незатейливая бородка с двумя зубцами, узкое тело, на наконечник намотана часть тунцовых внутренностей – ее не разглядеть.
Алекс присвистывает.
– Это шутка? – помедлив, спрашивает он.
– Нет, – отвечаю я.
– Фокус?
– Нет.
– Профессиональный трюк?
– Вы готовы раскошелиться? – Я с трудом скрываю торжество. – Выложить энную сумму?
Так и не ответив мне, Алекс лезет в задний карман брюк за бумажником. Энная сумма, с которой он готов расстаться, составляет десять евро.
– А верхняя шкала, по которой вы оплачиваете удивление… Максимум… Он существует?
Алекс теребит десятку в руках:
– Это и есть максимум.
– Значит, мне удалось удивить вас по максимуму?
– Да. Я должен отдать деньги вам? Или этому парню?
– Рыба стоит намного дешевле десяти евро. И Ясин не возьмет больше, чем стоит рыба.
– А ключ?
– Ключ входит в стоимость.
Я терпеливо объясняю Алексу все то, что три года назад объяснял мне сам Ясин. Пока я делаю это, Ясин заворачивает рыбу в бумагу и помещает ее в пакет. Туда же отправляется ключ.
– А если бы вы выбрали другую рыбу? – Алекс мгновенно становится похож на ребенка, пристающего ко взрослым с вопросом «куда по ночам девается солнце?».
– Я получила бы что-нибудь другое.
– Вы всегда что-нибудь получаете?
– Всегда.
– А если бы рыбу выбирал я?
– Вы же не любите рыбу и морепродукты!
– И все же…
– Я вас понимаю, Алекс. Когда я столкнулась с этим впервые – тоже подумала: профессиональный трюк, не иначе.
– И?
– О трюке речи не идет.
– Вы часто здесь бываете, Сашá?
– Несколько раз в неделю. Иногда чаще, иногда реже.
– И ни разу не ушли с пустыми руками.
– Ни разу.
– Рыба не в счет!
– Ни разу. Хотите попробовать сами? Несколько секунд Алекс колеблется.
– Нет.
У него нет и причин оставаться в лодке дольше. Оттолкнувшись от скамьи, Алекс вспрыгивает на пирс; он не оглядывается, в полной уверенности, что я последую за ним. Прихватив рыбный пакет. И я готова это сделать, но что-то мешает мне. Рука Ясина, крепко перехватившая мою руку.
– Подождите, мадам! – понизив голос до шепота, говорит Ясин.
– Собираетесь рассказать о своем сне подробнее? Без свидетелей?
«Sans temoin» – вот как это прозвучало, неясно, понял ли меня Ясин.
– Человек, с которым вы пришли, мадам… – Рыбак старается не смотреть в сторону Алекса. – Он опасный.
– Для кого?
Подозреваю, что со стороны пирса мы выглядим дурацки, араб и белая женщина, неожиданно ставшие заговорщиками, рыбная фронда. Чтобы хоть как-то смягчить впечатление, я присаживаюсь на корточки перед осьминогами – четырьмя маленькими и одним побольше. Ясин следует моему примеру.
– Для кого он опасен, Ясин?
– Для вас. Для всех.
– Значит, и для вас тоже?
Ясин ненадолго задумывается: похоже, такая мысль еще не приходила ему в голову. Лоб Ясина собирается складками, брови ползут к переносице, рот приоткрывается: за ним поблескивают диковатые неровные зубы.
– Я всегда могу уплыть, – покончив с театральной паузой, говорит он. – Туда. В океан.
И то правда: в обществе тунцов, салаки и скумбрии Ясину ничто не угрожает.
– А в чем заключается опасность?
Ясин приподнимает щупальце осьминога и принимается сосредоточенно рассматривать его, как будто именно там заключены все ответы на все вопросы, вопрос о гипотетической опасности Алекса Гринблата – не исключение.
– Этот человек опасный, мадам!..
Наконец до меня доходит, что Ясин не сможет сказать мне больше – даже при желании, проклятый языковый барьер, не позволяющий одному человеку приблизиться к истине, которой обладает другой. (Постскриптум: не забыть в следующий раз втюхать Ясину франко-арабский словарь, хотя гарантий, что французская истина является по совместительству и арабской истиной, не существует.)
– Держитесь от него подальше.
Дружеский совет (если невнятные стенания рыбака можно считать дружеским советом) явно запоздал, никаких сожалений по этому поводу я не испытываю. Скорее – бесшабашную, почти истерическую веселость.
– Обещаю вам быть предельно осторожной, Ясин!
Я кладу руку на руку Ясина, все еще держащего за руку осьминога (можно ли считать щупальца руками?). Пальцы Ясина кажутся мне холодными, липкими, покрытыми слизью, как можно принять их сторону, как можно поверить им?
Ясин врет.
Водит меня за нос – типично арабская, типично магрибская манера. И вообще, у Ясина дурной глаз, дурной глаз! Хасан и Хаким не так уж неправы.
– А сон?..
– Приходите одна, мадам! Приходите одна, и я расскажу вам свой сон.
Мерзавец!..
– Обязательно приду, Ясин. Вы меня заинтриговали.
«Intrigue» – вот как это прозвучало, неясно, понял ли меня Ясин.
– Этот человек опасный! Опасный!
В какой-то момент мне кажется, что не руки Ясина – осьминожьи щупальца обхватывают меня, ощущение не из приятных, оно заставляет вспомнить те дни (тот день) когда я была облеплена рыбьей чешуей, бр-р, гадость какая, ни один ключ того не стоит, ни одна курительная трубка! Побыстрее бы отрешиться от всего этого, и от Ясина заодно; Алекс Гринблат, скучающий на пирсе в ожидании, кажется мне едва ли не избавителем, с которым можно общаться, не прибегая к помощи словаря.
Я освобождаюсь от щупальцев, предварительно сунув в них мятую бумажку в двадцать дирхам, примерно столько стоит потрошеный тунец.
– Мне пора, Ясин.
– Да, мадам! Помните, что я вам сказал. И приходите одна.
– Да. Да…
Я выскакиваю из лодки как ошпаренная, ничьей помощи мне не понадобилось. Завидев мои маневры, Алекс поворачивается на сто восемьдесят градусов и быстрым шагом удаляется от края пирса, теперь мне придется бежать, чтобы нагнать его. Алекс – такой же мерзавец, как и Ясин. Меня окружают мерзавцы!..
– О чем вы говорили с вашим приятелем? – спрашивает Алекс, когда я оказываюсь рядом.
– Ни о чем. Я заплатила за тунца.
– Вы ведь говорили обо мне. Что именно?
– Вы понравились туземцу.
Почему я солгала? Чтобы не давать Спасителю мира лишнего повода для гордыни. «Вы понравились туземцу» звучит беззубо, стерто, полстроки из замызганного путеводителя, да и только; «туземец сказал, что вы опасный человек» – это придает ситуации пикантность и заставляет воображение качать мускулы и вырабатывать адреналин.
– А мне показалось, что я не так уж ему понравился.
– Вы ошибаетесь, Алекс.
– Я никогда не ошибаюсь.
Алекс Гринблат знает, что говорит. И ничего не забывает, о чем-то подобном я уже думала за завтраком. Вот и сейчас он спрашивает меня:
– Так к чему арабам снятся кошки? И сломанные стрелы… И…
– И змея.
– Да.
– Я не успела выяснить. И меня не волнуют чужие сны.
– Ценное качество. А собственные?
– Я их почти не вижу, а если вижу – не могу вспомнить. И потом… Погрузиться в сон – все равно что погрузиться в темноту.
– Не обязательно.
– За закрытыми глазами всегда темно. А у меня сложные отношения с темнотой. В темноте я ничего не вижу.
– Так вы уникум? – Алекс раздвигает губы в иронической улыбке.
– Не думаю. Просто… Мои глаза не привыкают к темноте, как многие другие глаза. Такая вот особенность организма.
– И давно она у вас?
– С детства.
– Забавно. Теперь пришло время взглянуть на доски.
– Мы возвращаемся в отель?
– Куда же еще? Доски ведь хранятся там?..
Я могла бы провести Алекса другой дорогой, а вовсе не той, какой мы пришли, – лишь для того, чтобы он в полной мере ощутил всю прелесть сине-белой Эс-Суэйры, ее крытых улочек, ее таверн, где подают жесткое верблюжье мясо и вкуснющую рыбешку «сибас»; ее шероховатых обветренных стен с запахом туи, тамариска и можжевельника, и еще чего-то, что вовсе не нуждается в переводе… как бы не так! – Алекс Гринблат далек от поэзии маленьких портовых городов.
Его не прошибешь.
Самое ужасное, что я и сама начинаю думать об Эс-Суэйре как об отстойнике, канализационном сливе, прибежище лузеров, которым остается только покачиваться на грязных волнах, гонять в футбол на пляже, усеянном нечистотами, и коротать ночи в номерах сомнительных гостиниц. Что-то очень важное проходит мимо меня.
Подозреваю, что это «важное» – и есть сама жизнь.
Апекс молчит.
Он молчит до самого отеля; чтобы попасть к Доминику, нам нужно подняться на второй этаж, пройти по коридору в самый конец, снова спуститься на первый и снова пройти по коридору, заканчивающемуся тупичком с одинокой дверью. Там и находится жилище Доминика: что-то вроде двухкомнатной квартирки, одну комнату занимает сам хозяин, еще одну – его знаменитые доски для виндсерфинга.
На ресэпшене нет никого, кроме скучающей Фатимы, жены Наби. Фатиме чуть больше двадцати, у нее двое мальчишек-близнецов, Джамаль и Джамиль, слишком беспокойных, чтобы их ждала судьба флегматичного Наби. Я знаю, кем станут Джамаль и Джамиль, когда вырастут:
не Рональдо и не Рональдиньо – Хасаном и Хакимом.
Фатима раскладывает пасьянс.
– А где Доминик? – спрашиваю я.
– Хозяин ушел к себе.
Бесконечный пасьянс Фатимы никогда меня не занимал, и цели, которые она преследует, раскладывая его, мне неизвестны. Карты, впрочем, тоже. Вместо традиционной колоды и традиционного набора мастей – аккуратные квадраты из плотного картона. Каждому краю квадрата соответствует обрывок изображения, отсюда, с противоположной стороны стойки, мне видна нижняя половина лошади и одинокий башмак – бабуш. Значит, где-то есть верхняя половина лошади и второй башмак. Фатима поворачивает один из квадратов, подгоняет его к соседнему – и на бледно-сиреневом фоне возникает силуэт дворца Бахия. Не тот, каким его обычно снимают для туристических проспектов, – первозданный. Просто дух захватывает!
Мне стоило бы повнимательнее присмотреться к рисункам на квадратах.
И я обязательно это сделаю, но сейчас важен только Доминик. И его доски.
Кивнув Фатиме, я поднимаюсь по лестнице, Алекс следует за мной. Вот и площадка с зеркалом и стеклянным шкафом для забытых в номерах вещей. Чтобы пересечь ее, хватит и пяти секунд, но мы задерживаемся еще на минуту. Все из-за Алекса, от его взора ничто не ускользнет. Он топчется возле шкафа, внимательно разглядывая его внутренности.
– Вам не кажется, что что-то изменилась, Сашá?
– Что там могло измениться, Алекс?
– Кое-чего недостает.
Напульсник, медальон, ремень, статуэтка Мэрилин и статуэтка Будды. Музыкальная шкатулка тоже на месте, о чем мне толкует Алекс?
– Бритва, – голос Алекса звучит почти интимно. – Я не нахожу здесь бритвы.
Опять бритва. Не далее как сегодня утром Алекс отправил ее в отставку, в почетную ссылку, и вот теперь разговор о ней зашел снова.
– Странно.
Это и правда странно, бритва пролежала за стеклом несколько лет, никем не востребованная. И вот теперь она исчезла. И дверца самого шкафа не закрыта на ключ, а всего лишь плотно прикрыта. Странно, странно, странно!..
– Интересно, кому она могла понадобиться? – Алекс никак не может оторвать взгляд от шкафа.
– Понятия не имею.
– Приличный человек не взял бы ее и даром.
Приличный человек в понятии Алекса только один – он сам.
А владелец бритвы (прошлый или нынешний) – априори нелегальный иммигрант, гастарбайтер, раз в три дня с остервенением скребущий щетину. Насухо, перед расколотым, засиженным мухами зеркальцем от пудреницы. Пудреница досталась ему в подарок от шлюхи, такой же дешевой, как и сам гастарбайтер. А из окна его комнатенки виден лишь остов заброшенного цементного завода.
– Я скажу Доминику. Возможно, это он вытащил ее.
Не бог весть какое предположение, до сих пор мой толстяк не выказывал особого интереса к бритве. К тому же, он бреется станками «Жиллет», а иногда не бреется вовсе. Ходит заросшим, бессознательно маскируя второй подбородок.
– Почему он? – Алекс проявляет к заурядному событию повышенный интерес, акцентирует на нем внимание – и это тоже выглядит странным.
– Потому что второй ключ от шкафа есть только у него. Пойдемте, Алекс.
Сколько отелей перевидал в своей жизни Алекс Гринблат? Массу. Спасители мира в моем представлении являются самыми запойными путешественниками, они коллекционируют страны так же, как мы с Домиником коллекционируем вещи из номеров. Где-нибудь в заоблачной выси, в башне из слоновой кости посредине Манхэттена, в замке посредине Шервудского леса, в хвостовой части дирижабля «Италия», на корме линкора «Тирпиц» (стандартное, унифицированное человеческое жилье унизило бы Алекса Гринблата; – где-нибудь там, в одной из двух тысяч комнат, стоит огромный стеклянный шкаф со странами, которые Алекс осчастливил своим визитом:
засушенными;
заспиртованными;
заклеенными сургучом;
запертыми в музыкальные шкатулки -
уф-ф!..
И какие отели соответствовали разным возрастам Алекса? В наш он заглянул бы лишь случайно, в крайне сомнительном возрасте двадцать один – переждать туман и на скорую руку перепихнуться с до одури юной поклонницей оркестрика «Буэна Виста Соушал Клаб», она утверждает, что уже курила сигары, смех, да и только!..
Ах, да! – Секс со мной не доставит вам никакого удовольствия, – я и забыла!
Крайне сомнительный возраст двадцать один отменяется, так же, как и крайне сомнительный возраст двадцать семь, и тридцать три, и все последующие, до которых Алекс Гринблат еще не добрался, напрочь законсервировавшись в своих тридцати пяти. Надо бы вынести из холла пепельницы с окурками, куда только смотрит Фатима?
На дворец Бахия в обрамлении бледно-сиреневого.
– …Мы пришли, – говорю я, остановившись перед дверью Доминика и переводя дух.
– Стучите, – командует Алекс.
Но и без его понуканий я впиваюсь костяшками в слегка разбухшее от постоянной влажности дерево. Никакого ответа.
– Доминик, это я! Открой!
– Он мог куда-нибудь уйти, – замечает Алекс.
– Вряд ли. Он наверняка дома.
За дверью по-прежнему тихо. Спустя минуту тишина начинает раздражать меня.
– Доминик! Мы же договаривались, Доминик!..
Шорох, шлепанье босых ног, покашливание – слава Богу, хоть какие-то подвижки.
– Это ты, Сашá?
– Ну конечно!
Мне не нравится голос Доминика: придушенный, хриплый, дрожащий, как осиновый лист, загнанный. Он пропитан влагой, так же, как вход в его берлогу, ничего хорошего ждать от этой влаги не приходится. С Домиником что-то не так, это чувствуется и через дверь.
– Черт возьми, Доминик! Откроешь ты или нет?
Покашливание переходит в сопение, как будто Доминик пробежал марафонскую дистанцию и остановился в пяти метрах от финиша: двигаться дальше он не в состоянии, бедняга Доминик. Остается надеяться, что ему еще хватит сил повернуть ключ в замке.
– Мы пришли посмотреть доски, – уламываю я Доминика. – Я ведь говорила тебе…
Дверь распахивается – наконец-то!
Дверь распахивается, и передо мной предстает Доминик. То есть я понимаю, что это он, ведь никого другого здесь быть не должно. Перемены, произошедшие в Доминике за те несколько часов, что мы не виделись, разительны. Полнота, и без того его не красившая, теперь кажется болезненной, щеки обвисли, глаза ввалились, по вискам струится пот, губы запеклись и покрылись струпьями. Картина, открывшаяся мне, так неожиданна и так страшна, что я не в состоянии произнести ни слова. Если бы мужем Фатимы был не Наби, а сам Доминик, я решила бы, что он потерял кого-то из близнецов, Джамиля или Джамаля, или, что вероятнее, – их обоих.
Доминик раздавлен. Уничтожен. Он едва держится на ногах.
– Что-то случилось? – решаюсь спросить я.
– Ничего. Все в порядке.
– Ты неважно выглядишь, Доминик.
Сколько раз то же говорил мне сам Доминик – и по гораздо более ничтожным поводам!
– Я же сказал – все в порядке!
– Это Алекс Гринблат, – представляю я стоящего за моей спиной Алекса. – Он заинтересовался твоими досками. Прилетел сюда ради них. Ты впустишь нас?
Доминик колеблется. Облизывает струпья на губах. Скребет щетину на подбородке. Хватается за дверной косяк; единственное, что заслуживает сейчас внимания, руки Доминика. Они перепачканы красным, мне даже начинает казаться – это кровь. Наваждение длится секунду, от силы – две; наличие крови объяснило бы все – и ввалившиеся щеки, и общую болезненность.
– Твои руки…
– Пустяки, – Доминик сглатывает слюну. – Я перевернул банку с краской.
Краска, ну конечно же! Кровь не может быть такой вызывающе яркой, такой однозначной, ее удел – приглушенность, ее удел – полутона. Я судорожно пытаюсь вспомнить, как часто Доминик прибегал к помощи красного (все его работы я изучила до последнего мазка) – ничего убедительного на ум не приходит. Аквамарин – да, кобальт – да, охра – да, умбра – может быть, но кармин никогда не был определяющим цветом Доминика. Доминик всегда его побаивался, всегда был осторожен с ним – и вот теперь, пожалуйста, – перевернул целую банку!..
– Сейчас не самое подходящее время для визита, Сашá.
– Вымой руки и приведи себя в порядок. – Так просто я не сдамся! – Мы подождем.
– Не стоит. Разве что потом. Позже.
Ситуация – глупее не сыскать, представляю, что думает о нас с Домиником Алекс. Специальный гость Алекс Гринблат, ради которого все и затевалось.
– Когда?
Я готова к любому ответу, «приходите вечером», «приходите завтра» – не самый шокирующий вариант, рано или поздно я дожму толстяка.
– Так когда?
– – Никогда! – выдыхает Доминик и с треском захлопывает дверь. Вот ублюдок!
– Что это с ним? – вяло интересуется Алекс.
– Понятия не имею. Причуды гения.
– Он грешил ими и раньше?
– Да нет. Доминик – милейший человек. Вполне адекватный.
– Я вижу. Попытайтесь поговорить с ним еще раз, Сашá.
Я с тоской смотрю на дверь, волшебным образом увеличившуюся до размеров крепостных ворот – такая играючи выдержит любой таран. А стенобитных орудий у меня под рукой нет.
– Я подожду вас в номере. Поговорите с ним.
– Я не уверена…
– Вам он откроет, – Алекс делает ударение на первом слове. – Уж поверьте…
Он едва не добавил «спасителю мира», но вовремя ограничился «психологом со стажем», каждую минуту Алекс Гринблат открывается для меня с новой, неожиданной стороны. Я отдаю Алексу пакет с рыбой и с тоской провожаю взглядом его прямую спину. И снова сосредотачиваюсь на двери.
– Доминик?
– Да.
Как и следовало ожидать, Доминик никуда не делся – его сопение нестерпимо, к нему добавились хрипы и странное бульканье, неужели весь этот обвал звуков вызван инцидентом с перевернувшейся банкой краски?
– Я одна. Ты впустишь меня?
– Ты правда одна?
– Правда.
…Доминик прячет руки за спину, чтобы не смущать меня и себя заодно. В комнате царит страшный беспорядок, на полу валяется испачканная краской ветошь, постель не убрана, стулья опрокинуты. И только библиотека, занимающая одну из стен, дышит спокойствием. Совершенно машинально я ищу глазами франко-арабский словарь, это самый толстый том в библиотеке Доминика. Словарь на месте, только его сафьяновый переплет еще больше посерел от пыли.
– Что за представление ты устроил?
– Ничего я не устраивал.
– На кого ты только похож!
– Да ладно тебе, Сашá…
– Я предупреждала тебя. Алекс очень заинтересовался тем, что ты делаешь. Не поленился и прилетел в наше захолустье. – Я в сердцах машу рукой. – Как это понимать, Доминик?
– Мне нечего ему показать.
– Что значит – нечего?
– То и значит.
– А доски?
– Досок больше нет.
Смысл сказанного Домиником не сразу доходит до меня: расписанных досок для серфинга не меньше тридцати, а то и сорока, они не могли разом исчезнуть, они не могли оптом отправиться в прокат, их гибель в огне тоже представляется мне проблематичной – в этом случае сработала бы пожарная сигнализация.
Пожарная сигнализация в нашем отеле всегда была на высоте.
Обойдя Доминика, я направляюсь в комнату, которую до сегодняшнего дня занимали доски. И первое, что я вижу, – огромная карминовая лужа. Ее размеры поражают, одной банкой дело явно не обошлось. Все остальное поражает не меньше, пейзаж после битвы, да и только! Доминик не соврал, досок больше не существует. Вместо них по всей комнате валяются обломки, осколки, щепы – груда бесполезного дерева, еще недавно бывшего мечтами о Марракеше, Касабланке, Рабате. Рыбный рынок разрушен, тщательно выписанные тела женщин обесчещены и густо замазаны краской. Я чувствую, как на глаза наворачиваются слезы, – кто мог сотворить такое…такое…синонима произошедшему так сходу и не подберешь, даже рейда во франко-арабский словарь будет недостаточно.
– Успокойся. – Голос подошедшего Доминика заставляет меня вздрогнуть.
– Успокоиться?
– Ты кричала.
Разве я кричала?
– Что это, Доминик?
– Ты же видишь…
– Нужно вызвать полицию.
– Полиция не поможет.
– Но… Может быть, хоть что-то уцелело…
Присев на корточки, я начинаю копаться в обломках, прикладывать их друг к другу, и это тоже разновидность пасьянса – хотя, в отличие от пасьянса Фатимы, мой никогда не сложится. Обломков так много, что ими можно было бы растапливать печь на протяжении нескольких дней, а то и недели. Если бы мы жили на севере. Но мы не живем на севере, от этого гипотетические поленья выглядят еще безнадежнее.
– Не стоит, Сашá… Оставь это.
– Я не могу… Не могу так этого оставить.
– Оставь. Я сам их уничтожил. Сам.
Слова Доминика настигают меня в тот самый момент, когда я безуспешно пытаюсь собрать лицо Девушки С Девятью Жизнями. Девушка – не марокканка. Европейкой ее тоже не назовешь: такого сумеречно-золотистого цвета кожи не существует в природе. Я была без ума от доски с Девушкой, я сфотографировала ее первой и первой же вложила в конверт с письмом для знаменитого галериста Алекса Гринблата. О предыдущих восьми жизнях Девушки мне неизвестно ничего, что касается девятой… Похоже, окончилась и она. Была насильно прервана.
Прервана. Насильно.
После чудовищного признания Доминика комната уже не кажется мне обычной комнатой при отеле. Она стала местом преступления, впору обклеивать вход в нее желтой лентой, снимать отпечатки, рыскать в поисках улик и вести пространные рассуждения о действиях серийного убийцы. Ничем не мотивированная жестокость, иррациональность мотива, вот что их отличает. От бойни, которая здесь произошла, мутит; от лужи, занимающей середину комнаты, тянет специфическим запахом крови, ее так много, что хватило бы не на девять – на девяносто девять жизней. А есть еще и другие жертвы. Девушку не воскресишь, и лучше не думать о ее последних минутах. И об ужасе, обрушившемся на ее сумеречно-золотистую кожу. Дополнительные подробности будут выяснены при вскрытии, но уже сейчас общая картина ясна: Доминик – убийца.
Самый настоящий маньяк.
– Зачем ты это сделал, Доминик? – прерывающимся голосом спрашиваю я.
– Мне они надоели.
Не слишком убедительно это прозвучало.
– Но зачем нужно было разбивать их? Таким варварским способом…
– Мне они надоели.
– Хорошо… Если уж они тебе надоели, ты мог бы сделать так, чтобы они не попадались тебе на глаза.
– Я должен был сослать их в багажный отсек? – У Доминика хватает сил отпускать сомнительные шуточки.
– Не обязательно. В конце концов, я… Я могла бы их приютить.
– Ты. А точнее – ты и твой дружок.
Доминик совсем близко, он нависает надо мной подобно горе, пологой, покрытой чахлым кустарником. Гигантские буквы на склоне составляют не традиционное марокканское «АЛЛАХ РОДИНА КОРОЛЬ», совсем нет:
«ТЫ. ТЫ. И ТВОЙ ДРУЖОК».
Еще мгновение – и он ударит меня наотмашь. Или того похуже. После произошедшего с Девушкой я уже ничему не удивлюсь.
– Мой дружок. Отлично.
– Да, да, да.
– Вот что я скажу тебе: он мог бы стать и твоим дружком. Он мог бы многое для тебя сделать!
– Да, да, да.
– Он мог купить твою мазню. – Господи, неужели я сказала «мазня»? – Он отвалил бы тебе денег, приличную сумму…
– Да, да, да.
– …и ты расширил бы отель.
Чего только не пролепечешь, когда перед тобой маячит огромная, дурно пахнущая туша! Для расширения отеля понадобилась бы не одна сотня тысяч баксов, а Алекс не заикнулся даже о вшивом центе; да и собирался ли он вообще покупать доски?..
– Да, да, да, – не меняет интонации Доминик.
Он не слушает меня, не слышит. Его «да, да, да» лишено какой-либо осмысленности, оно призвано заглушить все мои выкладки, все призывы, все попытки наладить нормальный цивилизованный диалог.
– Замолчи, пожалуйста! – не выдерживаю я.
– Хорошо.
– Ты поступил неразумно, Доминик.
– Я поступил так, как посчитал нужным.
– Ты очень… очень меня подвел.
Лучше бы я не говорила этого.
Доминик пятится назад (обломки досок хрустят у него под ногами), оказывается в дальнем углу комнаты и уже оттуда принимается разглядывать меня.
– Причем здесь ты, Cauid? – произносит он после недолгого молчания.
– Ну как же… Ведь это я… я пригласила сюда этого парня! Я рассказала ему о том, какие необычные, какие удивительные вещи ты делаешь с досками для серфинга. И про то, что ты потрясающий художник… про это я тоже не забыла упомянуть. А ты – ты все разрушил. Выставил меня полной Дурой.
– Ты из-за этого переживаешь? Из-за того, что я выставил тебя дурой перед каким-то индюком? Перед недоноском? Он прав. Именно из-за этого я и переживаю. Истина (как и любая, застигнутая врасплох истина) выглядит почти непристойно. Ненависть к Доминику, проведшему сеанс разоблачения, вспыхивает мгновенно: а он еще имел наглость сделать мне предложение, этот трус, этот жирдяй, этот мешок с удобрениями! Мазила, неудачник, грязная свинья!..
– Ты ошибаешься, Сашá – хрюкает грязная свинья. – Ты очень сильно ошибаешься.
– Нам не о чем больше говорить, Доминик.
Ослепленная ненавистью, я делаю то, что не должна была делать ни при каких условиях: я пинаю обломки, топчу ногами лицо Девушки С Девятью Жизнями, от которой еще недавно была без ума.
– Ты все разрушил! Разрушил!..
Доминик никак не реагирует на мою ярость. Он стоит в углу комнаты, с опущенными плечами, опущенной головой. Краска на его руках изменила цвет, теперь она вовсе не такая яркая, какой была вначале, наверное, то же самое происходит и с кровью, когда кровь становится воспоминанием.
Задерживаться здесь дольше не имеет смысла.
Я не жду, что Доминик окликнет меня, но он окликает:
– Сашá..
– Я пришлю Фатиму, она все уберет.
– Это ты все разрушила, Сашá. Моя жизнь…
– Твоя жизнь – дерьмо!
Дерьмо. Le merde в чистом виде, без всякого вкрапления l'amour. Я торжественно провозглашаю это у входной двери, прежде чем захлопнуть ее за собой: что бы ни сказал сейчас Доминик – ответа я все равно не услышу, а все его слова, отскочив от дерева, к нему же и вернутся.
…Алекс должен ждать меня в номере, так было условлено.
Вместо этого я застаю его у стойки, он о чем-то оживленно болтает с Фатимой, флиртует с Фатимой, черт возьми, уж не ревную ли я? Фатима тоже хороша: никакой пресловутой восточной сдержанности, никакой пугливости, круглое голое лицо смеется, круглый голый рот приоткрыт – и наказание за вольность не предусмотрено: марокканцы чрезмерно либеральны со своими женушками, рано или поздно это вылезет им боком. Я всегда считала Фатиму красавицей, достойной лучшей участи, чем быть женой повара при отеле, но теперь могу суверенностью сказать: здесь ей самое место. Что успел сказать ей Алекс? Что-то забавное – она снова улыбается, прикрыв ладонями подбородок, их тыльная сторона украшена татуировками из хны, это может впечатлить кого угодно.
Алекс тоже попался.
Не потому ли он лезет в карман за портмоне и вынимает оттуда очередную десятку? Просто наблюдать за этим – выше моих сил.
– Фатима! – окликаю я девушку. – Зайди к хозяину.
– Прямо сейчас?
– Прямо сейчас. Отнеси Наби рыбу и отправляйся к Доминику.
Ни на чем не основанная, никчемная ревность заставляет меня совершать одну глупость за другой. Я зачем-то повысила голос на Фатиму, зачем-то разговариваю с ней как с прислугой, хотя мы всегда были на равных. Женщины, помогающие мужчинам справляться с делами.
– Рыбу? – удивляется Фатима.
– Где пакет? – спрашиваю я у Алекса.
– Разве вы не видите?
Все правильно, я давно приметила и пакет, он стоит в ногах Алекса, слегка завалившись набок; прежде, чем пакет перекочует к Фатиме, необходимо изъять из него ключ. Что я и делаю, затратив на это чуть больше времени, чем следовало бы: простые механические движения призваны вернуть мне покой и равновесие.
– Какая муха вас укусила? – интересуется Алекс, когда мы остаемся одни. – Набросились на бедную девушку…
– Вы должны были ждать меня в номере…
– А теперь бросаетесь на меня! Что-то произошло?
– Пока не знаю. Фатима вас удивила?
– С чего вы взяли?
– Вы отдали ей десятку. Я видела.
– Это внеплановая десятка. Я просто купил у нее одну вещь.
– Какую же?
Вместо ответа Алекс перегибается через стойку и собирает плотные кусочки картона, оставленные Фатимой: мимо меня проплывают обе половины лошади, и оба бабуша, и дворец Бахия.
– Я купил у нее карты для арабского гадания.
– И вы уже знаете, как ими пользоваться?
– Конечно. Это несложно. Я научу и вас.
В руках Алекса карты преображаются: теперь они кажутся мне старинными, едва ли не раритетными, десять евро за такой подарок судьбы – сумма явно недостаточная.
– Четырем сторонам каждой карты соответствуют половинки четырех предметов. Лампа, кальян, дворец…
– Это Бахия.
– Все может быть. Персонификация предметов в данном случае меня не интересует. Только символика. Лошадь, полумесяц со звездой, кошка, верблюд и так далее. Всего двадцать карт. Укладываем по пять карт в ряд, получается четыре ряда. И смотрим, какие из половинок совпали. Их месторасположение значения не имеет – они могут совпадать и сверху, и снизу, важно, чтобы карты были соседними. Цельный рисунок даст нам ответ:
– Какой же?
– Полумесяц – исполнение желаний.., Змея – наличие врагов. Лепешка – застой в делах, раскрытая книга – их расцвет. Как видите, все очень просто.
– Действительно просто. А что означают бабуши?
– Что такое бабуши?
– Туфли… Или башмаки, как вам больше нравится.
– А-а… Дорогу, конечно. Не самый сложный символ. Не самые сложные трактовки.
– Мне кажется, Фатима продешевила.
– Нисколько. Так что случилось с вашим другом?
– Несчастье…
Сказать сейчас о том, что доски с картинами уничтожены, означает выставить себя не только полной дурой. Но и обманщицей, сраной мистификаторшей.
– Несчастье… или скорее форс-мажор.
– Вот как?
– Досок больше нет. Этот идиот…
– Ваш приятель? – деловито уточняет Алекс.
– Да. Этот идиот, мой приятель, разбил их в щепы. Ни одной не осталось. Не знаю, что на него нашло. Полное помрачение сознания, не иначе.
Вопреки ожиданиям, Алекс никак не реагирует на мои слова.
– Мне очень жаль, Алекс. Вы приехали напрасно. Даже тень на его лицо не упала, вот проклятье!
– Совсем не напрасно, Сашá.
Ну почему, почему в его устах это снова не выглядит комплиментом, элементарным знаком внимания симпатичной женщине! или нет: женщине с изюминкой. Или нет: женщине – владелице ключа, поднятого со дна Атлантического океана.
– Во-первых, я получил чудесные карты. Во-вторых, чудесное письмо. И наконец, вы, Сашá. Этого больше, чем достаточно.
Я слишком расстроена, чтобы вовремя заметить странности, происходящие с Алексом Гринблатом: точнее, их можно отнести к странностям, которые происходят со мной. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас улыбка Алекса начинает воспроизводить саму себя, почковаться, делиться; через короткий промежуток времени я уже окружена частоколом улыбок со всех сторон.
Отсюда не вырвешься.
Лучшего материала для мышеловки, чем улыбка Алекса, – не найти.
Я закрываю глаза и тотчас же снова открываю их: все в порядке, вот он, Алекс (в единственном экземпляре) и – что гораздо более важно – его смеющиеся губы. В единственном экземпляре. Должно быть, именно такими подвижными, гуттаперчевыми губами были наделены испанские и португальские миссионеры, обратившие в католицизм целый континент.
– Вы как будто совсем не расстроены, Алекс.
– Я и вправду не расстроен.
– Хотите, отправимся куда-нибудь вечером?
– Хочу.
…Я провожу вечер в одиночестве.
Подготовка к нему занимает всю вторую половину дня, я так ей поглощена, что вспоминаю о Доминике и обо всем случившемся всего лишь два раза.
Первый – когда нахожу под дверью небольшой конверт с жирным пятном в левом нижнем углу. Никаких вкладышей в нем нет. За исключением проклятого кольца, которым прямо перед моим носом поигрывал вчера Доминик и которое (как мне казалось) было удачно сплавлено Наби. И вот теперь оно снова вернулось ко мне. Проследить путь кольца не так уж сложно: честный парень Наби сунулся с ним к Доминику, а Доминик отфутболил его ко мне, да еще наверняка снабдил Наби конвертом. Интересно, это случилось до или после бойни? – выяснять у меня нет желания.
Я засовываю кольцо и конверт в ящик стола, вынимаю из пакета ключ и отправляюсь с ним в ванную. Ключу просто необходимо пройти обряд очищения от рыбьей требухи, к тому же она начинает явно подванивать: запах нерезкий, но он уже перешиб запах кухни, идущий от конверта. Конверт успел побывать на кухне у Наби, отсюда и пятно.
Под напором воды головка ключа обнажается, и я испытываю легкое разочарование. Она совсем не такая, какой я втайне желала бы увидеть ее: голова единорога, Вишну, медитирующий под священным деревом баньян, женщина-ящерица как праматерь сущего, воплощенное в геометрии число двадцать один как знак совершенства – ничего этого нет и в помине. Даже завалящий масонский символ мне не обломился. Головка ключа унизительно банальна: овал или неправильный круг, все ключи в нашем отеле имеют сходную форму, на переоснащение электронными у Доминика никогда не хватало денег.
Я кладу ключ на край раковины и тотчас же забываю о нем.
Новая, совершенно нелепая мысль посещает меня: прежде, чем отправиться на свидание с Алексом (вопреки всему я смутно надеюсь, что это – свидание), не мешало бы побрить ноги.
И кое-что еще.
О, боже! Если бы я бежала в Марокко с Японских островов и (по определению) была бы японкой, то зеркало в ванной отразило бы широкий рукав кимоно, прикрывший смущенное хихиканье. Но в зеркале я вижу только русскую, она не сумела ни покорить, ни удержать ни одного мужчину. И нет никаких предпосылок, что бритые ноги и кое-что еще сумеют переломить ситуацию. «Откровенно говоря, дорогая, мне совершенно наплевать», – нечто подобное говаривал Ретт Батлер Скарлетт О'Хара, цитата номер один в мировом кинематографе. Алекс Гринблат знаком с ней наверняка.
Я – русская. Я все еще русская.
Несмотря на въевшийся в кожу загар, несмотря на заметно (но не кардинально) посветлевшие на южном солнце волосы, глаза, наоборот, стали намного темнее, а у краешков губ… у краешков губ появились морщинки, как долго я не рассматривала себя в зеркале?
Три года.
Столько же времени меня не волновала небритость ног, потому и станком я не разжилась.
Ха-ха, станок можно было бы одолжить и у толстяка – и это второе воспоминание о Доминике. Не хочу больше думать о нем! Не хочу!
…Станок и два лезвия к нему обнаруживаются в стеклянном павильончике напротив отеля – у Джумы, брата Фатимы, мелкооптового торговца. Ассортимент павильончика не поражает разнообразием: сигареты, брелки для ключей, магнитные нашлепки на холодильник (обычно это верблюды в фесках с надписью «Coca-Cola»), прокладки, зубная паста, просроченное бисквитное печенье, фисташки в пыльных пакетиках и огромное количество бутылок с питьевой водой, торговля водой идет особенно бойко.
У Джумы я покупаю прокладки.
А теперь добавился еще и станок с двумя лезвиями, я полна решимости явиться на свидание с Алексом во всеоружии.
Я все еще пребываю в заблуждении, что это – свидание.
– Хотите, отправимся куда-нибудь вечером?
– Хочу.
«Хочу» – ключевое слово, его можно трактовать как угодно, вот только время, когда наступит «хочу», Алекс не уточнил.
Заодно не мешало бы узнать когда начнется и сам вечер в понимании Алекса. Шесть – слишком рано, если я постучу в его номер в шесть – он точно запишет меня в нимфоманки (плюс бритые ноги и кое-что еще). Семь выглядит предпочтительнее, в семь я сойду за скучающую интеллектуалку в поисках собеседника (плюс бритые ноги и кое-что еще), еще один добавленный час окружит меня легким ореолом любительницы приключений, а до девяти…
До девяти можно и не дожить.
И будут ли в девять мои ноги таким же гладкими, как сейчас?
Нужно было воспользоваться эпилятором, но эпиляторы в забегаловке Джумы не продаются.
Перебрав все возможные варианты, я останавливаюсь на половине восьмого: все еще интеллектуалка, но и любительница приключений тоже. Именно в полвосьмого я тихонько стучу в номер Алекса – чтобы получить в ответ надменную тишину.
Тук-тук. Я не верю своим ушам.
Тук-тук. Я не верю своим глазам.
Тук-тук-тук. Он обманул меня, поганец, сукин сын!
Никчемное шелковое платье сразу же начинает жать мне в плечах, никчемная шаль удавкой затягивается на шее, никчемная сумочка для коктейля веригами повисла на сгибе локтя. Я вот-вот свалюсь со шпилек, купленных в Гостином Дворе четыре года назад, за это время шпильки успели выйти из моды и снова зайти в нее. С черного хода. К Алексу Гринблату с черного хода не подберешься.
– Алекс? – просительно блею я. – Алекс, вы там?
Глас вопиющего в пустыне.
– Если вы там и не открываете, то знайте – вы сукин сын. Поганец. Дерьмо.
Le tnerde, со смаком произношу я, следом за le merde выплывает l'amour, теперь они идут ноздря в ноздрю, быстрым аллюром, хвосты развеваются, гривы спутаны, кто бы мог подумать, что в моей душе эти кобылки выступают дуэтом! И одна уже неотличима от другой.
Я не влюблена.
Но мне очень хочется влюбиться.
Тем более теперь, когда я, наконец-то, побрила ноги. Не пропадать же добру! Первые несколько шагов на шпильках даются нелегко, но до лестницы я дохожу в сносном темпе: не быстрый аллюр, но уже кое-что.
…Алекса нет ни в холле, ни на ресэпшене, и слава богу, что нет. Я пока еще нахожусь в часовом поясе интеллектуалок, отличающихся тем, что никогда не устраивают пошлых бабских сцен, а меня так и тянет закатить сцену. Или курнуть травы. Или напиться. Или совершить какую-нибудь вселенскую глупость, воспоминания о которой будут согревать меня в почтенном возрасте charmante petite vieille. Воспоминания – отличное топливо, только они никогда не заканчиваются, а если угли начинают тлеть – в загашнике всякий раз найдется парочка сухих поленьев с любовными отметинами, сколами от преданной дружбы и пустотами, забитыми сувенирной продукцией стран Карибского бассейна с полуистлевшей куклой вуду во главе, она так и не пригодилась. Парочка сухих поленьев – и дело сделано, огонь снова весело гудит в топке, единственная опасность, подстерегающая всех, кто греется у открытого огня воспоминаний, – можно угореть.
***
…«ЛА СКАЛА».
Конечно, я отправляюсь именно туда.
С почти истерическим желанием напиться. Или курнуть травы. Или совершить какую-нибудь вселенскую глупость. Смехотворное препятствие в виде формулы «для глупости нужны двое» нисколько меня не смущает. Второй обязательно найдется. Я убеждаюсь в этом, слегка приоткрыв дверцу в респектабельный вертеп: абсолютно пустынный днем, сейчас он полон народу, в основном – европейцами, в основном – мужчинками. Официанты не исключение, нерасторопную утреннюю Кондолизу сменили бойкие гибкие мальчики с порочными физиономиями жиголо, представить их совершающими утренний намаз весьма затруднительно.
Еще один – главный – жиголо расположился у танцпола, настоящий восточный красавец, внучатый племянник Пророка, одного взгляда на его подвижное, тонко выписанное лицо достаточно, чтобы тотчас же принять ислам и всю оставшуюся жизнь посвятить борьбе с неверными. Странно, что он до сих пор не уехал в Европу, что до сих пор не кадрит толстомясых зажиточных шведок или сексуально озабоченных швейцарок, что вместо всей этой уймы прелестей ему досталась одна, к тому же довольно сомнительная – развлекать залетных посетителей песенками из репертуара Брайана Адамса.
И пусть его, Брайан Адаме много лучше Брайана Ферри. А также Фила Коллинза и Элтона Джона с его дурацкой коллекцией очков.
Голосу парня и правда неплохой, быть может – слишком сладкий, от такого голоса легко не отделаешься, не избавишься, он застревает в зубах, подобно ириске, сколько ирисок можно съесть за раз? Жюль и Джим, горнолыжники из отеля, – вот кого я вижу за ближайшим ко мне столиком.
Джим сосредоточился на певце, в то время как Жюль окучивает миниатюрную девицу. Она – самая настоящая секси, релаксирующая Эммануэль, Барбарелла в изгнании, такая никогда бы не напялила на себя шелковое платье, никогда бы не набросила на плечи шаль, приобретенную по случаю на городском пляже по умопомрачительной цене семьдесят пять дирхам, уж не завидую ли я юному созданию? Ее блестящим волосам, спадающим на грудь крупными кольцами; ее умению обходиться без сумочки для коктейля, умению носить в ушах всякую дрянь с таким шиком, как будто это – бриллианты, уж не завидую ли я? Нисколько. Скорее я преисполнена сочувствия к Жюлю: прежде чем приступить к окучиванию, ему не мешало бы ознакомиться с инструкцией, они прилагаются к каждому серийному образцу Барбареллы-Эммануэль.
DANGEROUSLY!
INFLAMMABLE!
EXPLOSIVE!9
Для слабо видящих аршинные буквы или вовсе не умеющих читать предусмотрены еще и пиктограммы:

Жюль просто-напросто проигнорировал их и инструкцию заодно, до меня доносится вчерашняя история про взрыв в лондонском автобусе, рассказанная Франсуа Пеллетье, и еще одна история – про sms-сообщение, отправленное двоюродным братом (по версии Жюля – это брат его приятеля, скромника-Джима), и, под финал, я слышу печальную балладу о Мерседес, сладкой, как яблоко. Чертов Жюль взял ее напрокат у студентика Мишеля, теперь Мерседес – его возлюбленная, заколка и кольцо – вот и все, что осталось в память о ней, Жюль безутешен. Он был безутешен все это время, он страдал, и вот сегодня… сегодня свершилось чудо и он встретил девушку, так похожую на Мерседес, Джим может подтвердить это, не так ли, Джим?
Джим, покачивающийся на волнах музыки, рассеянно кивает.
Этого недостаточно, чтобы рука Жюля утвердилась на плече девицы, Жюль еще не знает, что бывает с теми, кто не читает инструкций по применению.
Я – знаю.
Взрывоопасная (explosive!) Барбарелла-Эммануэль прыскает в кулак и, качнувшись на стуле, с легкостью избавляется от руки Жюля. Иногда такое случается, сквозь смех говорит она, и при других обстоятельствах я ни за что бы тебе не сказала, но и молчать невозможно. У меня тоже был парень, я и тоже любила его, и он тоже погиб. И я была безутешна.
– И? – жаждет продолжения Жюль.
– На тебя он не похож. Но это не главное.
– А что же главное?
– А то, – девица заговорщицки понижает голос, – что он был одним из тех, кто подорвал мадридскую электричку. Возможно, ту самую, в которой тряслась твоя Мерседес. Даже скорее всего.
– Он был террористом-смертником?
– Тогда я этого не знала.
– Вот черт!
– Еще бы не черт. Я потрясена. А ты?
Жюль машинально кивает.
Правды в словах девицы не больше, чем в словах Жюля, но он просто вынужден реагировать на них – именно как на правду. Все, что для этого необходимо: скорбная гримаса, шумный вдох и шумный выдох. И залпом выпитый бокал, точно такие же стоят и перед Джимом, и перед девицей, жидкость в них – янтарного цвета, то ли бренди, то ли коньяк. После бренди (коньяка)Жюль фыркает носом, слегка поворачивает голову и замечает меня. Я поймана на месте преступления так же, как и сам Жюль: он споткнулся на жалкой манипуляции образом, придуманным не им, я – на подслушивании и подглядывании за этой манипуляцией. Я нисколько не расстроилась.
Даже забавно.
– Теперь ты понимаешь, что между нами ничего нет и быть не может? Хи-хи, – дожимает Жюля Барбарелла-Эммануэль.
– Но…
– Поищи себе другую дурочку, сладкий мой. И в следующий раз придумай историю попроще. О'кей?
Девять из десяти человек на месте Жюля выглядели бы посрамленными, выбитыми из седла, но только не Жюль, я его недооценила. И десяти секунд не прошло, как он справился с DANGEROUSLY!. И – с INFLAMMABLE!. И – с EXPLOSIVE!.
– А чем плоха эта? – бросает он.
Барбарелла-Эммануэль отодвигает стул и поднимается.
Она не считает нужным отвечать, она направляется к танцполу, на котором с микрофоном в руках топчется главный жиголо. И принимается топтаться вместе с ним, неожиданно прильнув к его телу и положив руку ему на плечо. Парень включается в игру, наградой чувственным обжиманцам служат дружные хлопки зала, улюлюканье и одобрительный свист.
Барбарелла-Эммануэль – редкостная сука.
Несмотря на всю эротичность образа. Гори ты огнем, редкостная сучка! И чтобы у тебя сгнили мочки – от копеечной бижутерии, которую ты носишь!.. Хочется верить, что Мерседес, смерть которой ты и подонок Жюль использовали как разменную монету, как повод пофлиртовать, была совсем другой. И Мишель наврал про дешевое кольцо. И про заколку тоже. И вообще – Мерседес, сладкая, как яблоко, до сих пор жива.
– Как вам эта сцена? – слышу я голос за своей спиной. Это не Алекс (чего бы мне страшно хотелось) – Фрэнки.
– Вы про танец?
– По-моему, они уже свингуют. – Не дожидаясь приглашения, Фрэнки плюхается на стул рядом со мной. – Неплохо у них получается.
– Отвратительно.
– Не будьте злой, Сашá. Вам это не идет. Он знает, как меня зовут. Странно.
– По-моему, мы не были представлены друг другу.
– Были. Вы просто запамятовали, что заполняли мою карточку. «Франсуа Пеллетье, но можете звать меня Фрэнки». Помните?
Я пожимаю плечами.
– А ваше имя я случайно подслушал на ресэпшене. У вас свидание?
– Не с вами.
– Утренний счастливчик?
«Утренний счастливчик» – Фрэнки имеет в виду Алекса, попался бы мне сейчас на глаза этот счастливчик! Но, учитывая мое настроение, я готова примириться и с Фрэнки.
– Все может быть.
– На его месте я бы поторопился.
– Вам-то что?
Фраза совсем не выглядит агрессивной, точки в окончании не предусмотрены – напротив, я нашпиговываю ее вопросительными знаками (вам?-то? что???); вопрос предполагает ответ, пять вопросов предполагают пять ответов. Крючок и петелька, крючок и петелька, из этого при желании может получиться неплохое полотно беседы. А учитывая склонность Фрэнки к спонтанному ткачеству – и целый гобелен.
– Вдруг вас кто-то уведет? Прямо у него из-под носа? – Фрэнки понял мой замысел, и тоже жонглирует вопросами.
– Уж не вы ли?
– Я бы рискнул. Почему нет?
– Рискните. Почему нет?
Столь легкой победы Фрэнки явно не ожидал. Он совсем по-мальчишески шмыгает носом:
– Вы позволите угостить вас коньяком, Сашá?
– Я не пью коньяк.
– Тогда, может быть, шампанское?
– Пожалуй.
Фрэнки проигрывает Спасителю мира по большинству показателей, в контексте Спасителя мира он будет вечно вторым, как и горнолыжник Жюль. Несомненно лишь одно: за шампанское мне платить не придется. Оставлять чаевые подошедшему официанту – тоже, Фрэнки уже о чем-то интимно шепчется с ним.
Оба при этом улыбаются, оживленно приподняв брови и поигрывая скулами: как будто речь идет не о заказе, а о чем-то таком, чему они были свидетелями или хотели быть свидетелями. Фрэнки и официант похожи на приятелей, выступавших за одну баскетбольную команду в школе и имевших одних и тех же телок из группы поддержки, а вот теперь появилась еще одна. Которую сам бог велел разложить на составляющие: сиськи, задница и способность делать минет в полевых условиях. Отвращение к Фрэнки длится секунду, не больше, после чего я говорю себе:
все вечно вторые на короткой ноге с официантами, консьержами, горничными, портье и сантехниками, бесплотной обслугой аквариумов и террариумов, газонокосилыциками, почтальонами, раздатчиками полотенец; все они играли в одной баскетбольной команде.
Только Спасители мира никогда ни во что не играют. Они лишь сочиняют правила игры.
– Вы, я смотрю, успели стать здесь завсегдатаем, Фрэнки. И суток не прошло. Завидная прыть.
– Вас это раздражает?
– Нет. Просто вы разговаривали с официантом, как будто он ваш шурин. Или как будто вы вместе служили в Иностранном легионе.
– Я всегда отношусь к людям уважительно. Кем бы они ни были. Это не требует особых затрат, но всегда возвращается сторицей. Вот, к примеру, сейчас нам принесут лучшее шампанское.
– Так уж и лучшее!
– Лучшее, которое можно найти в этом городишке.
…Шампанское, появившееся на нашем столике через рекордные две минуты, действительно оказывается вкусным, или все дело в том, что я не пила шампанского много лет? Как бы то ни было, вполне невинный алкоголь сразу же ударяет мне в голову, не так уж он плох, этот Фрэнки! Не в пример лучше скотины Алекса, простой парень, легкий, веселый, с жизненной философией, которую можно только приветствовать.
К тому же у него отличная фигура, ни жиринки лишней, сегодня утром, когда он продефилировал мимо нас с Алексом в костюме для серфинга, я уже имела возможность в этом убедиться. Вечерний Фрэнки впечатляет не меньше: джинсы с налетом демократизма, черная рубашка с открытым воротом и мокасины, лишенные всякого пафоса. Фрэнки – не раб торговых марок и навязших на зубах брэндов, и это тоже можно отнести в актив.
– Расскажите о себе, Сашá, – воркует Фрэнки.
Еще один плюс – он просит рассказать о себе, вместо того чтобы сразу же начать грузить меня небылицами о таинственном прошлом в спецслужбах, о блестящей карьере наемного убийцы, о юношеских подработках в качестве порноактера и об одиночестве души и тела, которое я непременно должна скрасить. Хотя бы ближайшей ночью.
– Что вас интересует?
– Как такая симпатичная девушка могла оказаться здесь?
– Симпатичные девушки могут оказаться где угодно. Разве вам не говорил об этом ваш папа? Или ваш шурин?
– Что-то не припомню.
– Марокко показалось мне подходящей страной.
– Подходящей для чего?
– Чтобы здесь остаться.
– Навсегда?
– Возможно.
– Какая потеря для всех остальных стран!..
Шампанское.
Не будь его, сомнительной свежести комплимент показался бы мне пошлым, слащавым, но я смотрю на Фрэнки сквозь бокал, наполненный светлой жидкостью. И это вносит поправки в образ молодого человека с дивной фигурой: Фрэнки – не второй. Не исключено, что он может оказаться первым и единственным, моей способности надираться одним бокалом слабоалкогольного напитка можно только позавидовать. А что было бы, если бы я согласилась на коньяк?..
– Вы улыбаетесь, Сашá?
– Глупо хихикаю, так будет точнее.
– Я несу вздор?
– Шампанское. Оно ударило в голову, только и всего.
– Тогда повторим?
– Валяйте.
После второй порции мне становится еще веселее, и я пытаюсь сосредоточиться на деталях, ускользавших от меня раньше. Руки. У него красивые сильные руки, хоть артистичными их не назовешь, пальцы недлинные, но и не коротышки какие-нибудь; Фрэнки счастливо избежал увлечения перстнями с туманной символикой, медальонов на шее тоже не наблюдается – ничего, что могло бы спровоцировать юношу на сказочку с рефреном: все это было прошлой осенью, когда я путешествовал по Тибету в поисках следов пропавших там трех тысяч эсэсовцев, как? вы до сих пор не слышали истории о чаше Святого Грааля?..
Не слышала и слышать не хочу.
И уж тем более не хочу видеть, что время от времени Фрэнки исподтишка косит глазом на неуемную Барбареллу-Эммануэль. Она бросила жиголо с микрофоном и теперь лихо отплясывает сама. Это не румба и не самба, и не танец живота, но каждое движение выдает в ней профессиональную танцовщицу. Когда-то оставившую свое ремесло ради других, гораздо более прибыльных ремесел. И вот теперь подвернулся случай вспомнить старое, так почему бы не использовать его на полную катушку? Неясно, насколько согласуются с музыкой хлопки ее ладоней, и покачивание бедер, и дробь, которую выбивают пятки, но так ли это важно?
Совсем неважно.
Важно, что она подчиняет музыку себе, ведет ее за собой, при желании она могла бы проделать то же самое и со всеми присутствующими, а может быть, уже проделала, уж не завидую ли я?.. Облегчение наступает лишь тогда, когда звуки музыки сходят на нет и замирают. Громче всех аплодирует Жюль, Джим ограничился рыком, больше приличествующим футбольным болельщикам, даже официанты не остались в стороне, и только Фрэнки… Только Фрэнки абсолютно спокоен, или нет – абсолютно удовлетворен. Он не пошевелил и пальцем, он не взглянул на девушку, как делал это несколько раз на протяжении танца, но он удовлетворен. Полон самодовольства. Подобно тренеру, чья подопечная заняла место на пьедестале, именно этого я и ждал от тебя, моя малютка.
– Прелестное создание, – цежу я сквозь зубы. – Не хватает только бубна и козы.
– Козы? – удивляется Фрэнки.
– Козы, – подтверждаю я. – И бубна. Как у Виктора Гюго, в «Соборе Парижской Богоматери». Помнится, героиня там была танцовщицей.
– А-а, – он пожимает плечами.
Определенно, книжки – не самая сильная сторона Фрэнки, но существует еще и мюзикл с кинофильмом, существует, наконец, знаменитый музыкальный номер «Belle», все радиостанции крутят его с завидным постоянством. Даже здесь, в Эс-Суэйре.
– Танцовщицу звали Эсмеральдой.
– Ясно. И с бубном все более или менее понятно. А что Делала коза?
Проклятье, судьба козы вылетела у меня из головы, и теперь уже не вспомнить, читала ли я Виктора Гюго или только слушала сладкоголосую паточную вставку «Belle». Второе наиболее вероятно, но в угол меня Фрэнки не загонит. Дудки.
– Вы знакомы? – спрашиваю я у него.
– С кем?
– С этой девушкой.
– С чего вы взяли?
– Мне показалось, что…
– Вам показалось.
– Наверное. Но девушка превосходна, не правда ли?
– Сегодня я вижу только одну девушку. И эта девушка сидит сейчас передо мной…
Браво, Фрэнки! Как лихо ты заметаешь следы, как быстро стираешь с физиономии все, что могло бы тебя скомпрометировать. А впрочем, это можно отнести к химическим свойствам жидкости, через которую я смотрю на Фрэнки. Все не так, как казалось мне минуту назад.
Вот и ответ.
– …к тому же очень проницательная девушка.
Еще один ответ, вступающий в противоречие с полученным раннее. Неужели я оказалась права?
– В чем же заключается моя проницательность?
– Я действительно служил в Иностранном легионе, вы угадали.
– Будете пичкать меня историями о тяготах спецопераций в странах Индокитая и экваториальной Африки?
Вот оно! Спецслужбы, киллерство, порноэкзерсисы перед камерой как мостик к сегодняшнему одиночеству души и тела, а теперь еще и Иностранный легион, я – старый солдат, мэм!.. Не разочаровывай меня, Фрэнки, дружочек!
– Не буду, – Фрэнки готов подыграть не только моим словам, но и мыслям. – Тем более что моя служба ограничилась двумя неделями в учебном лагере. А потом я просто смылся.
– Что так?
– Нагрузки. Они оказались не по мне.
– Зачем же вы вообще туда сунулись?
– Хотел испытать себя и потерпел фиаско.
Остальные испытания, выпавшие на долю Фрэнки, выглядят не так воинственно: диджей на Ибице, сотрудник дельфинария, рекламный агент по продаже сухих строительных смесей, менеджер в фирме по изготовлению сейфов, менеджер в фирме по производству сыров, сомелье, из всего вышеперечисленного меня интересуют лишь дельфины.
У дельфинов гладкая резиновая кожа, они ласковы и привязчивы, как собаки, они умеют улыбаться, они всегда оптимистичны, всегда позитивно настроены, и – отверстие в голове, из которого дельфины выпускают фонтанчики воды! оно похоже на пупок. Обо всем этом я хочу слышать из первых рук. Милые подробности, детали (о них ни в одной книжке не прочтешь), забавные сценки, скрытые от глаз простых посетителей. У Фрэнки должен быть свой личный опыт общения с дельфинами, призванный обогатить и мой собственный личный опыт.
У дельфинов гладкая резиновая кожа.
Они ласковы.
Они привязчивы, как собаки – вот и все, что удалось выудить из Фрэнки, сотрудника дельфинария. Даже я, видевшая дельфинов только на экране телевизора, знаю о них больше. Отверстие в дельфиньей голове, о котором я вскользь упомянула, вызывает у Фрэнки неподдельное изумление. После чего он произносит, глядя в пространство перед собой:
– В дельфинарии я продержался еще меньше, чем в учебном лагере Иностранного легиона.
– Тоже хотели испытать себя и потерпели фиаско?
– Всему виной сырая рыба. Оказалось, что я просто не выношу ее запах. А дельфинов нужно было кормить сырой рыбой.
– Говорят, что дельфины умеют улыбаться. Это правда?
– При мне ни один не улыбнулся.
Разговор о дельфинах можно считать исчерпанным. Что будет, если я спрошу о сухих строительных смесях? Скорее всего, они вызывали у Фрэнки ту же аллергическую реакцию, что и сырая рыба. Сыр – еще один повод для аллергии. А ничем не пахнущие металлические сейфы? Возможно, Фрэнки раздражал скрип петель или скрежет ключей в замке, а если замки были кодовыми или снабженными индикаторной панелью?..
– Вы наверняка в состоянии взломать любой сейф, Фрэнки!
– Хотите, чтобы я преподал вам урок мастерства?
– Просто любопытно.
– Я не взломщик, а всего лишь менеджер по продажам. Вернее, был им.
– Недолгое время, – улыбнувшись, замечаю я.
– Очень недолгое.
– А чем вы занимаетесь сейчас?
– Смотрю на самую красивую девушку.
Хи-хи-хитрец!.. При других обстоятельствах я подобрала бы другое слово, безмозглое шампанское, оно всему виной! Всосав в себя еще один бокал, я вдруг вспоминаю, каким образом алкоголь воздействует на мою кожу. Она краснеет. И всегда краснела. Кровь, идущая носом, – еще один побочный эффект неумеренных возлияний. Сегодняшний вечер вряд ли можно считать чем-то из ряда вон, чтобы не повторилась та же история. А значит – я сижу перед Фрэнки с распаренной мордой.
И мое пролетарское происхождение машет ему со щек кумачовыми флагами (надеюсь, что хоть нос не подведет). При таких выходных данных назвать меня красивой… м-м-м… верх неприличия. И логика здесь одна: Фрэнки просто необходимо затянуть меня в постель, а для этого все средства хороши. Включая грубую лесть.
– Вы хитрец, Фрэнки!
– Вы меня обижаете, Сашá!
– Красавица здесь одна… Барбарелла-Эммануэль, кто же еще!
Я шарю глазами по танцполу, потом переключаюсь на столики (Жюль и Джим на месте), потом – на галереи второго этажа – девушка как сквозь землю провалилась. Исчезла. И я не заметила – как. Странно, очень странно, так просто танцовщицы high-класса не исчезают, а если исчезают, то прихватывают с собой все, что под руку попадется: сердца зачарованных посетителей (они сойдут для набоек на каблук), удивленные, вытянутые в трубочку губы (из них сооружается пан-флейта для младшего брата, клянчившего гитару к Рождеству), расширенные зрачки (нестерпимо сверкающие – чем не стразы на юбку?), а еще тесьма, а еще пояс, а еще искусственная роза, дополняющая сценический костюм, – расходного материала требуется много, оттого и потрошишь обмякшие тела поклонников. Не думаю, чтобы кто-то особенно обижался.
Я могла бы обсудить это с Алексом.
И саму танцовщицу.
И Жюля с его приятелем Джимом, мелких воришек чужих трагедий. Вот только конвертировать трагедии в твердую любовную валюту удается далеко не всегда. Жюль и Джим пролетели. Теперь им придется искать совсем других дурочек (как предрекала девчонка) – и это тоже я могла бы обсудить с Алексом; каким образом на столе оказалась вторая бутылка, к тому же наполовину пустая?.. Фрэнки подливает и подливает, а сам почти не пьет, так – смачивает губы. Хи-хи-хитрец!..
Алекс – совсем не то, что Фрэнки. Алекс нисколько бы не удивился, если бы я рассказала ему о своих праздных мыслях по поводу девушки и сердец, загнанных под каблук. Он нашел бы это забавным и стоящим внимания и, возможно.
сам бы включился в игру. А Фрэнки, что Фрэнки? Он не справился с дельфинами, отрекся от сухих строительных смесей, подавился головкой сыра, сломал зубы о металлический сейф, а его хваленое диджейство на Ибице? Наверняка при приближении Фрэнки к аппаратуре свет отключался по всему побережью! Его единственное достоинство – фигура, так что я делаю здесь? Коротаю вечер в мечтах об Алексе Гринблате.
Вот что.
На месте Фрэнки мог оказаться любой (Жюль и Джим – досадное исключение), на месте шампанского могли оказаться ром, или водка, или минеральная вода, а я все так же думала бы об Алексе.
Живчик Фрэнки ничего от меня не добьется.
Ни-че-го. Хи-хи.
Дорого бы я дала, чтобы заглянуть сейчас в зеркало и увидеть собственную неприступную физиономию. Скучающую физиономию. Физиономию, способную отпугнуть потенциальных поклонников: пустые глазницы, отрешенная ухмылка на губах, никакой – даже формальной – заинтересованности в собеседнике.
Зеркала не врут.
А Фрэнки, похоже, устал притворяться. Или посчитал, что выпитого мной достаточно, чтобы и дальше утруждать себя ролью воздыхателя. Пустые глазницы, отрешенная ухмылка на губах и никакой – даже формальной – заинтересованности в собеседнике. Он пришел в «Ла Скала» вовсе не для того, чтобы весело провести время с первой подвернувшейся юбкой. И вовсе не для того, чтобы подснять кого-нибудь на ночь.
Фрэнки чего-то ждет.
Чего-то или кого-то.
Открытие, лежащее на поверхности, потрясает меня настолько, что я моментально трезвею.
– Вы… – В решимости вывести Фрэнки на чистую воду мне не откажешь. Но в тот момент, когда я уже готова сделать это, раздается звонок. Фрэнки делает извинительный жест рукой и вынимает мобильник из заднего кармана джинсов.
У Алекса Гринблата, знаменитого галериста и Спасителя мира, нет мобильного телефона, почему-то думаю я. Его костюм стоит целое состояние, сожравшее бы половину парагвайского бюджета, в его туфли можно смотреться, как в воды Мексиканского залива, его холеное лицо украшает страницы журналов (я держала в руках один, но есть ведь и другие!) – и только с мобильным телефоном вышла неувязка. Да что там неувязка – вопиющее несоответствие с образом. Богатые и знаменитые (а Алекс относится именно к этой категории людей) связаны с миром, которым они правят, незримой сотовой пуповиной. Я провела с ним несколько долгих часов; я была с ним вечером, когда разрабатывается стратегия, и утром, когда определяется тактика, – и ни одного звонка. Ни единого.
Занятая мыслями об Алексе, я не сразу переключаюсь на Фрэнки.
Он все еще разговаривает по телефону, и в этом разговоре тоже есть странности. Франсуа Пеллетье – это имя было внесено мной в регистрационную карточку. Фрэнки – представился он сам. Но ни английских, ни французских слов я не слышу. И уж тем более арабских. Язык, на котором изъясняется Фрэнки, мне совершенно не знаком.
За редкими исключениями, смутными ассоциациями, всплывающими то тут, то там, подобно прогалинам в подтаявшем снегу. Мне чудится что-то южноевропейское (сербское? хорватское?), в следующий момент я сползаю к чешскому, за три года, что я провела в Эс-Суэйре, мне ни разу не приходилось спотыкаться о столь причудливые корни.
Слова и предложения, раз за разом выливающиеся изо рта Фрэнки, преображают и его самого. До телефонного звонка Фрэнки был всего лишь обладателем дивной фигуры, завсегдатаем бирж труда, менеджером-неудачником, не сделавшим карьеры даже в параллельной вселенной сейфов и сухих строительных смесей, но теперь…
Он солгал мне.
Насчет Иностранного легиона, как минимум.
Он вполне мог служить там. И не рядовым членом – инструктором. С кучей нашивок и шевронов, с орденской планкой в четыре ряда, с ременной пряжкой, приводящей в трепет новобранцев. Корни слов, которые изрыгает Фрэнки, достались мне, но побеги, идущие от корней, – остались в нем. Они-то и образуют новый каркас внутри дивной фигуры.
Фрэнки собрался.
Его лицо – не что иное, как иллюстрация к долгоиграющей саге на секретной службе Ее Величества. Его лицо – не что иное, как утерянный куплет к шлягеру Завтра Не Наступит Никогда. Глаза Фрэнки больше смахивают на оптические прицелы снайперской винтовки, если он и имел дело с дельфинами – то с совершенно особенными, состоящими на секретной службе Ее Величества. Дельфинами, натасканными на установку магнитных мин на днища кораблей, кто в таких случаях будет умиляться отверстиям в их гладких резиновых головах, кто будет ловить их улыбки?
Никто.
В круг обязанностей людей, подобных Фрэнки, дешевый романтизм не входит.
Так какой же из языков демонстрирует мне этот агент влияния – сербский? хорватский? чешский? не забыть бы поинтересоваться, когда беседа наконец закончится.
Она заканчивается самым неожиданным образом – Фрэнки произносит фразу:
Эсто эн ламьерда!!! – и отключается. И несколько секунд смотрит перед собой невидящими глазами.
Пустыми глазницами. Уфф!..
Я знаю, что такое «estoy en la mierda», хоть какое-то облегчение. Время от времени, когда наваливается очередное несчастье с кондиционерами, или ломается очередной замок, или наступает очередной сезон закупки постельного белья, Доминик (никогда не бывший полиглотом – куда ему до Фрэнки!) впадает в отчаяние и лепечет: «estoy en la mierda» – я в полном дерьме!
Неизвестно, где Доминик подцепил столь чудное испанское выражение, испанцы к нам не забредают. В устах Доминика оно звучит пугливо, изнеженной как-то совсем по-женски, относиться к нему серьезно я не считаю нужным. Постельное белье – тоже мне, проблема!
Возможно, проблемы Фрэнки куда глобальнее.
– У вас неприятности? – осторожно спрашиваю я.
– Почему вы так решили, Сашá?
Фрэнки уже взял себя в руки, увольнение с секретной службы можно считать делом решенным: передо мной снова покачивается расслабленная физиономия менеджера-неудачника.
– Я просто услышала последнюю фразу.
– Вот как. Нет, все в порядке.
– Но…
Фрэнки морщится, ему неприятно мое любопытство. Я и сама чувствую, что пора бы сменить тему и отойти от опасного края, но какая-то неведомая сила тянет меня за язык:
– …не каждый день говоришь о себе такое. Нужен веский повод, согласитесь, Фрэнки.
Или лучше звать тебя Франсуа? Или лучше звать тебя… как? Теперь я ни в чем не уверена. Ни в чем. В том-то и прелесть, нашептывает мне выпитое шампанское, последние сутки стоят трех лет, проведенных в патриархальном покое Эс-Суэйры. Стоило лишь ненадолго отпустить поводья, и вот, пожалуйста, в мою жизнь вторглись сразу двое!.. А сколько было отвергнуто, сколько принесено в жертву прошлой, давно несуществующей любви, разве я не дура после этого? Дура. Я ни разу не каталась на доске для серфинга (а могла бы!), ни разу не выходила в открытый океан (а могла бы!), я не совершила ни одной глупости, которую может позволить себе женщина при снисходительном попустительстве мужчины. Блеклое ресторанное приключение, которое я переживаю с Фрэнки, не идет ни в какое сравнение с тем, что я могла бы пережить с Алексом Гринблатом, но неужели мне не хватит фантазии, чтобы расцветить, разукрасить его?
Помнится, Алекс хвалил меня именно за воображение.
– Ладно, Фрэнки, не напрягайтесь. Не хотите рассказывать – не нужно.
– А нечего рассказывать… Вы знаете испанский?
– Только эту фразу.
– Забавно.
– Так любит выражаться один человек…
Я впервые не называю Доминика своим другом. После того что он учудил с досками – никакой он мне недруг.
– Испанец? – уточняет Фрэнки.
– Нет. Он даже не чех. И не серб. И не хорват.
Как же ловко я вплела в ничего не значащий треп свои догадки по поводу телефонного разговора! И как непринужденно запила их остатками шампанского, теперь остается ждать реакции Фрэнки, если, конечно, она последует.
Не очень-то я на это надеюсь.
– У вас особые отношения с чехами, сербами и хорватами?
– Никаких особых отношений. На хвост они мне не наступали. А вам?
– Мне тем более. – Фрэнки откидывается на спинку стула. – Вы интересная девушка, Сашá. Очень, очень интересная. Я бы хотел познакомиться с вами поближе.
Ты меня не обманешь, Фрэнки. Мужчины, жгуче заинтересованные в женщинах, ведут себя совсем по-другому.
– Мы можем приступить к сближению прямо сейчас. Если вы не возражаете.
– Нисколько.
– Тогда давайте уйдем отсюда.
– Хотите вернуться в отель? Или отправимся сразу к вам?
– Это одно и то же, Фрэнки.
Вряд ли Фрэнки этого не знает. Но… не слишком ли я поторопилась со сближением?
– А что, если мы заглянем в форт?
– В форт?
– Это местная достопримечательность. Смотровая площадка и шикарный вид на океан.
Если он скажет мне: «Оставим туземные прелести туристам» или что-то в этом роде, – я просто развернусь и уйду, высокомерных глупостей я услышала сегодня предостаточно.
– Даже ночью? – спрашивает Фрэнки.
– Океан хорош всегда. А ночью особенно. В отсутствие людей.
– О'кей. Форт так форт.
– Тогда идем?..
Я поднимаюсь прежде, чем он успевает ответить мне, я издали машу рукой Жюлю и Джиму, мой рывок к выходу из «La Scala» можно считать бегством. Или страстным желанием заполучить книжку-раскраску нашей с Фрэнки гипотетической связи. Я сама буду подбирать цвета, я сама буду накладывать их, мазок за мазком, – в чем, в чем, а в этом, прожив три года рядом с сумасшедшим художником Домиником, я разбираюсь.
Пришло время подтвердить теорию практикой. И никто меня не остановит. Никто.
…То, что я поначалу приняла за шум океана, – всего лишь ток крови, бросившейся мне в голову. Я едва держусь на ногах, пришлось даже прислониться к стене, чтобы не упасть. Ожидание затягивается, по моим подсчетам Фрэнки мог расплатиться пять, а то и десять минут назад – а впрочем, я не совсем уверена, все из-за тока крови, шумящей в голове. Она циркулирует в убыстренном темпе, и, чтобы хоть как-то отвлечься, я начинаю представлять Франсуа Пеллетье в разрезе спальни, нужно ли будет расстегивать пуговицы на его рубашке или это сделает он сам? Нужно ли говорить ему, что я три года не занималась любовью, или лучше промолчать? Останется ли он на ночь или уйдет к себе, когда все закончится? А если останется, то каким будет утро?
И что я скажу ему утром?
Научи меня ловить волну, милый.
«Милый», несомненно, подойдет.
Фрэнки, милый.
Милый, милый, милый, твержу я себе, а если твоя кожа окажется такой же гладкой и резиновой, как кожа дельфинов, я не пожалею ни о чем.
– …Сашá!
Голос Фрэнки, немного взволнованный, выводит меня из транса:
– Куда же вы пропали? Я подумал, что вы не дождались меня.
– Я подумала то же самое. Идемте, Фрэнки.
…До форта не больше десяти минут ходьбы.
Я выбрала этот путь из пяти возможных, он самый романтический. Есть еще самый короткий и самый длинный, есть еще самый забавный и самый хорошо освещенный – они ведут к отелю, и форт остается в стороне. Но если ты устремляешься по самому романтическому пути – верхней оконечности Скалы дю Порт не миновать. То есть она и есть суть и цель пути, конечная остановка маршрута – об этом я говорила Фрэнки еще в ресторане. К форту ведет крытая галерея (одна из многих крытых галерей, по совместительству являющихся и улочками, исторический центр Эс-Суэйры наводнен ими).
Лестница, по которой мы поднимаемся в кромешной тьме кажется бесконечной.
– Что будет в конце пути? – спрашивает Фрэнки.
Его дыхание не сбилось от подъема на высоту, оно остается ровным и спокойным, еще один аргумент в пользу молодого человека: Фрэнки вынослив.
– Смотровая площадка.
– А-а… С пушками, да?
Толстые оружейные стволы, отлитые из чугуна, стоят там с незапамятных времен, узкие бойницы пялятся на океан столетия. Толщина стен впечатляет, на камнях между зубцами можно вытянуться в полный рост: с любимой девушкой, с альбомом для эскизов и просто так. И долго лежать, запрокинув лицо в небо и забросив руки за голову.
Почему я никогда не делала этого?
– Я читал о площадке в путеводителе.
– Здесь снималась одна из киноверсий «Отелло». Не помню, какая по счету.
Преодолев последнюю ступеньку, мы оказываемся на открытом пространстве, но света от этого не прибавляется. Нет ни луны, ни звезд, хорошо видных в пустыне, в нескольких сотнях километров отсюда. Все дело в географическом положении Эс-Суэйры, океан гонит к берегу не только волны, но и облака. Утра здесь туманны, а ночи темны. Вот и сейчас я не вижу Фрэнки, хотя он стоит в метре от меня. Не приближаясь ни на шаг.
– Обычно здесь горят прожектора, – говорю я ему. – Но сегодня их почему-то не включили.
– Ничего. Так даже лучше.
Ничего не лучше. Темнота окружает меня со всех сторон, хватает за горло, заставляя забыть, что совсем рядом – город, со светом, идущим от дверей лавок, от летних кафе на площадях, от окон гостиниц, никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой. А надеяться на то, что глаза привыкнут к темноте, контуры площадки вырисуются точнее и одиночество отступит… Надеяться на это не приходится. Во всяком случае, такого со мной в полной темноте еще не случалось. Ни разу.
Океан шумит, не умолкая.
Сгустившаяся чернота ночи не дает никаких ориентиров, оттого и кажется, что океан не только внизу, но и вверху, и справа, и слева. В мире нет ничего, кроме океана.
– Фрэнки, – жалобно зову я. – Где вы, Фрэнки?
– Я здесь, – тут же откликается он. Пожалуй, кто-то все-таки есть.
Кто-то, способный противостоять и океану, и моему одиночеству. Он обнимает меня за плечи, касается губами затылка, накручивает на палец прядь моих волос.
– Здесь хорошо, – шепчет мне Фрэнки.
– Как будто мы одни во всем мире.
Я больше не боюсь выглядеть пошлой или банальной, здесь, в полной темноте, Фрэнки все равно ничего не заметит.
– Одни во всем мире, – вторит мне он. – Если бы это было так…
– Если бы это было так…
– Многие проблемы отпали бы сами собой.
Вот оно – я в объятьях мужчины!
В самом романтическом месте мира (романтичнее лишь прогулка на гондоле по каналам Венеции, романтичнее лишь поездка по канатной дороге в швейцарских Альпах – вакантных мест туда в свое время не нашлось, но я ни секунды не пожалела об этом). В самом романтическом месте, в самую беззвездную ночь.
Кожа у Фрэнки совсем не дельфинья, но все равно – приятная на ощупь, может быть – слегка горячая, даже ветер с океана ее не остудил. Все происходит по классическим канонам первого поцелуя с роковым незнакомцем – единственное, что смущает меня, – ровное и спокойное дыхание.
В противовес пламенеющей коже, губы Фрэнки холодны как лед, и это заставляет думать о других – недоступных, недостижимых губах.
Алекс Гринблат, сукин сын.
Я все еще мечтаю об Алексе Гринблате, сдержанный поцелуй нисколько меня не отвлек, а еще темень вокруг! Благословенная темень, она дает возможность представить перед собой совершенно другое лицо, Господи, сделай так, чтобы, когда мы наконец-то выйдем на свет, рядом со мной оказался бы Алекс!
Этого не будет. Никогда.
А Фрэнки – небольшой специалист по поцелуям. Из института, где дисциплина «Целуйте девушек!» была профилирующей, его выперли за профнепригодность. Мои губы отталкиваются от его губ (по-прежнему холодных) с явным облегчением. Да и сам Фрэнки вовсе не горит желанием продолжить любовную игру. Он выпускает меня из рук и снова становится невидимым, неощутимым.
– Вы слышали, Сашá?
– Что?
– Здесь кто-то есть…
Ночь, окружающая нас, абсолютно непроницаема. Глухое ворчание океана монотонно, я не слышу ни одного шороха, ни одного звука, кроме рокота волн. Кому придет в голову торчать здесь в полной темноте? Разве что влюбленным парочкам, но никакой угрозы влюбленные не представляют, разве что для самих себя.
– Никого здесь нет, Фрэнки. Туристы уже спят или резвятся в клубах, а местные сюда практически не заглядывают.
– Секунду, Сашá!..
Секунда по Франсуа Пеллетье.
Она длится гораздо дольше, чем самая долгая секунда по моему, никак не структурированному, ленивому времени. Единственное, чему я научилась у марокканцев за три года – так это вольно обращаться с часами и минутами. И жить с мыслью, что время – не линейно, что временем может быть (может стать) все, что угодно. Любая вещь. Странно, что я до сих пор не обсудила эту тему с Ясином – или с Хакимом и Хасаном на худой конец. Цена времени – двадцать дирхам, или тысяча двадцать дирхам, или мешок специй, или три корня имбиря; исходя из того, как долго длится секунда Франсуа Пеллетье, он задолжал мне все это богатство, включая имбирь, а еще – хну для татуировок, одеяло из верблюжьей шерсти и парочку кредитных карт «Visa».
Поцелуи в качестве оплаты я больше не приму.
– Фрэнки! – зову я, когда все сроки ожидания выходят. – Фрэнки, вы где?
Фрэнки не отзывается.
Вывод, который напрашивается первым: он решил напугать меня.
Довести девушку, застрявшую в темноте, до полуобморочного состояния, чтобы потом внезапно возникнуть передней и, расхохотавшись, заключить в объятья. Такие трюки иногда проделывают герои фильмов ужасов, ничем хорошим это не заканчивается. В последней четверти фильма они непременно нарываются на убийцу в маске и с кухонным ножом в руке, а из объятий кухонного ножа уж точно не вырвешься.
Мне не страшно. Мне совсем не страшно.
– Фрэнки!.. Не очень-то вежливо с вашей стороны…
И снова мой призыв повисает в воздухе, я должна бы испытывать гнев, но вместо этого испытываю облегчение. Мне больше не придется целоваться с Франсуа Пеллетье.
– Я возвращаюсь, Франсуа! Встретимся внизу!
До низа еще нужно добраться. В темноте, со сбитой системой координат это кажется весьма проблематичным. Куда мне направиться? вправо, влево, вперед, назад? Я закрываю глаза (рисунок ночи остается тем же) и пытаюсь мысленно представить площадку. Не так уж она велика – метров тридцать в диаметре, с двумя лестницами по бокам. Одна – та самая, по которой мы поднялись сюда, есть еще и вторая, не крытая, найти ее было бы настоящей удачей. Улица внизу худо-бедно освещена, свет падает и на нижнюю часть лестницы. А значит, я смогу спуститься без риска подвернуть ногу или сломать шею. Итак, цель номер один – лестница.
Если я буду двигаться по прямой, то рано или поздно упрусь в стену (или в прорезь между зубцами, или в орудийный лафет – неважно). Это и послужит точкой отсчета. И в конечном итоге приведет меня к лестнице.
– Черт возьми!
Я кричу, чтобы подбодрить себя, не на французском, не на арабском – на русском, отставленном за ненадобностью, но не искорененном окончательно. Напрасно я жду, что звук моего голоса осветит ночь яркой вспышкой, – чуда не произошло.
– Черт, черт, черт!..
К Фрэнки мой крик не относился.
Отправились в далекий путь
Котенок со щенком.
Понюхать это, то лизнуть,
Погнаться за клубком…
Я не вспоминала этот стишок лет двадцать пять, никак не меньше. Из всего множества стихов, которые я читала в детстве, стоя на табурете перед подвыпившими гостями, остался только он. Подходящее к случаю воспоминание – котенок со щенком.
Роль котенка подойдет мне больше, тем более что щенки оказались неважными компаньонами и отвалились – один за другим. Сначала Алекс, потом Фрэнки, настоящие уроды!.. Придется самой искать кончик нити на клубке, о-о, вот и он!., пальцы касаются поверхности стены, все остальное происходит согласно намеченному плану. Мрак, в котором не видно ни зги, еще немного мрака (хорошо бы добавить его в хну для татуировок), еще немного мрака (хорошо бы придать ему форму корня имбиря) и еще немного…
Нужно потерпеть.
Хотя выложенная гладкими, отполированными плитами стена кажется бесконечной.
Отправились в далекий путь котенок со щенком.
Я двигаюсь вперед мелкими шажками, самое страшное, что может грозить мне, – первая ступенька лестницы. Нужно вовремя сообразить, что под ногами пустота, и умудриться не потерять равновесия. Разница между мной и котенком состоит в том, что кошки видят в темноте.
А я – нет.
В так и не рассказанном сне Ясина тоже фигурировали кошки.
И это было связано со мной. Магрибский колдун Ясин посчитал кошек дурным предзнаменованием, не к месту я подумала о его сне! Совсем не к месту. Что, если пришла пора сну воплотиться в явь? и пространство подо мной и вокруг меня кишит животными на мягких лапах, с мягкой шерстью, готовых вцепиться мне в глотку, в глаза, навсегда лишить меня способности видеть?
Какая чушь! Тем более что я и так ни черта не вижу.
Шум океана тоже не ориентир. Других звуков нет. Хотя…
В какой-то момент я явственно слышу шорох за спиной. Грациозные и бесшумные кошачьи тела такого шороха не издадут. И потом – запах. Нерезкий запах мужского одеколона, возникший на долю секунды и так же быстро исчезнувший. Помнится, во время нашего неудачного поцелуя от Фрэнки пахло чем-то похожим, или это был не Фрэнки? Или мне просто хочется вывести Фрэнки на чистую воду, вот я и решила нащупать его при помощи мимолетного запаха.
– Фрэнки? Это вы, Фрэнки? Прекратите меня разыгрывать. Так нечестно. Нечестно.
Ответа не последовало. А шорох и запах одеколона (здравствуйте-пожалуйста!)… Их можно приписать моему не в меру расшалившемуся воображению.
В прошлой (русской) жизни я курила. Не самая лучшая привычка, отказаться от которой стоило больших усилий. Все это время я гордилась своим маленьким подвигом, теперь же костерю себя за неосмотрительность. О, если бы я курила до сих пор! Если бы я курила – в моей сумочке сейчас лежали бы не только сигареты, но и зажигалка. Или спички. Одно движение, один щелчок кремня – и огонь был бы извлечен, и тьма вокруг меня перестала бы быть тьмой. И фильм – со мной в главной роли – плавно перетек бы из категории страшилок в разряд комедии положений.
По всем моим расчетам лестница должна быть где-то здесь. Если в ближайшие полминуты я не нащупаю ступенек – можно будет считать сон Ясина сбывшимся.
Время нелинейно.
И я буду блуждать по ночному мраку вечно, пока кто-нибудь не догадается развязать мешок со слежавшимися специями (эстрагон, кориандр, базилик) и не выпустит меня на волю.
Хотелось, чтобы этим человеком оказался Алекс Гринблат.
Ха-ха.
Пальцы упираются во что-то металлическое. Это так неожиданно, что я вскрикиваю и лишь потом понимаю, что «металлическое» – начало лестничного поручня, вмонтированного в стену. Я и забыла о нем, вот идиотка! Вцепившись в поручень обеими руками, я делаю еще один шаг вперед и – наконец-то! – нащупываю перед собой вожделенную пустоту.
Первая ступенька найдена, теперь дело пойдет быстрее.
Оно и правда идет достаточно быстро, половина лестницы благополучно пройдена, кромешная тьма впереди сменилась молочным туманом, с каждой секундой он становится все более светлым. Теперь я двигаюсь не на ощупь – вполне осознанно, я вижу (вижу! вижу!) смутные очертания стен, и силуэт небольшого прожектора, и камни мостовой в самом низу.
Все. Можно перевести дух.
Слева от меня – узкая невысокая ниша в стене. Тупик. Им заканчивается улочка, по которой мы с Фрэнки пришли сюда. Метрах в пятидесяти от места, где я стою сейчас, – переулок, его легко промахнуть, если не знаешь о его существовании. Еще пятьдесят метров по переулку, затем поворот направо, и ты оказываешься на улице, гораздо более оживленной, чем эта. Мастерские художников (Эс-Суэйра славится своими мастерскими), лавки резчиков по дереву, несколько небольших гостиниц, отсюда и до отеля Доминика рукой подать.
Скорей бы до него добраться.
Еще вчера я сказала бы – «домой». Но со вчерашнего дня много чего изменилось. А сегодняшний добил меня окончательно. Особенно приключение на смотровой площадке, ну и натерпелась же я страху! Не исключено, что уже завтра воспоминание о нем вызовет улыбку, а Фрэнки…
На Фрэнки я нисколько не сержусь.
Хорошо, что дело ограничилось сдержанным, если не сказать – натянутым – поцелуем. Три года не заниматься любовью, чтобы в результате получить такое вот недоразумение – нет уж, увольте!.. Мстительные мысли о мужской несостоятельности Фрэнки придают мне силы, я отдышалась, пришла в себя, лишь немного кружится голова и шумит в висках.
Но это скоро пройдет. Пройдет.
Я останавливаюсь возле углового дома, его фасад выходит сразу на две стороны, но дверь – только в переулок, я проходила мимо нее бессчетное количество раз и всякий раз она была закрыта. Даже днем. Теперь на мостовой лежит квадрат света, дверь распахнута едва ли не настежь – etonnante!10 Обогнув ее, я почти налетаю на пожилого араба, стоящего в проеме.
Его темное, изъеденное временем лицо кажется мне неуловимо знакомым. Ясин. Ну да, Ясин. Примерно так будет выглядеть Ясин лет через тридцать. Продольные морщины на лбу, поперечные – у переносицы: их контуры (едва заметные у рыбака) стали четкими, ясными. Мне в голову вдруг приходит шальная мысль, выуженная из недр детства, где до сих пор гуляют котенок со щенком, где полным-полно леденящих душу сказок, легенд и баллад: что если я проблуждала в темноте тридцать лет, и Ясин уже успел бросить рыбный промысел, и купил этот дом, и теперь поджидает меня. И что именно он развязал мешок со специями, в которых я плавала: запах эстрагона, кориандра, базилика невыносим.
Что если?..
Эстрагон, кориандр, базилик – они как черные пастушьи псы, стерегущие отары; они следят за тем, чтобы ни одна овца не отбилась. Мои скудные арабские овечки при мне, для того, чтобы завязать разговор, достаточно и их.
– Добрый вечер, – говорю я на арабском.
– Доброй ночи, мадам, – отвечает мне состарившийся Ясин. С теми же интонациями, что и Ясин молодой.
– Отличный вечер. Очень теплый.
Араб прикладывает ладонь к груди. За его спиной – прямоугольник комнаты, он освещен плошкой с открытым огнем. Свет неяркий, но он позволяет рассмотреть внутренности: два резных шкафа, длинная скамья и станок, занимающий едва ли не половину пространства. На таких обычно вытачивают деревянную мебель, столики, шкатулки и сувенирных верблюдов.
– Вы не подскажете, который час?
Спросить о дне неделе, месяце и годе я не решаюсь.
– Полночь, мадам. Уже полночь.
Он не посмотрел на часы (и часов-то у него нет!), ответ был заготовлен заранее, он не мог быть другим – etonnantel
– Спасибо.
Мне давно пора убраться, а я все еще стою у порога.
– Этот дом… Он казался мне нежилым.
– Вы живете в Эс-Суэйре, мадам?
– Уже несколько лет.
– Я купил его. Не так давно.
– А я снимаю номер в отеле. «Сулесьельде Пари». Может быть, слыхали?
– Нет, – араб отрицательно качает головой.
– Здесь недалеко.
– Так мы соседи?
– Да. Наверное.
– Заходите ко мне на чай. По-соседски. Я буду рад.
– С удовольствием… Меня зовут Сашá.
– Са-ша? Сашá?
Он повторяет мое имя на разные лады, старательно артикулируя. Назвать себя – это похоже на поднятую в приветствии руку, я вправе ожидать ответного жеста. Который либо подтвердит мою безумную догадку, либо не оставит на ней камня на камне.
– А я – дядюшка Иса.
Иса – не Ясин! Не Ясин – Иса! Напряжение, сковывавшее меня, моментально спадает. И чего только не придумаешь, проблуждав в потемках. Реален только запах специй, все остальное – лишь плод моей фантазии.
– Дядюшка…
– Все меня так называют. С незапамятных времен.
– Вы резчик, дядюшка Иса? – Я указываю подбородком на станок в глубине комнаты. – Это ведь станок для обработки дерева, да?
– Верно, мадам. Только я не резчик. Я торгую пряностями на рынке, а станок остался от старого хозяина. Жалко было выбрасывать, вот он и стоит. С вами что-нибудь случилось, Сашá?
Вопрос совершенно неожидан, наша спонтанная неспешная беседа никак его не предполагала.
– Нет, все в порядке.
– Вы как будто чем-то взволнованны.
– Небольшая размолвка с другом, – без зазрения совести вру я старому человеку. – Ничего серьезного.
– Тот молодой красавец, с которым вы пришли сюда?
«Beau garcon», – сказал дядюшка по-французски, «beau garqon» и есть красавец – выходит, он видел, как мы с Фрэнки подходили к лестнице. Странно, что я не обратила внимания на открытую дверь дома и старика, подпирающего ее косяк. С другой стороны, я была слишком увлечена (не столько Фрэнки, сколько гипотетической возможностью своего падения) – кто в такой ситуации станет обращать внимание на слившегося с пейзажем араба?
– Да, – подтверждаю я слова дядюшки. Ничего другого мне не остается. – А вы находите его красавцем?
Дядюшка Иса трясет указательным пальцем и лукаво улыбается:
– Видный парень.
– Пожалуй.
– Молодые люди часто тратят время на ссоры, вместо того чтобы тратить его на любовь. А жизнь так быстротечна, Сашá…
Чего мне не хватало в двенадцать часов ночи – так это дежурной банальности от неизвестного старика.
– Я сама ненавижу всяческие ссоры.
– Вы очень рассудительная девушка. Может зайдете ко мне на чай?
Ничего пугающего и ничего необычного в этом приглашении нет. Если не учитывать время. Полночь, сказал мне дядюшка Иса; полночь – не самое подходящее время для гостей. Обо всем остальном можно не беспокоиться – марокканцы гостеприимны и ненавязчивы, а уж тем более такой милый старик, как дядюшка Иса (с тех пор как я узнала, что он – не Ясин, иррациональная симпатия к нему растет как снежный ком). Подвоха не будет.
– Боюсь, что уже поздно…
– Понимаю, – подтверждает дядюшка. – Хотите подождать своего друга.
– Не хочу.
– Он не должен был оставлять вас одну вечером. Это неправильно.
Кто бы спорил, дядюшка Иса, кто бы спорил!
– Ничего страшного. Я могу прогуляться домой и в одиночестве. В Эс-Суэйре я как дома. А в следующий раз я обязательно загляну к вам… по-соседски.
– Дядюшка Иса будет несказанно рад. Берегите себя, Сашá. И никогда не ссорьтесь с друзьями. От этого бывают одни несчастья.
***
…Он купил дом совсем недавно.
Возможно, просто перебрался поближе к сыну-рыбаку (внешнее сходство Ясина и дядюшки Исы почему-то не дает мне покоя). Нет-нет, Ясин и Иса не родственники. Если бы Ясин был сыном дядюшки, то так же, как и он, торговал бы пряностями, такая преемственность – основа местного менталитета. Даже Доминик, рожденный французом в Марокко, получил свой колченогий маленький бизнес по наследству. Сын рыбака будет ловить рыбу, сын продавца пряностей – торговать пряностями, сын погонщика верблюдов даже не взглянет в сторону мула, мечты о смене деятельности так и остаются мечтами. Нужно обязательно зайти к старику, поболтать о жизни, я слишком долго просидела в скорлупе отеля «Sous Le del de Paris» – большой мир, который спасает Алекс Гринбл am, ждет меня.
Алекс. Опять Алекс. Я неотступно думаю о нем, как будто и не было вечера с вероломным Фрэнки. С другой стороны – Алекс вероломен не меньше, но об этом как-то забываешь. Особенно вдали от него. Алекс – свет и ясный день, Фрэнки – тьма и холод железного поручня.
…Доминик так и не появился, у стойки меня встречает Фатима: дневная сцена повторяется с той лишь разницей, что мать Джамиля и Джамаля не раскладывает пасьянс.
Ах, да, это не пасьянс – гадание.
Надо бы извиниться перед Фатимой за дешевый мелодраматический скандал, думаю я. Но вместо этого пялюсь на стойку с ключами.
Ключи от номера семь (Фрэнки) и от номера двадцать пять (Алекс) отсутствуют.
– Доброй ночи, – примирительным тоном говорю я. Фатима едва кивает опущенной головой, она все еще дуется.
– Днем я вела себя как стерва, прости. Это все Доминик. Он очень огорчил меня, вот я и сорвалась.
– Я видела его. Он такой несчастный…
Она наконец-то смягчается и поднимает голову. Доля мгновения – и на ее лице появляется испуг, а затем жалость.
– О-о, что это с тобой? Все лицо в крови!
– В крови? – я удивлена не меньше Фатимы.
– Вот, посмотри!
Порывшись в бумагах на столе, она протягивает мне маленькое зеркальце. Пластмассовая оправа истрепалась, на ней отчетливо видны следы детских зубов: шалости Джамиля. Или Джамаля. Я безуспешно пытаюсь втиснуть лицо в магический круг: видны только губы и часть носа. Под ним-то и застыла кровь, так-так, это все спиртное, у меня и раньше иногда шла носом кровь, досадное неудобство, не более.
Все лицо в крови.
Фатима (по-арабски, по-женски) преувеличила, она вообще склонна к преувеличениям, с теми порциями сладостей, которые она накладывает Джамилю и Джамалю, не всякий взрослый мужчина справится.
– У тебя есть салфетка? – спрашиваю я у Фатимы, не отрываясь от зеркальца.
– Возьми.
Несколько легких движений – и от крови не остается следа.
– Теперь в порядке?
– Теперь да.
– Парень из седьмого номера уже вернулся? – Я стараюсь сохранить известную долю беспечности. – Такой высокий брюнет…
– А я думала, тебя интересует совсем другой, – Фатима, подавляя смешок, подмигивает мне. – Тот, который купил у меня карты.
– С чего ты взяла?!
– Мне так показалось…
Стерва арабская! Сказочки об угнетенных женщинах Востока в контексте Фатимы выглядят смехотворными и лишенными всяческого основания. Фатима свободно болтает на французском и (как по большому секрету сообщил мне Наби) изучает английский, страна ее мечты – Голландия, где женщины свободно баллотируются на государственные должности. После дежурства Фатимы я выгребаю со стола пачки прайс-листов с самыми последними моделями ноутбуков и телефонов. На адрес отеля приходят бандероли с журналами мод и каталогами оргтехники – все они адресованы Фатиме.
Отсутствие денег на все это великолепие не смущает Фатиму: к политической карьере в Голландии нужно готовиться заранее и встретить ее во всеоружии. Единственная слабость Фатимы, кроме, разумеется, близнецов, – пасьянсы (о, нет! – гадания), но и с ней она оказалась в состоянии расстаться. Все знают, что Фатима вертит своим кротким меланхоличным мужем, как хочет. И выжимает из него соки, и вьет из него веревки, как какая-нибудь домохозяйка в американской глубинке. Или операционная сестра из российского областного центра средней руки.
– Тебе показалось, Фатима.
– Рыбу я отнесла к нему в номер.
– Какую рыбу?
– Которую ты мне отдала. Наби приготовил ее на пару.
– Ага, – что-то я стала туго соображать. – Наби приготовил, а ты отнесла.
– В номер! – Фатима снова принимается хихикать.
– И?
– Он сказал, чтобы я включила ее в счет.
– Значит, он был в номере?
– А говоришь, что совсем им не интересуешься! Я пропускаю шпильки Фатимы мимо ушей.
– И когда же ты отнесла ему эту чертову рыбу?
– Часов в восемь. Да, в восемь.
В восемь! А за полчаса до этого я ломилась к нему в номер, и никто мне не открыл! Я посрамлена, Алекс Гринблат вовсе не собирался посвящать мне вечер, ни крупицы из его драгоценного времени не получит русская матрешка, а все из-за Доминика! Из-за толстого говнюка, одним чихом пустившего на ветер все мои надежды. Я разрываюсь между презрением к Алексу и ненавистью к Доминику, в этой битве титанов потерянный Фрэнки – всего лишь жалкая мошка на стекле.
– Ты расстроилась, Сашá?
– Ничего я не расстроилась.
– Если тебе интересно…
– Мне не интересно.
– Если тебе интересно, он и сейчас в номере.
– Откуда ты знаешь? – быстро, слишком быстро спрашиваю я.
– Он звонил на ресэпшен около часа назад. Попросил, чтобы его разбудили в семь утра.
– Зачем?
– Откуда мне знать?..
– Он попросил, чтобы именно ты разбудила его?
Я несу уже совершеннейшую чушь, пургу, как сказали бы мои питерские друзья, именно ты, именно разбудила, Фатима – мусульманская женщина и, несмотря на всю свою продвинутость, преданна мужу и детям, нужно совсем потерять разум, чтобы заподозрить ее в адюльтере.
– Он попросил, чтобы кто-то его разбудил. Кто-то, кто будет на ресэпшене. Что с тобой, Сашá?
– Прости…
– Я знаю, это все Доминик. Доминик тебя огорчил… А парень из седьмого номера… Наверное, он унес ключ с собой. И я его не видела. И никого другого за последние сорок минут.
– Кстати, который сейчас час?
Огромные круглые часы, висящие над стойкой (гордость Доминика, какой-то варяг притаранил их прямиком с бухарестского железнодорожного вокзала), показывают без двадцати час – с учетом времени, потраченного на дорогу в отель, дядюшка Иса не соврал мне. Хотя и не пялился ни на какой циферблат.
– Без двадцати час, – подтверждает очевидное Фатима. – Ты сегодня припозднилась.
– Я могла бы вообще не прийти.
– О-о! – округлившиеся глаза Фатимы смеются. – Тогда уже ты огорчила бы Доминика. И вы были бы квиты.
– Я?
– Конечно. Он ведь давно любит тебя…
Женщины, помогающие мужчинам справляться с делами. Вряд ли мы с Фатимой когда-нибудь объединимся в профессиональный союз. Мы не подруги, слишком мало у нас общего: Фатима – жена и мать с дальним прицелом на политическую карьеру в Голландии, я – неизвестно кто, перекати-поле бездетен и обязательств, в мире нет ни одной страны, о которой бы я мечтала перед сном, лежа в кровати, баллотироваться на государственные должности – что может быть глупее, раскладывать пасьянс (о, нет! – гадание) – что может быть печальнее? Мы не подруги, но, возможно, она подруга Доминика. Наперсница и утешительница. Иначе к чему это полное тайных смыслов замечание?
Я все-таки уделяла недостаточно внимания людям, которые меня окружают.
– С чего ты взяла, что он любит меня?
– Об этом знают все. Даже Джамиль и Джамаль. – Упоминание о сыновьях вызывает у Фатимы улыбку – мечтательную и покровительственную.
– Вот как! Выходит, я одна не в курсе?
– Выходит.
Фатима – наперсница Доминика. Так и есть.
– У тебя нет глаз, Сашá!
– Да нет. Глаза вроде бы на месте. – Я демонстративно смотрюсь в зеркальце, которое так и не удосужилась вернуть Фатиме.
– У тебя нет глаз! Иначе бы ты давно увидела, как он к тебе относится. Он не ложится, не убедившись, что ты уже легла…
– Интересно, каким образом он в этом убеждается?
– Стоит напротив твоей двери каждый вечер. А потом прикладывает руку к губам и… – Фатима закатывает глаза. – … и… Словом, он шлет тебе поцелуй.
Такой хорошо законспирированной низости я от Доминика не ожидала. Если, конечно, Фатима не врет.
– Шлет поцелуй? При большом скоплении свидетелей?
– Не было никаких свидетелей.
– Но ты ведь наблюдала за этим? Или он сам рассказал тебе?
– Он не рассказывал. Я увидела. Один раз, только один. Совершенно случайно. Я меняла белье в номерах на этаже. Доминик очень смутился…
Еще бы он не смутился! Гнилозубое смущение вуайериста, пойманного на месте преступления. Бедняжка Фатима хотела обелить, реабилитировать Доминика в моих глазах, но добилась прямо противоположного эффекта. Теперь моя ненависть к жирдяю абсолютна.
– Он любит тебя, Сашá. Он – хороший человек… Да уж, хороший.
– Я не хочу больше говорить о нем. Извини.
– Как знаешь, – Фатима пожимает плечами.
– Спокойной ночи.
– И тебе…
…Поднос с двумя грязными тарелками и пустой бутылкой минералки, стоящий на полу, – такая картина открывается моему взору у дьявольского номера двадцать пять. Остатки трапезы Спасителя мира, что может быть омерзительнее? Увидеть это – все равно что застать небритого Алекса мочащимся в подворотне, я зла, я очень зла. Рыбные кости, скомканные, залитые кетчупом салфетки, хлебный огрызок – вот что вечно липнет к подошвам спасителей, вот от чего они непременно хотят избавиться, выставив это роскошество за дверь. В теплой компании рыбных костей оказалась я сама, так не вовремя прилипшая к подошве; меня выставили за дверь, от меня поспешили избавиться, я зла, я очень зла. Первое желание – грохнуть кулаком в табличку с номером, потребовать объяснений и выставить счет. За бритвенный станок с двумя лезвиями, за кровь, полившуюся из носа, за самооценку, упавшую до нуля, за блуждание в темноте и безнадежно испорченный вечер.
И безнадежно испорченную жизнь.
Нужно уметь подавлять желания.
Научившемуся этому – прямой путь в Спасители мира.
Поддев ногой салфетку и отфутболив ее к стене, я отправляюсь в свой номер. Вымыться, выплакаться и бухнуться в постель – это все, чего я сейчас хочу.
Какая наивная, беспомощная детская ложь! Даже Джамиль и Джамаль раскусили бы ее.
Алекс Гринблат – вот кого я действительно хочу.
«Бодливой корове бог рогов не дает», – в этом духе выразилась бы далекая мама, слишком занятая воспитанием трех моих племянников, чтобы переживать еще и обо мне. Если бы дело ограничивалось только рогами! Бог не дал мне:
ума;
внешности;
харизмы;
чувства юмора;
чувства собственного достоинства;
умения носить в ушах всякую дрянь с таким шиком, как будто это – бриллианты.
Последнее добивает меня окончательно. И заставляет вспомнить о юной танцовщице из «La Scala». И еще об одной танцовщице – Мерседес, сладкой, как яблоко (я до сих пор не уверена в том, что она когда-либо существовала). Им обеим – существующей и той, чье существование под вопросом, – им обеим повезло гораздо больше, чем мне. Они прекрасны и самодостаточны сами по себе. Мне же, для того чтобы стать самодостаточной, необходимо по меньшей мере умереть. И лучше – не своей смертью. Лучше погибнуть в каком-нибудь теракте. И тогда обязательно найдется хмырь, который назовет меня своей возлюбленной, возведет меня в ранг святых и каждое третье воскресенье месяца будет глушить водку на моей несуществующей могиле.
Именно так зарабатывают очки худосочные студентики Мишели. Свой Мишель найдется и для меня, он никогда не скажет: «Оставь меня в покое, идиотка», о мертвых – или хорошо, или ничего, это как раз про меня.
Ха-ха.
Кажется, мой Мишель уже нашелся.
Жирдяй Доминик, совершающий тайные обряды перед моей дверью. Ничего более удобоваримого я не заслужила.
Интересно, откуда на платье взялись пятна крови? Одно украшает подол, другое пристроилось в поясе: платье распластано на полу и из душа, под которым я стою, пятна просматриваются просто отлично. Совсем небольшие, но способные ухудшить и без того не самое прекрасное настроение. В этом я вся: думаю о каких-то пятнах, в то время, когда рушится мир, как только я умудрилась их посадить и почему одно оказалось на подоле, минуя грудь?..
Застирывать их сейчас у меня нет никаких сил.
Завтра. Я со всем управлюсь завтра. Со всем управлюсь и во всем разберусь.
Прежде чем бухнуться в кровать (пункт три в моем расстрельном списке; пункт два – «выплакаться» – был вычеркнут по ходу, как требующий дополнительных физических усилий, на которые я сейчас не способна) – прежде чем улечься, я некоторое время бесцельно брожу по комнате. Убогая гостиничная обстановка вопиет о том, что вить гнездо я так и не научилась. Как не научилась обрастать вещами – все это следствие тотального равнодушия к самой себе. И намертво (по самые гланды) вколоченной мысли, что Эс-Суэйра – рай земной. Ну кому придет в голову тащить в райские кущи ковры, тарелки, расписанные вручную, сборище кальянов и плакаты давно распавшейся зомби-трэш группы «Spice Girls» – в кущах их не развесишь. Приехав в Эс-Суэйру с одним чемоданом, я смело могу выезжать с тем же количеством груза, разве что к нему прибавится полиэтиленовый пакет с троянскими дарами Ясина.
Ах, да.
Еще пишущая машинка.
«Portative».
Пишущая машинка, несомненно, украшает мой номер, равно как и вправленный в нее листок:
…что мешает нам начать игру? Давай отбросим все и начнем…
«Someday my princess will come».
Что за черт?
Листок с началом (окончанием) неизвестного мне романа был едва ли не священным, папская булла, свиток наставлений далай-ламы: ни одно из сравнений не кажется преувеличенным. Из каретки он вынимался всего лишь раз, и то с величайшими предосторожностями – когда я стряпала письмо Алексу Гринблату (тогда же была заменена высохшая лента). Теперь строки из романа получили продолжение – «someday my princess will come».
ОДНАЖДЫ ПРИДЕТ МОЯ ПРИНЦЕССА
Свежая мысль, свежий поворот сюжета и совсем уж свежий оттиск, еще сегодня днем я видела листок в первозданном виде. Это может означать лишь одно: кто-то за время моего отсутствия забрался в номер и мило похулиганил. Не постеснялся сунуть нос в машинку, не постеснялся бросить пальцы на клавиши.
Кем был этот человек?
Вскрывший номер (как минимум у него должен быть ключ), оставивший послание (как минимум у него должны быть познания в письменном английском) и абсолютно уверенный в том, что послание будет прочитано. Ведь машинка стоит в моем номере, значит – я прочту его, рано или поздно.
Какой бы идиотской не выглядела шутка – круг шутников не может быть широким. Постояльцы гостиницы и персонал, а чужие здесь не ходят. Сначала я отметаю постояльцев (всех или почти всех), никто из них не знает, в каком номере я живу. Наби, Фатима и Доминик – в курсе дела, но… Наби и с разговорным французским едва справляется, где уж ему одолеть письменный английский, потомственный поваришко Наби, стучащий на машинке, – это из раздела ненаучной фантастики. Фатима – тоже фантастика, только научная. Двух приходящих горничных можно смело поместить в рубрику «Сказки Шахерезады», остается Доминик.
У него единственного есть универсальный ключ от всех дверей, он единственный умеет просачиваться в мой номер нелегально (свежесрезанные цветы в вазе – тому подтверждение, они появляются каждый день, и я ни разу не заметила как и когда), и еще – надпись. Она украшает напульсник из нашей с Домиником галереи забытых вещей.
До сих пор надпись казалась мне невыразимо пошлой.
Теперь все по-другому.
Перенесенная с кожи на бумагу, она странно волнует меня.
Принцессой, забытой в пыльном шкафу, мог оказаться кто угодно: собственно принцессы, урожденные обладательницы титулов, официантки, получившие такое прозвище от шоферов-дальнобойщиков, бабочки, получившие такое прозвище от энтомологов, самки дельфинов-афалин, получившие такое прозвище от сотрудников дельфинария (где ты, Фрэнки?), самки мотоциклов «Харлей-Дэвидсон» – мечта безлошадных спивающихся байкеров, японки с крошечными грудями – мечта англосаксонских дряхлеющих интеллектуалов.
Однажды придет моя принцесса -
меня приглашают разделить чье-то ожидание. Чью-то тинейджерскую веру, такую же фанатичную и такую же легко предаваемую, как вера в Христа.
Но существует и другой вариант, гораздо менее правдоподобный:
слова (или лучше назвать их заклинанием?) обращены ко мне, коль скоро появились именно в моем номере. Следовательно, я и есть принцесса.
Не стоит так серьезно к себе относиться.
Не буду.
А Доминик слишком труслив, чтобы оставить подобный message, слишком робок, слишком толст, слишком не уверен в себе. Стоп-стоп, днем он свихнулся, стал другим, не тем Домиником, которого я знала раньше, не моим Домиником, а новый Доминик вполне мог проявить себя и таким экстравагантным способом.
Не стоит в это верить.
Не буду.
Знаю-знаю, о чем ты думаешь, Сашá, чего ты втайне страстно желаешь – АЛЕКС, никто иной.
Алекс совсем рядом, за стеной, утром мы вместе изучали внутренности шкафчика, дверь на балкон оставалась открытой, а фанерная перегородка – не препятствие, за яичницей в «La Scala» он мучил меня странными вопросами, изводил странными тестами, что – если это еще один, последний?., я сошла с ума, свихнулась подобно Доминику, с чего бы это Спасителю мира пришла блажь разыскивать меня среди грязных тарелок и рыбных костей, моей естественной среды обитания?
Отсутствие любовных эмоций делает людей глупцами. Так же, как и их наличие. А золотой середины, похоже, нет, в любом случае остаешься в дураках.
Дура с босыми ногами, в джинсах и футболке – тоже я. Вместо того чтобы найти покой в постели и утешиться ночной рубашкой, я влезла в старые штаны с продранными коленями – три года назад это было чертовски модно, и ткань была измордована мною лично, кустарным способом. Потом производство прорех в штанах заимело промышленную основу, об этом шепнул мне варяг, притаранивший часы прямиком с бухарестского железнодорожного вокзала. В джинсах я чувствую себя много лучше, чем в платье, надпись на футболке гласит:
«BORN TO BE FREE»11.
Случай явно не мой.
И джинсы с футболкой тут не помогут. Фрэнки мог бы мне помочь, но он ретировался. Жюль и Джим могли бы мне помочь, но они – сущие кретины. Ясин мог бы мне помочь, но он поет колыбельные салаке и тунцу. Дядюшка Иса мог бы мне помочь, но время для мятного чая еще не пришло. Остается… Остается… Остается…
АЛЕКС, никто иной.
Алекс совсем рядом.
В соседнем номере, за соседней стеной. Я могу выйти в коридор и постучать в его дверь, просто так, «по-соседски» (терминология дядюшки Исы), со смехом поинтересоваться, почему он в одностороннем порядке отменил приглашение на вечер, рассказать историю блужданий по смотровой площадке старого форта, пожелать спокойной ночи и убраться восвояси. Или просто пожелать спокойной ночи, минуя промежуточные пункты.
Точка должна быть поставлена.
Однажды придет моя принцесса, хорошо же!
Вырвать к чертям листок из каретки, вот и все. Примерившись, я хватаюсь за оба ее конца и прокручиваю валик. Листок с текстами (старым и новым) падает мне в руки, поверхность каретки обнажается:
ключ – вот что я вижу на ней.
Ключ был замаскирован бумагой, он лежит прямо посередине, теперь я не просто принцесса, а принцесса с ключом. Осталось только найти подходящий замок.
Это не ключ от номера (все ключи от номеров снабжены металлическими бирками, оставшимися со времен, когда Доминика еще не было на свете, а отелем управляли его отец и дед), это тот самый ключ, который достался мне от Ясина. Привет из рыбьего брюха. Он чуть длиннее, чем любой из отельных ключей, за то время, что мы не виделись, его форма ничуть не изменилась, и голова единорога на нем не наросла. Помнится, я оставила ключ на краю раковины в ванной.
А сейчас он здесь, на каретке «portative».
Осталось только найти подходящий замок. Может быть, и он где-то поблизости.
Сумасшествие заразно, я свихнулась, сошла сума, но это имеет и свои положительные стороны. Так быстро я еще никогда не соображала, и зрение еще никогда не было таким острым, я вижу все предметы в комнате под странными, причудливыми углами, они колышутся надо мной (подо мной, вокруг меня), как паруса старинных фелюг, они сворачиваются в клубок, их затягивает в воронку, а эпицентр воронки – дверь в стене.
Которая отделяет меня от Алекса.
Почему бы не попробовать?..
Замочная скважина защищена целомудренным щитком, чтобы вставить ключ, нужно будет отодвинуть щиток в сторону. Судьба двери между двадцать пятым и двадцать седьмым номерами прежде меня не беспокоила, соотношение между количеством комнат в отеле и количеством постояльцев позволяет не сдавать двадцать пятый, три года я просуществовала вообще без соседей. То, что Алекс поселился в нем, – исключительно моя добрая воля. Или воля того, кто, сидя на небесах, раскладывает старинный арабский пасьянс, две половинки одного предмета должны совпасть – и тогда сложится предупреждение или предзнаменование, и станет ясно, куда двигаться дальше, чтобы добраться до цели или избежать несчастья.
Алекс объяснил мне принцип раскладки карт за две минуты.
Но кто мне объяснит, почему ключ, извлеченный из наугад выбранной рыбы лишь сегодня, должен подойти именно к этой двери?
Тот, кто положил его на каретку пишущей машинки.
Стоя с ключом перед дверью, я кажусь себе Алисой на пороге Страны чудес, малюткой Элли на развилке дороги из желтого кирпича. Прохладное тельце ключа вот-вот выскользнет из моих пальцев, в животе образовалась саднящая пустота, в горле пересохло, мое тело – сумка, полная сердец. Название то ли фильма, то ли книги, об их сюжете я не имею ни малейшего представления.
Ключ в замке поворачивается почти бесшумно. Два с половиной оборота.
Все.
Путь свободен.
Я толкаю дверь и оказываюсь в номере двадцать пять.
Он освещен напольным светильником – темно-коричневый геометрический узор на светлой коже; такие светильники стоят в каждом номере, разница лишь в узорах и степени их сохранности. Полутороспальная кровать в нише, стол, два стула, кресло в углу, маленький телевизор и холодильник с баром – стандартная гостиничная начинка.
Что еще я ожидала увидеть?
Причудливый ландшафт Страны чудес? Дорогу из желтого кирпича?
Алекс сидит на полу, на выцветшем ковре, и раскладывает пасьянс. Он тоже в джинсах и босиком, торс обнажен: от близости ночника тело светится особым светом – медовым, ванильным, затененные места отливают кофейным, ореховым.
Грациозный полуголый Алекс – находка для модного фотографа.
Он и похож на фотографию, а неудачный задний план всегда можно заретушировать.
– Привет, – я держусь за дверной косяк, чтобы не упасть.
Алекс поднимает голову.
Он совсем не удивлен, он ободряюще улыбается.
– Привет.
– Ничего, что поздно?
– Ничего.
– Вы не спите?
– Не сплю.
– Не слишком нахально с моей стороны?
– В самый раз. Я ждал вас, Сашá. Я бы очень расстроился, если бы вы не пришли.
Ни слова о скверном мальчишеском проступке, заставившем меня страдать, ни слова о сорванном свидании, что ж, я тоже промолчу. Раскалывать и без того хрупкую тишину номера было бы недальновидно – все равно что устраивать скандал в научной библиотеке, в отделе редких книг. Светящаяся нагота Алекса, ее текстура сродни текстуре старинного фолианта, он попадает в руки лишь избранным: на короткое время, под расписку, под личную ответственность начальника отдела.
– Я пришла.
– Someday my princess will come.
Пошлейшая фраза.
Она пережила массу метаморфоз, она прорывала ходы в кожаном напульснике, она окуклилась в бумажном листе и теперь, расправив прекрасные крылья, слетела с губ Спасителя мира. Сгустившийся вокруг меня воздух пробивают искры – медовые, ванильные, кофейные, ореховые, еще можно добавить вкрапления неона, я едва держусь на ногах, я готова рухнуть на колени перед Алексом.
Секс со мной не доставит вам никакого удовольствия – эта реплика меня больше не убеждает.
– Присаживайтесь.
– Куда?
– Куда хотите. Можно на пол.
Сидеть на полу, рядом с Алексом, напротив Алекса – что может быть чудеснее? Я сама была готова рухнуть передним на колени, он просто предугадал мое желание.
– День был долгим, – голос Алекса такой же медовый, как и его тело. Такой же ванильный.
– А вечер еще длиннее. Я надеялась провести его с вами.
– А провели…
– Не важно. Важно, что он кончился. И теперь ночь властвует над миром.
Геометрия напыщенных магрибских светильников – это она сунула мне в рот фразу, – липкую и приторную, как сладости, продающиеся на каждом углу вместе с орешками, кулек на выбор стоит десять дирхам.
– У вас устаревшие сведения, Сашá. Над миром властвует совсем не ночь.
– Вы. – Мне становится весело.
– Как вы догадались? – Алекс веселится не меньше моего.
– Я знала это с самого начала. Еще когда увидела вас в аэропорту.
Алекс смешивает карты рукой:
– Забавная вещица это гадание.
– Да.
– Под него при известном умении можно организовать целый культ. Сродни вудуистскому. Добавить еще несколько аксессуаров, снабдить неправдоподобной теорией…
– Почему неправдоподобной?
– Потому что правдоподобные людям претят. Люди находят их невыносимо скучными. Вы не согласны?
– Я как-то не задумывалась над этим…
– Правда, придется поработать над дизайном. Поломать голову над символами. Заменить агрессивно мусульманские на более привычные христианские.
– Или масонские…
Алекс смотрит на меня с живым интересом.
– Или масонские, вы правы.
– И что потом?
– Потом? Потом подбросить сведения о них в пару книг, датируемых, скажем, веком пятнадцатым-шестнадцатым…
– Это возможно?
– Конечно, возможно. – У Алекса большие связи в отделе редких книг, если он вообще им не заправляет. – В этом мире нет ничего невозможного.
– Вас сразу же раскусят.
– Не раскусят. – Спаситель мира беспечно шевелит пальцами на ногах. – Человечество в большинстве своем охотно клюет на подобные мистификации. Вечно что-то выискивает, перекраивает историю, переписывает вечные истины, сует нос в постели святых, в надежде обнаружить там проституток с ближайшего постоялого двора. Вокруг – одна мерзость невежества и мрак полузнания.
– Вы слишком пессимистичны, Алекс.
– Я хорошо знаю людей, и потому у меня нет поводов для оптимизма.
– Вы еще и мизантроп.
– Грешен и каюсь. Но лучше быть мизантропом, чем недоумком, свихнувшимся на конспирологии. Или кретином, пытающимся отыскать в бульварной книжонке ответы на вопросы, над которыми лучшие умы бились веками. Адаптация – вот бич нашего времени, адаптация всего и вся. Никто не хочет прилагать усилий, Сашá.
– Усилий к чему?
– Ко всему. Фитнес-центров для тренировки мозгов не существует.
– Запатентуйте хотя бы один. Если вы так печетесь об умственном дряхлении человечества.
– Ну уж нет, с таким подходом и прогореть недолго. Я предпочитаю стричь купоны в других местах. Помните бритву в вашем шкафу?
– А что бритва?
– Она была хороша за стеклом, она выглядела произведением искусства, но стоило вам вытащить ее, как все очарование пропало. Что у нас имеется?
– Что? – я не совсем понимаю, куда клонит Алекс.
– Бритва, стекло и вы.
– Я? При чем здесь я?
– Хорошо. Не вы. Любой другой, кто мог оказаться на вашем месте. И на месте бритвы могло оказаться что угодно. От бритвы требуется лежать смирнехонько и изображать из себя кинжал, которым был заколот Юлий Цезарь. Или стилет, которым был заколот Марат. От вас требуется верить в наличие подлинного кинжала и подлинного стилета.
– С чего бы это мне верить в такую чушь?
– Хорошо. Не вам. Всегда найдутся идиоты, готовые поверить.
– Недоумки и кретины?
– Они. Между ними и бритвой всегда будет существовать стекло, обеспечивающее веру с одной стороны и иллюзию – с другой. Я. Я хочу быть этим стеклом. Я и есть стекло.
Алекс придвигается ко мне, он не сводит с меня глаз. Чертовски красивых глаз.
– Я достаточно ясно выразился?
– Более чем.
– Вы ведь меня поняли, маленькая умница?
– Кажется, да. Бритва – это аллегория. А стекло…
– А стекло…
У меня, в который уже раз, возникает ощущение, что Алекс гонит меня на флажки, подталкивает к ответам, которые хочет услышать.
– А стекло – нет. Не аллегория.
– Не аллегория. Верно.
– Стекло – это вы.
Алекс не просто приблизился, он нависает надо мной: скала исполинских размеров, загнанная в море, вокруг нее снуют косяки рыб, о нее разбиваются птицы, лодку Ясина может постигнуть та же участь, ее несет на скалу, Ясин и не думает защищаться, от его слабого крика у меня готовы лопнуть перепонки.
Этот человек опасный! Опасный!
Слишком поздно, Ясин. Слишком поздно.
Алекс берет меня за подбородок жесткими пальцами.
– Стекло – это моя чековая книжка. Хотите работать на меня?
Такого поворота я не ожидала.
– Работать на вас?
– Работать со мной.
– Но… почему я?
– Я уже говорил вам. Но могу повторить.
Умение убеждать. Умение взглянуть на вещи с неожиданного ракурса, чувство юмора и… Кажется, утром он прошелся по моей внешности. Не красавица, но с изюминкой.
– Нет. Повторять не надо.
– Когда я получил письмо о досках, которые малюет ваш друг…
– Там были еще фотографии.
– Я помню. Честно сказать, фотографии меня не впечатлили.
Еще один неожиданный поворот, мы с Алексом несемся по горному серпантину, только шофер на этот раз не я – он.
– Но вы же приехали сюда… ради досок. Ведь так?
– Ради вашего письма. Так будет правильней.
– Вы хотите сказать, что то, что делает Доминик… Не имеет никакой ценности?
– Это выяснится только со временем. Лет тридцать-сорок придется подождать.
– Слишком долго.
– Это не предел, поверьте. Но даже если мы остановимся на тридцати годах… Вас интересует то, что произойдет через тридцать лет?
Через тридцать лет я буду charmantepetite vieille.
– Не особенно.
– Вот видите! Для большинства тридцать лет – синоним эпитафии на собственной могиле, что думать об этом? Никто не согласен ждать. Здесь и сейчас, на худой конец – завтра вечером. Если сказать вашему другу, что через тридцать лет его доски его же и обессмертят, что он вам ответит?
– Он будет польщен.
Я совсем не уверена в этом. Доминик по-свински обошелся с тем, что составляло один из главных смыслов его жизни, и вывод напрашивается сам собой: на бессмертие ему плевать. Но, слепо подчиняясь воле Алекса Гринблата, я снова говорю то, что он хочет услышать:
Польщен. Польщен. Польщен.
– Нет, Сашá. Он будет расстроен. И спросит: нельзя ли передвинуть бессмертие в чуть более обозримое будущее? А заодно приблизить вещи, которые сопутствуют бессмертию.
– Благодарную память? Ссылки в академических изданиях?
– В академические издания никто не заглядывает. Я говорю о вещах, имеющих прикладное значение. О вещах, которыми можно воспользоваться. Здесь и сейчас.
– Что же это за сногсшибательные вещи?
– Слава и деньги, маленькая умница. Слава и деньги. Возможность безграничного влияния на умы идиотов и кретинов, составляющих большинство.
– И недоумков, вы забыли про них. Но, как я понимаю, у недоумков с разумом некоторые затруднения. Как быть с ними?
– Как быть? Задействовать другие центры. Обратиться не к голове, она все равно никак не отреагирует. Обратиться к диафрагме, обратиться к паху – там теснятся самые острые эмоции. Самые основные.
– Неужели вы думаете, что это сойдет вам с рук? Кем вы себя вообразили?
Это все ночь. Остатки шампанского. Две бутылки вылакала я, как провел время Алекс – неизвестно. На ужин он заказал рыбу, к рыбе идет белое вино, может быть, он тоже выпил? Спиртное и ночь развязывают язык, близость женщины, которой ты безумно нравишься, – развязывает язык. А Алекс нравится мне, не заметить этого невозможно. Это все ночь, это все ветер с океана; крепость предположений, теорий и выкладок, которую построил Алекс Гринблат, не так уж безупречна, любой опытный полководец возьмет ее с ходу, не тратя недель на осаду. Его войска войдут через главные ворота и – прямо на них – вздернут Спасителя мира, оторвавшегося от реальности. Не факт, что это приведет Алекса в чувство.
Но есть другой факт, неоспоримый.
Я – не опытный полководец. Я вообще не полководец.
Я – женщина, которой безумно нравится Алекс Гринблат. Вне зависимости от того, кем он является на самом деле.
– …Кем вы себе вообразили, Алекс?
– Я манипулирую меньшинством, которое манипулирует большинством.
Чтобы изречь эту фразу, ему и трех секунд не понадобилось – не что иное, как домашняя заготовка. Фрэнки с его дельфинами, с его сухими строительными смесями и сырным эскортом – всего лишь приготовишка, жалкий дилетант. Фрэнки надо бы взять у Алекса несколько уроков по обольщению красоток, а Жюль и Джим… Их завернут прямо на пороге класса: ступайте-ка на свою тупую лыжню, недоумки!..
– Хотелось бы конкретики. – Так просто я не сдамся.
– По-моему, я выразился достаточно ясно.
– Вы – Билл Гейтс?
– Нет.
– Может быть, вы – президент Соединенных Штатов?
– Ценю ваш юмор, – Алекс по-свойски подмигивает мне. – У нас будет время обсудить это подробнее.
– Когда?
– Когда вы согласитесь принять предложение работать со мной.
– В чем же будет заключаться моя работа?
– Оставаться собой. И всякий раз иметь в рукаве такого вот рыбака…
– Вы говорите о Ясине?
– О том парне, который чистил рыбу на пирсе. Такие трюки он проделывает только для вас или есть еще избранные?
– Я не знаю. Я не считаю это трюком.
– Неважно, что считаете вы. Важно, как это расценят все остальные.
– Так вы нанимаете на работу сразу двоих? Меня и Ясина?
– Я этого не сказал. Рыбак был упомянут для примера. Для иллюстрации вашей способности удивлять. Вы отлично выбрали объект.
– Это касается рыбы?
– Нет, хотя рыба была приготовлена изумительно. Кухней уже никого не удивишь. Водоносы, орущие уличные музыканты, скачки на верблюдах – это…
– Туземные прелести.
– Именно. Цена им – грош, так что оставим их туристам. Вы выбрали нечто совсем особенное. Сначала – доски.
Кажется, Алекс пропустил мимо ушей мое признание в том, что обстоятельства изменились. А я ведь уже говорила ему: досок больше не существует, Доминик уничтожил их – все до единой. Совсем недавно я воспринимала это как трагедию. Как крушение мечты. Но оказалось – совсем не доски интересуют Алекса. В этом свете гибель Девушки С Девятью Жизнями можно рассматривать не как мою трагедию, а как драму Доминика. Хуже только перебои в работе кондиционеров – «estoy en la mierda». Что касается досок – либо Алекс не зафиксировал это в сознании, либо не услышал. Либо – не захотел услышать.
– Досок нет. Доминик пустил их в расход.
– И ничего не сохранилось?
– Ничего.
– Я думал, вы несколько преувеличили масштабы происшествия.
– Нет.
Он мог хотя бы посочувствовать – ради приличия. Но Алекс принимается хохотать. Каждый мускул на его теле хохочет, каждый волос; хихикают сморщившиеся коричневые соски, заливается плоский живот, бицепсы и трицепсы бьются в истерике.
– Это так смешно?
– Простите. – Алексу не сразу удается взять себя в руки. – Конечно, это не смешно.
– Совсем не смешно.
– А почему он это сделал?
– Ума не приложу. Он знал, что приехал человек… Специалист в современном искусстве… Приехал специально, чтобы взглянуть на них…
– Так вы рассказали ему обо мне, Сашá?
– Конечно.
На лице Алекса появляется выражение задумчивости. И некоторой досады. Смена настроений так мимолетна, что не поддается логическому объяснению. Следить за ней тоже затруднительно.
– Ваш толстяк не такой идиот, каким казался.
– Что вы хотите этим сказать?
– Что он умнее, чем я думал. Ну да бог с ним. Мы ведь говорили о вас, а точнее, о вашей способности видеть предметы под необычным углом. И о вашей способности удивлять. Знаете, каким было мое первое чувство, когда я прочел письмо?
– Поделитесь.
– Я испытал жгучее желание заполучить эти проклятые доски. И выложить за них любые деньги. Я на секунду стал тем самым идиотом, кретином и недоумком из большинства…
– Большинства, которым манипулирует меньшинство, которым манипулируете вы?
– Именно. К счастью, наваждение длилось недолго. А потом я стал анализировать… Что так меня возбудило? Доски для серфинга, которые расписывает какой-то неудачник из Марокко? Нет. Их художественная ценность? Опять же – нет. Понятие художественной ценности – субъективно. Настолько, что ее вообще можно сбросить со счетов.
– Неужели все так просто?
– Сложно лишь с документами эпохи, взывающими к чувству сострадания. К чувству праведного гнева. Кино– и фотосвидетельствами, которые фигурировали на Нюрнбергском процессе, к примеру. Лампы, обтянутые человеческой кожей, были чудо как хороши. Прикладная деталь интерьера, прекрасное исполнение. Но назвать их произведениями искусства язык не повернется, не так ли ? Сколько бы лет ни прошло. Тут нравственные законы вступают в противоречие с ценностными характеристиками… Ни один антиквар не продаст вам такую лампу. Ни в одной цивилизованной европейской стране… А если продаст – никогда не признается, из какого материала она была сделана.
По моей спине бегут мурашки, а во рту стоит такая сушь, что ее не залила бы и целая упаковка минеральной воды из лавчонки Джумы.
– Вам нехорошо? – участливо спрашивает Алекс. – Упоминание о лампах – не самое удачное, согласен. А можно еще съездить на Тибет, там бойко торгуют чашами из человеческих черепов, оправленных в серебро. Это впечатляет гораздо меньше, да и черепа не европейские. Следовательно, праведный христианский гнев по поводу несовершенства и жестокости мира несколько ослабляется. Слава богу, я стараюсь не иметь дела с тем, что может поколебать покой среднестатистического индивидуума. Все в рамках дозволенного, даже папа римский благословил бы мои изыскания.
– Вы собираетесь на аудиенцию?
– Ха-ха! Я отправлюсь к нему, только если решу приобрести его знаменитый папамобиль. Забавная колымага.
– А зачем вам эта колымага? Будете катать девиц?
– Продам с аукциона.
– И найдутся безумцы, которые купят?
– Находятся ведь безумцы, которые на корню сметают нижнее белье кинозвезд. Находятся ведь безумцы, которые поклоняются какому-нибудь «Черному квадрату» так, как будто это икона, как будто это – терновый венец самого Иисуса. Находятся ведь безумцы, почитающие гнусного пиарщика Дали гением. Находятся ведь безумцы, уверенные в том, что Энди Уорхол – лучшее изобретение человечества после изобретения пороха. Не вздумайте возражать мне…
Алекс предостерегающе поднимает руку и скалит зубы – совершенно по-волчьи, ощущение такое, что мы вместе несемся на флажки. Перечить ему сейчас означало бы подставить под удар собственное горло: Алекс перегрызет его, не задумываясь.
– Я и не собиралась вам возражать…
– Еще бы!.. Но мы, кажется, несколько отклонились от темы… О чем я говорил?
– О возбуждении. Что-то вас сильно возбудило.
– А-а! Все дело в вашем письме, в вашем взгляде, в умении увидеть тенденцию. В умении сформулировать концепцию. Концепция – вот что важно. Философское осмысление материала. Поданное живо и занимательно. Немного шлифовки – и ваше письмо способно стать проспектом, предваряющим выставку.
– Ни одной доски не сохранилось, – напоминаю я Алексу. – Значит, и выставке не бывать.
– Не важно. Не будет этой выставки – будут другие. У меня есть несколько художников, ожидающих выхода на рынок. Я познакомлю вас с ними, занятные ребята. Способные в будущем принести немалые деньги.
– Кому?
– Скажем… – Алекс выдерживает паузу, – заинтересованным в их раскрутке лицам. Внакладе не останется никто, поверьте.
– Все это очень мило, Алекс. Но проблема в том, что современное искусство меня не привлекает. Я не искусствовед и не могу судить…
– Специальных знаний от вас никто не требует. Только оригинальность мышления и бесстрашие. Качества, которыми вы, несомненно, обладаете.
– Бесстрашие? Хм-м… Вы мне льстите, Алекс.
– Бесстрашие, я настаиваю на этом. Бесстрашие в открытии нового. Не плестись в хвосте моды, но самому формировать ее. Так было с заброшенными фабриками в не самых престижных районах нескольких крупнейших мегаполисов – по обе стороны океана. Стоило только одной из звезд… не буду говорить – кому именно… Так вот, стоило только одной из звезд купить фабрику и обустроить ее под жилище, как за ней потянулись другие. Это стало модным.
– И цены на промышленную недвижимость резко поползли вверх?
– Они взметнулись до небес, дорогая моя! Таких примеров тысячи. Все в мире покупается и продается. Гнев – помните, мы говорили о гневе… Гнев, нетерпимость, толерантность, даже такое недоразумение, как гражданская позиция, все это имеет собственную цену. Я уже не говорю о вещах попроще – идеи, направления, тенденции. Важно застолбить место в начале цепочки.
– Вы знаете как?
– Знаю. И могу научить вас. Если вы захотите. А вы – захотите. Вы – любознательная маленькая умница.
– С чего бы это Алексу Гринблату заниматься филантропией?
– О филантропии речи не идет, поверьте. Я предлагаю вам стать членом команды. С определенным набором прав и обязанностей. С определенным объемом работы, который будет оплачиваться.
– Насколько хорошо?
Алекс по-иезуитски втянул меня в игру, от которой я уже не в силах отказаться.
– Настолько, насколько выполненная вами работа меня устроит. Вы русская, а это еще один плюс.
– Вы питаете слабость к русским?
– С некоторых пор.
– А если точнее?
– С тех самых пор, как у русских появились шальные деньги. И жажда их потратить. Вы знаете соотечественников изнутри, и вместе мы сможем облегчить их карманы. К обоюдному удовольствию сторон. По рукам?
Происходящее кажется мне дурным сном. Одним из снов Ясина – может быть, это и есть сон Ясина, в пользу этой версии говорит тень, которую отбрасывает тело Спасителя мира: неестественно огромная, черная, глухая – она уже съела мои колени, грудь и живот, и теперь подбирается к подбородку: пройдет совсем немного времени, и я буду сожрана Алексом окончательно. В пользу этой версии говорит бледный светильник на полу. До сих пор я не имела ничего против материала, из которого он был сделан: верблюжья кожа или кожа какого-то другого животного, геометрические разводы хной; а если это – человеческая кожа, а геометрические разводы – татуировки, нанесенные на нее при жизни? Черный квадрат балкона, мой собственный череп – раскалывающийся, оправленный в серебро, какова его реальная стоимость и насколько ее можно сбить, торгуясь с владельцем antiquaire12 из Тибета? Потолок в комнате куда-то подевался, мой взгляд встречает пустоту, потолок – где-то там, за пустотой, не хватает только железных ферм и перекрытий, чтобы сходство с фабричным цехом было полным. Фабрика, обустроенная под жилище и набитая поделками Дали и Уорхола, фамилию звезды, прикупившую промышленную недвижимость, можно уточнить в справочнике. Или в одном из каталогов журнала «Форбс».
Если бы это был сон Ясина – я бы увидела кошку.
Но это не сон Ясина – это реальность Алекса Гринблата. Реальность, от которой слегка подташнивает.
– Так по рукам? Вы не ответили, Сашá.
«По рукам» – Алекс понимает слова слишком буквально. Или предугадывает мои собственные тайные желания: его пальцы находят мои и крепко сжимают их. Прикосновение длится, длится, длится – ровно столько, сколько я мечтала о нем.
– У вас есть кошка?
– Кошка? Вы очаровательны, Сашá! Нет, у меня нет кошки. Я в постоянных разъездах, и не в моих правилах обрекать животных на страдания и одиночество. Я бы не взял ответственность за кошку…
Все Спасители мира таковы: решая глобальные проблемы, они с блеском уходят от проблем совсем уж незначительных. Мир важнее кошки. И важнее одного, отдельно взятого человека.
– Так я и думала.
– Это не ответ на мой вопрос. Вы согласны… м-м… присоединиться к моей команде?
– Да.
– Отлично.
Алекс избавляется от моих пальцев так же естественно, как за пять минут до этого клеился к ним. Мое «да» неосмотрительно, как бы впоследствии не пожалеть о нем. Впрочем, жалеть я начинаю сразу же, мне мерещится, что голый торс Алекса покрылся шерстью, а лобная кость бугрится: очаровательные маленькие рожки должны вот-вот появиться на свет. Сделка с дьяволом – как долго придется корячиться в этой расхожей киношно-литературной мизансцене?
– Я должна подписать контракт?
– Никакой бумажной волокиты, – успокаивает меня Алекс. Все еще человек.
– Но должны же существовать какие-то формальности?
– Нет. Вы просто приедете в Европу, дорогая.
Формальности все же существуют. Мой русский паспорт – одна из них. Совсем недавно марокканцы ввели безвизовое сообщение с Россией, и я могу покинуть Марокко без особых проблем. Но только на самолете, уходящем в Москву. Европа для моего паспорта закрыта, ни один сумасшедший не поставит в нем шенгенской визы просто так. Обсуждать это с Алексом сейчас означало бы обречь себя на не совсем уместные деловые переговоры. И на жалкие попытки объяснить, почему я так беспечно отнеслась к пребыванию в Марокко и почему за три года не побеспокоилась о своем статусе. Подруга француза, проживающая в Эс-Суэйре на птичьих правах нелегальной иммигрантки, – я ничуть не лучшего другого нелегального иммигранта, гастарбайтера(того самого, который – в моем воображении – скребет бритвой щетину в комнате с видом на цементный завод). Перед алтарем гринблатовского полуобнаженного тела я даю себе слово, что приступлю к переговорам завтра утром. Или завтра днем. Когда безусловность солнечного света будет к этому располагать.
– Вы приедете?
– Да.
– Жесткой даты не существует, приезжайте, когда посчитаете нужным. Я оставлю все координаты и транспортные расходы тоже возьму на себя.
– Я тронута.
– Вы чудо! – Искренность Алекса не вызывает сомнений, теперь он должен поцеловать меня и тем самым скрепить сделку.
– Знаю.
– Позволите вас поцеловать?
– Это входит в круг обязанностей?
Это – не входит в круг обязанностей. Судя по тому, как долго Алекс примиряется к столь невинной вещи, как поцелуй без эротического подтекста. Наконец его губы касаются моей щеки; острая, мгновенно возникшая и так же мгновенно исчезнувшая боль – вот и все, что я испытываю. Нечто подобное уже случалось со мной однажды – в раннем детстве, когда я опрокинула на себя чайник с кипятком. Воды в чайнике было немного, и след от ожога получился незначительным. Но остался надолго. Почему бы не предположить, что ожог из детства и поцелуй, подаренный Алексом, – вещи одного порядка? Мне на щеку только что поставили тавро. Клеймо.
Я заклеймена.
Личная собственность Спасителя мира.
Вот почему не понадобилось никаких формальностей, вот почему нет необходимости в договорах – Алекс Гринблат решает все вопросы по-своему, этот человек опасный! Опасный! Но теперь, когда я заклеймена, какой смысл в предостережениях?
Слишком поздно.
– У вас есть экслибрис? – едва переведя дух, спрашиваю я у Алекса.
– У меня нет даже личной библиотеки.
– Жаль. А если бы был?
– Вряд ли. Вы пытаетесь выведать, что именно я нацепил бы себе на герб?
Я жду дьявольской усмешки и совета заглянуть в зеркало, чтобы лицезреть фамильные символы Алекса воочию, – напрасно.
– Не просто пытаюсь – сгораю от любопытства! Иногда привязанность к определенным символам выдает человека с головой.
– Ко мне это не относится. А символы… Символы придумывают, чтобы не скучать. Они всего лишь портняжные инструменты, помогающие кроить реальность по своему усмотрению. И они, как правило, безобидны, все дело в том, как их трактуют в швейных ателье конкурентов, хотите, займемся сексом?
Вот так, через запятую. Я ошеломлена.
– Займемся чем?
– Сексом.
– Я…
– От вас ведь уже поступало такое предложение, не правда ли?
Секс со мной не доставит вам никакого удовольствия – не это останавливает меня. Произнеси Алекс эти слова час назад – я бы с ума сошла от счастья. Теперь же моя голова забита совсем другим, а именно – черными квадратами, металлическими фермами, лампами из кожи и прочей лабудой, которую Алекс Гринблат разложил в черепной коробке с пунктуальностью заправского библиотекаря: алфавитный порядок соблюден, разделы и подразделы учтены, методические карточки разлинованы. Заниматься сексом с педантичным библиотекарем? – только он способен сконструировать фразу «секс со мной не доставит вам никакого удовольствия» или у библиотекаря Алекса есть дублер? Спаситель мира. А у Спасителя мира есть дублер – библиотекарь?
Супермен и его тайная жизнь. Бэтмен и его тайная жизнь. Тайная жизнь Алекса Гринблата вопиюще публична, Спаситель сменяет библиотекаря, библиотекарь сменяет Спасителя прямо у меня на глазах, кому в действительности принадлежит этот роскошный торс, кому принадлежит жесткий подбородок и нежные пальцы ног?..
– Впрочем, я не настаиваю, дорогая.
Мне бы хотелось заняться сексом со Спасителем мира, но сейчас, сию минуту, я вижу перед собой лишь книжного червя – впрочем, я не настаиваю, дорогая. Еще одна фраза, сконструированная в библиотеке при швейном ателье.
– Однажды придет моя принцесса. – Я раскачиваюсь в такт словам, выбитым на листке из «portative», ни одно слово не пропущено, ни один пробел не остался без внимания. – Это ведь вы написали?
– Нет, – я не успеваю подавить вздох разочарования, когда Алекс добавляет: – Это было написано задолго до меня.
– Как вы попали в мой номер?
– Ключ. Я сразу понял, что он – универсальный. Иначе зачем ему было так долго плавать с рыбами? Он мог обрасти ракушками, мог обрасти икрой, но оброс интересными подробностями. Я открыл им дверь…
– Черт! – Я ударяю себя по колену. – Но ведь ключ лежал в моем номере! И вы не могли взять его раньше, чем проникли туда.
– Не мог. Но взял. Придумайте ответ сами.
В этой стране, в этом городе нелинейно не только время, но и пространство, логической взаимосвязи между ключами и замками не существует. Или – существуют только ключи. Или – только замки. Которые забыли запереть. Я позабыла закрыть номер, и Алекс просто вошел – вот и ответ. Еще один вариант – Алекс, как мальчишка, влез через балконную дверь – она точно оставалась открытой. Оба поступка характеризуют Алекса Гринблата как библиотекаря, склонного к дешевым спецэффектам. Ну его к черту!..
– Уже придумала.
– Впечатляет?
– Не очень.
– Взгляните на это под другим углом, Сашá. Вы же умеете!..
Время – нелинейно. Пространство – нелинейно. Этот универсальный ключ – не единственный в коллекции Алекса, он складывает их в чашу, инкрустированную серебром.
Made in Tibet.
Я придвигаюсь к Алексу вплотную и обхватываю руками его колени.
– Этот угол самый оптимальный.
– По-моему – тоже.
Каким чудом мои руки, обнимавшие колени Алекса, оказываются на его плечах? Каким чудом руки Алекса (и не помышлявшие о том, чтобы меня обнять) оказываются под футболкой? Логической взаимосвязи между мной и Алексом не существует. Или – существую только я. Или – только он. У универсального ключа нет обладателей, я тоже никогда не буду обладать Алексом. В той мере, в которой хочу. Но можно воспользоваться тем, что есть: гладкой, почти безволосой кожей, узкая темная полоска просматривается лишь в паху. Чтобы разглядеть ее получше, я расстегиваю молнию на джинсах (давно забытое искусство!) -
Dangerously! Inflammable! Explosive!
– Может быть, мы переберемся в кровать, дорогая?..
Он инстинктивно избегает движений, хоть как-то нарушающих гармонию и способных выставить его в смешном свете. Расстегнутая молния – сигнал к расставанию со штанами, нужно приподнять задницу и стянуть с себя джинсы – самому или с помощью партнерши. Унизительное ерзанье на полу – с этим Алекс категорически не согласен, потому и предложил перебраться в кровать. Несколько метров, которые отделяют нас от кровати, он использует с толком, все продумано до мелочей: легкий хлопок по бедрам, и джинсы соскальзывают вниз, ему остается только переступить их. Я лишена возможности видеть рождение бога в деталях, я слишком занята собственными джинсами и собственной футболкой, и оказываюсь в кровати на секунду позже Алекса.
Время – нелинейно.
За секунду, на которую я опоздала, Алекс успел обжиться на новом месте, наполнить своим запахом все складки простыней, уронить пару волос на подушку, вымести песчинки, вдохнуть и выдохнуть влажный воздух, закинуть руки за голову и встретить меня на правах старожила:
добро пожаловать в ковчег, маленькая умница!
Алекс Гринблат никакой не библиотекарь. Опытный альпинист – да. Опытный ныряльщик – да. Алекс гораздо ближе к дельфинам, чем бедолага Фрэнки. Алекс гораздо ближе к осьминогам, чем провидец Ясин. Гремучая смесь навыков и инстинктов – вот что такое Алекс. Восхождение к моему телу, глубокое погружение в него – все это Алекс совершает в полном одиночестве, у него нет желания инструктировать новичков, если я найду в себе силы – то присоединюсь к нему где-то на середине пути, главное – найти верный ритм и не потерять темп, ни о чем другом можно не беспокоиться, болтаясь на другом конце страховочного троса, – Алекс все сделает сам.
А все, что требуется от меня, – слепо подчиниться, любая инициатива с моей стороны выглядит нелепой, ненужной, она лишь портит прекрасный вид долины, открывающийся с перевала; последний отрезок, последний рывок, последний переход – до пика рукой подать, с него увидишь не только одну-единственную долину, но и другие долины, и весь мир.
Я все еще болтаюсь на другом конце страховочного троса – абсолютно обессиленная.
«Абсолютно» – самое подходящее случаю слово.
Алекс – абсолютен.
Абсолютный дельфин (гладкая резиновая кожа и пупок, похожий на отверстие в дельфиньей голове). Абсолютный осьминог (уследить за руками Алекса невозможно, их намного больше, чем кажется, они обнимают меня сразу в нескольких – восьми? – местах). Абсолютный альпинист и абсолютный ныряльщик. Я едва дышу в разреженном воздухе, я едва выдерживаю давление в несколько атмосфер – никто и никогда не брал меня с собой на такую высоту, никто и никогда не спускался со мной на такую глубину, что будет дальше, когда подъем (спуск) закончится?..
Думать об этом страшно и сладко одновременно, прекрасный вид долины – еще прекраснее, чем я думала, Алекс к тому же – и дельтапланерист, а может быть, птица. Наполненная им, я тоже становлюсь птицей – теперь мы парим вместе, рядом, улавливая воздушные потоки, греясь в лучах солнца, прорезавшего темноту ночи. Мы парим и парим, единственное, чего я хочу, – чтобы это продолжалось вечно.
– …Тише! – Алекс кладет палец мне на губы. – Вы перебудите весь отель.
Пора приходить в себя, маленькая умница!
– Простите…
Мы в постели, но до сих пор на «вы» – по-другому не будет, ни сейчас, ни потом. Мои вещи разбросаны у кровати, в то время как джинсы Алекса аккуратно сложены – а я еще готова была поклясться, что он просто переступил через них. Алекс смотрит на меня, подперев ладонью голову и приподнявшись на локте. Проверка амуниции, иначе этот взгляд не назовешь, подтяните карабин, маленькая умница, и не забудьте о креме для загара, и не забудьте о солнцезащитных очках. Я судорожно укрываюсь простыней по самый подбородок, в то время как Алекс остается совершенно голым.
– Устали? – спрашивает он.
Совсем не это я ожидала услышать, совсем не это!
– Все в порядке.
– Хорошо.
«Мне было хорошо» – утверждение;
«Вам было хорошо?» – вопрос – не имеют к расплывчатому гринблатовскому «хорошо» никакого отношения. Он совсем не интересуется тем, что чувствую я, и не говорит, что чувствует он, даже мальчишеского самодовольства от отлично проделанной работы не заметно. «Давайте займемся сексом» – было лучшей характеристикой, мы и занимались сексом – не любовью. Что я должна делать сейчас? Собрать вещи и молча удалиться к себе? Поцеловать Алекса во влажную ложбинку между ключицами? Поцеловать его в щеку в знак благодарности? Поцеловать его в пах в знак признания? Обвить его тело руками? Инструкций на этот счет не существует.
– Хотите повторить?
– А вы?..
Вместо ответа Алекс сгребает меня в охапку – слава богу, хоть что-то человеческое, не дельфинье, не осьминожье, не увешанное ледорубами, не отягощенное баллонами с кислородом – хоть что-то человеческое.
Хоть что-то…
***
…Конверт с визиткой и пятью бумажками по сотне евро.
Вот и все, что остается мне после ночи, проведенной с Алексом.
Я выныриваю из глубокого сна без сновидений и в первую секунду не могу сообразить, где я и что со мной произошло.
Напольный светильник, мы всю ночь занимались сексом, стол, два стула, кресло в углу; это лучшее, что когда-либо происходило со мной в постели, маленький телевизор и холодильник с баром, это – не любовь, просто секс, я полностью разбита, каждый мускул моего тела ноет и подрагивает, так бывает со всеми, кто по глупости пропускал тренировки.
Номер Алекса. Я вырубилась в номере Алекса, в его постели.
Только Алекса нигде не видно. Нет и аккуратно сложенных у кровати джинсов.
Из ниши хорошо просматривается часть крохотного коридора и часть шкафа, его створки раздвинуты, а внутренности зияют пустотой. Там должен был стоять саквояж Спасителя мира.
Но саквояжа тоже нет.
– Алекс! – зову я слабым голосом, не в состоянии поверить в очевидное. – Алекс, где вы?
В номере достаточно светло, но обычное для Эс-Суэйры туманное утро не дает представления о том, который сейчас час. Восемь, девять, десять… Туман обычно рассеивается к десяти, из этого и стоит исходить.
Лишь одной цифры я не учла – семь.
Вчера вечером Фатима что-то говорила мне о семи часах утра. А-а, кажется, Алекс просил разбудить его в семь. Для чего – Фатима не знала ответа, а спросить у самого Алекса я так и не удосужилась. Как не удосужилась уточнить условий, на которых состоится мой переход из-под потного крыла Доминика под жесткое и совершенно стерильное крыло Спасителя.
Завтра, по малодушию я все перенесла на завтра.
И вот «завтра» превратилось в «сегодня», а Алекса уже нет.
Я вскакиваю с кровати и натягиваю джинсы. Теперь очередь за «born to be free», тут-то и обнаруживается конверт на столе. Визитка и пять бумажек по сотне евро.
Конверт не заклеен.
Пять сотен – Алекс явно переплатил, моя ночь стоила гораздо дешевле – самой впору приплачивать инструктору за столь удачно проведенный спарринг. Транспортные расходы, осеняет меня. Он оставил мне деньги на билет в Европу и визитку с телефонами.
Их пять (как и новеньких кредиток), один из них французский, это легко определить по международному коду Франции. А если позвонить по оставшимся четырем – где снимут трубку? В Лондоне, в Нью-Йорке, в Тимбукту, на Луне? За пределами Солнечной системы?
ALEX GRINBLAT
exhibitions, auctions, galleries, modern art
advice-giver13
Консультант! Надо же, какой скромняга!..
Меня оставили в дураках, предварительно трахнув.
Внезапно вспыхнувшая злость на Алекса заставляет позабыть о «born to be free». С полуспущенными штанами, топлес (зрелище не для слабонервных) я выдвигаюсь в предбанник с пустынным шкафом и заглядываю в ванную: никаких следов Спасителя, кроме слегка влажного полотенца, сбитого коврика и одинокого обмылка на краю раковины.
Он отчалил. Отвалил. Слился. Сделал ноги. Навострил лыжи. Не очень-то вежливо с его стороны сбегать вот так, не оставив мне даже записки в сраном конверте. Двух слов было бы достаточно, трех слов было бы достаточно – «Жду вас» или «Спасибо за ночь», или что-то в этом роде. Но нет же, пять купюр и визитка, чтобы я, не дай бог, не забыла о его modern art-превосходстве!
Злость все еще сильна, утянуть ее на дно не в состоянии даже универсальный ключ, оттягивающий мой задний карман;
я вернусь к себе так же, как пришла – через дверь в стене: пристыженная Алиса, потерпевшая полное фиаско Элли, дорога из желтого кирпича привела меня в никуда.
Однажды придет моя принцесса, рожденная свободной.
Случай явно не мой.
… «portative» на столе, вынутый из каретки листок рядом, платье, распластанное на полу, в ванной, – в номере ничего не изменилось. Но он больше не убежище. Все, что угодно, – временная стоянка, пересыльная тюрьма, пристанище на ночь, но – не убежище.
Мне хочется покинуть его немедленно и не возвращаться как можно дольше.
Кто меня остановит? Кто?..
Доминик, с похоронным видом сидящий на ресэпшене. Красноглазый, заросший щетиной, еще более неопрятный, чем когда-либо. Доминик отвратителен, худшего мужчины не существует в природе, но я нахожу в себе силы сказать ему:
– Доброе утро, милый.
Ему требуется усилие, чтобы ответить мне:
– Доброе, Сашá.
Вот и нет, Доминик, вот и нет – совсем не доброе, часы показывают четверть девятого, после контрольных «семи» прошло слишком много времени, чтобы почувствовать себя успокоенной.
– Ты давно здесь сидишь?
– С шести утра.
– С чего бы это?
И правда, с чего бы это? Доминик большой любитель поспать, до восьми его и пушкой не разбудишь, откуда такое рвение?
– Мне не спалось.
– Я понимаю. После того что ты вчера натворил…
– После того что натворила ты! – Он неожиданно срывается на крик. – Ты! Ты!!!..
– Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую… Вот черт, как же это будет по-французски?
– Не утруждай себя, Сашá. Я и так все понял. Давно понял. Ты хотела что-то спросить?
– Нет.
– Неужели? – Доминик торжествующе трясет двумя подбородками. – А я думал, тебя интересует этот хлыщ. Которого ты заселила в номер рядом с собой. Не взяв у него даже паспорт.
Я слишком измотана ночью с Алексом, слишком наполнена ей, чтобы ломать комедию перед толстяком.
– Да, интересует. Что с того?
Вот он, звездный час Доминика! Не открытие персональной выставки в Музее Гуггенхейма, не приглашение на биеналле в Венецию, не торжественное посвящение в рыцари Почетного легиона – это было бы слишком мелко. Унизить и растоптать меня, и без того поверженную, – таких высот не достигал еще никто.
– Он убрался к чертовой матери. С концами. Убрался к чертовой матери. Не самое плохое дополнение к
отчалил;
отвалил;
слился;
сделал ноги;
навострил лыжи.
При желании Доминик мог бы изрыгнуть еще с полсотни выражений, включая ненормативные арабские и португальские; единственное, не вошедшее в список, – «estoy en la mierda». Его можно отнести ко мне и к самому Доминику, но никак не к Алексу.
– Значит, убрался?
– К чертовой матери! – Радость на лице Доминика неподдельна. – С концами. Я помахал ему ручкой на прощание.
– И когда же состоялось это показательное выступление?
– Когда ты спала… Наверное. Еще и семи не протикало.
– С чего бы это ему было срываться из отеля в такую рань?
Вопрос риторический, я вовсе не жду, что Доминик разъяснит мне ситуацию, но он разъясняет:
– Самолет. У него самолет сегодня утром.
Самолет. Вот почему он попросил Фатиму разбудить его в семь, я могла бы сообразить. Время Спасителя мира расписано по минутам, график составляется на годы вперед, каким-то чудом ему удалось выкроить крохи для Эс-Суэйры, «прилетел и вскорости улетел» – в этом нет ничего удивительного. Удивительно, что он уехал, не попрощавшись со мной. Впрочем, нет… Удивительно – не совсем правильное слово. Он ударил меня под дых.
– Откуда ты знаешь про самолет?
– Он сам мне сказал. А мне – нет.
– Ясно. Что ж, придется прогуляться до аэропорта.
– Зачем? – пугается Доминик.
– Он кое-что забыл. – Безнадежность ситуации заставляет меня врать и изворачиваться, на ходу придумывая фантастические версии.
– Тебя? – Шутку толстяка не назовешь удачной.
– Очень остроумно.
– Я подумал, что все остальное не существенно. Все остальное можно запихнуть в наш шкаф. Так мы всегда и делали, помнишь?
– Господи, Доминик, о чем ты?
– Тебе не нужно ехать. До аэропорта не меньше трех часов.
– Двух с половиной. А если я постараюсь…
– На такой дороге не разгонишься!
– Разгонишься. Если я постараюсь, то смогу уложится в два.
– В два – точно нет.
Сукин сын Доминик, ни разу не выезжавший в аэропорт, прав. В два часа я не уложусь при всем желании.
– Посмотрим.
– Это самоубийство, Сашá… Ты не должна так поступать. Ты…
– Я еду.
Мне нужно сделать над собой усилие, чтобы оторваться от стойки. Если вопреки здравому смыслу я прямо сейчас поеду в аэропорт, то, возможно, еще успею нагнать Алекса у регистрационной стойки. Не может быть, чтобы у него не оказалось хотя бы полутора часов в запасе. Он приехал сюда на арендованной машине, дорога не слишком ему знакома, только безумцы отправляются по горному серпантину, не имея форы во времени. Если я прямо сейчас поеду в аэропорт…
– Ты никуда не успеешь… – Я едва слышу Доминика, так тихо он говорит. – Никуда.
– С чего ты взял?
– Я звонил в Агадир и наводил справки. Самолет вылетает через час пятьдесят. Ты не успеешь, даже если бы наш рыдван был исправен.
Новый удар. Доминик месяцами не подходит к автобусу, я сама устраняю мелкие неисправности в автомастерской по соседству, – откуда же такая осведомленность?
– А он неисправен?
– Что-то с двигателем, – вдохновенно врет Доминик.
– Еще позавчера все было в порядке.
– А вчера произошло несчастье. Наби хотел навестить мать и попросил ключи…
– Ключи у меня.
– Есть второй комплект. Ты забыла…
Я забыла. Я все забыла. Второй комплект от галереи забытых вещей, второй комплект от автобуса, Доминик сделал все, чтобы я считала себя не приживалкой – компаньонкой, самым незаменимым человеком в мире. Пошел ты к черту, Доминик.
– Почему же Наби не обратился ко мне? Все знают, что за автобус отвечаю я.
– Он искал тебя вчера вечером, но так и не нашел. Ты, наверное, отлучалась.
– Да. Меня не было в отеле. – Глупо отрицать очевидное.
– Я тоже прождал тебя напрасно.
– Неужели так и не поужинал? Тебе это на пользу.
И без того бледное, покрытое щетиной лицо Доминика бледнеет еще больше, становится белым как бумага, – теперь он похож на настоящего альбиноса. Красные глаза в обрамлении мертвенной белизны. Природная аномалия.
– Прости. Я не хотела тебя обидеть.
– Ты не можешь меня обидеть.
– Могу. Как оказалось – могу.
Я наконец-то отрываюсь от стойки.
– Подожди! – Доминик делает слабую попытку остановить меня. – Я хотел бы объяснить тебе… Все объяснить. Почему я так поступил…
– Не сейчас, Доминик. Только не сейчас.
– А когда?
– Не знаю.
– Ты не успеешь в аэропорт, – повторяет он, как заклинание.
– Какая разница?..
Соваться к автобусу бесполезно. Если уж Доминик намекнул на неисправности в двигателе. Которые сам же и организовал – я почти не сомневаюсь в этом. Но наш автобус – не единственное средство передвижения в Эс-Суэйре. Метрах в пятистах от отеля – стоянка такси. Машину можно поймать и просто так: юркие, разваливающиеся на ходу «petit taxi» («Пежо», «Рено» и изредка – «фиаты» старого образца) так и шныряют по улицам. Правда, за поездку в аэропорт придется выложить не меньше ста евро, но деньги у меня есть.
Я вернусь в номер и возьму одну купюру из пяти. Транспортные расходы – так транспортные расходы, пусть Алекс не волнуется, он выложил денежки не зря. И почему я должна верить Доминику? (Дело не в автобусе, а в полумифическом звонке в аэропорт.) Откуда Доминик мог узнать рейс, на котором улетает Алекс, – не сам же Спаситель мира поведал ему об этом, доверительно крутя пуговицу на рубахе! И потом, из аэропорта каждый день отправляется десяток самолетов – Рабат, Касабланка, Париж и Марсель, а иногда случаются Лиссабон, Барселона и Франкфурт, и, кажется, я как-то видела у взлетной полосы «Боинг» с надписью «British Airlines» на борту. Совсем не факт, что Алекс выбрал парижский или марсельский рейс, он мог оседлать и «British Airlines», он мог взять билет на Лиссабон или Франкфурт, он мог взять билет до Луны с транзитной пересадкой в Тимбукту.
Доминик блефует.
Я все равно доберусь до аэропорта и постараюсь найти Алекса. И… Что я ему скажу, даже если увижу?
Что приехала проводить его – очень мило с вашей стороны, маленькая умница.
Что он беспокоился напрасно, я сама в состоянии купить билет до любого пункта назначения – очень мило с вашей стороны, маленькая умница.
Что я запомню ночь с ним навсегда, так хороша она была, – очень мило с вашей стороны, маленькая умница.
Что не совсем вежливо уезжать, не простившись, что у меня просрочен паспорт и нет визы ни в одну из стран Европы – как быть с этим и кто поможет бедной русской девушке сменить место жительства? И на законных основаниях влиться в exhibitions, auctions, galleries и modern art.
Бред.
Я веду себя как брошенная любовница, а ведь никакая я не любовница. И Алекс – не любовник. Его не назовешь ни нежным, ни страстным, ни похотливым, хотя в том, что он делал, проскальзывали и нежность, и страсть, и похоть. Вернее, Алекс привычно имитировал и первое, и второе, и третье. Имитировал по высшему классу: человеческое соитие с точки зрения дельфина. Человеческое соитие с точки зрения осьминога. Вряд ли все дело во мне, будь на моем месте другая женщина – все развивалось бы по сходному сценарию. Алекс не станет затрачиваться, его эмоции (нежность, страсть, похоть и масса других, не связанных с членом или связанных опосредованно) – его эмоции направлены на себя. Только и исключительно. «Секс со мной не доставит вам удовольствия» – в этих словах гораздо больше смысла, чем кажется на первый взгляд.
Я не еду в аэропорт.
Как-нибудь потом, не сейчас и с другой целью – когда сама посчитаю нужным. Так выразился Алекс.
Bon voyage14, Спаситель мира!
Мне намного легче.
Но идти обратно в отель, к Доминику, тоже не хочется. А в Эс-Суэйре не так много мест, куда я могу отправиться в половине девятого утра. Есть причал, где ежедневно швартуется лодка Ясина, и… Пожалуй, все. Мне снова хочется видеть рыбака-иллюзиониста, а следовательно, все возвращается на круги своя. Эс-Суэйра была вчера и будет завтра, и через тридцать лет, когда я превращусь в charmantepetite vieille, и еще через тридцать лет, когда от прелестной маленькой старушки не останется даже воспоминаний. Внезапное же вторжение Алекса Гринблата, знаменитого галериста, теоретика современного искусства и Спасителя мира, перейдет в разряд городской легенды, о существовании которой никто не знает. Никто, кроме меня. Через месяц он перевоплотится в шестикрылого серафима, через год – в ковбоя Мальборо, через три – в агента 007, через пять – в доктора Джекила, через семь – в мистера Хайда, а через десять снова станет самим собой. Такова судьба всех городских легенд – они, как шлюхи, подкладываются под любую интерпретацию.
Только денежки плати.
…Лодки Ясина на привычном месте нет.
Впервые за то время, что мы знакомы. Сначала Алекс, затем Ясин – это уже слишком! Я бесцельно брожу вдоль пирса: двадцать метров в одну сторону, двадцать – в другую. Легкое беспокойство, которое я испытывала вначале, перерастает в волнение, а затем – в панику. Почему Ясин не приплыл? Раньше такого не случалось – я заставала Ясина на месте, когда бы ни пришла. Катер Хасана и Хакима мог отсутствовать, лодки других рыбаков могли не показываться неделями, но Ясин был всегда.
Был да сплыл.
Куда он подевался? – у чаек этого не спросишь.
У чаек – нет, но у Хасана и Хакима вполне. Грязно-белая, с синей полосой корма их катера назойливо лезет в глаза, на корме выведено:
MENARA
Так называется катер, прежде я не обращала внимания на имя.
На борту только Хасан, Хакима нигде не видать, а они казались мне неразлучниками. Хасан неотрывно смотрит в сторону площади.
– Эй! – кричу я, подходя. – Эй, на катере!
– Мадам! О-о! – Рыбак узнал меня и уже успел нацепить на физиономию приторную улыбку. – Вы пришли из города?
– Нет. А что?
– Говорят, в городе случилась резня!
– Ну что за глупости, Хасан.
– Страшное преступление! – Хасан округляет глаза, округляет рот, вытягивает руки перед собой и описывает в воздухе окружность – это призвано подчеркнуть глобальный масштаб произошедшего. – Страшное, страшное преступление! Хаким пошел выяснить, что произошло.
Хасана выдают глаза: они полны зависти к отлучившемуся Хакиму и жгучего желания оказаться на его месте. Катер с уловом без присмотра не оставишь, оба неразлучника тянули спички, и прощелыге Хакиму повезло больше.
– Наверняка это сплетни, Хасан. Сплетни и враки.
– Ну уж нет. – Хасан разочарован моей реакцией. – Когда мы подплывали к берегу – уже тогда был знак.
– Какой еще знак?
– В борт ударила волна. И небо потемнело. И на палубу шлепнулась мертвая чайка. А в клюве у нее мы нашли мертвого морского конька.
– Мертвого морского конька? Это впечатляет.
– Парень с «Кензы». Он как раз выходил на лов… Он крикнул нам, что в городе случилась резня. Страшное преступление у старого форта.
«Кенза» – очевидно, это название суденышка, каждая лодка в Эс-Суэйре в честь кого-то да названа, чем меньше корыто, тем поэтичнее и развесистее имя. Ложь Хасана не менее поэтична и развесиста: мертвые чайки, мертвые морские коньки, страшное преступление у старого форта, как же! Кто поверит в резню в тихой и благостной Эс-Суэйре?
– Ты не знаешь, почему нет Ясина?
Хасан обиженно скребет подбородок: я никак не отреагировала на его сенсационную новость, а теперь еще донимаю расспросами о сумасшедшем Ясине.
– Наша рыба ничуть не хуже, мадам!
– Кто спорит? Совсем не хуже.
– А вы ходите только к нему.
– Я не всегда покупаю рыбу. – Жалкая отговорка, Хасана она не убеждает.
– У Ясина дурной глаз, мадам.
– Я просто спросила, не видели ли вы его?
– Море большое, а рыбак маленький. Мы его не видели.
– Ясно.
– Так вы пойдете к форту, мадам?
– Вообще-то я не собиралась…
– Если все-таки соберетесь и увидите там Хакима, скажите – пусть возвращается.
– Ссах.
Ссах – это выражение иногда употребляет Доминик, пусть и не так часто, как «estoy en la mierda». Но впервые я услышала его от Джумы, брата Фатимы, торгующего всякой насущной дребеденью. «Ссах» – или «о'кей» по-арабски, вряд ли мое знание местного сленга умилостивит Хасана.
– До свидания, Хасан. Если Ясин вдруг появится… Передайте, что я его искала.
– Конечно, мадам. Не сомневайтесь.
Ничего он не передаст.
Полностью убежденная в этом, я направляюсь в сторону площади: той самой, которую мы с Алексом Гринблатом благополучно миновали после вчерашнего завтрака в «Ла Скала». Обычно оживленная даже в утренние часы, она кажется вымершей. Двери кооператива по изготовлению поделок из дерева наглухо закрыты, на выносных стойках для открыток и сувениров – пустота, витрина агентства по продаже недвижимости (головной офис – в Лондоне) плотно зашторена. В двух конкурирующих кофейнях по соседству тоже затишье, никто не расставляет стулья, сложенные в углу, а между столами бродят две кошки. Похожие на всех кошек мира, с той лишь разницей, что тела марокканских кошек вытянуты, а лапы намного длиннее, чем у собратьев, живущих в России или Европе.
Раньше я их здесь не замечала.
Убыстрив шаг и проскочив площадь, я вхожу под сумеречные своды улицы, если пройти квартал и свернуть направо – окажешься неподалеку от «Ла Скала». А если никуда не сворачивать – попадешь прямиком к форту.
Я вовсе не хочу повторить вечерний путь с Фрэнки, гораздо менее приятный, чем утренняя прогулка с Алексом. Особенно, если вспомнить, чем он закончился: блуждание в темноте, страхи, обступившие меня со всех сторон, – сегодня они и вправду кажутся мне смешными и детскими. Вот, что я сделаю: сверну к «Ла Скала», прогуляюсь по Старому городу, а потом загляну на пляж. Куплю сладких орехов, понаблюдаю за серферами и воздушными змеями, отловлю Фрэнки и выскажу все, что я о нем думаю… Или нет – отлавливать Фрэнки ни к чему, плевать мне на Фрэнки, у меня есть ночь с Алексом, о ней-то я и подумаю… И о том, что – может быть… когда-нибудь… пока Алекс не превратился в шестикрылого серафима, ковбоя Мальборо и доктора Джекила с мистером Хайдом, пока он не стал городской легендой, существующей лишь в моем воображении – может быть, мы встретимся снова. В Нью-Йорке, Лондоне, Тимбукту, на Луне, за пределами Солнечной системы.
Ведь в маленькую Эс-Суэйру он не вернется никогда.
Люди.
Вот что заставляет меня изменить маршрут.
Поначалу их немного: группы по два-три человека, перешептывающиеся между собой. Потом людей становится все больше и больше, в толпе я вижу официантов из конкурирующих кофеен, мальчишку (обычно он торгует открытками), не заметно только Хакима. На большинстве лиц застыло выражение испуга, волнения и мрачного любопытства – все эти чувства существуют в разных пропорциях, чего-то больше, чего-то – меньше. Совершенно инстинктивно я хватаю за плечо мальчишку: исходя из его возраста, я могу позволить себе такую фамильярность:
– Что произошло?
Мальчишка отвечает не сразу, в Эс-Суэйре мальчишки ничего не делают сразу, если это не грозит им несколькими дирхамами.
– Там полиция, мадам! Никого не пускают.
– Куда не пускают?
– На скалу.
«На скалу», он имеет в виду смотровую площадку форта, – значит, Хасан не соврал мне. Осталось выяснить, насколько он преувеличил.
– И что же случилось на скале?
Мальчишка надувает щеки и выпучивает глаза: он бы еще потянул, еще поинтриговал, но скрывать информацию дольше у него нет сил. Даже те ее жалкие крохи, которыми он обладает.
– Говорят, кого-то зарезали. И много крови. Очень-очень много.
– Кого там могли зарезать? Не говори ерунды.
Ерунда – по-другому не назовешь. Эс-Суэйра – тихий город, это не черные кварталы Америки, не предместья Гонконга и не спальные районы Москвы, серьезных преступлений здесь отродясь не бывало. Парнишка поддался общему психозу, задевшему катер «MENARA» и морских коньков; с другой стороны, от толпы на узкой улочке так просто не отмахнешься.
Что-то экстраординарное все же имело место.
– Совсем не ерунда, мадам! – обижается мальчик. – Сами идите и посмотрите.
– Как же я пройду? Ты сам говорил – туда никого не пускают.
Совершенно инстинктивно он тянет меня за руку к стене:
исходя из цвета моей кожи и общего европейского абриса, он может позволить себе такую фамильярность:
– Мой брат служит в жандармерии, мадам. И сейчас он в оцеплении. Я могу устроить, чтобы он вас пропустил.
– Сколько?
– Пятьдесят… нет… сто дирхам.
Около десяти долларов, или около семи евро, тут же подсчитываю я: дневной максимум, который ты зарабатываешь на открытках с видом, – и то не каждый день. Ах ты грязный маленький мошенник, «обман твой отец и ложь твоя мать», как любят выражаться местные продавцы, торгующие креветками по «вэри демократик прайс».
– Каким образом ты это устроишь?
– Вы даете мне деньги…
Я даю тебе деньги, и ты испаряешься с ними в толпе, нашел идиотку!..
– Не пойдет.
– Как хотите.
– Давай сделаем так. Мы вместе идем к твоему брату. И ты получаешь сто дирхам.
– Э-э… Хорошо.
Жажда заиметь дармовую сотню сильнее здравого смысла – ясно, что брат парнишки не стоит ни в каком оцеплении, а (в лучшем случае) водит по берегу сонных вонючих верблюдов – еще один туристический бич Эс-Суэйры, вступающий в неразрешимое противоречие с романтикой волн, парашютов, кайтов и воздушных змеев.
– Держитесь за мной, мадам!..
Не так-то просто это сделать: люди все прибывают, и мне приходится прикладывать усилия, чтобы не потерять юнца в сонме напирающих друг на друга человеческих тел. Пожалуй, я погорячилась, с ходу обозвав его мошенником: слишком уверенно он движется, пробивая себе дорогу и просачиваясь во вновь и вновь открывающиеся пустоты. В какой-то момент я нижу курчавую голову Хакима – хороший повод, чтобы избавиться от своего неожиданного провожатого. Мне внезапно расхотелось идти неизвестно куда и неизвестно зачем; о том, что произошло на каменной макушке форта, мне сегодня же расскажет Фатима. Или Наби. Или Джума – не стоит лишать их удовольствия поведать историю таинственного магрибского жертвоприношения первыми.
Мне удается сделать шаг в сторону Хакима, я готова окликнуть его. Но мальчишка, зорко следящий за тем, чтобы заветные сто дирхам не исчезли в неизвестном направлении, тут же выныривает рядом со мной и бесцеремонно хватает за руку:
– Не отставайте, мадам!
– Хорошо, хорошо…
Должно быть, я не первая, кого он ведет сквозь толпу. Эта мысль осеняет меня, когда мы наконец-то выдвигаемся на передовые рубежи. Наверняка было еще несколько ранних европейских пташек и они не смогли отказать себе в завтраке с видом на… с видом на резню? на страшное преступление? Хасан окончательно меня запутал. Зачем только я согласилась на предложение мальчишки? Я ведь не преследовала цели оказаться в авангарде зевак, я вообще не хотела влезать в толпу, я шла по своим делам и думать не думала, что окажусь втянутой в сомнительную затею. Если отдать чумазому открыточнику сто дирхам, то на орехи не останется ни гроша и придется любоваться воздушными змеями на пустой желудок.
Толпа заканчивается неожиданно.
Вернее, разбивается об одинокого жандарма в светло-песочной форме. Метрах в пяти стоит еще один, чуть поодаль – еще двое, о чем-то оживленно болтающие друг с другом. Оцепление перекрывает улицу у перекрестка сдомом дядюшки Исы, здесь же, на перекрестке, стоит несколько велосипедов (принадлежащих, очевидно, кому-то из жандармов, – на машине сюда ни за что не подъехать, слишком узко пространство между домами). Из глубины улицы то и дело всплывают все новые и новые песочные мундиры, и голубые мундиры, а ведь вчера вечером здесь не было никого.
Никого.
Кроме меня и Фрэнки.
Черт. Черт.
– Подождите здесь, – командует мальчишка.
Я киваю головой, чувствуя, что ноги становятся ватными, а в животе образуется ком, стремительно движущийся к горлу. Фрэнки не вернулся в отель вчера вечером, во всяком случае, в половине первого его не было, ну что за бред? – если он не явился в половине первого, то это совсем не означает, что он вообще не пришел. Чуть-чуть позже или намного позже – не важно. Чуть-чуть по-арабски будет швайя-швайя. Забавное словечко, одно из многих забавных словечек, и что могло случиться с Фрэнки? и какое мне дело до Фрэнки, здорового парня, способного постоять за себя? Я знаю только, что вчера мы были здесь, – и ничего криминального в этом нет.
Швайя-швайя.
Мальчишка уже о чем-то шепчется с жандармом, стоящим в оцеплении вторым. А я никак не могу отделаться от дурацкого, кретинического швайя-швайя, оно прилипло к языку не хуже орехов, забило рот слюной – то ли сладкой, то ли горькой, определить невозможно.
Швайя-швайя. Швайя-швайя.
Маленький торгаш возвращается – его движения замедленны, как будто речь идет о съемке в рапиде, его приближение неотвратимо. Что со мной и почему я так боюсь этого приближения?.. Только вчера Ясин говорил о своем сне. Сне, предвещающем несчастье бедной русской дурочке, натурализовавшейся в Марокко под экзотическим именем Сашá Вяземски. Ночью, в полной темноте, я счастливо избежала кошек, но утром увидела сразу двух.
Швайя-швайя.
– Сто пятьдесят, – говорит мальчишка, съемка рапидом продолжается, артикуляции никак не поспеть за словами, она вступает с ними в явное противоречие, с-т-о-о п-я-а-т-д-е-е-с-я-а-т.
Вэри демократик прайс.
– Сто пятьдесят? Но ты же говорил – сто.
– Он просит сто пятьдесят.
– У меня нет ста пятидесяти, – я выдыхаю с облегчением. – Так что будем считать, что сделка не состоялась.
Я бы покинула опасное место немедленно, но ноги не слушаются меня, драгоценные секунды, когда еще можно было что-то изменить, выбраться отсюда и послушать рассказ о «страшном преступлении» в прекрасном далеке отеля «Sous Le Ciel de Paris», потеряны. Успокойся, Сашá. Успокойся и возьми себя в руки. Немного усилий, и тебе удастся сдвинуться с места. Совсем немного усилий. Совсем чуть-чуть.
Швайя-швайя.
Проклятье!..
– Извини, что пришлось тебя побеспокоить. Ты ведь торгуешь открытками на площади, правда?
– Да.
– Я забегу к тебе на днях. Куплю целый десяток. Обещаю.
Ну слава богу! Мне удалось сделать первый шаг! А затем – еще один. Если так пойдет и дальше, то скоро я выберусь из этого наполненного жандармами вертепа.
– Подождите, мадам! – Маленький наглец перекрывает мне дорогу в тот самый момент, когда желанная свобода совсем близка. – Подождите!
– Ну что еще?
– Давайте вашу сотню.
– Но…
– Давайте.
Я слишком слаба и слишком напугана самыми страшными предчувствиями, чтобы сопротивляться. Как в тумане, я лезу в карман джинсов за сотенной, как в тумане протягиваю ее мальчишке. Дело сделано, теперь и захочешь – не отступишь. Я как будто смотрю на себя со стороны: юркий арабчонок и покладистая белая mademoiselle (о, нет – madame!), арабчонок держит madame за руку и подводит к полицейскому в светло-песочной форме; между обоими мужчинами – большим и маленьким – наблюдается некоторое сходство, они и вправду братья, черноголовые, смуглые, с плутоватыми лицами, с четко очерченными губами, старшему достанется восемьдесят монет, младшему – двадцать.
Так или примерно так.
– …Пойдемте, мадемуазель, – галантно шепчет мне на ухо полицейский.
Мадемуазель – каждый видит меня по-своему, каждый интерпретирует меня, как посчитает нужным, но даже сто дирхам не сделают меня подружкой Спасителя мира, никотиновой мечтой ковбоя Мальборо или тем связующим звеном, что позволяет доктору Джекилу и мистеру Хайду уживаться в одном теле.
Даже сто дирхам. Даже тысяча.
– Только недолго, – продолжает шептать любитель легкой наживы. – Вы же понимаете…
– Конечно. А что здесь произошло?
– Убийство.
Не мифическая «резня», не совсем уж расплывчатое «страшное преступление» – убийство. Слово произнесено, от него у меня бегут мурашки по спине и деревенеют пальцы.
– Вы ведь туристка?
– Не совсем. Я живу в Эс-Суэйре. Уже несколько лет.
– Понятно. А тот, кого убили… Тот. Речь идет о мужчине.
– …тот, кого убили, – кажется, турист.
Турист, а значит – не араб. Европеец или азиат, может быть – серфер. Я сразу же представляю задницу Фрэнки, обтянутую водонепроницаемым костюмом.
Только не серфер!..
– Вы очень бледная, мадемуазель!
– Нет-нет, все в порядке.
– Помните, совсем недолго. У меня могут быть неприятности.
Неприятности по распространенной туристической схеме «все включено», за процент допустимого риска продажный gendarme15 уже получил, так почему я должна переживать о его судьбе?
– Я все поняла.
Он оставляет меня у лестницы. Дважды за последние двенадцать часов я оказывалась вблизи нее, дважды поднималась по ней – и оба раза без всякого принуждения. Ступеньки, скрытые мраком накануне, теперь хорошо видны: каждая выбоина намертво откладывается в памяти, каждая царапина фиксируется в мозгу – старые окаменевшие окурки, косо приклеенная к стене пивная этикетка, рисунки и надписи на камнях – по ним можно изучать географию, историю, механику, летательные аппараты, турнирные таблицы мировых чемпионатов по футболу, коды и шифры разведок.
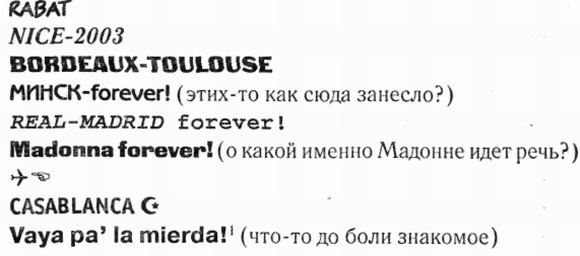
1 «Отправляйся к дерьму!» (исп.).
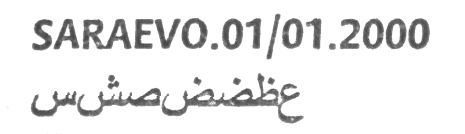
Лестница пуста, кроме меня, надписей и окурков, на ней никого нет; я зажата между голосами, доносящимся снизу, и голосами, летящими сверху. Верхние регистры явно перевешивают, они становятся все слышнее, ну вот – последние метры подъема и я оказываюсь на смотровой площадке.
Стоило ли избавляться от одной толпы, чтобы попасть в другую?
Нет-нет, это не толпа, а если толпа, то чрезвычайно упорядоченная. От нее меня отделяет еще два полицейских в форме и при исполнении, остальные – в штатском: джинсы, рубахи, строгие пиджаки, все вперемешку. Мужчины – молодые и не очень – стараются передвигаться по площадке аккуратно. В просвете между полицейскими я вижу присевшего на корточки фотографа: вспышка, еще одна – и фотограф отступает, меняя ракурс.
То, что открывается мне:
тело, лежащее ничком у противоположной стены. Левое колено подогнуто, левая рука вытянута вперед, скрюченные пальцы тщетно пытаются ухватить пустоту перед собой.
Пальцы.
Недлинные, но и не коротышки какие-нибудь. Черная рубаха, джинсы и светлые мокасины – Фрэнки встретил новый день в том же прикиде, в котором проводил старый.
Фрэнки.
Потому что тело у стены – и есть Фрэнки.
Мертвый серфер, которого я успела узнать как живого сотрудника дельфинария, рекламного агента по продаже сухих строительных смесей и… что еще было в списке?
Сейфы. Сыры.
«Estoy en la mierda».
Фрэнки как в воду глядел, только он не в дерьме – в крови; плиты, на которых он лежит, залиты кровью. Ее так неестественно много, как будто располосовали быка, две дюжины быков, а совсем не человека; она отделена от самого Фрэнки целомудренной черной рубахой, может быть – это не кровь Фрэнки?
Может – это не Фрэнки?
Фрэнки.
Никаких сомнений. К горлу подступает тошнота, голова кружится как во время посещения аттракциона «американские горки», и я хватаюсь за стену, чтобы не упасть. Убийство. Фрэнки. Я пытаюсь отвлечь себя составлением безумного кроссворда, где слово «Фрэнки» занимает горизонтальную строку, а слово «убийство» – вертикальную. Совпадения хотя бы одной буквы достаточно, вот они и зацепились друг за друга, как миленькие, что здесь произошло?!.
Убийство Фрэнки.
Вряд ли дельфины опечалятся. Вряд ли сухие строительные смеси впадут в тоску. Тошнота все не проходит, головокружение усиливается; я же никогда не боялась вида крови, перевязать палец, пораненный при резке овощей, было для меня парой пустяков, так что изменилось теперь?
Время. Место. Действующие лица.
Хотя сходство Фрэнки с бесчувственным, безжизненным овощем теперь куда сильнее, чем мое с ним сходство. Чем сходство с любым из мужчин, слоняющихся по площадке. И с любым из мужчин, слоняющихся по городу. И с любой из женщин. И детей. И собак. И кошек с вытянутыми телами и непомерно длинными лапами.
Реакция была бы совсем другой, если бы накануне вечером я сама не привела Фрэнки сюда. Здесь он и растворился в темноте, что если я была последней, видевшей Франсуа Пеллетье живым? А убийство… Убийство произошло у меня на глазах, и не моя вина, что – в кромешной темноте – я его не заметила. Да нет же, нет! Как можно не заметить убийства (даже совершенного во тьме)? не услышать ни малейшего шороха, не зафиксировать ни малейшего движения?.. Ночь сделала меня слепой, а слепой свидетель – не свидетель.
Спорный тезис.
К тому же я лишена тех неоспоримых преимуществ, которыми обладают настоящие слепые, – тонкого слуха и острого обоняния, если меня решат расспросить о происшедшем суровые люди в штатском – толку не будет никакого.
Стоп.
А почему, собственно, меня кто-то должен о чем-то расспрашивать? Я не хочу иметь ничего общего с лужей крови, растекшейся под Фрэнки. И с самим Фрэнки тоже, еще вчера вечером я решила отправить Франсуа Пеллетье в отставку, он не оправдал моих ожиданий, и слава богу, что не оправдал, иначе не было бы ночи с Алексом.
Я – просто любопытствующая особа, просочившаяся сквозь оцепление за деньги. Воспользовавшаяся жадностью и нерадивостью личного состава городской gendarmerie – все претензии к нему, не ко мне.
– Мадемуазель, – слышу я позади себя вкрадчивый голос. – Пойдемте, мадемуазель.
Светло-песочный вор, брат открыточного вора.
– Вам больше нельзя здесь оставаться.
– Да, конечно.
Светло-песочный вор кажется мне посланцем небес, я (совершенно непристойно) висну у него на руке. И чтобы хоть как-то оправдаться, мямлю:
– Ужасное зрелище.
– Совсем не для женских глаз, вы правы. Держитесь за меня.
Держусь, держусь.
Совместно преодоленные ступеньки делают нас едва ли не друзьями.
– Мадемуазель увлекают преступления? – спрашивает жандарм, когда мы наконец-то добираемся до оцепления.
Вполне логичный вопрос, если учесть, что я без сожаления рассталась со ста дирхамами только для того, чтобы взглянуть на мертвое тело и лужу крови под ним.
– Даже не знаю, что вам ответить…
– Недавно я вернулся из Франции. Был там на стажировке.
– Рада за вас.
– Я мог бы многое вам рассказать. О преступлениях и не только… В пять у меня кончается дежурство, может, встретимся?
– М-м…
– На площади, в половине шестого. Идет? Меня зовут Шамсуддин.
За столь экзотическое знакомство я денег не платила. Сказать бы об этом неожиданному ухажеру – и дело с концом.
– Мне пора, Шамсуддин. – Проклятая вежливость заставляет меня искать наиболее безболезненные варианты отхода.
– Так вы придете?
– Не знаю. Не уверена.
– Вы заняты? Мы можем встретиться позже.
Отвяжешься ты или нет, мздоимец, ворюга!..
Жюль и Джим – вот кто спасает меня.
Жюль и Джим выныривают из переулка и деловито направляются к полицейским. Верховодит, как обычно, Жюль, Джим держится в тени своего более расторопного друга. Поначалу мне кажется, что оба горе-спортсмена прикатились сюда по лыжне, проложенной мальчишкой-открыточником. Но только поначалу. Жюль выбрал другой путь и другого полицейского. Короткий разговор, короткий взмах руки – и он вместе с приятелем оказывается за оцеплением. Отличный повод, чтобы отделаться от ворюги.
– Простите, Шамсуддин. Это мои приятели…
Я с облегчением покидаю gendarme, киваю Жюлю как старому знакомому, машу ему рукой и даже делаю несколько шагов в его сторону. Да и глупо было бы поступить иначе: я везла дружков-горнолыжников из аэропорта, я оформляла их в отеле, к тому же часть вчерашнего вечера мы провели за соседними столиками.
Жюль удивлен.
Настолько, что считает нужным вступить со мной в разговор:
– Вы? Что вы здесь делаете?
– Встретила старого друга. Он полицейский…
Почему-то мне кажется, что связать себя с живым и здоровым светло-песочным вором гораздо безопаснее, чем с мертвым Фрэнки. Я жду, что Жюль начнет расспрашивать меня о произошедшем: на правах подруги полицейского я могу обладать кое-какой информацией. Но Жюль совсем не торопится насесть на меня с расспросами.
Странно.
– А вы? Что здесь делаете вы?
– Тоже собираюсь встретиться со старым другом. И я тоже полицейский.
– Полицейский? – я не верю своим ушам.
– Полицейский на отдыхе, – добавляет Жюль.
– А он? – Неуместный вопрос касается молчаливого Джима. – Он тоже полицейский?
– Тоже.
Целый вагон полицейских. Я окружена ими со всех сторон, оцеплена, ничего хорошего это не принесет.
– Вот как… А я почему-то решила, что вы горнолыжники.
– Скорее – любители боулинга.
Жюль снисходительно улыбается мне. До этого я ни разу не видела, чтобы он улыбался. А если бы увидела – вопрос о горнолыжниках был бы сразу снят с повестки дня. И заменен другим: сколько челюстей сокрушил этот человек во время допросов с пристрастием? Улыбка Жюля ставит все на свои места: она освещает каждый сантиметр жесткого (жестокого) лица, и скрытые до этого детали предстают во всей своей беспощадной красе: подбородок костолома, рот палача, переносица душителя, а в глаза лучше не заглядывать.
– Извините, нам пора. Еще увидимся.
– Увидимся.
Лучше бы Жюль был горнолыжником.
Я думаю об этом, наблюдая, как двое «полицейских на отдыхе» скрываются в проеме лестницы. Сейчас они поднимутся наверх, и костолом Жюль сразу же признает в убитом парня, вместе с которым ехал из аэропорта и оформлялся в отеле, и провел часть вчерашнего вечера за соседним столиком в ресторане.
Ну и плевать.
Нервное возбуждение, снедавшее меня последние полчаса, сменяется апатией и полным равнодушием. И когда передо мной снова вырастает Шамсуддин, я становлюсь покладистой, как овца.
– Вы ничего не сказали мне насчет сегодняшнего вечера.
– А, да…
– Я могу рассчитывать на встречу?
– Я приду.
Иногда полезно и солгать. Правда, я не совсем уверена, что это ложь. Неожиданное вторжение Жюля и Джима меняет мои планы. И Шамсуддин не кажется таким уж отвратным: я с большим удовольствием встретилась бы с ним, чем с двумя полицейскими из Старого Света. Да что там – я предпочла бы вовсе их не знать и тогда, возможно, избежала бы некоторых вопросов.
А в том, что они последуют, я не сомневаюсь.
Шамсуддин прикладывает руку к сердцу, всем своим видом демонстрируя: mademoiselle произвела на него неизгладимое впечатление, остаток дежурства пройдет в мыслях о ней, а вечером он постарается оказаться на высоте.
Один такой уже оказался на высоте, он и сейчас там. Ле жит ничком, подогнув под себя колено. И по мере того, как Шамсуддин отдаляется от меня, Фрэнки неумолимо приближается. Теперь я не могу представить его иначе, как мертвым. Мертвец стоял у стойки, пока я заполняла его регистрационную карточку, мертвец дефилировал по отелю в костюме для серфинга, мертвец поил меня шампанским в ресторане и целовал меня тоже мертвец.
Потому-то поцелуй и показался мне холодным. И лишенным всякого намека на страсть – пусть и мимолетную.
Я пыталась закрутить роман с мертвецом.
Мерзость какая!..
Толпа, тупо ожидающая новостей с места резни, – тоже мерзость. А ведь до сих пор я относилась к местному населению с большой симпатией: открытые, безобидные, улыбчивые люди, их лукавство не опаснее лукавства детей, их простодушие забавляет, их тела поджары и упруги, их смуглая кожа отливает шелком. Они полны жизни – не то что забредающая сюда европейская вырожденческая шушера, цивилизация которой доживает последние дни. Будущее – за третьим миром, говорит Доминик, вряд ли он подцепил эту истину в своей обожаемой «Фигаро».
А я еще посмеивалась над ним, идиотка.
Пробиваться сквозь толпу – удовольствие ниже среднего. Единственный плюс: бедняжка Сашá занята делом. Бедняжка Сашá преследует цель – пробиться, и все ее существо подчинено этой цели. Но что произойдет, когда цель окажется достигнутой? Сладкие орехи, прогулки по воде, подсчет воздушных змеев и перистых облаков – смысла в этом не больше, чем в футболках с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо». А о возвращении в отель не хочется даже думать.
Я положительно не знаю, чем себя занять. И каким образом стереть из памяти вчерашний вечер, чтобы мертвец Фрэнки не всплывал в моем воображении снова и снова. Конечно, я могу угнать один из полицейских велосипедов и отправиться на нем э-э… в Марракеш. Или в Касабланку. Или в Рабат. Это будет выглядеть нелепо. Я могу привести в чувство наш рыдван и отправиться на нем туда же. Это будет выглядеть подозрительно.
Я, в конце концов, могу дождаться Ясина и выйти с ним в океан, и коротать время за сортировкой улова: тунцы к тунцам, осьминоги к осьминогам, креветок – за борт. Океан остудит мою голову, а запах сырой рыбы…
Запах сырой рыбы напомнит мне о Фрэнки, мертвец жаловался, что не выносит его… Проклятье!
Я снова думаю о нем. Подчистить память не удастся, по крайней мере – сейчас.
– Сашá!.. Сабак эльхер, Сашá!..
Какой-то шутник желает мне доброго утра, очень мило с его стороны. Очень вовремя.
– Или лучше сказать – бонжур, мадам?
– Сабак ин нур, дядюшка Иса!..
Дядюшка Иса собственной персоной, он, кажется, никуда и не уходил – я вижу его ровно на том же месте, на котором оставила вчера. И в той же позе. Дядюшка Иса – не часть толпы. Он просто стоит у дверей своего дома.
– Зайдете ко мне по-соседски?
Не самое удачное время для похода в гости, но это может избавить меня от навязчивой мысли угнать полицейский велосипед.
– С удовольствием.
– Я знал, что вы придете.
Странная уверенность – или я не все поняла во французском дядюшки Исы? Нет, его французский почти идеален, и дядюшка сказал только то, что сказал.
Мы проходим мимо двух резных шкафов и деревообрабатывающего станка и оказываемся во внутреннем дворике. От внутреннего дворика «Ла Скала» он отличается лишь меньшими размерами и отсутствием колонн, столиков и танцпола. Мозаика, которой выложен пол, и фонтан – почти те же. Есть еще навес в дальнем правом углу, туда мы и направляемся. Я все еще отношу происходящее к традиционному марокканскому гостеприимству, белому человеку здесь, в центре Эс-Суэйры, ничего не угрожает.
Разве что его кошельку.
А кошелька-то у меня как раз и нет.
Мы располагаемся под навесом, устланном коврами; место, где гостей пичкают кус-кусом, бараниной и еще двумя десятками блюд, если исходить из традиционного марокканского гостеприимства. Сейчас, по всем законам жанра, должны появиться люди, играющие подчиненную роль в жизни дядюшки Исы. Бесплотные, словно тени, они займутся столом, приволокут миски с водой для омовения рук (уже затем наступит очередь кус-куса) – такое происходило не раз в домах арабов и берберов, которые мы с Домиником иногда посещали. Дом Джумы, брата Фатимы; дом автослесаря, который время от времени чинит наш многострадальный автобус, дом техника, которого я вызываю всякий раз, когда ломается очередной кондиционер.
Но дом дядюшки Исы не похож ни на один другой дом.
В нем никого нет.
Дядюшка сам приносит чай и расставляет тарелки со сластями и плетеные корзинки с фруктами. Я готова предложить ему помощь, но это вступит в явное противоречие с законами традиционного марокканского гостеприимства. Пока дядюшка хлопочет по хозяйству и греет чай на маленькой спиртовке, ничто не мешает мне присмотреться к нему повнимательнее. При свете дня сходство с Ясином не выглядит таким пугающим и он моложе, чем казался мне вчера.
Во всяком случае, стариком его не назовешь.
Крепкий мужчина слегка за пятьдесят, так будет вернее.
– Вы живете один, дядюшка Иса?
– Много лет…
Смутные подозрения снова – помимо воли – начинают терзать меня: Ясин так и не женился.
– Много лет, с тех пор, как погибла моя семья.
Я – полная идиотка, пора бы уж к этому привыкнуть.
– Сочувствую…
– Жена и маленький сын. Автокатастрофа. Лобовое столкновение с грузовиком. Шансов выжить у них не было.
Так мог бы сказать европеец, а никак не араб, гладкий и вычурный французский дядюшки Исы сбивает меня с толку.
– Ужасно.
– Да. Я с трудом это пережил.
– Понимаю ваше горе.
– Вы загрустили. Плохо, очень плохо, когда молодая девушка грустит. Нет ничего хуже…
Есть. Автокатастрофа. Лобовое столкновение с грузовиком. Алекс Гринблат, исчезнувший в неизвестном направлении. Мертвец Фрэнки, он до сих пор лежит у стены старого форта. Кстати, почему дядюшка не поинтересовался небывалым скоплением народа – практически у дверей его жилища?
– Вы помирились со своим другом?
– Другом?
– Вчера вы сказали мне, что у вас с вашим другом произошла ссора. Как видите, дядюшка Иса ничего не забывает.
– Да-да… Недоразумение разрешилось, и теперь все в порядке.
– Рад за вас. В следующий раз приходите с ним.
– Непременно придем.
Фрэнки мертв, Алекс -
отчалил;
отвалил;
слился;
сделал ноги;
навострил лыжи – и вообще убрался к чертовой матери. С концами. Остается только Доминик. Кусок трусливого дерьма! Трехлетнее недоразумение по имени Доминик можно считать решенным – тут я не погрешила против истины.
А Фрэнки – мертв, его не предъявишь, сложность лишь в том… В ТОМ, ЧТО ДЯДЮШКА ИСА ВИДЕЛ ИМЕННО ФРЭНКИ!.. Как я могла забыть об этом? Вчера вечером он наблюдал, как мы с молодым «beaugarqon» совершали променад в сторону лестницы. ИМЕННО ФРЭНКИ, ИМЕННО ФРЭНКИ – бегущая строка на фоне изъеденной временем стены, отличное дополнение к
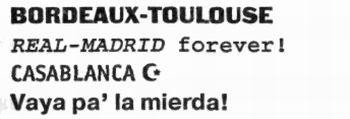
Нужно отвлечь дядюшку от опасного разговора о моих несуществующих друзьях.
– Вы прекрасно говорите по-французски, дядюшка Иса.
– А вы – не очень. У вас чувствуется акцент. Надо же, какие тонкости!
– Это не мой родной язык. Я изучала его здесь, в Эс-Суэйре, и, как видно, не очень преуспела. Я – русская.
– Русская? – Дядюшка морщит губы в улыбке. – О-о! Калашников. Пельмени. Горбачев.
– А еще – водка и Путин.
– Да-да, Путин! Это ваш нынешний президент, знаю. Россия – это страшно далеко.
– Гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд.
Мало того что я щебечу с дядюшкой, как щебетала бы с любым европейцем моложе сорока, – я еще употребляю достаточно многозначительные, если не сказать – рискованные словесные конструкции.
– Верно, – подхватывает дядюшка. – Все в этой жизни гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд.
Мне только пригрезилось или в его голосе действительно прозвучала угроза? А сласти и фрукты, расставленные на столе, призваны лишь завуалировать, скрыть ее. Я могу проглотить апельсиновую косточку угрозы, а могу выплюнуть ее, а могу и вовсе не заметить. Это будет самым правильным, возьми себя в руки, Сашá!
Вдох-выдох.
Нет-нет, конечно же никакой угрозы от дядюшки не исходит, он – сама любезность. А я – истеричка, которую добили неприятности с Фрэнки.
– Что касается меня, милая Сашá, – я много лет прожил во Франции. И вернулся только теперь.
– Вы родом из Эс-Суэйры?
– Из Танжера.
Танжер. В возвышенных мечтах Доминика о Марракеше, Касабланке, Рабате место Танжеру не нашлось. Там полно контрабандистов и мошенников и процветает торговля гашишем – вот и все, что я знаю о Танжере.
На контрабандиста, а тем более на наркодилера, сбывающего гашиш, дядюшка Иса не похож.
– Во Франции вы тоже торговали пряностями?
– У меня была маленькая лавочка в двадцатом округе Парижа. Но торговля в последнее время не шла, и воспоминания о семье не давали спать по ночам…
– И вы решили вернуться в Марокко?
– Что еще оставалось бедному дядюшке Исе? Вот, купил здесь дом. Конечно, он слишком велик для одного. Но скоро должны приехать племянники из Танжера, и дядюшка Иса снова будет окружен людьми.
Витиеватое обращение к себе в третьем лице режет мне слух, оно никак не монтируется с беглым и не лишенным кокетства французским дядюшки. Две несовпадающие по рисунки роли, которую дядюшка Иса тщетно пытается свести к общему знаменателю. Но и этому может быть логическое объяснение: долгое пребывание в постмодернистской Франции наложило на торговца пряностями свой неизгладимый отпечаток.
– А что вы делаете в Эс-Суэйре, русская Сашá? Что вы делаете в Марокко?
И правда, что я здесь забыла? Мое место совсем не на севере Африки – а там, где ковбой Мальборо выпускает дым из ноздрей, где шестикрылый серафим выщелкивает блох из перьев. Быть может, сочувствующему французу Исе я и рассказала бы свою новейшую историю, но сочувствующему арабу Исе – никогда.
– Мне нравится Марокко. Мне нравится Магриб. А вообще, я помогаю своему другу. У него отель неподалеку.
– «Сулесьельде Пари»? – Да.
– Вот видите, дядюшка Иса ничего не забывает!
– Хоть отель и маленький, но дел все равно много.
– Моя жена тоже мечтала об отеле. Пусть и маленьком. Крошечном. Она была родом с севера Франции и мы прожили счастливую жизнь. Это большое искусство – прожить с кем-то счастливую жизнь.
Конечно. Торговать пряностями – искусство попроще. Гонять в футбол на пляже, ловить волну в океане – искусство попроще. Торговать рыбой с катера «MENARA» – это и искусством не назовешь. А вот прожить с кем-то счастливую жизнь – по плечу только виртуозам.
Мастерам экстра-класса.
Воздух риады разрезает мелодичный звон: как будто где-то поблизости звякает скрытый от глаз колокольчик.
– Что это? – спрашиваю я.
– Кто-то хочет навестить дядюшку Ису.
– Вы ждете гостей?
– Марокканец всегда ждет гостей.
Еще один свежеиспеченный афоризм от дядюшки. Когда-то натурализовавшегося в Париже и прожившего счастливую жизнь с женщиной с севера Франции.
– Простите, Сашá. Я отлучусь на минуту, узнаю, кто пришел.
– Я, пожалуй, пойду.
– Нет-нет, оставайтесь. Если бы вы знали, как мне приятно ваше общество… Вы чем-то похожи на мою жену.
Примерно так же, как Фрэнки похож на бесчувственный, безжизненный овощ.
Дядюшка Иса оставляет меня и, пройдя дворик наискосок, скрывается за дверью той самой комнаты, через которую мы попали сюда. Я остаюсь в одиночестве, которое длится дольше, чем я думала. По моим подсчетам прошло не меньше пяти минут, а дядюшка Иса все не возвращается. Чтобы занять себя, я рассматриваю неработающий фонтан и мозаичную кладку вокруг него. Затем принимаюсь шарить глазами по галерее второго этажа: на нее выходят четыре плотно закрытые двери голубого цвета. Краска на дверях облупилась от времени.
Что именно находится за ними – не так уж трудно представить:
необжитое пространство.
Дядюшка Иса купил дом совсем недавно, со временем он обживет комнаты и починит фонтан, а то, что дом слишком велик, чтобы жить в нем одному, – это не препятствие.
Скоро приедут племянники, возможно даже с семьями. С женами, детьми, возможно даже с близнецами; смех детей вернет дядюшку к жизни и заставит отступить воспоминания, не дающие спать по ночам.
Об автокатастрофе.
О лобовом столкновении с грузовиком.
После лобового столкновения с Алексом и еще более лобового столкновения с Фрэнки эта тема живо меня волнует. Надо бы порасспросить дядюшку о том, как он справлялся с мыслями о мертвых близких. Конечно, Фрэнки был совсем не близок мне, но он – мертв. Я постоянно возвращаюсь к этому, стараясь с ходу проскочить остановку «Скала дю Порт», меня там не было. И никто не сможет подтвердить обратного. Регистрация в отеле «Sous Le del de Paris» – да, вечеринка с шампанским – да, уход с вечеринки – может быть, ведь ушли-то мы не вместе.
А больше я Франсуа Пеллетье не видела.
Глубокое бурение темы Фрэнки чревато и другими неприятностями, о которых я не подумала сначала, но о которых собиралась говорить с Алексом: мой русский паспорт. Отметки в нем свидетельствуют, что, приехав по туристической визе три года назад, я несколько здесь подзадержалась. Возможно, это причинит неудобства Доминику, а возможно и нет – и откуда, черт возьми, исходит этот звук?..
Нечто среднее между зуммером и жужжанием пчелы.
Почти незаметно миновав ушные раковины, зуммер внедряется в мозг и принимается бить в одну точку. Короткие, упорядоченные промежутки между сигналами заставляют думать о системе, не имеющей ничего общего с пчелами. Скорее, это разновидность телефонного звонка, а звук идет из-за моей спины. Я оборачиваюсь: слева, метрах в трех от меня, просматриваются контуры двери и контуры прикрытого ставнями окна рядом с ней – а до этого стена казалась мне почти глухой. Все дело в ином – не голубом – цвете. И дверь, и ставни точно придерживаются грязно-белой цветовой гаммы, в которой выполнена вся стена.
За дверью в стене и находится источник звука.
Бросив взгляд на противоположную часть двора (дядюшка Иса как сквозь землю провалился), я вскакиваю на ноги и подхожу к двери, украшенной круглой белой ручкой. Уж не потайной ли склад с наркотой я случайно обнаружила? Ха-ха, торговцы гашишем не могут быть так беспечны!..
А потайная дверь не может быть не заперта.
Дверь поддается, стоит мне только легонько нажать на ручку. Следовательно – это не потайная дверь. И ничего интересного за ней нет, кроме раздражающего мозг зуммера.
Первое, что я вижу, зайдя вовнутрь и попривыкнув к полумраку, – стол посередине небольшой комнаты и кровать в углу. Косые лучи света, идущие от ставен, прошивают стол насквозь. А заодно прошивают и небольших размеров ноутбук, и небольших размеров телефон, который я поначалу принимаю за сотовый. Жужжание исходило от него.
Лейбл, украшающий ноутбук, – «SONY».
Лейбл, украшающий телефон, – «GLOBALSTAR».
Я совсем не фанат оргтехники, я игнорирую мобильную связь, я совершенно равнодушна к компьютерам, «е-оснащенность ими отеля Доминика я нахожу очаровательным анахронизмом, но… Есть вещи, в которых (благодаря бесконечным каталогам и прайс-листам Фатимы) разбирается даже отставшая от жизни русская матрешка:
дизайн и размеры ноутбука «Sony» тянут на несколько тысяч долларов.
«Globalstar» – не что иное, как фирма, занимающаяся спутниковой связью, и телефон не сотовый, а спутниковый. И это тоже стоит бешеных денег, возможно даже больших, чем ноутбук со всей его начинкой и прибамбасами.
Ай да дядюшка Иса, скромный торговец пряностями!.. С такой аппаратурой он может договариваться о поставках фенхеля и кайенского перца прямиком с горных вершин Большого Атласа, прямиком из центра Сахары. Увлекшись созерцанием компьютера и телефона, я не сразу замечаю саквояж, стоящий на кровати.
Отличная кожа. У Спасителя мира хороший вкус. Жаль, что я не успела сказать ему об этом до того, как он улетел.
Вот черт.
Он – улетел.
Одним из утренних рейсов, так сказал мне толстяк, и я поверила ему на слово. Кто из двоих соврал – Алекс Доминику или Доминик мне? Кто бы ни был – в дураках осталась я сама.
Вот черт.
Нет, это все же не саквояж Алекса. Тот был поменьше и поизысканней, с латунной застежкой. На этом саквояже застежка совсем другая – из хромированной стали. И кожа заметно грубее, не такая мягкая – даже на вид. Разница в классе бросается в глаза сразу, я просто слишком взвинчена, вот мне и лезут в голову всякие глупости. Алекс улетел, а я без зазрения совести вторглась в чужое жизненное пространство, что не соответствует не только марокканским традициям, но и христианским. Хороша же я буду, если добрейший дядюшка Иса застукает меня здесь!..
Напуганная мыслью о возможном разоблачении, я пулей выскакиваю из комнаты, прикрываю дверь и падаю на подушки у стола. Приняв непринужденную позу и чуть отдышавшись, я успеваю даже сунуть в рот кусок пахлавы и запить ее чаем. В этот самый момент и появляется дядюшка Иса, еще более улыбчивый, чем раньше.
– Вы не скучали, милая Сашá?
– Честно говоря, уже успела соскучиться. У вас отменная пахлава. И чай тоже замечательный.
– Рад, что вам понравилось. Вот, возьмите на память. Маленький подарок от дядюшки Исы.
Дядюшка протягивает мне бесформенный кусочек камня – слишком податливый, слишком легкий; цвет тоже так сразу не определишь: то ли болотный, то ли темно-серый.
– Что это?
– Амбра. Самая настоящая амбра. Запах амбры придает женщине загадочность и подчеркивает силу и благородство души. Ко мне приходили двое полицейских, Сашá.
Переход от амбры к двум полицейским так неожидан, что я не сразу понимаю, о чем говорит мне дядюшка. Двое полицейских? Только бы это не были Жюль и Джим!..
– Вчера, поздним вечером, произошло убийство. Совсем рядом. Вы не слышали?
– Что-то такое слышала… Краем уха. – Язык во рту распух и совершенно меня не слушается. – Поэтому вокруг было так много народу.
– Люди любопытны, а это не очень хорошее качество.
– Не очень… И что полицейские?
– Расспрашивали меня, не заметил ли я чего-нибудь подозрительного. Не видел ли кого-нибудь поблизости. Стандартные вопросы в таких случаях.
– Мне не приходилось сталкиваться с подобным.
– Да… Все гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд.
Дядюшка Иса улыбается, и мне ничего не остается, как улыбаться ему в ответ. Так мы и сидим друг напротив друга: он – покачивая головой, я – задыхаясь от тяжелого, дурманящего запаха, идущего от куска амбры. Сознание туманится, я как будто снова погружаюсь в темноту вчерашней ночи; страхи, от которых я избавилась, снова возвращаются ко мне.
– Что же вы сказали полицейским, дядюшка Иса?
– Что я никого не видел. Я ведь и вправду никого не видел вчера вечером. Кроме вас и вашего друга, когда вы шли к лестнице. И кроме вас – уже без друга. Когда вы возвращались…
***
…Все гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд.
Стена камеры, например.
Ночное расстояние от нее до деревянного лежака, на котором я провожу все свое время, не соответствует дневному. Десять шагов днем, при условии, что пятка левой ноги плотно прижимается к носку правой, ноги меняются: левая-правая, левая-правая – вот и выходит десять шагов. Не так уж мало, если учесть, что ночью от десяти шагов не остается и воспоминаний. Ночью стена дышит мне в лицо, мне даже не нужно вытягивать руки, чтобы коснуться ее. Закроешь глаза – и она тут как тут: царапает щеку, забивает рот пыльной каменной крошкой; загадка, которую мне не разрешить: почему в солнечной, ветреной Эс-Суэйре, где все стены – белые, существует эта – темно-серая, как кусок амбры, асфальтовая, маслянистая.
А может быть, все стены всех тюремных камер во всем мире именно такие? Покрытые копотью отчаяния, страданий, предсмертного ужаса и дурных мыслей? Я узнала бы о них больше, если бы умела читать по-арабски (стены камеры истыканы арабской вязью) – но я не умею читать по-арабски. И я до сих пор не оставила своего собственного автографа, просто потому, что не могу выбрать язык – французский, русский? македонский (меня принимали за уроженку Македонии)? немецкий (меня принимали за уроженку Лихтенштейна)? – только за убийцу меня не принимали никогда.
Загадка, которую мне не разрешить:
почему я убила Франсуа Пеллетье?
До сих пор я все отрицала. Проявляла упрямство, невзирая на факты, улики и показания свидетелей. Но рано или поздно я сломаюсь под грузом доказательств – так утверждает следователь, ведущий мое дело. Я упорно не желаю запоминать его имя, хотя каждый допрос (на сегодняшний день их было одиннадцать) начинается с терпеливого представления сторон. Имя адвоката тоже несущественно, хотя встреч с ним было гораздо меньше. Я послала его подальше после третьей, идущий по кругу разговор двух глухих меня не устраивает. Беседы со следователем проходят по сходной траектории, с той разницей, что отказаться от них я не могу.
– Как вы познакомились с Франсуа Пеллетье?
– Он приехал по туристической путевке агентства «Montagnard». Он и еще пятеро человек. Я уже говорила об этом… Я встретила всех в аэропорту, я всегда встречаю туристов в аэропорту… После того как мы оказались в отеле, я заполнила его регистрационную карточку.
– Это входит в круг ваших обязанностей?
– И это в частности.
– Обычно карточки заполняют сами постояльцы.
– Да. Но у нас маленький отель, постояльцев бывает немного, даже в разгар сезона. Так что мы все делаем сами. Эти правила устанавливала не я…
– Раньше вы, никогда не встречались с Франсуа Пеллетье?
– Никогда. Я впервые увидела его тем вечером в аэропорту. Третьего августа.
– Четвертого. Если верить записи в регистрационной карточке.
– Возможно, я просто спутала даты. Не думаю, что это существенно.
– Вы сразу же проявили к нему интерес?
– Нет, скорее он проявил ко мне интерес. Не думаю, что это существенно.
– Но интерес оказался взаимным?
– Он показался мне милым молодым человеком. Не больше.
– И тем не менее уже на следующий день вы приняли его приглашение посетить ресторан «Ла Скала».
– Это вышло случайно.
– Что именно?
– Он не приглашал меня. Я… Я просто отправилась в «Ла Скала» поужинать. И случайно встретила его.
– Он пригласил вас за свой столик?
– Нет, скорее я пригласила его за свой столик. Или нет – не приглашала. Он просто подсел ко мне и сразу же заказал шампанское. Не думаю, что это существенно.
– Вы часто посещаете «Ла Скала»?
– Нет.
– А если точнее?
– Я ужинала там первый раз.
– И этот раз совпал с пребыванием там Франсуа Пеллетье?
– Выходит, что так.
– Вам не кажется это странным?
– Нет. Разве я не имею права поужинать?
– Вы имеете право даже позавтракать. Тем более что несколькими часами раньше вы уже завтракали там. С другим молодым человеком.
– Да, с другом. С близким другом.
– А Франсуа Пеллетье не был вам другом? Близким другом ?
– Нет, конечно. Мы познакомились накануне. Я везла туристов из аэропорта, а потом заполняла их карточки… Я уже говорила об этом.
– Вы заказали шампанское.
– Он заказал шампанское. Он – Фрэнки.
– Франсуа Пеллетье?
– Да.
– Вы называли его Фрэнки? Звучит достаточно интимно, согласитесь.
– Он сам просил называть его Фрэнки. Если бы он попросил называть его Бонд, Джеймс Бонд, я бы звала его Джеймсом Бондом. Мне все равно.
– Что было дальше?
– Ничего. Мы пили шампанское и болтали. Он сказал, что работал в дельфинарии, и я попросила его поделиться… м-мм.. впечатлениями.
– Какими?
– О дельфинах.
– Вы интересуетесь дельфинами?
– Они мне симпатичны.
– А Фрэнки? Франсуа Пеллетье?
– Он показался мне милым, я уже говорила.
– Значит, вы тоже испытывали к нему симпатию?
– Да.
– Такую же, как к дельфинам?
– Не знаю. Нет. Пожалуй, дельфины вызывают у меня больший интерес.
– Но это не помешало вам весело провести время с Франсуа Пеллетье.
– Мы просто разговаривали.
– Вы выглядели влюбленной парочкой.
– Кто вам сказал такую чушь?
– Перед тем как заказать шампанское, Франсуа Пеллетье разговаривал с официантом.
– А-а, я помню официанта. Фрэнки… Франсуа о чем-то шептался с ним.
– Знаете о чем?
– Понятия не имею.
– Дословно: «Лучшее шампанское для моей любимой девушки. Я слишком долго ждал и теперь намерен оттянуться по полной».
– Чушь. Сплетни и враки.
– Документально зафиксированные враки. Они имеются в деле, и вы можете с ними ознакомиться. Официант – незаинтересованное лицо. Он видел вас в первый раз, так же как и Франсуа Пеллетье.
– Фрэнки мог сказать что угодно. На любом курорте полно таких типов. Выдающих желаемое за действительное. Я знаю по меньшей мере троих. За исключением Фрэнки.
– Значит, вы не его любимая девушка?
– Конечно нет.
– И вы никогда не встречались раньше?
– Господи!.. Нет. Сколько можно повторять…
– Он мог ограничиться фразой «Я слишком долго ждал и теперь намерен оттянуться по полной». Но зачем-то упомянул, что вы его любимая девушка. В разговоре с человеком, которого видел первый раз.
– Я уже сказала вам, что думаю по этому поводу.
– В категорию любимых девушек не переходят после ничего не значащего разговора о дельфинах.
– Официант подошел раньше.
– Тем более. Для того чтобы стать любимой девушкой, необходимо время.
– Я уже сказала вам, что думаю по этому поводу.
– Вы ушли из ресторана вместе ?
– Нет. Я ушла немного раньше. Сказала… Сказала, что подожду его на улице.
– Немного нелогичное поведение, согласитесь.
– Нелогичное? Нелогичное для любимой девушки. А я не была любимой девушкой Франсуа Пеллетье.
– Когда Франсуа Пеллетье расплачивался, он выглядел чем-то расстроенным. Это подтверждают официант и еще двое свидетелей.
– Я даже знаю кто. Жалкие французишки, любители боулинга. Они тоже пытались склеить девушку. Безуспешно. Я с самого начала знала, что им ничего не обломится. Они видели меня, я видела их, я даже помахала им рукой, идиотка.
– Вы поссорились?
– С этими двумя?
– С Франсуа Пеллетье.
– Нет.
– Тогда что так расстроило его?
– Понятия не имею. Хотя… Еще когда мы сидели за столиком, Фрэнки кто-то позвонил. Судя по всему, разговор был неприятным. Я подумала еще, что у него какие-то проблемы Ваши свидетели… Это говенные французишки… Должны были это подтвердить.
– Они уже подтвердили. Что не видели, как Франсуа Пеллетье разговаривал по мобильному телефону.
– Конечно.
– Скажу вам больше – и при осмотре места происшествия, и при осмотре тела мобильного телефона найдено не было.
– Конечно.
– Чем вы это объясните?
– Кто-нибудь из ваших кристально-честных подчиненных присвоил его себе еще до осмотра. Или… Или тот человек, который нашел Фрэнки. То есть… тело Фрэнки. Ведь был же человек, который нашел тело?
– Был.
– Вот и спросите у него, куда делся телефон.
– Я уже спрашивал. Но все дело в том, что у Франсуа Пеллетье был при себе бумажник с довольно внушительной суммой денег и кредитными карточками. Содержимое бумажника оказалось нетронутым. Согласитесь, проигнорировать бумажник и ограничиться лишь мобильным телефоном – довольно странный поступок. Нелогичный.
– Яне знаю, куда делся телефон. Может быть, выпал по дороге. Но Фрэнки звонили, и Фрэнки ответил на звонок.
– Куда вы отправились после того, как покинули «Ла Скала»?
– В отель.
– Тогда каким образом вы оказались в районе смотровой площадки форта?
– Я неточно выразилась… Мы собирались отправиться в отель. Но затем свернули к Скале дю Порт.
– Зачем?
– Просто… Решили немного прогуляться. Я хотела показать Фрэнки э-э… одну из главных достопримечательностей Эс-Суэйры.
– Это можно было сделать и днем. В темноте достопримечательности не разглядишь.
– Визит туда ночью показался мне романтичным.
– Таким же романтичным, как и отношения с Франсуа Пеллетье?
– У нас не было романтичных отношений. И я понятия не имела, что на смотровой площадке нет света. Обычно она освещена.
– Обычно да.
– Но в тот вечер света не было. И я до сих пор не знаю почему. Может быть, вы скажете мне?
– Кабель был перерезан.
– Это тоже сделала я?
– Вам виднее.
– Послушайте… Почему вы мне не верите? Я не знаю, где проходит этот чертов кабель! Я не электрик.
– А кто вы?
– Никто. Помогаю своему другу справляться с делами в отеле. Езжу в аэропорт за туристами. У меня есть международные водительские права.
– Ваш друг – владелец отеля «Sous Le del de Paris» Доминик Флейту?
– Да.
– Это ваш близкий друг?
– Да.
– Как долго вы живете в отеле?
– Три года.
– С тех пор как приехали из России?
– Да.
– Вы прибыли в Марокко как частное лицо?
– У меня был контракт с одной туристической фирмой в Санкт-Петербурге. Я должна была встречать русских туристов, заниматься их устройством.
– На сколько был заключен контракт?
– На полгода.
– Что произошло, когда контракт закончился?
– Ничего. Я осталась в Марокко.
– Почему?
– Мне понравилась страна. Мне не хотелось возвращаться.
– У вас были веские причины, чтобы отложить возвращение?
– Нет. Разве что обстоятельства личного характера.
– Вас не смущало, что вы находитесь на территории Королевства Марокко нелегально?
– Насколько я знаю, визовый режим между нашими странами отменен.
– Его отменили совсем недавно.
– Я… Я не думала, что мое пребывание здесь противозаконно. Я просто хотела остаться. Навсегда.
– Обстоятельства личного характера?
– Черт возьми… Я просто хотела остаться.
– Доминик Флейту этому поспособствовал?
– Доминик был добр ко мне. Я очень ему благодарна.
– Ваши отношения…
– Наши отношения не выходили за рамки дружеских. Они были доверительными. Да. Доверительными. Доминик здесь ни при чем. Он не знал, что я нахожусь на территории Королевства Марокко нелегально.
– И это несмотря на доверительные отношения?
– Доминик ни в чем не виноват.
– Хорошо. Вернемся к вечеру пятого августа. И к смотровой площадке на Скале дю Порт. Вы часто бывали там по ночам?
– Ну… Несколько раз. Но проблем со светом не было никогда.
– То, что на лестнице, ведущей к площадке, было темно, вас не остановило?
– Нет. Я не думала об этом.
– А о чем вы думали?
– Может быть, о дельфинах. Не важно.
– Вы поднялись наверх – и?..
– И все. Кромешная темнота. Нас встретила кромешная темнота.
– Темнота встретила вас на лестнице – и все же вы поднялись.
– Я думала, наверху будет светлее. Но мои ожидания не оправдались.
– А что Фрэнки?
– Мы перебросились несколькими фразами. Ничего не значащими. Потом он сказал… Сказал, что слышит шорох. Что на площадке кто-то есть.
– А вы слышали шорох?
– Нет. Только шум океана. Все то время, что я пробыла наверху, меня сопровождал шум океана.
– Что сделал Франсуа Пеллетье после того, как обнаружил, что на площадке кто-то есть?
– Он отошел от меня. Сказал, что сейчас вернется. Больше я его не видела.
– На площадке?
– Больше я не видела его живым. А на площадке я не видела вообще ничего.
– И ничего не слышали?
– Нет. Только океан. Он ревел.
– После того как Франсуа Пеллетье отошел от вас, вы остались стоять на месте?
– Да. Некоторое время я простояла неподвижно.
– Как долго?
– Достаточно, чтобы почувствовать себя дурой.
– А потом?
– Потом я позвала Фрэнки. Я звала его несколько раз. но ответа не получила. Ситуация для плохого водевиля, правда? Ненавижу быть брошенной.
– Вас часто бросали?
– Какое это имеет значение?
– Продолжайте.
– Черт… Я решила, что он разыграл меня, подшутил надо мной. И я сказала себе – нужно наплевать на Фрэнки и выбираться отсюда самой. Это заняло некоторое количество времени. Пока я нащупала стену, пока добралась по ней до второй лестницы…
– Вы хорошо ориентируетесь в пространстве.
– Я ведь была на площадке неоднократно и имею о ней представление.
– Я это уже понял.
– Я нашла вторую лестницу, но не нашла Фрэнки. Это было странно, ведь я до последнего надеялась, что он встретит меня хотя бы внизу. Но надежды не оправдались.
– И что вы сделали после того, как надежды не оправдались?
– Решила отправиться в отель. Что еще я могла сделать? Я прошла по улице, примыкающей к лестницам, там совсем небольшой отрезок… И свернула в переулок.
– И никого не увидели по дороге?
– М-м… Никого.
– Неужели? Может быть, вы кое-что забыли? Я могу освежить вашу память…
– Освежить?
– Коктейлем «Иса Хаммади», пряностей в нем предостаточно.
– Иса Хаммади?
– Есть еще и второе название – «дядюшка Иса».
– …
– Что скажете?
– …
– Сознание прояснилось?
– Проклятье. Да… Кажется, в тот вечер я познакомилась с одним забавным стариком.
– Кажется?
– .Хорошо. Я познакомилась с ним в тот самый вечер. В то самое время, когда возвращалась в отель. Когда свернула в переулок. Он стоял у двери углового дома. Дверь была открыта. Мы проболтали несколько минут. Он сказал, что его зовут дядюшка Иса. И что он торгует пряностями на рынке.
– Видите, как быстро идет дело, когда вы начинаете говорить правду.
– До этого я тоже не лгала.
– О чем еще кроме пряностей вы говорили?
– Думаю, что наш разговор вам передали со стенографической точностью.
– Хотелось бы услышать вашу версию.
– Дядюшка Иса – не резчик по дереву, он торгует пряностями на рынке. Дядюшка Иса недавно купил этот дом. Дядюшка Иса будет счастлив, если мадам заглянет к нему на чай.
– Это все?
– Это то, что я помню.
– Когда люди говорят, что девичья память коротка, – они не так уж неправы. Вы спросили у старика, который час.
– Может быть.
– Он сказал вам – уже полночь.
– Может быть.
– Вы столкнулись со стариком случайно и, как показывает Иса Хаммади, в первый момент даже испугались.
– Хотела бы я посмотреть на вас, если бы вы налетели на кого-то в темноте.
– О какой темноте идет речь?
– Пусть не в темноте, я неправильно выразилась… Одна мысль о темноте сводит меня с ума. Это были сумерки, и света было недостаточно.
– Света было достаточно.
– Но меньше, чем бывает днем. Я не испугалась, скорее – вздрогнула, это естественная реакция на неожиданность.
– Присутствие Исы Хаммади стало для вас неожиданностью?
– В общем, да. Я знала, что угловой дом пустует, и вдруг у него оказался хозяин.
– Вы рассчитывали, что в доме по-прежнему никто не живет?
– Ничего я не рассчитывала. Какое мне дело до этого чертова дома? Послушайте, к чему вы все время клоните?
– Я склоняю вас говорить правду.
– Напрасные старания.
– Напрасные?
– В том смысле, что я и так говорю правду.
– Вы были расстроены – совсем как Франсуа Пеллетье перед уходом из ресторана. И когда дядюшка поинтересовался, чем вы так расстроены, что вы ответили?
– Вылетело из головы.
– Вы ответили, что поссорились с другом.
– Может быть.
– «С каким? – спросил старик. – С тем самым парнем, с которым вы пришли?»
– Да! Да!!! С тем парнем, с которым пришла!
– С Франсуа Пеллетье?
– Я не думала о Франсуа Пеллетье.
– Вы думали о дельфинах, знаю.
– Я устала.
– Старик видел вас двоих, когда вы шли к лестнице. Минут через пятнадцать-двадцать вы спустились. Одна. Все так?
– Может быть. Я не засекала времени. Я не ношу часов.
– А теперь обратимся к заключению судебно-медицинской экспертизы. Смерть Франсуа Пеллетье наступила ориентировочно между одиннадцатью сорока пятью и двенадцатью часами в ночь с пятого на шестое августа. Что из этого следует?
– Что?
– Что он был убит в то самое время, когда вы, по вашим же словам, находились на площадке.
– Ничего такого я не утверждала. Я понятия не имела, который был час.
– Но именно об этом времени свидетельствует Иса Хаммади.
– Он мог напутать… Подождите, я вспомнила! Я действительно спросила у дядюшки… У Хаммади – который час. Он ответил – полночь. Но на часы он не смотрел. Просто сказал: полночь. С тем же успехом он мог назвать любое другое время. Одиннадцать вечера. Час ночи. Любое.
– Зачем ему нужно было называть другое время?
– Почем мне знать? Полицейский – не я, а вы. Вот и разбирайтесь.
– Иса Хаммади – лицо не заинтересованное.
– А я – заинтересованное?
– Похоже, что да.
– В таком случае… В таком случае это называется: его слово против моего. Или – не знаю как… Можно попросить у вас воды?
– Конечно.
– Спасибо.
– Сигарету?
– Так заметно, что я хочу курить?
– Заметно.
– Три года я не курила. А теперь просто мечтаю о паре затяжек… Вот так. Хорошо… Три года отказывала себе в таком удовольствии, идиотка!
– Как вы себя чувствуете?
– А что? Нормально себя чувствую. Просто первая сигарета за долгое время. Не обращайте внимания… Знаете, когда я была там, наверху, в полной темноте… Я очень сожалела, что бросила курить.
– Почему?
– Ну это же так просто. Если бы я курила, у меня бы непременно нашлась зажигалка. И я бы не блуждала во мраке так долго.
– Вы пробыли наверху не больше пятнадцати минут.
– Это тот самый случай, когда пространство сожрало время. Или – наоборот. Мне показалось, что прошла целая вечность.
– А прошло всего лишь пятнадцать минут.
– В темноте они растянулись на час.
– Странно, что вы не воспользовались спичками.
– Какими спичками?
– В вашей сумочке мы обнаружили спички.
– Вы смеетесь.
– Когда вы в последний раз в нее заглядывали?
– В сумочку?
– Да.
– Подождите-ка… Перед тем как отправиться ужинать в «Ла Скала». Да, именно тогда.
– Что было в сумочке?
– Как я могу помнить?.. Что-то несущественное. Помада, расческа с деревянной ручкой. Деньги – около шестидесяти дирхам. Носовой платок. Ключи от моего номера в отеле, я всегда беру их с собой. Еще какая-то мелочь. Кажется, таблетки от головной боли…
– И спички!
– Не было никаких спичек!
– Вот эти. Взгляните.
– Что это? «Cannoe Rose»…
– Думаю, «Cannoe Rose» – название какого-то кафе.
– Никогда не догадывалась о его существовании…
– Внизу указан телефон. Вот здесь.
– Он ничего мне не говорит. Я понятия не имею, что это за кафе и каким образом спички оказались в моей сумочке.
– Как видите, картонка пустая, ни одной спички внутри нет, а полоска серы полностью вытерта.
– Я должна предоставить письменный отчет о судьбе каждой из использованных спичек?
– Не стоит мне хамить.
– Не стоит задавать мне глупых вопросов.
– Если все вопросы, на которые у вас нет ответа, вы будете считать глупыми, мы зайдем так далеко, что возвращение станет проблематичным.
– Возвращение к чему?
– К истине.
– Вы и так не слишком заинтересованы в поисках истины. Иначе давно нашли бы настоящего убийцу, а не мучили меня глупыми вопросами.
– Вопросами, на которые у вас нет ответов. Или вы боитесь отвечать?
– Я устала отвечать.
– Шестьдесят дирхам – достаточная сумма, чтобы поужинать в приличном заведении?
– Не знаю. Возможно. На бокал шампанского и кофе точно хватит.
– Не более того… Давайте уточним. Вы собирались ужинать в «Ла Скала»?
– Бокал шампанского и кофе тоже можно считать ужином.
– С натяжкой. Скорее я назвал бы это прелюдией к ужину. Так сказать, затравкой. Девушка приходит в заведение, заказывает аперитив…
– Шампанское.
– …шампанское, в надежде, что впоследствии появится некто, с кем она сможет продолжить вечер.
– Вы намекаете на то, что я цепляла мужчин? Я не хожу по заведениям – ни приличным, ни неприличным. Любой вам это подтвердит. Любой.
– Не нужно нервничать.
– Я не нервничаю. Можно еще сигарету?
– Пожалуйста. Есть другой вариант – девушка принимает приглашение на ужин от молодого человека. Тогда понятно, почему ей не нужны деньги.
– Фрэнки не приглашал меня на ужин, сколько можно повторять? Мы встретились случайно…
– И шампанское заказал он?
– У вас же имеются показания официанта.
– А вы так и не успели потратить свои шестьдесят дирхам.
– Нет.
– В котором часу вы ушли из «Ла Скала»?
– Я не ношу часов и я не следила за временем, сколько можно повторять?
– Выйдя из ресторана, вы сразу направились к форту?
– Да.
– Нигде не останавливаясь?
– Нигде.
– Обычно этот путь занимает около десяти минут, не так ли?
– Что-то около того.
– Значит, вы потратили десять минут?
– Да.
– Я это зафиксировал.
– На здоровье.
– А теперь послушайте, что следует из показаний свидетелей: вы покинули ресторан ровно в половине двенадцатого.
– Надо же, какая дотошность. Свидетели носят часы – и поэтому они свидетели. Незаинтересованные лица. Я не ношу часов – и поэтому вынуждена оправдываться. Я – заинтересованное лицо.
– Все намного проще, поверьте мне. Официант, который обслуживал ваш столик, сдавал смену. Догадываетесь когда?
– Ума не приложу.
– Он сдавал смену в половине двенадцатого. Франсуа Пеллетье был последним, кто с ним расплатился. За несколько минут до того, как закончилась его смена. Поэтому и удалось установить точное время вашего ухода.
– Как будто это так важно.
– Это важно. Боюсь, вы даже не понимаете – насколько. Время свидетельствует против вас.
– Плевала я на время. А если принять во внимание, что вы тут наговорили, – против меня свидетельствует все.
– К несчастью.
– Я устала…
– Скоро вы отдохнете. Совсем скоро. А пока не будем отвлекаться… Если вы вышли из ресторана в половине двенадцатого и сразу же направились к форту, то возле него вы оказались за двадцать минут до полуночи. Верно?
– Я не… Хорошо, пусть будет так, как вы утверждаете.
– Я лишь опираюсь на сведения, которые получил от многих людей. И не в последнюю очередь от вас самой. Вы поднялись на площадку вдвоем… Вдвоем, не так ли? Здесь нет противоречий?
– Я с самого начала этого не отрицала.
– Там вы оказались в полной темноте, неожиданно потеряли спутника или, лучше сказать, избавились от него.
– Я потеряла спутника. Не избавилась – потеряла. Потеряла!
– Успокойтесь. Вы его потеряли. И, не найдя, спустились вниз. По второй лестнице. Не той, которой пришли. Внизу вы встретили Ису Хаммади. Узнали у него, который час. Оказалось – полночь. Итак, что мы имеем?
– Вам лучше знать.
– Мы имеем две временные точки: половина двенадцатого – начало отсчета, полночь – его конец. Итого полчаса. Проведенных вами и Франсуа Пеллетье без свидетелей.
– Вы же говорили… говорили, что старик Хаммади заметил, как мы поднимались по лестнице.
– Да. В этом случае временной промежуток сокращается еще на десять минут. Остается двадцать. И именно в эти двадцать минут был убит Франсуа Пеллетье. В то самое время, когда вы находились наверху. В полной темноте. В полном одиночестве. Что из этого следует?
– Что… Что убийца был там.
– Вам нехорошо?
– Я не видела убийцы. Я не видела Фрэнки. Себя я тоже не видела. Там было очень темно. Я устала…
– Вам знакома эта бритва?
– Господи… Господи ты боже мой…
– Ручка из слоновой кости. Монограмма «P.R.C.». На ручке рисунок, правда полустертый… Так сразу и не разберешь, что там изображено.
– Корабль… Корабль, терпящий крушение.
– Вы хорошо осведомлены.
– Да…
– Значит, бритва вам знакома?
– Ее забыл кто-то из постояльцев. Несколько лет назад. Мы собираем вещи, которые остаются в номерах. Незначительные пустяки. Мелочи. Статуэтка Будды. Статуэтка Мэрилин Монро. Музыкальная шкатулка…
– Меня больше интересует бритва.
– Но на ней кровь… Кровь…
– Сейчас я закрою лезвие листком бумаги… Так лучше?
– Да, намного. Спасибо… Мы хранили все эти вещи в шкафчике между первым и вторым этажами отеля… Он назывался «Галерея забытых вещей». Вернее, он так называется до сих пор.
– Вы это хранили?..
– Я и Доминик. Доминик Флейту, хозяин отеля.
– И бритва лежала в этом шкафу? Вместе с другими вещами?
– Да. Но она пропала.
– Когда?
– В тот самый день… Когда я отправилась ужинать в ресторан «Ла Скала».
– В тот день, когда был убит Франсуа Пеллетье?
– В тот день, когда я отправилась ужинать.
– Когда именно она пропала?
– Я не знаю. С утра она лежала на своей полке вместе с другими предметами. А к обеду ее не оказалось. Да, она пропала в первой половине дня. Исчезла.
– Как Фрэнки?
– Ее просто не стало.
– Как Фрэнки?
– Прекратите это! Прекратите!! Прекратите!!!
– Будда. Мэрилин Монро. Шкатулка. Все это осталось на своих местах?
– Не помню. Кажется. Не могу сказать точно.
– Но за перемещениями бритвы вы следили внимательно?
– Просто заметила это… И удивилась: бритва пропала, а никаких следов взлома нет.
– Взлома?
– «Галерея забытых вещей» закрывалась на ключ А ключи от нее были только у меня.
– И все?
– Кажется…
– Был еще второй комплект. У Доминика Флейту. Он сам сообщил нам об этом.
– Раз он сам сообщил… Я просто забыла.
– Забыли протереть ручку?
– ??
– На бритве были обнаружены отпечатки ваших пальцев. Только ваших, ничьих больше. Они и сейчас там.
– А-а… Это легко объяснить. Утром я доставала бритву. Хотела показать ее одному человеку. Он заинтересовался рисунком. Заинтересовался монограммой. Я просто удовлетворила его любопытство.
– А теперь удовлетворите мое. Вы достали бритву и показали ее этому человеку. Крайне в ней заинтересованному. Я правильно понял?
– Да.
– Тогда почему на бритве только ваши отпечатки °
– Почему? Не знаю почему. Тот человек не взял ее в руки.
– Был заинтригован бритвой… если такое выражение уместно… Был заинтригован, но в руки не взял? Странно.
– Это легко объяснить. Она привлекла его внимание, когда лежала под стеклом. Но когда я достала ее… Тот человек сказал, что это ничего не стоящая вещь. Дешевка, которую он принял за антиквариат. Вот и все.
– Все?
– Да.
– Тот человек может подтвердить ваши показания?
– Думаю, да. Но его сейчас нет в Марокко.
– Я надеюсь, он скоро вернется?
– Не уверена. Скорее всего – нет. Он был постояльцем гостиницы, приезжал сюда… на отдых. Вы часто отдыхаете в одном и том же месте?
– Как правило.
– На него это не похоже.
– Вы так хорошо изучили его повадки?
– Мы успели немного… пообщаться.
– Адреса или хотя бы телефона он, конечно, не оставил? Мы могли бы созвониться с ним, чтобы он подтвердил ваши показания.
– Вы сообщите ему обстоятельства дела?
– Я сделаю это максимально корректно. Обещаю.
– Не думаю, что такой пустяковый инцидент отложился в его памяти. Он очень занятой человек.
– Ну кто бы сомневался!
– Хорошо. Перед своим отъездом он оставил мне визитку со своими телефонами. Она должна быть у меня в номере. Если связаться с ним, возможно, он и вспомнит. И меня, и бритву.
– Хорошо. Что было дальше?
– Я положила бритву на место. Заперла шкаф и сразу же забыла о ней. И вряд ли бы вспомнила, если бы тот человек… много позже, не сказал мне, что бритвы нет.
– Это вас взволновало?
– Удивило, но ненадолго. В тот день у меня было много дел. И много проблем, так стала бы я держать в голове дурацкую бритву?
– Вот что я скажу: вам не помешало бы держать ее в голове.
– С чего бы это?
– Отпечатки. Только ваши, ничьи другие.
– Господи, я ведь уже говорила… Это легко объяснить.
– Но кое-что требует гораздо более трудного объяснения. Опасная бритва с монограммой «P.R.C.», ручка из слоновой кости с рисунком, была обнаружена нами на месте убийства, рядом с телом. Более того, она является орудием преступления.
– …
– Группа крови на лезвии совпадает с группой крови Франсуа Пеллетье.
– …
– Кровь на лезвии – это кровь вашего приятеля Фрэнки. А отпечатки на ручке – ваши отпечатки. Только ваши, ничьи другие.
– Что вы хотите сказать?
– Вывод напрашивается сам. Вы убили Франсуа Пеллетье. Вы. Никто другой.
– Но это же… Это же неправда. Это какая-то ошибка… Это… Я не убивала Фрэнки. Зачем мне было убивать Фрэнки?
– Вот вы мне все и расскажете.
– Я уже рассказала все, что знала…
– Правда облегчает душу, поверьте.
– Правда состоит в том, что я не убивала Фрэнки. Я совсем не знала его, мы познакомились накануне, убивать незнакомого человека, который не сделал мне ничего дурного – бессмысленно!
– И жестоко. Жестоко перерезать человеку горло опасной бритвой. Вы совершили жестокое преднамеренное убийство. И нет ни одного факта, свидетельствовавшего бы об обратном. Все очень серьезно, мадам.
– Я не совершала никакого убийства…
– Куда вы отправились после разговора с Исой Хаммади?
– К себе в отель.
– Вы появились там где-то без двадцати час?
– Вы ведь знаете это. Зачем спрашивать?
– Кого вы встретили в отеле?
– Фатиму, жену нашего повара Наби. Она дежурила у стойки. Вы ведь знаете, знаете это!.. Мы перебросились несколькими фразами. И я вернулась к себе в номер.
– Свидетельница показала, что у вас на лице была кровь.
– Маленькая капелька. И не на лице – под носом. У меня иногда идет носом кровь. Без всякого повода. Наверное, это связано с сосудами. Или с давлением. Маленькая капля. Я ее даже не почувствовала. Фатима сказала мне про кровь. Я попросила у нее зеркало и вытерла каплю. Это не заняло больше десяти секунд.
– А потом вы вернулись к себе в номер.
– Да.
– И сразу легли спать.
– Да. Ночное происшествие с Фрэнки выбило меня из колеи.
– Убийство Фрэнки?
– Ночное происшествие! Тогда я еще не знала, что он убит!
– И тем не менее следующим утром вы отправились прямиком к форту. Зачем? Вы часто бываете там по утрам? Утренняя прогулка для поддержания тонуса?
– Это произошло случайно. Случайно. Я шла к пирсу, там швартуется человек, у которого я всегда покупаю рыбу. Его зовут Ясин.
– Так вы отправились за рыбой?
– Ясина не было. В тот день он не приплыл. Но были другие. Хасан и Хаким, у них катер «Менара». Хасан сказал мне, что в городе, у старого форта, что-то произошло. Слухи распространяются быстро… Как правило.
– И вы решили посмотреть, что же произошло?
– Я не собиралась. Я собиралась пойти на пляж… Понаблюдать за серферами, за воздушными змеями… Я подумала, что Фрэнки тоже может быть на пляже…
– Франсуа Пеллетье занимался серфингом?
– Я видела его в костюме для серфинга. Наверное, он занимался серфингом. Я хотела, чтобы он объяснил мне, почему так неожиданно исчез накануне. Тогда я еще не знала, что он убит… Я не убивала его… Не убивала…
– Успокойтесь.
– А возле площади собралась целая толпа. Мне так и не удалось из нее выбраться, пришлось следовать за ней. Потом я увидела оцепление…
– И?
– И… все… Я развернулась и ушла. Ненавижу большие скопления людей, так что оставаться там дольше было невыносимо. Бессмысленно и невыносимо.
– И вы не видели труп ?
– Как я могла видеть труп, если место… преступления было оцеплено?
– А двое свидетелей имели возможность наблюдать, как вы стояли внутри оцепления.
– Я даже знаю кто. Жалкие французишки, любители боулинга.
"– Я попросил бы вас уважительнее относиться к моим коллегам-полицейским. Оскорбление представителей закона чревато неприятностями.
– Послушайте… Вы правда думаете, что эти неприятности сравнятся с теми, которые я уже имею? Меня обвиняют в убийстве, которого я не совершала…
– Для того чтобы проникнуть за оцепление, вы заплатили деньги одному из наших людей. В его отношении уже ведется служебное расследование. Сто дирхам за простое любопытство – не слишком ли много?
– Я не хотела давать никаких денег. Я хотела уйти…
– Так вы видели труп?
– Нет… Я не могла разглядеть труп… Я сразу же ушла… Мне стало плохо. Столько крови…
– Вы видели кровь и не видели тела?
– Ну зачем… Зачем мне нужно было возвращаться туда, если бы я действительно была… была убийцей? Зачем?
– Посмотреть на дело своих рук при свете дня. От этого трудно удержаться.
– Я не убивала Фрэнки!
– Но заплатили сто дирхам, чтобы взглянуть на убийство. Накануне вечером… В ресторане «Ла Скала» вы были в шелковом платье фисташкового цвета, так?
– Да.
– На платье тоже обнаружены следы крови. Два неправильной формы небольших пятна, у пояса и вот здесь. На фото они хорошо заметны. Взгляните, пожалуйста.
– И что?
– Вы бы не могли припомнить, как давно они появились?
– Вы шарили в номере…
– Как давно они появились?
– Они могли появиться когда угодно. У меня часто идет носом кровь. В тот вечер приключилась та же неприятность…
– Какой вечер вы имеет в виду?
– Не знаю…
– Вечер, проведенный с Франсуа Пеллетье, не так ли?
– Может быть.
– Значит, это ваша кровь на платье?
– Чья же еще?
– У вас ведь группа А, резус положительный?
– Да. Кажется.
У вас группа А, резус положительный. Пятнам на вашем платье соответствует другая группа. А именно – нулевая. Резус отрицательный. У Франсуа Пеллетье была нулевая группа крови.
– Можно еще сигарету?
– На вашем платье – кровь Франсуа Пеллетье. На бритве, которой ему перерезали горло, – ваши отпечатки. Скверные дела, мадам. Очень скверные.
– У вас не работает зажигалка…
– Вот перечень предметов, которые были обнаружены на теле: бумажник, ключ от седьмого номера отеля «Sous Le Ciel de Paris», двадцать пять дирхам мелкими монетами, самолетная бирка от ручной клади. А в номере Пеллетье, среди его личных вещей, тоже обнаружилось кое-что интересное. Книга «В мире китов и дельфинов». Странное совпадение, вы не находите?
– Совпадение?
– Совпадение, если учесть вашу нежную привязанность к дельфинам. Может быть, это ваша книга?
– Никогда о такой не слыхала. Что, стоит почитать?..
– Хотя бы из любви к дельфинам. Значит, не вы давали книгу Франсуа Пеллетье?
– Говорю же вам – нет.
– А вот это было вложено в книгу в качестве закладки. Конверт от фотобумаги «Кодак» с нарезкой из негативов. Как видите, конверт довольно потрепанный, негативов – 15, три полоски по пять штук. На трех негативах – виды города.
– Эс-Суэйры?
– Нет. Но думаю, вы поможете нам установить, какой именно город на них изображен. Потому что на остальных двенадцати присутствует только один человек. Вернее, девушка.
– Какая девушка?
– Вы, мадам.
– Я?!
– Мы сделали фотографии с негативов. Вот, взгляните.
– Я не понимаю… Откуда эти негативы взялись у вас?
– Меня интересует, откуда эти негативы взялись у Франсуа Пеллетье. Если, конечно, вы не виделись задолго до его приезда в Эс-Суэйру.
– До его приезда в Эс-Суэйру мы не виделись никогда.
– На каждом снимке проставлена дата. Справа внизу. Один день в сентябре. Один солнечный день, смотрите, как играет солнце на ваших волосах! И вы не выглядите несчастной и уж тем более брошенной…
– Зачем вы говорите мне все это?
– Вы. Вы сами не так давно признались, что ненавидите быть брошенной. Или нет?
– Это было сказано совсем по другому поводу.
– По поводу Франсуа Пеллетье?
– Это… это было сказано без всякого повода. И это мои негативы. Город, который здесь изображен, – Санкт-Петербург. В сентябре четыре… почти четыре года назад было много солнца…
– Вас фотографировал Франсуа Пеллетье?
– Нет! Конечно нет!
– Еще один близкий друг?
– Мне не хотелось бы обсуждать это с вами.
– Каким образом негативы попали к Пеллетье, если, по вашим словам, вы никогда не виделись с ним? И – если вы не виделись – зачем тогда они вообще ему понадобились?
– Не знаю. Чья-то дурацкая шутка. Мои фотографии и несколько конвертов с негативами хранятся в шкафу в моем номере. На верхней полке, в коробке из-под печенья. Жестяная коробка. Круглая, довольно вместительная, на крышке – два кота, играющих в карты… Да, их два. Кто-то мог зайти в номер, найти коробку и взять проклятый конверт.
– Франсуа Пеллетье?
– Я не знаю! Не знаю!.
– Это ваш конверт?
– Я не помню, в каком именно конверте хранились негативы. Но если содержимое конверта мое – значит, и конверт мой.
– На конверте нет ваших отпечатков, зато есть отпечатки Франсуа Пеллетье.
– В таком случае – конверт его.
– Вместе с содержимым?
– Я не знаю… Я устала…
– Зачем Франсуа Пеллетье влезать в номер совершенно незнакомой девушки и красть ее фотографии?
– Незачем. Совершенно незачем.
– А что, если мы рассмотрим ситуацию под другим углом? Франсуа не крал ваши негативы и не влезал к вам в номер. Это были его негативы. С пленки, которую он снял в сентябре четыре года назад.
– Четыре года назад я не знала никакого Франсуа Пеллетье. И три, и год назад. Я познакомилась с ним в августе!
– Но по странному совпадению четыре года назад Франсуа Пеллетье месяц провел в России, а именно в городе Петербурге. Догадываетесь, какой именно месяц?
– Я впервые увидела Фрэнки только сейчас.
– Его передвижения нетрудно было отследить по визе в паспорте. Там есть и российская. С проставленными в ней датами. Все очень просто.
– Я впервые увидела Фрэнки только сейчас. И не знаю, зачем Фрэнки понадобилось красть негативы.
– Не думаю, чтобы он крал негативы.
– Я его не убивала.
– Правда облегчает душу, поверьте.
– Вы это уже говорили. Я не убивала Фрэнки.
– Я оперирую только фактами. И я могу рассказать вам, как все произошло. Оставив в стороне обстоятельства личного характера. Только факты, мадам.
– Так как же все произошло?
– Вы ужинаете с Франсуа Пеллетье – вашим старым знакомым или вашим новым знакомым – не суть важно. Вы покидаете ресторан вдвоем и отправляетесь на смотровую площадку старого форта. Маленькое путешествие, в конце которого несчастного Фрэнки ждет смерть. Вы перерезали ему горло бритвой, мадам…
– И оставила ее на месте преступления, с отпечатками пальцев, которые легко идентифицировать. Убийца бы так не поступил.
– Хладнокровный убийца – да. Но вы ведь не хладнокровный убийца. Могу предположить, что, после того как дело было сделано, вы просто выронили бритву.
– Я не сумасшедшая. И будь я убийцей – я бы в первую очередь позаботилась о том, чтобы орудие преступления не попало в руки полиции.
– А вот избавиться от главной улики у вас как раз не получилось. Роковая случайность, она-то вас и погубила. Вы выронили бритву, но все же предприняли попытку ее найти.
– Вы говорите так, как будто при этом присутствовали.
– Я просто пытаюсь рассуждать логически. Спички, лежавшие у вас в сумочке. Вы воспользовались ими. Ведь на смотровой площадке царила темнота, и вы принялись жечь спички, чтобы найти то, что выпало из рук. То, что могло вас изобличить. Вы жгли их одну за другой, пока не использовали все. Пока сера на картонке не пришла в негодность. Я могу понять ваше состояние. Состояние молодой женщины, только что совершившей кровавое преступление. Одна, в темноте, в ситуации, вышедшей из-под контроля. Спички в руках ломаются, возможно даже не все из них удалось зажечь. Вы боитесь, что, несмотря на ночь и кромешную тьму, на площадке может кто-то появиться. Спички закончились, а цель так и не была достигнута. И вы снова оказались в полной тьме. Могу представить ваше отчаяние, мадам…
– С вашим воображением нужно писать детективные романы.
– Мое воображение… И здравый смысл… И – самое главное – факты… Они подсказывают мне, что все было так или почти так.
– За исключением одного: я не убивала Фрэнки. У меня не было повода убивать Фрэнки. У меня не было мотива!
– Возможно, со временем вы вспомните и мотив.
– Как я могу вспомнить то, чего не существует?
– Время – против вас. Факты – против вас. Свидетельские показания – против вас. Все… все указывает на то, что убийство совершили вы. Мне очень жаль, мадам, но, похоже, вам не выкарабкаться.
– Это неправда. Это не может быть правдой. Я не убивала Фрэнки…
– Подумайте о хорошем адвокате, мадам.
…Я упорно не желаю запоминать имя следователя.
Ничего личного.
В другой ситуации он бы понравился мне, даже наверняка – понравился. Араб средних лет (ему не больше сорока), с безупречным пробором в волосах, с безупречным французским – он без труда может позволить себе метафоры, он может позволить себе сравнения, он закидывает мяч в корзину с изяществом уличного баскетболиста (viva hip-hop basket!), каждую нашу встречу я проигрываю ему всухую. Он не кровожаден, представить его насаживающим на средневековый шест головы врагов невозможно. Он искренне не понимает, почему я отпираюсь: произошедшее очевидно, улики абсолютны, свидетельские показания не подлежат сомнению, подумайте о хорошем адвокате, мадам.
Почему я отпираюсь?
Он носит давно вышедший из моды костюм-тройку; прежде чем начать допрос, он аккуратно снимает пиджак и вешает его на спинку стула. Первые полчаса я изучаю верхнюю пуговицу на пиджаке, затем перехожу к двум другим: они выглядят крепко пришитыми, только рисунок петель на них разный, моему следователю претит однообразие. Отсюда и цвет рубашек, еще ни разу он не появлялся в одной и той же, сначала была белая, затем – голубая, затем – бледно-сиреневая. А однажды он пришел в джинсовой – когда всплыла история со спичками.
Спички почему-то страшно беспокоят меня.
Даже больше, чем отпечатки на бритве, больше, чем негативы с моим изображением, найденные в номере Фрэнки. Я думаю о них по ночам, когда стена камеры упирается в щеку и забивает рот пыльной каменной крошкой.
«Cannoe Rose» -
жалкий кусок картонки с названием кафе, внутренности кафе так и стоят у меня перед глазами: крошечная забегаловка на пять столов, дартс в левом углу, телевизор в правом, горшки с цветами на окнах, бумажные скатерти на столах – красные в белую полоску. Сама картонка тоже была красной, в телефонном номере, указанном на ней, – только тройки и семерки.
Никаких других цифр нет.
Каким образом спички оказались в моей сумочке? Кто бросил их туда, и главное – когда? Если уже после того, как я вернулась в отель, – не так обидно, пусть их. А если нет? Если в то время, когда я изнемогала от тьмы и рокота океана – они лежали между помадой и расческой с деревянной ручкой? И я могла бы ими воспользоваться и осветить себе путь, и поднять бритву, которой перерезала горло несчастного живчика Фрэнки…
Стоп.
Я не убивала Франсуа Пеллетье.
А если бы даже убила – то никогда бы не оставила орудие преступления рядом с трупом. Не такая я дура. Пусть и не хладнокровная убийца, – но я не дура. И могла бы справиться со спичками половчее, чем тот, кто выпотрошил картонку и стер полоску серы. Пустая картонка – почему она пуста? Смысла в пустой картонке не больше, чем в футболках с надписью «Рональде» и «Рональдиньо».
По полтора доллара за штуку.
Тот, кто оставил спички в моей сумочке, знал больше, чем я.
Я не уверена в том, что не убивала Франсуа Пеллетье.
Люди меняются с возрастом, люди меняются под грузом обстоятельств, а вместе с ними претерпевают изменения и их фобии; что, если моя полуобморочная ненависть к темноте, слепая невозможность справиться с ней, тоже подверглась корректировке? И вызвала острый психоз, в результате которого я ночью пришила Фрэнки бритвой, исчезнувшей днем.
И благополучно забыла об этом. А безупречный следователь-араб с безупречным пробором в волосах и безупречным французским просто пытается напомнить мне, что произошло на самом деле. Одно из двух: либо я не убивала Франсуа Пеллетье, либо я его убила.
Разница между этими двумя утверждениями невелика, это почти одно и то же утверждение – только рисунок петель разный, частица «не» – вот дополнительный стежок. Следователь – милый человек, совсем неглупый человек, я представляю его не иначе, как читающим романы Франсуазы Саган и слушающим песенки Sacha Distel в свободное от работы время. Страна его мечты – Франция, так же, как Голландия – страна мечты Фатимы.
А еще я представляю Фрэнки – таким, каким мельком увидела его утром после убийства: левое колено подогнуто, левая рука вытянута вперед, скрюченные пальцы тщетно пытаются ухватить пустоту перед собой.
«Я в полном дерьме», – сказал он кому-то по телефону прежде, чем умереть. Куда делся этот чертов телефон? Он мог бы свидетельствовать в мою пользу, хотя от подобных показаний нет никакого толку. Нажмешь кнопку с цифрой «один» – и выскочит официант из «Ла Скала» – со сдачей смены в половине двенадцатого, с парафразом на тему «Лучшее шампанское для моей любимой девушки», с парафразом на тему «Клиент был заметно расстроен, когда расплачивался».
Неужели Фрэнки сэкономил на чаевых?
Под цифрой «два» идет Иса Хаммади. Дядюшка Иса. Хренов специалист по фенхелю и кайенскому перцу с секундомером в руках. Дядюшка Иса, прикормивший меня пахлавой, усыпивший бдительность россказнями об автокатастрофах, о падении продаж пряностей в двадцатом округе Парижа; «марокканец всегда ждет гостей», как же! Гости с полицейскими удостоверениями оказались предпочтительнее. Дядюшка Иса – идеальный свидетель.
Незаинтересованное лицо.
К тому же он хорошо ориентируется во времени.
Кто там под номером «три»? Фатима?.. Жюль и Джим?
Оба присутствовали на первом допросе, по удовлетворенной физиономии Жюля было видно, что это он раскрутил дело и навел марокканских недотеп на след, что это он обнюхивал мое платье и рылся в моей сумочке, что это он, взвесив все обстоятельства, присоветовал снять с меня отпечатки пальцев (марокканские недотепы еще не скоро бы на это решились), что это он – великий Мегрэ, что это он – великий Коломбо из фильмов про Коломбо. Джим, как всегда, оставался бесстрастным. Жюль – другое дело. Жюль до сих пор помнит свой неудачный наскок на девицу из ресторана (и даже не столько его, сколько то, что я – я! – присутствовала при этом). Я стала нежелательной свидетельницей его поражения, а что происходит с нежелательными свидетелями – известно из фильмов про Коломбо.
Ненавижу боулинг.
В жизни не прикоснусь к шару, в жизни не взгляну на кегли, мой следователь-араб гораздо симпатичнее Жюля и Джима. Терпимее и добрее. Он сделал все, чтобы мой переход из категории свидетелей в категорию обвиняемых произошел плавно и – по возможности – безболезненно. Метафоры и сравнения этому способствовали. Мягкий, как пахлава, юмор – способствовал. Изяществу, с которым в его руках возникали заключения экспертиз, фотографии с места преступления и вещдоки разной степени важности, позавидовал бы любой иллюзионист.
Так почему я отпираюсь?
Я все еще не уверена, что это я убила Фрэнки.
Я все еще блуждаю в потемках на смотровой площадке старого форта, но надежда на то, что удастся нащупать стену и получить точку отсчета, становится все призрачнее. Если бы я видела контуры предметов, как любой нормальный человек! – но нет, контуры приходится угадывать, хуже того – домысливать. Кому помешало мое растительное существование в Эс-Суэйре? Кому понадобилось подставлять меня таким чудовищным образом? Кто так ненавидел меня?
Я прожила тридцать лет своей жизни вдали от ненависти – личность слишком незначительная, чтобы вызвать у кого-то столь сильное чувство.
«Оставь меня в покое, идиотка!» – сказал мне человек, которого я любила, но и это – не ненависть. Раздражение, злобное бессилие, желание поскорее избавиться от ненужной вещи (заснятой на сентябрьскую пленку, когда она еще была нужной) – не ненависть.
Искать корни произошедшего в чьей-то ненависти – занятие мало конструктивное. Путь, ведущий в тупик. Что-то подсказывает мне: мои отношения с истинным убийцей похожи на мои отношения с именем следователя-араба, которое я упорно не желаю запоминать.
Ничего личного.
Я просто оказалась в нужное время в нужном месте, я – самая подходящая кандидатура: иностранка в чужой стране, случайно возникшая на пути человека, которого нужно было убрать: на пути Фрэнки. Взрослая девочка, которая до сих пор способна потеряться в темноте, которая до сих пор абсолютно безоружна передней. Кто-то, неизвестный мне, все хорошо продумал и все рассчитал. И предусмотрел все возможные случайности. Наш поход к старому форту, например.
Но, черт возьми, мысль о форте возникла совершенно спонтанно! И была озвучена за несколько минут до того, как мы с Фрэнки покинули «Ла Скала»! Кто мог услышать ее в гуле вечернего ресторана, кто мог связать концы с концами, кто мог за несколько минут подготовить плацдарм для убийства? Простому человеку это не под силу.
Разве что Спасителю мира.
Пыльная каменная крошка, забивающаяся в рот, не имеет ничего общего с языком Алекса Гринблата, с губами Алекса Гринблата, я хорошо помню их привкус. Я хорошо помню и все остальное, что случилось между нами той ночью.
Когда «Франсуа Пеллетье, но можете звать меня Фрэнки» был уже мертв.
Память – вот что мешает мне заподозрить Спасителя мира хоть в чем-то. Память и здравый смысл. И то немногое, что я знаю. С одной стороны:
– Алекс, никто другой, обратил мое внимание на бритву, заставил меня вытащить ее и наследить на лезвии, асам к ней даже не прикоснулся;
– Алекс, никто другой, не явился на им самим же назначенное свидание, и мне пришлось довольствоваться Фрэнки;
– Алекс, никто другой, имел возможность проникнуть в мой номер, а следовательно, подбросить в сумочку спички «Cannoe Rose» и вытащить из коробки конверте негативами;
– Алекс, никто другой, отбыл из Эс-Суэйры так скоропалительно, что его отъезд можно считать бегством. Бегством с места преступления;
– Алекс, никто другой, приехал сюда со странным визитом. Поверить в то, что он явился сюда из-за экзальтированного письма экзальтированной дамочки о каких-то там досках для серфинга – верх легкомыслия. Апофеоз идиотизма;
– Ясин предупреждал меня об опасности контактов с Алексом, ни с кем другим.
С другой стороны:
– у Ясина дурной глаз, дурной глаз;
– Алекс не знал, что я отправлюсь в «Ла Скала» без него, я могла бы выбрать любой другой ресторанчик, любое другое кафе. А могла бы и вовсе остаться в номере;
– Алекс впервые в Эс-Суэйре, он не слишком хорошо осведомлен о ее географии, нужно знать город, чтобы не заблудиться в нем, чтобы добраться до форта. А если ты не ориентируешься в Медине – и фора во времени тебе не поможет. В полчаса, час – не говоря уже о десяти-пятнадцати минутах;
– в момент совершения убийства, а именно между половиной двенадцатого и полуночью, Алекс был в отеле, он звонил на ресэпшен Фатиме -
и это самый важный аргумент.
Против него не попрешь, Фатима не стала бы лгать мне, Фатима – незаинтересованное лицо. Остается только сожалеть, что визитка Алекса Гринблата, скорее всего, так и останется невостребованной. Мне не получить работы в его загадочной конторе.
Мне не выбраться.
Время, пространство, люди, вещи – все против меня. Мои собственные отпечатки вопиют о моей же виновности. Как могло произойти, что Фрэнки, здорового сильного парня, зарезали совсем рядом, в двух шагах, а я даже не почувствовала этого? Не заметила. Не услышала ни звука. Он не сопротивлялся? Он был застигнут врасплох?..
В этом есть что-то мистическое.
Как и в истории самой бритвы с монограммой «P.R.C.». когда-то найденной мной в седьмом номере. Том самом, в котором впоследствии поселился Фрэнки. Совершив круг во времени, Фрэнки и бритва наконец-то встретились. Может быть, судьба Фрэнки была предопределена в тот самый момент, когда бритвенный прибор остался лежать на раковине в ванной? По прошествии полутора лет мне уже не вспомнить того, кто занимал номер семь.
Уж точно не гастарбайтер.
И не китаец (великий шелковый путь всегда проходил вдали от «Sous Le Ciel de Paris»), и не серфер с подружкой, и не подружка, отлепившаяся от серфера и проводящая отпуск в созерцании волн и воздушных змеев. Хотя женщину тоже не стоит сбрасывать со счетов, накануне убийства я сама затарилась станком с двумя лезвиями, чтобы побрить ноги. Конечно, брить ноги опасной бритвой – вещь экстремальная, но… Эс-Суэйра – город экстремалов, а что, если подсказку следует искать в монограмме? Дохлый номер, вариантов ее расшифровки слишком много, а потому – не существует вовсе.
Я в полном дерьме. «Estoy en la mierda».
В отличие от вовремя уехавшего Алекса, в отличие от Жюля и Джима, в отличие от моего араба-следователя. У него хотя бы существует стройная картина происшествия, причина и следствие движутся в нужном русле, никуда не отклоняясь, свидетели расставлены по местам, хронометр не вступает в противоречие с рулеткой, сантиметры отражаются в секундах, метры – в минутах; вопрос мотива – вот что его волнует. Но мотив может быть любым – он имеет дело с иностранкой, ведущей растительную жизнь в чужой стране. Ее прошлое (в ее стране) – скрыто от глаз, а оно может быть любым, даже самым невероятным. Так почему бы не предположить, что мы с Фрэнки были знакомы много лет назад; мы были знакомы, а это уже повод для убийства. Мы повздорили на почве выяснения отношений – а это уже повод для убийства. Я хорошо ориентируюсь в пространстве города и форта – а это уже повод для убийства. Я существую, а это уже повод для убийства.
И мне не за что ухватиться, не на что опереться.
Разве – на стену в камере, днем она отдаляется на положенное ей расстояние в десять шагов и становится просто стеной. Чтобы хоть чем-то занять себя и на какое-то время отвлечься от дурных мыслей, я черенком ложки выцарапываю на ней что-то вроде кроссворда, или скорее сканворда:
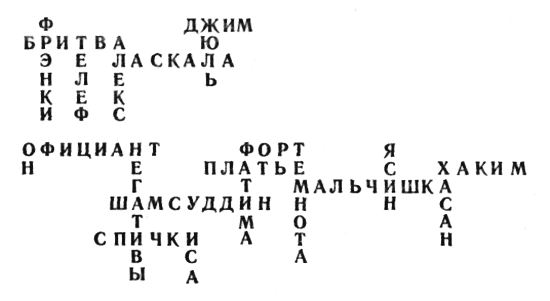
Не все в этом кроссворде (сканворде) меня устраивает, иногда он дает ложные ключи, а иногда – и вовсе никаких. То, что Фрэнки лепится к бритве, – вполне понятно. То, что Жюль и Джим лепятся друг к другу (так же, как и Хасан и Хаким), – вполне понятно. Негативы и спички размещены рядом, что не противоречит истине, старый форт находится там, где ему и положено находиться – в темноте. Но объединять форт с Фатимой, а предателя-дядюшку со спичками – верх глупости. Шамсуддин тоже не имеет никакого отношения к негативам. Таких логических провалов не так уж мало, они заслоняют общую картину, которая, несомненно, имеется.
В голове у настоящего убийцы.
Все бы волшебным образом преобразилось, если бы имела место сноска под звездочкой, вот так:
– выпишите из слов буквы с порядковыми номерами и узнайте зашифрованное слово.
Зашифрованное слово – имя убийцы, но порядковые номера не проставлены, так что комбинация букв может быть любой. Вариантов ее расшифровки слишком много, а потому – не существует вовсе.
В кроссворде (сканворде) есть и другие предметы, не такие значимые, после каждого допроса их появляется все больше. Я сношу на стену все, что удается узнать у следователя; все, о чем он упомянул хотя бы вскользь. Это лишь вносит путаницу, количество слов по горизонтали и вертикали увеличивается, их странные сочетания вызывают у меня улыбку (я еще не разучилась улыбаться, надо же!) и сожаление о том, что я не великий Мегрэ.
И не великий Коломбо из фильмов про Коломбо
Насколько хватит стены?
И закончится ли она раньше, чем меня окончательно признают виновной в убийстве Франсуа Пеллетье?
***
…Время свидания – пятнадцать минут Неоправданно много для трусишки Доминика, моего друга Доминика Флейту.
Я уже почти забыла о его существовании. Доминик остался в прошлой жизни. Там, где по вечерам читают газету «Фигаро» на открытой террасе и (между переменами блюд) сожалеют о невинных жертвах очередного террористического акта. Террор, терраса – слова, которые начинаются одинаково, начинаются за здравие, а кончаются за упокой, я стала большим специалистом по словам.
Большим, большим специалистом.
Где-то совсем рядом – бело-синяя Эс-Суэйра, волны, ветер, воздушные змеи, футбол в свете прожекторов (я до сих пор не внесла в кроссворд слова «футбол» и «серфинг»), но Доминик – не олицетворение Эс-Суэйры. И никогда не был ее олицетворением – даже в лучшие времена. Даже во времена, когда я была свободной и не знала ни о существовании Алекса Гринблата, ни о существовании бедолаги Фрэнки.
За то недолгое время, что мы не виделись, толстяк осунулся и заметно похудел. Но не стал от этого лучше, совсем напротив: дряблая кожа складками висит на щеках (складки не в состоянии скрыть даже отросшая щетина), рот выгнулся подковой, глаза впали. Доминик явился на свидание в своей излюбленной гавайской рубахе две пуговицы оторваны и слава богу, что догадался не напяливать бейсболку.
От Доминика прет козлом гораздо больше, чем когда-либо.
– Ну у тебя и видок! – говорю я вместо приветствия.
Доминик пытается улыбнуться – ничего хорошего из этого не выходит. Нижние концы подковы лишь слегка разошлись и снова встали на место, складки на щеках дрогнули, глаза увлажнились. Неужели он сейчас расплачется?
– Не нужно, Доминик. Пожалуйста.
– Как ты, Сашá?
– Меня обвиняют в убийстве, разве ты не знаешь? А в остальном – все в порядке. Лучше расскажи мне про себя. Как отель?
– Отель? Что может случиться с отелем?
– Кондиционеры работают?
– Кондиционеры? А, да…
Доминик вынимает из кармана огромный и не слишком чистый носовой платок. Только бы не стал прикладывать его к глазам! – я сама готова расплакаться. Нет, все обошлось, платок понадобился для того, чтобы промокнуть вспотевшие лоб и шею.
– Много народу приехало?
– Нет. Никто пока не приехал.
– Фатиме, наверное, тяжело, бедняжке. Сразу столько работы на нее навалилось.
– Она не жалуется. Когда ты вернешься…
– Вряд ли я вернусь, Доминик. Вряд ли это случится скоро.
Черт возьми! Я не собиралась обсуждать с впечатлительным толстяком свое положение, неожиданный визит с самого начала тяготил меня, что нового может сказать Доминик чем он может меня поддержать?
Доминик переживает. Страдает. Выглядит беспомощным. как младенец, только что оторванный от груди. Немудрено – многое, очень многое в отеле делалось под моим присмотром, старенький автобус тоже висел на моей шее, и поездки в аэропорт за туристами, и поездки на рынок за продуктами, и пожарная безопасность.
– Не говори так, Сашá!..
– Мы оба это знаем.
Доминик знает даже больше, чем знаю я. Уж слишком похоронная у него физиономия. С такой физиономией провожают в последний путь любимую собаку породы золотистый ретривер. Или выслушивают от врача дежурное: «Вашей жене (теще, свояченице) осталось не больше двух недель, говорю вам это, как близкому родственнику. Все, что мы можем, – облегчить ее страдания обезболивающими средствами Но шансов никаких. Никаких».
– У меня нет шансов выбраться отсюда? – Я надеюсь на чудо. Надеюсь на то, что Доминик знает ответ, который бы меня устроил. Просто потому, что надеяться больше не на что. Никто не придет и не спасет меня, в самый ответственный момент бог из машины не появится.
– Еще ничего не известно, Сашá. Недоразумение может разрешиться в любой момент. Я говорил, я объяснял… Я думал и сейчас думаю… что обвинение несправедливо.
«Недоразумение» – Доминик имеет в виду убийство. Есть еще один, не менее обтекаемый вариант: неприятности с Фрэнки. Лучше не озвучивать то, что может вызвать в памяти огромную лужу крови под черной рубашкой Франсуа Пеллетье.
– Спасибо, Доминик.
– Я верю, что ты невиновна.
– Спасибо, Доминик.
– Я сделаю все, чтобы это доказать.
– Спасибо, Доминик.
– Я… Я обязательно что-нибудь придумаю…
Придумки Доминика, ха-ха. Что может придумать трусливый жирдяй, даже сейчас нервно косящий на наблюдающего за нашим свиданием полицейского. Поджечь участок? Взорвать камеру? Вызволить меня силой?..
– Для начала пришей пуговицы на рубашке. Или попроси, чтобы Фатима пришила их.
– О чем ты? – Доминик растерянно хлопает ресницами, почему раньше я не замечала, что у него такие длинные ресницы?
Коровьи. Нет – воловьи.
– О чем? О твоей рубашке. Как там близнецы? Джамиль и Джамаль?
– Джамиль разбил нос, а Джамаль разбил локоть.
– А Наби?
– У Наби вскрылся фурункул на правой руке.
– Кто же теперь готовит?
– Это не мешает ему готовить. Я купил четыре новых доски для серфинга.
– Ты снова будешь рисовать?
– Не знаю… Подожду, пока ты вернешься. И мы вместе решим…
– Вряд ли это случится скоро. Я не слишком тебя подвела?
– Подвела? Почему ты должна была меня подвести?
– Ты давал приют женщине, незаконно находящейся на территории Королевства Марокко. Это могло обернуться для тебя неприятностями.
– Пустяки.
– Я сказала, что ты ничего не знал. Можешь сказать то же самое.
– Пустяки, Сашá. Все в порядке. Не стоит переживать.
– Хорошо… Там, в шкафу, в жестяной коробке, мои фотографии. Пусть они побудут у тебя. И машинка. Portative. И сумка с вещами, их не так много. И…
Голос мой срывается. Пятнадцать минут – слишком маленький срок. Пятнадцать минут – ничто по сравнению с тремя годами, которые я провела рядом с Домиником. И за все три года я не нашла для него ни одного теплого – по-настоящему теплого – слова. А ведь я нежно привязана к Доминику. Так какого же черта?..
– Пять минут! – гортанный голос охранника неумолим. Для пущей убедительности он показывает растопыренную пятерню. – У вас осталось пять минут.
…так какого же черта?! Доминик – единственное, что у меня есть.
Жирдяй. Трусишка, на дух не переносящий исламских фундаменталистов, русской мафии, глобального потепления, поломок кондиционера, приливов, отливов, электромагнитных излучений от мобильников и микроволновок. Гипотетическая жертва лифта-убийцы и вора-карманника. Художник, которому не хватило смелости стать знаменитым. Владелец отеля, которому не хватило упорства прибавить к двум гостиничным звездам хотя бы еще одну. Романтик, лысеющий со лба. Потный, неуклюжий, вечно небритый, не внесенный в кроссворд Доминик -
единственное, что у меня есть.
В целом мире.
– Я не совершала убийства, Доминик.
– Я знаю.
– Ты веришь мне?
– Я верю.
– Меня просто подставили… Я не выживу здесь, Доминик.
– Я… Я вытащу тебя отсюда. Чего бы мне это ни стоило. Обещаю. Ты веришь мне?
– Я верю.
Скулы Доминика обостряются – или я просто перестала замечать складки кожи на щеках? И оторванные пуговицы на рубашке, и скрытый щетиной второй подбородок.
– Я очень люблю тебя, Сашá. И я тебя не оставлю.
– Ты знаешь Ясина? Парня, который торгует рыбой на пристани, рядом с рыбным рынком?
– Нет.
– Черт…
– Я найду его. Не думаю, что это сложно. Что должен сделать я? Что должен сделать он?..
Я и сама не знаю, что должен сделать Ясин. Мысль о Ясине посещала меня и раньше, но ни во что не оформлялась. Разве что в надпись на стене: буквы, из которых сложено его имя, примыкают к буквам, из которых сложены имена Хакима и Хасана. В моем кроссворде Ясин выглядит инородным телом – только теперь, когда до окончания свидания остались считанные минуты и нервы мои напряжены до предела, – только теперь я начинаю понимать почему.
Вещи и люди, которыми забита стена в моей камере, – безусловны, одномерны, процарапаны одной линией. Даже покойный Фрэнки. Даже Алекс Гринблат, Спаситель мира и знаменитый галерист. Ясин – другое дело. Ясин оперирует символами, которые сам же и создает при помощи рыб, вытащенных из океана. Его дурной глаз видит не то, что лежит на поверхности, а то, что скрыто внутри: в толще воды, в глубине рыбьего брюха. Ни одна вещь, которую я приняла из его рук, не была случайной. Ни бусина (темная, с зеленоватыми прожилками, так похожая по цвету на чертовски красивые глаза Алекса), ни ключ, открывший мне дверь к ночи со Спасителем мира, ни курительная трубка – до нее дело еще не дошло, но когда-нибудь придет и ее час.
Ясин вбивает колышки, а точнее – расставляет вехи.
Следуя за ними, переходя от одной к другой, можно резко изменить траекторию собственной жизни. Так было всегда, может, и на этот раз сработает?..
– Купи у него рыбу.
– Какую? – Доминик растерян.
– Любую. Выбери сам. И скажи, что это для меня. Для мадам, о которой ему приснился сон. С кошками, змеями и сломанными стрелами.
– Он должен вспомнить?
– Он вспомнит.
– А потом?
– Потом попроси его, чтобы он выпотрошил рыбу. Вспорол ей живот.
– А потом?
– Потом возьми то, что он достанет из рыбьего живота.
– Что он должен достать?
– Не знаю. Но чертовски хочу узнать.
– Я должен передать то, что он достанет из рыбьего живота, тебе?
– Хотелось бы… Трудно было получить свидание?
– Не стоит думать об этом, Сашá. Я сделаю все, как ты сказала.
– Очень хочется курить.
– Разве ты куришь? – От удивления Доминик трясет подбородком.
– Как оказалось. Вот если бы ты достал мне сигарет! Хотя бы пачку.
– Я достану сигареты. Какие именно?
– Любые. Желательно с фильтром.
– С фильтром. Я понял.
– Я надеюсь еще увидеть тебя, Доминик. Но если ничего не получится…
– Получится, обязательно получится!..
– Если не получится – я все равно благодарна тебе. Ты – единственное, что у меня есть…
…Медная монета диаметром около двух с половиной сантиметров. Квадратное отверстие посередине, стилизованное изображение лошади, больше похожее на наскальный рисунок. Два крупных развесистых иероглифа сверху и снизу – они идут по крупу лошади и по ее животу. На обратной стороне – четыре иероглифа попроще, сориентированные на стороны света. Монета довольно тяжела, в некоторых местах медь покрывает зеленый налет.
Монета до сих пор пахнет рыбой, и это совсем не то, что я ожидала увидеть.
Совсем не то.
Ее передает мне тот самый полицейский, который присутствовал на нашем с Домиником свидании. Передает тайком, во время раздачи обеда, состоящего из сухой лепешки и плошки с супом, или, вернее, мясным бульоном отвратительного серого цвета. Мой бизнес-ланч, то-то бы повеселился Алекс Гринблат, интересно, вспоминает ли он о моем существовании хоть изредка? Я слабо верю в это, да и сам Алекс отдалился, чертовски красивые глаза – не более чем фигура речи, даже воспоминанием их не назовешь. Теперь, когда мой мир сосредоточился на стене камеры, все люди воспринимаются не так, как раньше. Они и правда кажутся процарапанными одной линией, они состоят не из плоти и крови – из осыпающейся каменной крошки. Фантомы, стилизованные изображения. Наскальные рисунки, по технике ничем не отличающиеся от рисунка лошади на монете. В этом новом взгляде есть и свои преимущества: со стилизованным Алексом нельзя переспать, стилизованного Жюля нельзя уличить в банальной лжи, стилизованные спички нельзя зажечь, стилизованные негативы нельзя проявить, стилизованная кровь никого не может испугать, ее потеря никогда не приведет к смерти, сама смерть – тоже фантом.
Наскальный рисунок.
Все это погружает меня в состояние транса.
Я выхожу из него все реже, лишь в тех случаях, когда какое-то слово из кроссворда на стене привлекает мое внимание больше, чем обычно.
Спички – почему картонка, найденная в моей сумке, оказалась пустой? Для следователя картина ясна, я жгла спички, чтобы найти орудие преступления, оттого ни одной и не осталось. Оттого и полоска серы оказалась стертой. Но каким образом все обстояло на самом деле? Каким образом спички попали в мою сумочку? Кто бросил их туда? И для чего? Чтобы избавиться от ненужного хлама? – но спички можно было просто выкинуть. Чтобы передать какую-то информацию? – идея еще более нелепая, картонка с названием кафе – не кассета и не дискета, и не электронный чип. А если бы электронный чип был спрятан в картонке – его давно бы обнаружили.
Негативы – почему они всплыли в номере Фрэнки? Для следователя картина ясна, негативы с моим изображением Фрэнки бережно хранил с того солнечного сентября в Санкт-Петербурге. Но каким образом все обстояло на самом деле?
Я никогда не вынимала негативы из конверта, как и все другие негативы из других конвертов, никто ими не интересуется, если уже есть готовые фотографии. На них нет моих отпечатков, а есть только отпечатки Фрэнки – и то на конверте. А раз нет моих отпечатков, значит – вещь принадлежит не мне. Если же отпечатки есть – происходит то же, что произошло с бритвой. Она – моя, и содеянное ею – это содеянное мной.
Монета, переданная полицейским, завернута в крохотный обрывок бумажки и спрятана в пачке «Lucky Strike». На что-то более утонченное у Доминика не хватило воображения.
Внутри бумажки я нахожу две строки, написанные Домиником.
thon16
tout се que tu voudras17
Отчет о проделанной работе.
«Тунец» – снова тунец, выбор Доминика пал на тунца, даже здесь он не оригинален, а просто повторяет то, что сделали до него другие, милый, милый Доминик!.. Посмотреть бы на встречу у причала рядом с рыбным рынком: толстяк жмется на берегу, не решаясь сойти в лодку, близость воды пугает его, как и близость всего остального. Сколько же страхов пришлось тебе преодолеть, трусишка Доминик! – и все ради меня. «Все, что захочешь» – это ли не признание? Доминик сделает для меня все, жаль, что его возможности сильно ограничены.
Что тогда говорить обо мне?
Записка Доминика заставила меня улыбнуться – и это единственный положительный момент. Все остальное по-прежнему безнадежно, скрыто во мраке. Монета с квадратной дыркой посередине – совсем не то, что я ожидала увидеть. К тому же я не знаю китайского. А если бы знала? Тогда иероглифы, ориентированные по сторонам света, не были бы для меня загадкой. Они сообщили бы мне что-то нужное. Полезное.
Инструкция по выходу из сложной ситуации.
Выхода нет – и иероглифы здесь ни при чем. Замкнутое пространство камеры медленно убивает меня. В какой-то момент я даже начинаю завидовать Фрэнки. Фрэнки-счастливчику, совсем не бедолаге – его смерть была мгновенной и не лишенной эпичности. Овеянная океанским бризом, заботливо укрытая библейской тьмой, зачарованная рокотом волн. Меня ждет совсем другая участь – я заживо сгнию в душной камере, и никто и не вспомнит обо мне, кроме Доминика. Кому в Марокко нужна странная русская?.. Превращение в charmante petite vieille пойдет ускоренными темпами, но стать очаровательной маленькой старушкой мне не суждено. Старухой – да. Старухой с пергаментными щеками. С легкими, изъеденными каменной пылью. Со впалым ртом и ненадежными шатающимися зубами. С дыханием, наполненным смрадом прокисшего мясного бульона. Бр-р…
Пора бы начать давать признательные показания.
Я убила Франсуа Пеллетье.
Стоит произнести эти четыре слова – и все изменится. Весь мой день будет расписан по минутам. Я смогу выехать на место преступления в порядке следственного эксперимента. Пройти от «Ла Скала» к форту, подняться по лестнице, побродить по смотровой площадке, взглянуть на океан, на волны, на облака. Ключ к этому великолепию состоит из четырех слов: «Я убила Франсуа Пеллетье». Я повторяю на все лады:
убила, убила, убила.
Отныне это слово вспыхивает в моем сознании бенгальским огнем; убила – р-раз, убила – два, убила – три! разноцветные шары сияют на елке моего грядущего признания, ничего прекраснее их нет. Огромные, покрытые белой глазурью, украшенные блестками и снежинками, – они мелодично постукивают, наблюдать за елкой, сверкающей шарами и бенгальским огнем, из угла моей камеры – сущее удовольствие. Еще приятнее мечтать о Рождестве, которое наступит сразу же после того, как вина будет признана. Список подарков, которые я жажду заполучить, составлен заранее:
– сигареты (любые, кроме «Lucky Strike»);
– долгий проход по улице, желательно – ранним вечером, когда краски особенно ярки, а предметы – особенно выпуклы. А еще можно завернуть на площадь и купить у открыточного вора несколько открыток, и купить сладкие орехи, и выпить кофе;
– долгое восхождение по лестнице (чтобы отвыкшие от нагрузок ноги пришли в себя и я почувствовала бы тяжесть в мышцах);
– долгая прогулка по смотровой площадке, желательно – при ветре, дующем с океана;
– хороший обед, а не та баланда, которой меня потчуют каждый день.
В признании вины есть свои – и совсем немаленькие – преимущества.
И мне больше не потребуется вносить новые бессмысленные слова в свой бессмысленный кроссворд.
Решено.
Я признаюсь сразу же, как только меня вызовут на очередной допрос. И мне даже не придется ломать голову над тем, каким мотивом я руководствовалась, перерезая бритвой горло Франсуа Пеллетье. Миляга-следователь все давно придумал за меня и даже смоделировал мое возможное прошлое, которое, как известно, может быть (может стать) каким угодно. И в нем найдется место сентябрю четырехлетней давности в компании с Фрэнки. Я не прочь записаться в любимые девушки Фрэнки или в брошенные девушки Фрэнки – что суть одно и то же, тем более что у меня есть печальный опыт превращения I'amour в le merde. Чувства к человеку, которого я любила (не Фрэнки), в какой-то момент поменяли знак; ничего, кроме иссушающей ненависти, я не испытывала. Вспышка длилась недолго, но я хорошо запомнила, как мне хотелось, чтобы Его не стало. Чтобы Он перестал существовать, тогда бы и мои мучения перестали существовать тоже. Я не думала об убийстве, нет. Но что произошло бы, окажись у меня в руках бритва?..
Он составил бы компанию Франсуа Пеллетье.
Я – не психопатка, я просто ни в чем не уверена. И я просто хочу вырваться из тюремной камеры – хотя бы ненадолго.
Особенно сейчас. Ночью. Когда стена мешает мне дышать. И я по-прежнему ничего – ничего! – не вижу в темноте. Может быть, поэтому маленький прямоугольник света, возникший там, где находится дверь, кажется мне ослепительно ярким. Померцав, он сразу же исчезает, после чего я слышу лязг открываемой двери.
Дурной знак.
Еще никогда ко мне не приходили ночью, следовательно – это дурной знак.
Я не вижу человека, стоящего в проеме, только его силуэт. Как будто вырезанный из плотного картона. Картонная рука поднимается и манит меня. Что бы это могло значить, черт возьми?.. Я все еще раздумываю, а рука становится нетерпеливее.
Нужно подойти – правильно ли я поняла?
Я все поняла правильно, это тот самый полицейский, который присутствовал на нашем с Домиником свидании, а потом передал мне сигаретную пачку с монетой. В нем нет ничего от щеголя-Шамсуддина, проходившего стажировку во Франции, и ничего от миляги-следователя, любителя метафор, сравнений и романов Франсуазы Саган. Он скорее бербер. С темной, почти черной кожей, с простоватым лицом, на котором застыло выражение испуга.
Беребер-полицейский прикладывает палец к губам, неужели мы – заговорщики?
Я киваю в ответ.
Тихо и быстро. Быстро и тихо.
Он почти бежит по узкому недлинному коридору, я едва поспеваю за ним. Остановившись у железной двери (прежде чем взяться за ее ручку), он снова оборачивается ко мне и снова прикладывает палец к губам. По лицу полицейского струится пот – бедняга!..
Все последующее происходит почти молниеносно, за дверью оказывается маленький предбанник и еще одна дверь – гораздо менее внушительная. И она снова ведет в коридор – он намного шире предыдущего, со стеклянной стеной в конце. Я проходила мимо нее неоднократно, там находится пост: восьмиметровая комнатка с пультом, несколькими мониторами и телефонным аппаратом времен войны за независимость 1926 года. Гул голосов идет из комнаты, так сразу и не определишь, сколько же человек разговаривает; только спустя несколько мгновений я понимаю, что эффект создается благодаря работающему телевизору.
До стеклянной стены мы не доходим.
Мой провожатый сворачивает налево, и мы снова попадаем в очередной коридор – третий по счету. В моем обычном маршруте он не предусмотрен.
– Сейчас вы выйдете во двор, мадам. – Голос полицейского подобен шелесту, так тихо он звучит. – Держитесь стены и все время оставайтесь в тени. Это будет несложно. Рядом с воротами – грузовик, он перекрывает обзор. Откроете калитку в воротах. Вот ключ.
В мои руки соскальзывает ключ, не такой многообещающий, как ключ, который извлек из рыбы Ясин, но намного более важный.
Это ключ к спасению.
– За воротами вас будут ждать.
– Спасибо!
Полицейскому не до благодарностей, он резко разворачивается, в три прыжка преодолевает десятиметровое пространство и скрывается за углом.
Я остаюсь одна – с ключом в потных руках, с бешено колотящимся сердцем; поверить в то, что сейчас, сию минуту, я совершаю побег, – невозможно.
Дверь легко поддается и открывается без скрипа. Выйдя за порог, я проваливаюсь в черноту ночи, впрочем, не совсем черноту – небольшой двор слабо освещен фонарем. В его свете можно разглядеть груду каких-то ящиков и вкопанную в землю цистерну. Есть еще несколько велосипедов и два мопеда – они прислонены к стене здания, из которого я только что вырвалась. Есть еще легковушки (одна из них – новенький «Пежо» – явно не с местными номерами). Остальные на фоне «Пежо» выглядят откровенной рухлядью, раздолбанная колымага с мигалкой наверху и надписью «GENDARMERIE» – не исключение. Грузовик с брезентовым кузовом я замечаю чуть позже. Он – моя единственная цель, за ним (если верить полицейскому, вызволившему меня) находятся ворота, за которыми меня ждут. Не важно – кто. Важно, что человек, ждущий меня, желает мне добра. Что он наверняка заплатил берберу, и – наверняка – это были немаленькие деньги.
Я почти спасена. Почти.
Ш-Ш-Ш…Ш-Ш-Ш… – это всего лишь шелестящая на легком ветру листва пальм и олеандров; шепот, шелест, шуршание поднимаются вверх, к звездам, они предостерегают меня: будь осторожной, Сашá. Будь бесшумной. Держись стены, оставайся в тени.
На переднем пассажирском сиденье «Пежо» валяется книжка комиксов. Арабское название ни о чем мне не говорит, картинка куда красноречивее: красно-синий героический силуэт Сорвиголовы, такого же монументального и вездесущего, как Спаситель мира Алекс Гринблат. Такого же слепого, как я сама. При удачно сложившихся обстоятельствах Сорвиголова мог быть нашим с Алексом отпрыском.
Ха-ха.
Я бесшумна и все еще остаюсь в тени. Вот и грузовик.
Стоя в узком проходе, я нащупываю ручку в запертой калитке, а затем – и замочную скважину; главное – не выронить ключ. Все в порядке, ключ вставлен и повернут на два оборота. И снова калитка открывается без всякого скрипа – неужели кто-то позаботился о том, чтобы смазать петли? Мысль о предусмотрительно смазанных петлях занимает меня не дольше секунды, вот она – свобода!
Еще никогда ночь не была такой прекрасной.
Еще никогда слепые стены домов не казались мне полными такой тайны. Звуки (приглушенные), запахи (едва уловимые) почти сбивают меня с ног. Жизнь, не ограниченная стенами, – потрясающая штука, чего мне ждать? Белого жеребца – гарцующего, фыркающего, прядущего ушами: на нем должен явиться мой спаситель, медная монета с квадратной дыркой посередине усиленно намекала на это.
Но вместо жеребца я вижу темную тень машины, стоящей метрах в ста от ворот. Фары автомобиля вспыхивают и тут же гаснут, это повторяется несколько раз. «За воротами вас будут ждать» – все случилось именно так, как и предсказывал пугливый берберский ангел.
Что было сил я несусь к машине, рву на себя пассажирскую дверцу (и без того предусмотрительно приоткрытую), плюхаюсь на сиденье и только тогда поворачиваю голову влево, в сторону водителя.
Доминик.
Милый, милый Доминик – единственное, что у меня есть.
Я не в состоянии ни говорить, ни молчать, ни хоть как-то проявить обуревающие меня чувства. Доминик поворачивает ключ зажигания и осторожно трогается с места, хорошо, что улица здесь достаточно широка.
– Не знала, что ты умеешь водить машину, Доминик.
– Я и сам в себе сомневался.
– Куда мы едем?
– В одно место.
Доминик не смотрит на меня, он сосредоточен на дороге, неуверенная манера езды выдает в нем дилетанта. Я даже не уверена, есть ли у него права.
– Не в отель?
– Нет. Тебе нельзя там появляться
– Прости, я сморозила глупость. Так куда мы едем?
– За город. Это недалеко. Километрах в двадцати отсюда.
– Если хочешь – я сяду за руль.
– Ничего. Сейчас на дороге немного машин. Я поведу сам.
Мы движемся в сторону, противоположную центру: подобие улиц сохраняется, но, в отличие от узких проходов в Старом городе, эти скорее напоминают проспекты – широкие и безлюдные. К ним примыкают трех– и четырехэтажные коробки муниципальных домов, затем их сменяют глухие, увитые растительностью заборы богатых загородных вилл.
Дорога, ведущая в аэропорт. Я ездила по ней неоднократно.
Машину бросает из стороны в сторону – все-таки Доминик неважный водитель.
– Спасибо, что выполнил мою просьбу, – глядя прямо перед собой, говорю я.
– Туе ке тювудра, – откликается Доминик после недолгой паузы. – Все, что захочешь, Сашá. Эта вещь… Монета… То, что было тебе необходимо?
– Мне необходимо было вырваться оттуда. Так и произошло. И монета здесь ни при чем.
– Он большой мастер, этот твой друг-рыбак.
– Большой мастер – ты, Доминик! Наверное, было страшно трудно все провернуть.
– Еще труднее было думать, что ты там совершенно одна. Без поддержки, без дружеского участия… Эта мысль убивала меня.
Теперь, совершив для меня то, что не совершил бы никто другой, Доминик предпочитает говорить о дружеском участии. Не о любви, не о кольце для лучшей в мире девушки, которое так и не было подарено. Или, лучше сказать, – подарено, но отвергнуто. Я слишком опустошена, чтобы оценить благородство Доминика.
– Что будет теперь, Доминик?
– Тебе нужно на время исчезнуть.
– В том месте, о котором ты говорил?
– Нет. Не думаю, что оно так уж безопасно. Но два-три дня в запасе у нас есть.
– А потом?
– Потом? Все будет зависеть от одного человека.
Туманная речь Доминика, как ни странно, успокаивает, убаюкивает меня. Еще никогда я не чувствовала себя такой защищенной, как теперь, сидя в салоне двигающегося рывками автомобиля, рядом с неуклюжим, нелепым толстяком Домиником.
– Тебе не стоит волноваться, Сашá. Или лучше скажем так: время волноваться еще не пришло.
– Как тебе удалось вытащить меня? Ты все-таки не ответил мне – это было трудно, да?
– Это было легче, чем я думал. И слава богу, что ты сидела всего лишь в камере предварительного заключения. А вытащить тебя из настоящей тюрьмы было бы намного сложнее.
Настоящая тюрьма находится на острове неподалеку от Эс-Суэйры, по слухам, за все время ее существования не было совершено ни одного побега – неизвестно только, зарезервированы ли там места для женщин-преступниц.
– A y кого ты одолжил машину?
– У автомеханика. Того парня, который ремонтирует наш автобус.
– Я приехала сюда, чтобы избавиться от одного человека. – Непонятно, почему я говорю это Доминику только сейчас, за три года я могла бы найти более подходящий случай. – Избавиться от любви к нему.
– И как? Удалось?
– Да. Не сразу, но удалось. Ты никогда не спрашивал меня о жизни в России.
– Я спрашивал тебя о жизни в России. Ты просто забыла.
– Ты не понял. Ты никогда не спрашивал о моей жизни в России.
– Я думал – если ты захочешь, ты сама мне все расскажешь.
– Я использовала Эс-Суэйру и использовала тебя.
– Ну и на здоровье.
– Я умею не только чинить кондиционеры и водить автобус…
– Никогда не сомневался, что твой потенциал намного больше.
– У себя, в России, я закончила институт. Не самый престижный. Я филолог, преподаватель русского как иностранного, базовый язык – французский. Но я ни дня не работала по специальности. А одно время вообще торговала кофточками на рынке.
– У вас странный подход к образованию.
– Россия вообще странная страна. И прекрасная. Такая же прекрасная, как и Марокко, как и Эс-Суэйра. И я бы никогда оттуда не уехала, если бы…
– Если бы не тот человек. Я понял, Сашá.
– Я никого не убивала. Ты веришь мне, Доминик?
– Я верю, верю тебе… Но даже если бы это было не так…
– Я никого не убивала, слышишь!..
– Даже если бы это было не так… – Доминик неумолим. – Я бы все равно сделал то, что сделал.
Во всем виновата ночь. И пустынная, идущая вверх дорога. И ветер, который проник в салон через опущенные стекла, – не жаркий, а прохладный, освежающий. Во всем виновата ночь – она скрывает все изъяны сидящего рядом со мной мужчины.
Доминика Флейту.
Доминика, которого я знаю так давно. Второй подбородок нисколько его не портит (он попросту незаметен), выпирающий живот нисколько его не портит (он попросту незаметен), профиль Доминика стал суше, резче и целеустремленнее. Похоже, за то время, что я просидела в камере, мы поменялись ролями. Это раньше Доминик частенько впадал в меланхолию; любая, даже самая незначительная, даже бытовая трудность надолго выбивала его из колеи. Теперь от неженки и нытика не осталось и следа – Доминик демонстрирует волю к жизни, он спокоен и уверен себе. Ему наконец-то подчинился автомобиль: старый «Мерседес» уже не виляет и не собирается падать в кювет при первом удобном случае.
И запах.
До сих пор запах, исходивший от грузного тела Доминика, казался мне неприятным: трусость, пот, фобии, страх перед микроволновками и лифтами перемешивались в нем в разных пропорциях – ничего подобного больше нет. В худшем случае Доминик не пахнет ничем. А в лучшем – в нем появились новые, незнакомые мне нотки, нерезкие, но довольно впечатляющие: мускус, кожа, тальк, мужской секрет, возможно – эстрагон, кориандр, базилик; или это всего лишь запах одеколона? Он кажется мне знакомым, определенно – я знаю его. И я уже сталкивалась с ним – совсем недавно. Вот только никак не вспомнить где.
Я и не хочу вспоминать. И не хочу ни о чем думать. Мне хочется одного – смежить веки. Расслабиться после напряжения всех последних дней. Доверить решение проблем другому человеку. Моему другу Доминику Флейту.
– Так куда мы все-таки едем?
– Маленький кооператив по производству арганного масла. Там тебя никто не потревожит. Во всяком случае – в ближайшие дни, – снова оговаривается Доминик.
– Не думала, что у тебя такие экстравагантные знакомства. Кооператив по производству масла, надо же!
– Это не мои знакомства.
– Чьи же?
– Дальних родственников Наби.
– Наби в курсе?
– Наби очень мне помог.
Рано я успокоилась. Наш повар Наби – добрейшей души человек, но он – муж Фатимы. И если Наби в курсе – в курсе и Фатима, подбросившая следствию сведения о моем слабом носе и позднем возвращении в отель. Это нельзя считать откровенным свидетельством против меня, скорее всего – Фатима просто рассказала все, что знала. Но ее наивные мечты о политической карьере в Голландии – их тоже нельзя сбрасывать со счетов. Только кристально честный человек может добраться до вершины, только законопослушный, для такого штраф за парковку в неположенном месте – уже трагедия. Фатима ни за что не станет ввязываться в противоправную историю с побегом из-под стражи женщины, обвиненной в убийстве. И это самое невинное, что можно предположить.
– А он?..
– Не волнуйся. – Доминик спешит утешить меня. – Он никому ничего не скажет.
– Ты так уверен в нем?
– Да. Абсолютно. Я очень давно его знаю. Я знал его всегда. Мы росли вместе.
– Детская дружба – самое трогательное из всех изобретений человечества…
– Наби переживал так же, как и я. Он тебя любит…
– Нуда…
Ну да, ну да, все любят Дональда, все любят Гуффи, все любят Микки. Ради меня Наби не поступится даже клубнем картофеля, его преувеличенно-мультяшная любовь (какой ее видит Доминик) вызывает у меня саркастическую улыбку. Не отрываясь от дороги, Доминик осторожно кладет руку мне на плечо:
– Успокойся, Сашá. Неприятности остались позади. Тебе больше ничего не угрожает.
– Я просто очень устала. Устала…
Должно быть, мой голос звучит слишком жалобно. Доминик резко жмет на тормоз, поворачивается ко мне всем телом и сгребает в охапку. Так и есть – мускус, кожа, и (возможно) эстрагон, кориандр, базилик, смешать все ингредиенты, настоять на спирту и принимать внутрь по одной столовой ложке перед едой – спокойствие, бодрость и общий хороший тонус организма гарантированы.
– Я с тобой, моя девочка. Я с тобой!.. Не плачь, все будет хорошо.
– Я не плачу.
Я не плачу. Я – рыдаю. Судорожно, беззвучно, взахлеб – слезы текут по моим щекам и попадают на рубашку Доминика. Ту самую – гавайскую.
– Я пришил пуговицы. Посмотри.
Все пуговицы на месте, хотя для того, чтобы их пришить, Доминик воспользовался первыми попавшимися нитками. Черными.
– Видишь, я сделал все, как ты сказала. Но и ты должна делать все, что я скажу.
– Хорошо.
– Скоро мы доберемся до места. Постарайся хорошенько выспаться. А завтра утром приедет Наби.
– А ты?
– Я тоже появлюсь. Но уже ближе к вечеру.
– Что требуется от меня?
– Ничего не бояться. Довериться. Ты будешь среди друзей.
Непонятно, на чем основана уверенность Доминика и с каких пор родственники Наби, о которых я понятия не имела, стали моими друзьями. Наверное, с ними все обстоит так же, как с нежданным ангелом в полицейской форме, который принес мне благую весть.
Им хорошо заплатили.
Сколько – об этом я не имею ни малейшего понятия, как и о дальнейших планах Доминика. Довериться ему – еще полтора часа назад я посчитала бы это сумасшествием. А он просто взял и вытащил меня из каменного мешка, прежнего Доминика больше нет. Я имею дело с новым, совершенно незнакомым мне человеком. И этот человек нравится мне гораздо больше, чем прежний. К прежнему я была нежно привязана, но относилась со снисходительным, а порой брезгливым покровительством. Все изменилось – и теперь в покровительстве нуждаюсь я сама.
«Мерседес» преодолевает очередной участок подъема, и мы зависаем над раскинувшейся внизу Эс-Суэйрой. Я не соврала и не польстила городу, приютившему меня:
он прекрасен.
Цепочки огней собираются в гроздья и снова распадаются, обнимают темную чашу океана, подрагивают, слезятся, мерцают. Если я и мечтала о Рождестве, то лучшего подарка, чем этот город, не сыскать. Сердце полно благодарности, и щемящей грусти, и томительного предчувствия – я еще не скоро вновь увижу Эс-Суэйру. Мое настроение передается и Доминику, в одночасье ставшему чутким, как собака-поводырь. Он останавливает машину и вместе со мной смотрит на огни.
– Эс-Суэйра восхитительна, – тихо говорю я.
– Эс-Суэйра – лучшее место на земле, – вторит мне Доминик. – Мой дед выбрал именно ее и не ошибся.
Дед Доминика. Основатель отеля «Sous Le del de Paris». Я довольно смутно помню историю его появления в Марокко, хотя Доминик рассказывал ее неоднократно. Дед Доминика перебрался сюда в начале тридцатых вместе с еще двумястами тысячами переселенцев, он мог выбрать Марракеш, Касабланку, Рабат, но выбрал Эс-Суэйру. Возможно, огни тогда не были такими яркими, но сине-белое очарование существовало всегда.
– Нам пора, Сашá. – Доминик осторожно касается моего локтя.
– Мне кажется, я больше не вернусь сюда.
– Глупости. Это твой город.
– С чего ты взял?
– Потому что это мой город. Ты разве забыла? Мы оба собирались состариться здесь. Charmantepetite vieille – я ни за что не пропущу такое зрелище!
…Через пятнадцать минут Доминик глушит мотор посреди пустынной местности, единственное украшение которой – десяток чахлых кустарников и растыканные в произвольном порядке голые деревца. А на такую мелочь, как приземистый, со слепыми стенами амбар (метрах в тридцати от дороги), я поначалу не обращаю никакого внимания. Деталь, которая делает амбар еще более никчемным: стоящий возле него пластиковый столик с тентом и такой же пластиковый стул.
– Приехали. Это здесь.
– Где.
– Видишь здание?
– Я вижу самый обыкновенный сарай. – Даже сюрреалистический тент ни в чем меня не убеждает.
– Это он. Кооператив по производству масла аргано.
– Ив нем кто-то есть?
– Несколько женщин. Вдовы и жены, брошенные мужьями. Некоторые живут здесь постоянно.
– И здесь же работают?
– Да.
– Не хотела бы я…
– Поверь, это место намного лучше, чем то, в котором ты была. – В голосе Доминика звучит мягкая укоризна.
– Прости… Я действительно совсем ополоумела: после пытки тюремной камерой позволяю себе капризничать, кобениться и перебирать харчами, как сказали бы мои питерские друзья. Пристыженная, я выхожу в ночь следом за Домиником. Прежде чем направиться к амбару, он вынимает из багажника небольшую спортивную сумку.
– Здесь твои вещи, Сашá.
– Спасибо.
– Все, что удалось собрать. К сожалению, они изъяли фотографии.
– Черт с ними.
– И кое-что из вещей. Но все остальное я привез… Тихо переговариваясь, мы подходим к двери, чудесным образом вырисовавшейся в глухой стене. Приходится признать:
амбар я недооценила.
Такие двери сопутствуют борделям и кокаиновым гасиендам в самом сердце колумбийских джунглей. Такие двери я видела только в кино про карточных шулеров, наркотрафик и бандитские разборки в маленьком Токио (Чикаго, Сингапуре). Они обиты толстыми полосами железа, а середину украшает импровизированный датчик фэйс-контроля – дверца в дверце, на уровне глаз. Сейчас она наглухо закрыта.
Прежде чем постучать, Доминик в спешном порядке инструктирует меня:
– Девушку, которая тебя встретит, зовут Сальма. Она единственная, кто говорит по-французски. Обращайся к ней без стеснения, она тебе поможет.
– В чем?
– Ну… мало ли какие вопросы могут возникнуть у девушек, – смущается толстяк.
В другое время я бы обязательно довела эту тему до абсурда и вогнала бы несчастного Доминика в краску, он все-таки очень мил. И по-детски непосредствен. Мой Доминик.
– Спасибо тебе за все.
Я обнимаю Доминика и неловко целую его в подбородок.
– Ну что ты…
Не слишком-то он обрадовался проявлению чувств и даже отстранился от меня – чуть более поспешно, чем следовало бы.
– Правда, спасибо. Ты мой единственный друг…
– Все в порядке, Сашá. Все самое худшее позади.
– Кстати, тебе идет этот одеколон.
Два коротких стука. Пауза. Три длинных стука. Пауза. И снова – два коротких стука. И снова – три длинных. Окошко в двери распахивается, и – прямо из темноты – к нам навстречу выплывают два диковатых влажных глаза.
– Бонсуар, Сальма.
– Бонсуар, месье.
Сальма не тратит время на разговоры, она тотчас же захлопывает окошко и принимается отпирать засовы. Я насчитала по меньшей мере четыре, попасть в скромный сельский кооператив не легче, чем в хранилище крупного банка.
– Ты не зайдешь? – быстрым шепотом спрашиваю я у Доминика.
– Нет. Мне нужно возвращаться в город. Я приеду завтра.
– Тогда до завтра.
– Да.
– Будь осторожен.
Мелодраматического эффекта избежать не удалось, хотя я всего лишь хотела сказать: не стоит превышать скорость, Доминик, дороги здесь не слишком надежны, уж я-то знаю. Впрочем, кем бы ни был мужчина, привезший меня в кооператив по производству аргонного масла, кем бы ни был новый Доминик, скорости он не превысит.
Уж я-то знаю.
Дверь приоткрывается ровно настолько, чтобы я могла проскользнуть в образовавшуюся щель, и снова захлопывается. Пока Сальма возится с засовами (ну и работенка, черт возьми!), я разглядываю открывшийся мне небольшой двор.
Ничего выдающегося.
Каменная плитка, длинный – во всю длину двора – навес, крытый тростником; три кованых напольных светильника, из которых время от времени вылетают снопы искр, затемненный проход в глубину. Умывальник, вмонтированный прямо в стену, выложен мозаикой, – и это самая яркая, самая помпезная деталь интерьера.
– Бонсуар, мадам. – Лишившись Доминика, Сальма переносит залп ночной вежливости на меня.
– Бонсуар.
– Идемте, я покажу вам вашу комнату.
Как я и предполагала, мы движемся в глубину двора, Сальма идет впереди меня, высоко подняв над собой лампу – точную (хотя и уменьшенную) копию напольных светильников: та же ковка, тот же изощренный металлический узор, даже одинокие искры вылетают из нее по сходной траектории. Два раза свернув направо, один – налево и пройдя мимо стены со множеством дверей, Сальма останавливается в тупике. Дверь, которая выходит в него, – единственная.
– Мы пришли.
Не «Риц» и не «Амбассадор». Да.
Мое временное жилище представляет собой крохотную комнатушку с обычными для Марокко глинобитными стенами. В углу стоит деревянный топчан, покрытый тонким цветастым ковром, а левая стена комнаты занята множеством поднимающихся к потолку полок. Банки, бутылки, пузырьки, флаконы, небольшие пластмассовые канистры – вот и все их содержимое.
– Мы храним здесь масло – объясняет Сальма, совершенно неприкрыто пожирая меня глазами.
– Я поняла.
Ей не больше двадцати, она грациозна, темноволоса, темноглаза, с лицом слишком открытым, слишком страстным для марокканки и… она вовсе не собирается уходить!
– Кувшин с водой и полотенце в углу. Вы можете помыться, если захотите.
– Спасибо.
– Принести вам поесть?
– Не стоит. Я не голодна.
– Я оставлю вам лампу.
– Спасибо, Сальма.
Глаза Сальмы мечутся в поисках зацепки, крючка, каменистой бухты, где можно бросить якорь, – напрасный труд: стены слишком гладки, банки и бутылки слишком хрупки, у нее нет никакого – решительно никакого! – повода, чтобы остаться. Хотя бы еще на минуту.
– Вы что-то хотели, Сальма?
– Да. Я хотела бы, чтобы со мной произошло что-нибудь необычное.
– Ас вами до сих пор ничего не происходило? – Я не должна позволять ей втянуть себя в разговор – и все же позволяю.
– Ничего. Ровным счетом ничего. Не то что с вами.
– С чего вы взяли, что со мной произошло что-то необычное?
– Иначе вы не были бы здесь, – делает вполне логический вывод Сальма. – Год назад здесь, в этой комнате… Уже жил один человек. Недолго. Один день и две ночи.
По лицу девушки пробегает грозовая тень, на щеки всходит румянец, подбородок заостряется – один день и две ночи, несомненно, главное событие в ее жизни.
– Что же случилось с ним потом?
– Надеюсь, с ним все хорошо. Я молюсь за него до сих пор.
Сальма обескураживает меня, она не должна вести себя так. Ни одна марокканская девушка не повела бы себя сходным образом, а уж тем более девушка, работающая в забытом богом сельском кооперативе. Даже вполне светская и лишенная многих восточных предрассудков Фатима попридержала бы язык, но Сальме ничто не указ.
– Наверное, он был контрабандистом. Или собирался убить какого-то плохого человека. Но что-то не получилось. И он оказался здесь.
Убийство. Меньше всего я ожидала услышать об убийстве из уст девушки – настолько неискушенной, настолько простодушной, что любое, сказанное ей слово тотчас же меняет свой знак на противоположный. Убийство плохого человека – благое дело, оно не подлежит разбирательству в суде, а уж тем более – наказанию.
– Он был похож на вас.
– На меня? – Я вздрагиваю.
– В том смысле, что на вас он был похож больше, чем на меня. Он был… – Сальма щелкает пальцами, стараясь подобрать наиболее точное выражение, – …европеец. Беглец.
Evade.
«Эвади» – звучит как название косметической фирмы. Так и есть – эта косметика идет юной Сальме, как никакая другая, она оттеняет веки и ретуширует мелкие изъяны кожи, делает линию бровей соблазнительной, а губы – чувственными.
– Вы тоже собирались убить плохого человека?
– Нет.
– Вы его убили?
– Нет.
– Значит, это вас должны были убить?
– Нет.
Во всех трех случаях я сказала чистую правду, и она не очень устраивает Сальму.
– Не бойтесь. Я всегда держу рот на замке.
В подтверждение девушка собирает пальцы в щепоть и проводит ими по губам, что должно означать застегнутое на молнию молчание. Молнии, заклепки на карманах, полных историй со смертельным исходом, пряжки на туфлях с начинкой из контрабандного гашиша – вот он, фирменный стиль от «Evade». А Сальму можно считать ее лицом.
– Я не боюсь.
– Куда вы направитесь дальше?
Я бы сама хотела получить ответ на этот вопрос.
– Еще не знаю.
– Уезжайте в Касабланку. Это лучшее место. А уж оттуда можно попасть куда угодно. Я и сама собираюсь в Касабланку. Не все же сидеть в этой проклятой дыре.
– Касабланка или что-то другое… Это зависит не от меня.
Сальма несколько разочарована: мадам, которая похожа на «европейца, беглеца» гораздо больше, чем она, должна сама выбирать себе маршрут.
– Ума Турман непременно уехала бы в Касабланку.
– Ума Турман?
– Ума Турман – моя любимая актриса. Когда я уеду в Касабланку, то обязательно перекрашусь в blonde18, как она. Вы незнакомы с Умой Турман?
– К сожалению.
– Тот человек… Европеец, беглец… Говорил, что он близкий друг какой-то… Подождите, дайте-ка вспомнить… Какой-то Фанни… Фанни… Она тоже актриса.
– Ардан? – подсказываю я.
– О, да! Фанни Ардан. Наверное, это совсем не то, что Ума Турман.
– Совсем, совсем не то.
– Все равно, я молюсь за него каждый день. И за Уму Турман тоже. Чтобы она когда-нибудь приехала в Касабланку. Уже после того, как туда приеду я. И мы бы случайно встретились на улице… Или в каком-нибудь баре. «Кафе Рика» подойдет. Определенно, это будет именно оно!
– И что произойдет тогда?
– Для начала я возьму у нее автограф. Попрошу расписаться у меня на руке. Или нет – лучше на афише, так автограф дольше сохранится. У меня есть ее афиша. Даже две.
– А потом?
– Потом я угощу ее кофе.
– А потом?
– Потом она угостит меня кофе.
– А потом?
– Потом? Потом… случится что-то очень замечательное. – Дерзость Сальмы перехлестывает через край, но воображения ей явно не хватает.
– Ты как будто и не марокканка вовсе. – Незаметно для себя я перехожу на «ты», Сальму это устраивает.
– Ума Турман – тоже не марокканка. Но это никого не удивляет! – Сальма заливается мелким дробным смехом; шутка, которую она только что произвела на свет, кажется ей бесконечно забавной.
– Почему же ты до сих не в Касабланке?
– Деньги. Все упирается в деньги. Того, что я накопила, – недостаточно. Но скоро, очень скоро, я соберу приличную сумму – и только меня и видели!..
Странная марокканка Сальма странным образом оказывается на топчане; устроившись у меня в ногах, она рассуждает о побеге из кооператива по изготовлению масла аргано, где работает техником, о своем (овеянном какой-то тайной) прошлом: ее отец был французом (испанцем), он умер, когда Сальме исполнилось шесть (семь); ее мать была испанкой (француженкой), она умерла, когда Сальме исполнилось семь (шесть), а в общем, не важно, кто кем был, – важно, что марокканка она только наполовину. Наверняка у нее есть богатые родственники в бывшей метрополии, они были бы рады принять ее, если бы знали о ее существовании, но для этого нужно добраться до Касабланки и познакомиться с Умой Турман. Все разговоры вертятся вокруг Касабланки, и Умы Турман, и супербара «Кафе Рика», где произойдет историческая встреча, на которую Ума явится с самурайским мечом, а с чем прийти мне, что бы вы посоветовали, мадам?..
Бритву. Опасную бритву.
С ручкой из слоновой кости, с монограммой «P.R.C.» и моими отпечатками. Я великодушно готова уступить их Сальме.
Пока глаза не слиплись окончательно.
…Солнечный свет.
Он проникает сквозь веки – еще не обжигающий, но уже готовый обжечь. Поначалу я даже не решаюсь приподнять их, скрупулезно восстанавливая события прошедшей ночи.
Камера – полицейский с ключом – калитка в воротах – я свободна – «Мерседес», мигающий фарами, – Доминик за рулем – побег из Эс-Суэйры – дорога вверх по склону – окошко в обитой железом двери – бонсуар, мадам, – я оставлю вам лампу – европеец, беглец – вы тоже собирались убить плохого человека? – Ума Турман – Касабланка.
Неужели Сальма еще здесь?!
Надеюсь, что нет, – в комнате слишком тихо. Выждав еще мгновение, я наконец-то открываю глаза.
Слава богу, комната пуста.
А я заботливо прикрыта одеялом, в которое трансформировался тонкий цветастый ковер. Лампа погашена, она стоит там же, где Сальма поставила ее, кувшин и полотенце тоже на месте, и в стройных рядах флаконов с аргано не произошло никаких изменений. Разница лишь в том, что теперь комната пронизана солнечными лучами, тонкими и острыми, как спицы. Вчера ночью потолок казался мне сплошным, но он совсем не сплошной. Все дело в крошечных дырках, произвольно проделанных в нем, – никакого особого узора они не образуют.
Наскоро умывшись, я принимаюсь разбирать сумку, переданную Домиником накануне. Милый-милый Доминик, он отнесся к моему поручению слишком серьезно, слишком ответственно:
– две пары джинсов (одна точно никогда мне не принадлежала);
– четыре футболки, включая «Born to be free»;
– белье (в отдельном пакете);
– детские радости – бусинки, перья, монетки, курительная трубка – привет от Ясина (в отдельном пакете);
– portative (господи ты боже мой!);
– косметичка, единственная память о Питере;
– ветровка (судя по размеру, она больше подошла бы самому Доминику);
– бежевый свитер с горлом;
– синий без горла, но с Рудольфом, предводителем оленей Санта-Клауса (впервые вижу!).
Куда ты собираешься спровадить меня, Доминик?.. В Лапландию?
Закончив осмотр внутренностей сумки, я перехожу к внешним карманам: солнцезащитные очки, универсальный ключ из рыбьего брюха (ключ, ключ, ключ!) и конверт. С жирным пятном в левом нижнем углу, я уже успела забыть о его существовании. Изначально в нем лежало кольцо, оно лежит и сейчас. А к кольцу прибавился еще один конверт, сложенный вдвое. О его существовании я помню очень хорошо: пять бумажек по сто евро и визитка, информирующая о том, что ALEX GRINBLAT, advice-giver, готов принять меня в Старом Свете в любое удобное для меня время.
И деньги, и визитка – на месте.
Не только мило со стороны Доминика, но и благородно.
Вот только куда ты собираешься спровадить меня, Доминик?..
Тем более что оба моих паспорта под арестом. А больше не осталось ничего, что могло бы подтвердить факт существования Сашá Вяземски.
Лучше не думать об этом. Лучше отрешиться от всего, и от Алекса, и от неприятностей с Фрэнки, – я достаточно поломала себе голову над этим, самое время взять тайм-аут. Немного успокоенная, я выскальзываю из комнаты. Никаких инструкций насчет «сиди смирнехонько и никуда не высовывайся» я не получала, так почему бы не воспользоваться этим и немного не поразмять ноги? А заодно и посмотреть на доблестный кооператив при свете дня.
Я повторяю тот же путь, который мы с Сальмой прошли накануне вечером – вдоль стены с множеством дверей (они по-прежнему плотно прикрыты), с одним поворотом налево и двумя – направо, узкие проходы накрыты тростником, так же, как и навес в центральном дворе; солнце пробивается сквозь тростник – все очень живописно. Интересно, кем на самом деле был европеец, беглец, скрывавшийся здесь за год до меня?
Другом Фанни Ардан.
Еще не видя двора, я уже слышу его: приглушенные женские голоса ведут беседу на арабском, в разговор то и дело вплетаются ритмичное постукивание и еще один, незнакомый мне звук – как будто несколько камней трутся друг о друга.
Их восемь – женщин, сидящих под навесом, в окружении больших и маленьких плетеных корзин. Четверо колют мелкие продолговатые орехи аргано хорошо отполированными гладышами, еще четверо – перетирают ядра на некоем подобии маленьких жерновов: именно от них исходил удививший меня звук. Густая вязкая жидкость стекает с жерновов в мятые алюминиевые тазы. Неужели в этом примитивном, однообразном, вытащенном прямиком из каменного века процессе и заключается тайна переработки орехов в масло? Если бы я оказалась на месте одной из этих женщин, то сошла бы с ума через пятнадцать минут. А то и раньше.
Бедная Сальма, ее мечты о Касабланке вполне оправданны.
Но как раз Сальмы среди тружениц кооператива нет, ах, да, она – техник и наверняка выполняет другую, более квалифицированную работу. Включающую молитвы за ниспослание многих лет беглецам и Уме Турман.
Сальма появляется позже, в сопровождении Наби.
Я лежу на топчане и бездумно изучаю дырки в глиняном потолке: направление солнечных лучей изменилось, который сейчас час?
Легкий стук в дверь отвлекает меня от размышлений о времени.
– Да!..
Вслед за Сальмой в комнате появляется Наби. Я привыкла к почти европейскому стандарту в одежде нашего повара (джинсы, рубаха навыпуск и тонкая замшевая жилетка) – и потому не сразу узнаю его в длинном национальном халате и с чалмой на голове. Впрочем, лицо Наби – подвижная физиономия карманного воришки – ничуть не изменилось.
– Наби!.. – Я рада ему, даже несмотря на конспиративную чалму.
– Здравствуйте, мадам!
Мы жмем друг другу руки – с симпатией, но без особой сердечности. Наби просто выполняет распоряжения хозяина, он слишком сосредоточен на том, чтобы исполнить их, не отступив ни от одного пункта.
– Я привез вкусной еды, мадам.
– Спасибо, Наби. Я не хочу есть.
– Вам нужно набраться сил.
– Я чувствую себя превосходно.
Наби озадачен. Очевидно, мое нежелание есть вступает в противоречие с первым пунктом инструкции Доминика.
– Ты можешь оставить еду здесь, – на помощь Наби приходит Сальма. – Мадам обязательно поест. Рано или поздно.
– Ну хорошо, – сдается повар. – Хозяин сказал, что я должен постричь вас. И сфотографировать, после того как постригу.
– Постричь?
Куда ты собираешься спровадить меня, Доминик?.. Что ты задумал?
– Постричь, – с готовностью подтверждает Наби. – Постричь и покрасить.
– В blonde? – Сальма едва не хлопает в ладоши.
– Почему? Совсем не в blonde. Мадам должна стать brune. Настоящей brune.
Кем-кем, а настоящей безоговорочной брюнеткой за все свои тридцать лет я еще не была.
– А стрижка? – тут же интересуется Сальма, длина волос ее обожаемой Умы меняется еще реже, чем цвет.
– Radicale19. – Наби роется в большом кожаном мешке, который принес с собой.
– Что значит – радикальная? Что это еще за фокусы, Наби?
– Так сказал хозяин.
– А фотографии? Зачем тебе мои фотографии?
– Так сказал хозяин.
Наби вовсе не собирается обсуждать с кем бы то ни было (а тем более – с женщинами) программу действий, утвержденную Домиником; прямо из мешка на свет божий появляются большое купальное полотенце, старый гребень, портняжные ножницы, слегка тронутые ржавчиной, и пластмассовая, наглухо закупоренная банка.
– А я и не знала, что ты еще и парикмахер.
– Я не парикмахер, но то, что нужно сделать, – я сделаю. Я сам стригу детей, так что постричь мадам не составит труда. А еще мне нужна вода.
– Вода в кувшине.
Я лукавлю, после утреннего мытья воды в кувшине осталось совсем немного. Чтобы превратить меня в радикальную брюнетку, ее явно не хватит. Но мне нужно остаться с Наби наедине, чтобы порасспросить его о том, что скрыл от меня Доминик. Делать это при Сальме не хочется.
Наби заглядывает в кувшин и качает головой:
– Воды совсем мало, мадам. Только чтобы смочить вам волосы. А нужно больше.
– Ты принесешь нам еще кувшин, Сальма? – Я бросаю на девушку выразительный взгляд.
Сальма нехотя кивает и также нехотя покидает комнату – наконец-то!
– Я доставила вам много неприятностей, Наби? Много хлопот?
– Хозяин очень переживал. – Наби предельно лаконичен.
– Ты ведь знаешь, в чем меня обвиняют.
– Хозяин не верит ни одному слову из этого обвинения.
– А ты?
– А я верю хозяину…
Рудольф, главный олень Санта-Клауса, увековеченный на синем, без горла, свитере. Свитер не принадлежит мне, но для чего-то же Доминик положил его в сумку! Шерстяной Рудольф – и есть сам Доминик, тянущий за собой всю рождественскую упряжку, без него Рождество не наступит никогда. Во всяком случае – мое Рождество. С этой точки зрения можно рассматривать свитер, как визитную карточку, галантно преподнесенную мне мсье Флейту. Она ничуть не хуже жеманной визитки Алекса Гринблата,
RUDOLPH
indispensable deer20
выткано на ней красно-белыми нитками.
На остальных оленей ниток уже не хватило.
Хотя они и существуют, я даже знаю их по именам:
Дэшер, или Потрясающий;
Дэнсер, или Танцор;
Прэнсер, или Гарцующий;
Виксен, или Злобный;
Комет, или Комета;
Кюпид, или Купидон;
Дандер, или Болван;
Бликсем, или Молниеносный.
Бегущего следом за Домиником верного Наби можно смело назвать Дандером, как же я несправедлива к бедняге-повару!.. С другой стороны, трудно быть справедливой, когда над твоим ухом щелкает ржавыми ножницами какой-то коновал.
– Так значит, я ему обязана своим освобождением.
Щелк-щелк.
– Это было потрясающе. Это было как в кино.
Щелк-щелк.
– Ну и страху же я натерпелась!
Щелк-щелк.
– Наверное, это стоило немалых денег.
Щелканье прекращается. И голове, лишившейся большинства волос, становится неизмеримо легче. Я вижу пегие невыразительные пряди, они валяются на полу, расстаться с ними совсем не жалко. Как не жалко расстаться с жизнью, в которой приходилось то и дело расчесывать их. В ней было много хорошего, в основном – хорошего, но она потеряна для меня безвозвратно.
– Ты уже закончил, Наби?
– Почти.
– Я спросила о деньгах. Это был неуместный вопрос?
– Чтобы вытащить вас, хозяин заложил отель, мадам.
***
…Если бы мне было двадцать и я была бы смертельно влюблена в красавчика Доминика!
В этом случае мы ехали бы сейчас в кинотеатр под открытым небом – для парочек на колесах, которым нет дела до происходящего на экране, они заняты лишь собой и механизмом раскладывания автомобильных сидений – в старых тачках он, как правило, заедает.
Но мне не двадцать. Двадцать – кому угодно: Сальме, Фатиме, Уме Турман в фильме «Дом, там где сердце» (до самурайского меча еще нужно дожить). Двадцать – кому угодно, но только не мне.
И я не влюблена в Доминика. В кого угодно, но только не в него.
И механизм раскладывания автомобильных сидений меня не волнует, но только: что сказать человеку, который безнадежно влюблен в меня и во имя этой любви пожертвовал всем?
Лучше молчать.
Мы едем не в кинотеатр под открытым небом – в Марракеш.
Давняя, сокровенная мечта Доминика – она почти сбылась. Жаль, что обстоятельства, которые этому способствовали, лишили Доминика всего. Сам он запретил мне даже говорить о судьбе отеля, что сказал бы дед Доминика, основавший «Sous Le del de Paris», что сказал бы его отец?
– Они бы не стали меня осуждать, Сашá.
Я не верю Доминику, как не поверила бы его отцу и деду, если бы и впрямь им пришло в голову продекларировать такую глупость. До Марракеша – еще добрых три часа езды, через час начнет темнеть, а пока дорога залита желто-розовым предвечерним светом; все тот же старый «Мерседес» нашего автомеханика, все тот же сидящий за рулем Доминик, лишь я изменилась до неузнаваемости.
Radicale brune.
Коротко стриженная, в солнцезащитных очках, сейчас никто не признал бы во мне Сашá Вяземски. Тем более что Сашá Вяземски, русской, больше нет. Есть – Мерседес Гарсия Торрес, испанка. Это имя значится в паспорте и водительских правах, которые привез мне Доминик.
Мерседес. Прекрасная, как яблоко.
Совпадение почти мистическое. Оно нашептывает мне на ухо: все в этой жизни предопределено, все – взаимосвязано, слово – материально, и поэтому нужно осторожно обращаться со словами. Студентик Мишель появился в моей жизни не случайно, Жюль и Джим появились не случайно, Фрэнки был убит – не для того ли, чтобы фактом своей смерти воскресить Мерседес? Хотя почему бы не предположить: Мерседес спаслась? Не села в электричку на мадридском вокзале, а села на велосипед и отправилась к Гибралтару с легким рюкзаком за плечами. А у Гибралтара сменила велосипед на катамаран и оказалась в Марокко. И уже здесь, выскочив за скобки мадридского взрыва, погибла при невыясненных и не таких эффектных обстоятельствах. В некоторых случаях небольшую отсрочку от смерти тоже можно считать спасением.
– Откуда у тебя эти документы? – спрашиваю я у Доминика.
– Ты можешь не волноваться. Они – настоящие.
– Настоящие? Туда же вклеена моя карточка, как они могут быть настоящими?
– Они даже лучше настоящих. Человек, который достал их для меня, дает стопроцентную гарантию.
Интересно, во сколько вылилась эта «стопроцентная гарантия», какой кусок отеля она оттяпала? Я грешу на бильярдную и часть первого этажа, примыкающую к кухне.
– А где карточка самой Мерседес?
– Понятия не имею. Зачем тебе карточка Мерседес?
– Интересно было бы посмотреть, в чью шкуру вы меня впихнули.
Доминику не слишком нравится разговор, веревочкой вьющийся вокруг Мерседес, и он слегка смещает акценты:
– Знаешь, а тебе идет!
– Стрижка?
– Имя. Мерседес Гарсия Торрес. Красиво.
– Почему я обязательно должна была оказаться испанкой? Это нелогично, Доминик! Я не знаю ни слова по-испански.
– Я тоже.
Доминик благоразумно опускает излюбленное испанское «estoy en la mierda», по-другому и быть не должно: не говори лишнего, не буди лихо, пока тихо, сейчас нужно думать только о позитиве. И о том, что в конечном итоге все кончится хорошо. Для нас обоих, но в первую очередь – для меня. Милый, милый Доминик!.. ..:
– Что, если со мной начнут говорить по-испански?
– Кто?
. – Мало ли кто! .
– Ты всегда можешь прикинуться глухонемой, – неловко шутит Доминик.
– Но почему именно это имя?
– У человека, который доставал документы, было слишком мало времени на какое-то другое. На поиск других документов, я имею в виду.
– Так, значит, они все-таки не фальшивые? Где же тогда настоящая Мерседес?
– Ты и есть настоящая. Привыкай.
В желто-розовом вечереющем небе появляются красные сполохи – предвестники близкого заката. Пейзаж за окном достаточно однообразен: каменистая, гладкая, как стол, равнина. Ее пересекают русла высохших рек, вот уже три года в этой части Марокко не было дождя. Если у одного из русел появится указатель:
«riviere Mercedes»21
я нисколько не удивлюсь. Мне – и только мне – предстоит наполнить иссушенное пустое дно влагой воспоминаний (о людях, которые любили Мерседес Гарсия Торрес или терпеть ее не могли); привычек (большей частью – скверных); слабостей (большей частью – извинительных для женщины). Что ж, если другого выхода нет, я готова пролиться дождем на Мерседес Гарсия Торрес.
– Я – танцовщица?
– С чего ты взяла? – Доминик удивлен.
– Просто я много слышала об одной девушке, которую звали Мерседес. Она-то как раз и была танцовщицей.
– Ты можешь быть кем угодно.
– И как долго? Как долго мне оставаться Мерседес?
– Яне знаю, Сашá. – в голосе Доминика звучит неподдельная горечь. – Может быть – навсегда…
– Навсегда?
– Это крайний вариант. Наверняка со временем все образуется. Все выяснится. И все обвинения будут с тебя сняты.
Рождественские сказочки Рудольфа, незаменимого оленя!..
– Не вижу повода, чтобы они были сняты. Не будь ребенком, Доминик! Я бежала из-под стражи, тем самым косвенно признав свою вину! Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сложить два и два. Из этой ситуации нет выхода.
– Может быть. Но у этой ситуации есть свои плюсы. Ты – на свободе. И скоро будешь далеко отсюда.
– Как далеко?
– Рейс «Эйр Франс» до Парижа. Ты вылетаешь утром, в восемь тридцать. У нас еще масса времени.
– И чем мне заняться в Париже?
– Чем занималась бы в Париже Мерседес Гарсия Торрес?
– Не знаю. Брала бы уроки танцев. Самба, румба, пасадобль. Сама преподавала бы танцы офисным уродам. Самбу, румбу, пасадобль. Два раза в неделю. Или лучше – пять? Или лучше не пасадобль, а ча-ча-ча? Черт возьми, Доминик!..
– Для тебя забронирован номер в отеле «Ажиэль» в Пятнадцатом округе. Ру Конвенсьон. Меня уверили, что это довольно симпатичное место.
– Но не такое, как наш отель. Наш дом. Зачем ты сделал это, Доминик?
– Я не хочу это обсуждать. Просто сделал – и все. Денег тебе должно хватить на несколько месяцев, просто будешь снимать их с кредитной карточки…
– Ты подкупил полицию…
– Я вложил кредитки в паспорт, но лучше переложить их в более надежное место.
– Что будет с теми, кого ты подкупил?
Дольше игнорировать мои реплики Доминик не в состоянии. Он тормозит так резко, что я едва не прошибаю головой лобовое стекло. Бросив руль, Доминик откидывается на сиденье и закрывает глаза.
– Думаю, они начнут новую жизнь. Совсем другую, чем та, которой они жили до сих пор. Гораздо более беззаботную. Безбедную. Тебя так сильно беспокоит их судьба?
– Нет. Меня беспокоит, что будет с тобой.
– Неужели?
Доминик не злится. Он опечален. Он знает правду – я не влюблена в него. И никогда не буду влюблена – ни как Сашá Вяземски, ни как Мерседес Гарсия Торрес. Он мог бы воспользоваться ситуацией – так поступили бы девяносто семь мужчин из ста, исключение составляют лишь святые Петр и Павел.
И – Доминик.
Доминик, проявивший удивительную, граничащую с сумасшествием, склонность к самопожертвованию. Его новый брутальный облик и новое, подсушенное тело оказались ловушкой, выбраться из которой не составило труда. И Доминик снова немного раздражает меня: даже его манера вести машину, даже его упорное нежелание говорить об отеле, даже то, что он стоически не желает обсуждать варианты возможной оплаты его жертвоприношения. Раньше у меня были другие поводы раздражаться, девяносто семь мужчин из ста… Ах, да… Из числа девяносто семь стоит вычесть любящих истинно и любящих без всякой надежды на взаимность. И прибавить похотливых корыстолюбцев и типов, готовых завоевать расположение женщины любой ценой. Доминик – не такой. Всем своим поведением он это демонстрирует. Белый и пушистый Доминик, которому я при всем желании не могу ответить взаимностью. И потому, после всего происшедшего и после того, что он сделал для меня, я обречена испытывать вечное чувство вины. И это уже не просто раздражает, это приводит в ярость.
– …Что будете тобой?
– Со мной все будет хорошо. Не стоит переживать, Сашá. – Мы бы могли улететь вместе.
– Это было бы слишком подозрительно. Прошли сутки с тех пор… С тех пор, как ты на свободе. Тебя наверняка ищут…
– Наверняка?
– Предположить это так же просто, как., как ты говоришь – сложить два и два. Рано или поздно они нагрянут в отель, если уже не нагрянули… Хорошо, что я благоразумно там не появлялся.
– Они посчитают это подозрительным.
– На этот счет Наби уже даны инструкции. Я отправился в Агадир за новым оборудованием для кухни и вернусь только завтра утром.
– Мы могли бы улететь вместе, – упрямо повторяю я.
– Нет. Я должен остаться. И потом – самолеты. Ты же знаешь, как я боюсь самолетов.
– Но ты ведь никогда не летал! Может быть, тебе понравится…
– Не понравится. И я могу предположить, что они уже ищут Доминика Флейту. Но искать Мерседес Гарсия Торрес они не станут.
– Мерседес Гарсия Торрес не совершила ничего противоправного?
– Мерседес Гарсия Торрес чиста, как слеза.
– А что делать с обвинениями, которые выдвинуты против меня? Настоящей?
– Я ведь уже говорил тебе… Со временем все образуется. У меня есть знакомый детектив в Касабланке…
– Знакомый детектив? Ты никогда не упоминал о нем. И никогда не был в Касабланке.
Уличенный в копеечной лжи, Доминик с досадой закусывает нижнюю губу.
– Ну, это не совсем мой знакомый… Скорее – знакомый отца.
– Твой отец давно умер.
– Но от него остались бумаги. – Голыми руками Доминика не возьмешь. – Совсем недавно я разбирал их и нашел несколько писем от этого человека. Деликатные поручения, да… Он выполнял деликатные поручения отца. Весьма успешно.
– В каком году он их выполнял? – Я слишком безжалостна к Доминику. Надо бы попридержать коней и не бросаться на того, кто желает мне лишь добра.
– Какое это имеет значение?
– Может быть, его уже нет в живых. Твоего деликатного детектива.
– Я связывался с ним. Он жив, хотя в последнее время отошел отдел…
– Ха-ха!
– На твоем месте я бы не иронизировал. У него детективное агентство.
– Ты меня разыгрываешь?
– Послушай, Сашá.. Ты сказала мне, что не выживешь в тюремной камере. И я вытащил тебя…
Вот оно! Началось… Сейчас Рудольф, незаменимый олень, потребует отполировать ему рога и копыта в качестве моральной компенсации.
– …Эта дорога, эта ночь – разве похоже на розыгрыш? Завтра утром ты будешь пить кофе в каком-нибудь парижском кафе. Разве это похоже на розыгрыш?
– Хорошо, хорошо… Я была не права. Но если уж ты так ему доверяешь, даже ни разу не увидев его…
– Он работал на моего отца. И это достаточная рекомендация.
– Если уж ты так ему доверяешь, то не лучше ли мне отправиться в Касабланку? Рассказать ему обо всем, что знаю. Так будет правильно.
– Не думаю, что это хорошая идея.
– Почему? Как он сможет защищать меня, не получив информации из первых рук?
– Тебе нельзя оставаться здесь, неужели ты не понимаешь?
– Я и не останусь здесь. Я уеду в Касабланку.
Возникшая на абсолютно ровном месте одержимость Касабланкой. Представляю, как это выглядит со стороны. Вчера ночью у меня была возможность понаблюдать за Сальмой, такой же одержимой. Касабланка, Ума Турман, «Кафе Рика» – если Сальма постареет на десять лет, так и не перекрасившись в blonde, так и не встретив Уму Турман, – чем она будет отличаться от меня? Ничем.
– …Я хотел сказать, тебе нельзя оставаться в стране, Сашá.
– Мне – нельзя. Но Мерседес Гарсия Торрес – можно. Она ведь чиста, как слеза.
– На всякий случай нужно подстраховаться.
– Что не такс этими документами?
– С ними все в полном порядке. Меня уверили в этом.
– А если меня завернут на паспортном контроле?
– Не завернут. В марракешском аэропорту тебе надо будет подойти к совершенно определенной стойке. К определенному человеку. Позже я покажу тебе его фотографию… Ну что ты смеешься, Сашá?
Доминик-конспиролог, Доминик – шпион с доской для серфинга – это и правда забавно. Я точно знаю, что в аэропорту мне будет не до смеха, но сейчас самое время оттянуться.
– Прости… Прости меня, пожалуйста. А королевские ВВС в операции не задействованы?
– С королевскими ВВС возникли сложности. Но и тех людей, которых удалось найти, будет достаточно.
– Хорошо. Мы больше не возвращаемся к этому вопросу. Твой детектив должен приехать в Эс-Суэйру?
– Он приезжает послезавтра.
– Передавай ему привет. От Мерседес.
– Непременно передам…
Оставшуюся часть пути мы с Домиником проводим в милых, ничего не значащих разговорах о прошлом Они нисколько не отличаются от нашего обычного трепа на вечерней террасе, под аккомпанемент не утихающих ни на минуту волн и песка, летящего со стороны океана. Я буду скучать – и по террасе, и по океану, и по песку. И по футболу в свете прожекторов, и по воздушным змеям, и по множеству вещей, входит ли в этот список Доминик?
Не уверена.
И все же я произношу еще раз:
– Мы можем улететь вместе.
– Я ведь уже сказал – это невозможно.
– Почему? Назови мне хотя бы еще одну причину, кроме тех, что были названы. Может быть, тогда я поверю тебе.
– Зачем тебе это нужно, Сашá?
– Что «это», Доминик?
– Чтобы я улетел вместе с тобой. Чтобы я был рядом. Все равно ты не сможешь дать мне того, чего я хочу. И, как тебе сейчас кажется, будешь постоянно думать об этом. И искать нейтральный способ для выражения благодарности. И вряд ли его найдешь.
– Но, Доминик…
– Подожди… В конечном итоге ты меня возненавидишь. Я бы – точно возненавидел. Запомни, Сашá: мне не нужна твоя благодарность. Любовь – да, но никак не благодарность. Ты ведь не сможешь меня полюбить, я прав?
Доминик не смотрит на меня, он сосредоточен на дороге. С той же интонацией в голосе он мог бы сказать: «В этом году океан намного грязнее, чем в прошлом, я прав?» или «Нужно перестелить пол в холле, я прав?». Доминик страшно далек от проблем экологии, а пол в отеле… После всего случившегося его будет перестилать кто-то другой.
– Я прав. Но я хочу остаться твоим другом, Сашá. Хотя бы другом, раз ничего другого не может быть. Чтобы ты вспоминала обо мне, улыбаясь… Чтобы ты просто вспоминала меня. Изредка, большего не нужно.
– Ты так говоришь… Как будто мы больше не увидимся.
– Увидимся, конечно, увидимся. Все рано или поздно образуется, ты снова вернешься в Эс-Суэйру, я снова начну расписывать доски, и мы…
– Доски! До сих пор не понимаю, почему ты поступил с ними так отвратительно, Доминик. Это было настоящим варварством.
– Еще большим варварством было отдать их тому хлыщу. Нет, совсем не потому, что он нравился тебе…
– Тогда почему?
– Я и сам толком не знаю. Понять это означало бы понять что-то важное. Такое же важное, как ты, Сашá…
***
…– Багажа у мадам нет?
– Только сумка.
Таксист, который подобрал меня в Орли, – араб, возможно марокканец, и здесь не холоднее, чем в Эс-Суэйре; в такси гремит арабская музыка, заунывное тиу-тиу-тиу-а-а-а-хаби-би-и-и-и!.. в сопровождении ударных. Если закрыть глаза – ощущение такое, что я вовсе никуда не уезжала. То, что портит впечатление: спертый запах конца лета в предместье большого города – разогретый асфальт, сизая дымка и гарь от автомобильных выхлопов, она проникает в салон, несмотря на то что стекла подняты. То, что вдохновляет: огромное количество развязок и указателей, отличная дорога и – зелень. Не такая яркая, не такая сочная, какой бывает зелень марокканского риада, слегка приглушенная, но ее достаточно для того, чтобы поверить – я в Европе.
– Куда едем?
– Пятнадцатый округ. Ру Конвенсьон. Отель «Ажиэль».
– Мадам впервые в Париже?
Если я скажу «да», хитрый араб повезет меня кружной дорогой, чтобы стрясти денег по максимуму, без зазрения совести подкрутит счетчик и – в самом финале – оставит бедную туристку без штанов. Три года жизни в Марокко приучили меня не доверять арабским таксистам, не думаю, что их парижские собратья кардинально от них отличаются.
– Я знаю город.
Никто не придумал бы лучшего ответа: ни «да», ни «нет», он не выглядит угрозой, но выглядит предупреждением: «я знаю город, и ты меня не обманешь». Самое печальное, что я не знаю города и вовсе не горю желанием его узнать. Я спокойно могла бы обойтись без него, счастливо прожить жизнь вдали от открыточных видов Champs-Elysees22 и Esplanade deslnvalides23, вдали от дурацкой Эйфелевой башни (ее уменьшенная копия в виде брелка для ключей нисколько меня не впечатлила). Я никогда не мечтала о Париже и не считаю, что фраза «увидеть Париж и умереть» имеет право на существование.
Я не мечтала о Париже. Во всяком случае, эти мечты не так сильны и не так чувственны, как мечты Доминика о Марракеше, Касабланке, Рабате. Приехать сюда с человеком, в которого влюблена, – что может быть пошлее, что может быть банальнее? Приехать сюда к человеку, в которого влюблена, – что может быть самонадеяннее?..
Этот город не принесет мне ничего хорошего. Тотальное одиночество – вот и все, что я чувствую сейчас. Так одинока я не была никогда. Ни в России, ни позже – в Марокко. Отсюда, с другого континента, пряничное королевство кажется мне раем на земле, отсутствие дождей его не портит (трудно представить, что в раю идет дождь), жара и дурные запахи не в состоянии повредить его имиджу.
Я совершенно не представляю себе жизнь в сувенирном Париже. Я не готова к ней – ни в качестве Сашá Вяземски, ни (что гораздо серьезнее) в качестве Мерседес Гарсия Торрес. И у меня нет ничего, что могло бы скрасить пребывание в нем – ни фотографий любимых людей, ни милых сердцу вещиц, копившихся годами; ни шара, внутри которого идет искусственный снег, – проклятый шар я имела возможность лицезреть неоднократно. Он – обязательная деталь каждого второго фильма студии «XX Century Fox» и каждого третьего – студии «United Artists», он призван олицетворять одиночество героя (мой случай), богатый внутренний мир героя (не мой случай) и его способность противостоять невзгодам. Что еще могло бы мне помочь? Талант, расцветший на пустом месте. Но я не умею делать наброски углем и зарисовки черной тушью, вариант litteraires24 набросков и зарисовок тоже отпадает. В самый последний момент моя «portative» была отдана Сальме. Тащить с собой в Париж еще и пишущую машинку – сущее безумие.
Мне остро не хватает Доминика – с чего бы это?
За неимением Доминика я могла бы довольствоваться Наби и Фатимой, и даже Джумой, братом Фатимы, и даже помешанной на Касабланке Сальмой – с чего бы это?
Я была бы счастлива, окажись рядом со мной Ясин, и даже рыба Ясина – даже рыба! – с чего бы это?..
– У мадам прекрасный загар, – говорит таксист. – Откуда приехала мадам?
– Из Африки.
Звучит как название книги, я видела эту книгу много лет назад, на книжном развале, у метро, где в мартовской жиже валялось оброненное:
«Оставь меня в покое, идиотка!»
«Из Африки». Карен Бликсен. Так звали автора, я запомнила – как запомнила все, что сопутствовало тому вечеру. Возможно, я купила бы книгу, если бы название было чуть более определенным: что означает «Из Африки»?
Привет «из Африки», саванна потрясла меня до глубины души?
Помогите мне вырваться «из Африки»?
«Из Африки» все выглядит совсем по-другому?
«Из Африки» ты вернешься обновленным?
Я никогда не узнаю, чем была эта книга – экзистенциальным путеводителем, дамским романом или пацифистским стенанием об умирающих от голода племенах. Но наверняка в нем был запечатленный на бумаге опыт одной европейки, который она хотела бы передать другой европейке. Чтобы та, другая, беспечно его отвергла. Опыт для того и существует, чтобы быть отвергнутым при первом удобном случае. Ни на что другое он не годится.
– …Из Африки? О-о… Я и сам выходец из Алжира! Мои родители перебрались во Францию в шестидесятых.
– А я довольно долго прожила в Марокко.
– А я не был в Алжире никогда.
– Я могу закурить? Если это не запрещено…
– Конечно, мадам.
Сигареты – сначала одна в два часа, затем две в час, я и не заметила, как втянулась. Перелет из Марракеша в Париж, совсем недолгий по времени, был сущей пыткой – курить на борту запрещается. Все, что угодно – еда, питье, спасательные жилеты, кислородные маски, – но только не сигареты. Сколько еще человек в самолете страдали от невозможности сделать несколько затяжек – три, пять, двадцать?.. К их числу вряд ли относится шумное марокканское семейство, оно окружило меня со всех сторон, вытеснило на периферию, к иллюминатору. Спасаясь от него, я прикрылась журналом; строчки плывут перед глазами, между ними легко просматривается все произошедшее со мной, вплоть до паспортного контроля в марракешском аэропорту: он прошел на удивление гладко, нужного человека я узнала сразу, а он, листая паспорт, даже не взглянул на меня:
Bon voyage, мадам!..
Теперь я в курсе, что будет выбито на могиле безвременно ушедшей беглянки Сашá Вяземски – «bon voyage!», кроссворд в конце журнала – вот что я интуитивно искала все это время. Один лишь его вид приводит меня в трепет: похожий я оставила на стене в камере предварительного заключения в Эс-Суэйре. Белые клетки самолетного кроссворда не заполнены, о счастье!.. С ноющим сердцем я принимаюсь исправлять положение – Фрэнки в обнимку с бритвой; Жюль и Джим, на пару образующие мальтийский крест; негативы и спички, на пару образующие крест из Клиши, темнота в старом форте, открыточный вор, Алекс, заказавший бизнес-ланч в «Ла Скала», прежде чем трахнуть меня.
Я не пропустила ничего.
Несомненное преимущество моего кроссворда – мне не нужно сверяться с описанием слов. Точность, с которой я перенесла все с тюремной стены на бумагу, удивительна. Но остается еще масса незаполненных клеток. Это угнетает меня, и, поразмыслив, я вношу новое имя: Мерседес.
Она вполне достойна того, чтобы быть увековеченной.
МЕРСЕДЕС.
Мерседес – ценное приобретение.
«Мерседес» легко встраивается в Алекса и Фрэнки. В негативы и спички, в форт и темноту; испачканная кровью бритва – ей по руке, испачканное кровью платье – ей к лицу, она может приклеиться к дядюшке Исе, Шамсуддину и даже – к Джиму. Только с Жюлем вышел полный облом, только с Жюлем у Мерседес нет ни одной точки соприкосновения.
Так тебе и надо, Жюль!..
Здесь, на высоте десять тысяч метров, все видится совсем под другим углом. Здесь, на высоте десять тысяч метров, процесс вживания (вживления) в Мерседес Гарсия Торрес проходит достаточно безболезненно. За время, проведенное в камере, я так и не решилась внести в кроссворд себя – теперь мне это удалось.
Наконец-то.
Если картина и не стала более ясной – то уж более полной она стала наверняка.
После окончания полета я беру журнал с собой – я просто не в силах с ним расстаться. Мысль о журнале примиряет меня с отсутствием художественных и литературных навыков. Возможно, он станет моим единственным спутником в Париже, он ляжет на стол в любом кафе (все знают, что в Париже полно кафе, бистро и ресторанчиков на открытом воздухе) и не будет распускать перья, уверяя, что он – amant chic25. Единственное неудобство – с журналом не поговоришь.
Но и платить за его кофе не придется.
– …Это здесь, мадам?
– Похоже.
Таксист-алжирец оказался честным человеком. Сумма, которую я заплатила за дорогу от аэропорта до отеля, вполне щадящая. Хотя за те же деньги в Марокко я вполне могла бы достичь Сахары и провести там неделю, кочуя по бедуинским стоянкам. И в связи с Сахарой меня так и тянет поторговаться:
– Не многовато ли? – спрашиваю я таксиста. – Это дорого.
– Это Европа, мадам.
«ЭТО ЕВРОПА» – убийственный аргумент. Это Европа, а следовательно, будь готов выкладывать денежки за малейшую фигню, за каждый твой чих с тебя сдерут втридорога. «Это Европа» – лениво-безапелляционные интонации таксиста мне хорошо знакомы; то же самое на протяжении трех лет произносила я сама, добавляя лишь частичку «не»:
это не Европа.
– Хорошо. Держите деньги.
– Приятного отдыха в Париже, мадам!
Приятный отдых, ну да. Интересно только, как долго он продлится.
Отсутствие навыка жизни в крупном городе. Я уже позабыла, что это значит – жить в крупном городе, хотя из окна такси Париж вовсе не выглядел мегаполисом. Я уже позабыла, что существуют дома с большими окнами, непомерно большими окнами, чудовищно большими окнами – тут и до океанария недалеко, и до дельфинария, из которого живенько ретировался покойный Фрэнки. После бело-синей Эс-Суэйры и терракотового Марракеша разноцветные фасады парижских домов (с засильем элементов декора) утомляют и режут глаз. Но подозреваю, что и к фасадам, и к окнам можно привыкнуть.
Гораздо быстрее, чем к имени Мерседес Гарсия Торрес.
Я стою против отеля «Ажиэль» (в этом меня уверяют вывески справа и слева от входа). Прямо над входом – помпезный фриз в стиле то ли барокко, то ли рококо; беленый нижний этаж сменяют кирпичные верхние. Балкончики и балконы, перекликающиеся с фризом кокетливые барельефы на фасаде, все, чего я хочу – снова оказаться в «Sous Le Ciel de Paris».
Возьми себя в руки, Сашá. Возьми себя в руки, Мерседес. «SousLe Ciel de Paris» – таким, каким ты любила его, таким, каким помнила, – больше не будет никогда. Чертов Доминик, чертов Алекс, чертов Фрэнки – единственное занятие мужчин, за исключением войны и футбола, – ломать жизнь беззащитным женщинам.
В этом они, как правило, преуспевают.
В воздухе остро пахнет зеленью и неведомыми мне цветами, таких запахов в Эс-Суэйре просто не существует – это можно считать плюсом. И лишним поводом, чтобы наконец войти под сень «Ажиэля», симпатичного местечка, как отрекомендовал его Доминик.
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
С ДОМАШНИМИ ЛЮБИМЦАМИ
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ!»
Начало вдохновляет. Равно как и девушка-портье, с кем-то разговаривающая по телефону. Поначалу язык, на котором ведет беседу девушка, кажется мне не то чтобы незнакомым, но – неуместным. Фу ты черт, это же русский!..
Приехали.
Податливая Сашá" Вяземски (или лучше вернуться к Саше Вяземской?) обрадовалась бы этому факту несказанно и тотчас бы вступила с девушкой в переговоры. На русском. Возможно, мы бы даже подружились, и она смогла бы выкроить пару часов, чтобы показать мне город. Или – окрестности отеля, или ближайшую станцию метро. Или… да мало ли на что можно бросить глаз в Париже! Беда в том, что Мерседес Гарсия Торрес не знает русского, и приятельницами с девушкой-портье нам не быть.
По определению.
Она уже заметила меня, и прикрывает рукой трубку. А потом и вовсе прерывает разговор.
– Добрый день, мадам!
– Добрый. Для меня забронирован номер.
– Ваше имя?
Еще не поздно отказаться от коротко стриженной брюнетки в солнцезащитных очках. Еще не поздно произнести собственное, перепачканное кровью Франсуа Пеллетье, имя. От того, что я скажу, будет зависеть весь мой сегодняшний день, и завтрашний, и все последующие дни. Если я произнесу «Сашá Вяземски», девушка сразу же внесет эту информацию в компьютер, к какой сети подключен гостиничный компьютер – неизвестно. Но уж наверняка не к той, которую ежедневно вытягивает Ясин. Разве что размер ячеек сети совпадает – он мельче мелкого. Из них не вырвешься. Следователь-араб просит своего французского приятеля-полицейского пошерстить отели на предмет нахождения в них вышеозначенной Сашá – и все, дело сделано. Я поймаюсь на крючок рано или поздно.
– …Ваше имя, мадам?
– О, простите. Мерседес Гарсия Торрес.
– Одну минутку. – Девушка углубляется в монитор. – Да. Есть. Номер двадцать семь.
– Двадцать семь? Почему двадцать семь? – Я безмерно удивлена.
– Что-то не так? Человек, который делал заказ, настаивал именно на этом номере.
Слезы выступают на глазах совершенно непроизвольно, совершенно не к месту, милый, милый Доминик, он решил сделать мне скромный подарок под занавес, преподнести бездарной актрисульке букетик незабудок: жест с номером больше, чем на незабудки, не тянет.
– А номер двадцать пять свободен?
– К сожалению, мадам.
К сожалению – нет. Что ж, три года я прожила в двадцать седьмом – поживу еще.
– Двадцать пять – мое счастливое число.
– Увы, – девушка искренне огорчена. – Но я могу предложить вам пятнадцатый. Или тридцать пятый.
– Они с видом на океан?
– Простите, мадам? – переспрашивает девушка. – Я не поняла.
– Это шутка.
– А-а… ха-ха-ха! – Смех дается ей с большим трудом; усилие, с каким она выдавливает его изо рта, обычно прилагают для извлечения из тюбика остатков зубной пасты.
– …не очень удачная шутка.
– Да нет. Хорошая. Так что мы решаем с номером?
– Оставьте все как есть. Пусть будет двадцать седьмой. – Букет незабудок все-таки всучен мне, хоть и со второй попытки.
– Пожалуйста, заполните карточку.
Вот и первое испытание. Если я пройду его успешно, то Мерседес Гарсия Торрес приблизится ко мне еще на один шаг, встанет на цыпочки и прижмется щекой к моему плечу – вдвоем не так грустно, не так ли?..
Мерседес – испанка. Espagnole.
Мерседес – танцовщица. Danseuse.
Постоянного места работы у Мерседес нет, она – вольная птица, libre artiste26 – это все, что я нафантазировала себе о Мерседес.
Есть еще и паспортные данные. Испанка Мерседес – обладательница немецкого паспорта! До сих пор я не придавала этому значения.
Если верить паспорту, Мерседес проживает в Нюрнберге.
Рост Мерседес – 170 сантиметров (что почти соответствует моему собственному росту, становиться на цыпочки Мерседес не придется).
Цвет глаз Мерседес – braun27 (что совсем не соответствует цвету моих глаз, но, поскольку он неопределенен, то вполне может сойти и за braun).
Хорошо, что такие мелочи, как рост и цвет глаз, указывать в карточке не требуется.
Мерседес – великая путешественница, великая завоевательница, великая гастролерша, человек-ракета, человек-снаряд. В ее паспорте множество отметок о пересечении самых разнообразных экзотических границ, североафриканских и южноамериканских, Мерседес бывала на островах, которые, по моим подсчетам, ушли под воду лет двести назад, паспорт Мерседес действителен Fur alle Lander/ For all countries/ Pour tous pays28.
– Это все? – спрашиваю я у девушки, протягивая ей листок, – как будто сама не заполняла похожие карточки сотни раз.
– Да. Возьмите ключ.
– Спасибо.
– Вам нужно подняться на второй этаж, первый коридор направо. Вам уже звонили, мадам Торрес. Полчаса назад.
– Звонили?
– Да. Международный звонок.
– Что-то просили передать?
– Какой-то мужчина интересовался, добрались ли вы до отеля. Он не представился, но сказал, что будет перезванивать..
– Если он перезвонит – переведите звонок на мой номер.
– Хорошо.
…Самое примечательное в ключе, выданном мне девушкой-портье, – брелок. Это не Эйфелева башня, это – звезда. Страшно похожая на звезду шерифа из американских фильмов. Такая же самодовольно-золотистая пустышка из легкого сплава, с черным кругом посередине: на нем выбито название отеля и его адрес, самая небрежная, покосившаяся, кое-как нанесенная группа цифр, указывает на номер.
Двадцать семь.
Я стою перед ним, не решаясь войти.
Давай же, Мерседес, смелее! Ты открывала дверь с цифрой «27» сотни раз!.. О-о, нет! Мерседес – тут ни при чем, это все Сашá, русская. А Мерседес – испанка из Нюрнберга, то, что я знаю о ней, – лишь плод моего воображения. Но факт остается фактом: стоит мне только открыть паспорт Мерседес Гарсия Торрес – как я сразу же увижу свою собственную физиономию.
Номер двадцать семь отеля «Ажиэль» нисколько не похож на номер двадцать семь отеля «Sous Le Ciel de Paris». Он раза в два меньше, с одиноким окном, выходящим в малосимпатичный двор. Окно наполовину прикрыто жалюзи, когда я поднимаю их и распахиваю створки, в нос ударяет запах жареного лука. Он не имеет ничего общего с запахом цветов, так поразившим меня в начале знакомства с отелем «Ажиэль».
Запах цветов с одной стороны и запах лука с другой – для старушки-Европы характерны двойные стандарты, я знала об этом и раньше.
Восемьдесят пять евро в сутки.
Именно такую сумму я должна платить за окно с видом, полутораспальную кровать, тумбочку при ней, стол, стул, крошечный холодильник и микроскопический телевизор – судя по дизайну, он собран еще во времена Шарля де Голля. Или, как сказала бы Мерседес, испанка из Нюрнберга, – во времена канцлера Конрада Аденауэра.
Доминик мог бы выбрать для девушки своей мечты и что-нибудь поприличнее, слава богу, что еще есть горячая вода!.. Контрастный душ приводит меня в чувство и заставляет устыдиться собственных склочных мыслишек о толстяке. Доминик и так сделал максимум из того, что можно было сделать: вытащил меня из тюрьмы, снабдил новыми документами и внушительной суммой денег (впрочем, пока я не знаю, какой именно). И отправил в Париж.
Мне грех жаловаться.
Да и номер не так уж плох. Во всяком случае, он намного лучше камеры, в которой я провела столько времени. Вытянувшись на кровати, я лениво принимаюсь строить планы на день. Перво-наперво нужно вызвать сантехника, чтобы тот подкрутил сливной бачок и поменял прокладку в смесителе, затем вызвать горничную, чтобы та протерла стекла (пыльные разводы на них раздражают сверх всякой меры), затем разобраться с запахом жареного лука, уж слишком он навязчив. И это вряд ли понравится постояльцам, стоп-стоп, Сашá!..
Это не твое дело.
Ведь ты больше не состоишь в штате отеля – ни этого, ни какого-либо другого. Прежняя жизнь кончилась, а вместе с ней и гостиничная рутина. Она не утомляла, местами была даже приятной, но неужели ты собиралась прожить так всю жизнь, Сашá? Да, да, да.
Ну и дура.
Нетрудно представить, чем бы это кончилось, доживи ты до элегантного возраста charmante petite vieille! Ноги отказали бы тебе в восемьдесят пять, разум – в девяносто; сойти с ума будучи девяностолетней обездвиженной старухой – что может быть ужаснее? Ничего, ничего, ничего! Да, да, да!..
Меня охватывает странное истерическое веселье.
Меня обуревает жажда деятельности. Каким образом выплескивает бьющую через край энергию Мерседес? В танце. Студия в пригороде Нюрнберга, сто квадратов, а может – и все двести, Мерседес, сладкой, как яблоко, нужен простор, закуток-кухня, закуток-спальня, все остальное пространство принадлежит самбе, румбе, пасадоблю (когда в дом приходят партнеры Мерседес). И другим, более экзотическим танцам – когда она остается одна. Рядом с домом Мерседес – железнодорожные пути, электрички снуют по ним туда-сюда, от этого сотрясаются стены, но Мерседес не обращает внимания на досадные неудобства. Ранним утром, поздним вечером, ночью – она охвачена стихией движения. Когда солнце бликует на ключицах Мерседес – лицо остается в тени, когда лунный свет бликует на запястьях Мерседес – лицо остается в тени.
Так и только так.
Лица танцовщиц всегда пребывают в тени их совершенных тел.
Мое собственное тело не так уж совершенно: это становится ясно, стоит только вытянуть ногу и повертеть ступней до хруста в щиколотке. И отросшие волоски, я успела забыть о них! Последний раз я брила ноги, когда хотела покорить Алекса Гринблата. Если судить по длине волосков – с того времени утекло много воды. Или нет – утекло много крови, одно перерезанное горло Фрэнки могло бы наполнить высохшее русло реки.
«riviere Mersedes»
Не хочу думать о Фрэнки. Не хочу.
Телефонный звонок звучит так резко, что я вздрагиваю.
Доминик. Конечно же, это Доминик. Я с трудом узнаю его, из такого далека звучит его голос. Или мне просто хочется, чтобы он звучал все тише и тише, а потом исчез совсем?..
– Здравствуй, Саше!
– Здравствуй, милый!
– Как ты добралась? Я переживал. Все в порядке?
– Все отлично.
– Как отель?
– Отель замечательный.
– А номер?
Он ждет, что я скажу ему: как мило с твоей стороны, ты помнишь, что все эти годы я провела под цифрой двадцать семь, ты помнишь это, ты помнишь все, tout се que tu voudras.
Туе ке тювудра. Все, что захочешь.
– Номер выше всяких похвал.
– Я… я не разбудил тебя?
– Нет, я не спала.
– Что ты собираешься делать?
– Немного осмотрюсь.
– Я понимаю…
Разговор явно пробуксовывает, Доминик не знает, о чем бы еще спросить, а я… Я вовсе не тороплюсь к нему на помощь. Но и трубку не кладу. С моей стороны это было бы откровенным бесстыдством, пора наконец сжалиться над Домиником.
– А что нового у тебя?
– У меня были гости. – По тому, как Доминик понижает голос, становится понятно, какого рода гости его навещали.
– И?
– Я изобразил недоумение. Они ничего не смогут мне предъявить, не переживай. И от меня они ничего не узнают.
– Откуда ты звонишь? – запоздало начинаю беспокоиться я.
– Из автомата. Я очень осторожен, Сашá. И ты будь осторожной. Обещаешь?
– Конечно.
– Завтра приезжает тот детектив из Касабланки.
– Ты говорил. Я помню.
Паузы становятся все длиннее, предложения – все односложнее. Происходит именно то, что предсказывал Доминик: я готова его возненавидеть. Ужасно.
– Я и сам кое-что предпринимаю. Я хотел встретиться с людьми… Со свидетелями…
– Господи, ну зачем, Доминик? Оставь это профессионалам.
Рассказать Доминику обо всем, что происходило на допросах, было непростительной ошибкой с моей стороны. Но что еще оставалось делать, когда от рейса на Париж нас отделяла почти целая ночь? И ее просто необходимо было чем-то заполнить. К тому же в аэропорт мы поехали не сразу. Марракеш наконец-то стал для Доминика реальностью, глупо не воспользоваться так удачно подвернувшимся случаем. Мы не стали снимать номер в гостинице, а отправились на центральную площадь – Джемаа эль-Фна, это была идея Доминика. «Прямо венецианский карнавал» – со знанием дела сказал Доминик. «Как будто ты когда-нибудь был на венецианском карнавале», – со знанием дела сказала я. Количество факиров, акробатов, безумных гадателей, целителей, музыкантов и владельцев мартышек не поддавалось исчислению, а еще рассказчики, а еще продавцы апельсинового сока со своими тележками, а еще огромные котлы с густым вонючим супом, а еще огромные баки с вареными виноградными улитками!.. И запах специй, мочи и немытых тел – от всего этого у меня сразу же разболелась голова. Венецианский карнавал, которого мы оба в глаза не видели, как же!., венецианский карнавал по сравнению с буйством Джемаа эль-Фна – стерильный бокс в тишайшей онкологической лечебнице. На краю площади, в маленьком открытом кафе, под интернациональным навесом «Coca-Cola», я получила возможность выговориться, запивая исповедь мятным чаем, слишком сладким, слишком горячим. Я думала, что просто изливаю душу, подобно рассказчику с Джемаа эль-Фны. Платить за рассказ и запоминать его необязательно, но оказывается, Доминик запомнил все. До запятой.
– …Ты говорила мне о старике, который купил угловой дом у форта. Дядюшка Иса, так?
– Дядюшка Иса. Иса Хаммади.
– Да, Да. Полчаса назад я был возле дома. Никто мне не открыл. Двери заперты наглухо.
– И что с того? Он наверняка на рынке. Он ведь торговец пряностями, я говорила тебе…
– Может быть. Я попытаюсь зайти к нему еще и вечером. Вечера-то он проводит дома, ведь так?
– Надо полагать.
– Ты знаешь агентство по продаже недвижимости? На площади, рядом с рыбным рынком, там в витрине выставлены фотографии особняков.
– Головной офис в Лондоне? Знаю.
– Так вот, дом снова продается.
– Какой дом?
– Сашá, – взывает ко мне Доминик. – Ты еще не акклиматизировалась? Угловой дом у форта. Дом, как ты говоришь, Исы Хаммади. Я попросил показать документы – кто его владелец на сегодняшний день и все такое. Документы мне не предоставили, но то, что сказали на словах… Никакой Иса Хаммади не упоминается. Нигде.
– Что с того. Может, дом был записан на другого человека. Например, на одного из его племянников в Танжере. Дядюшка Иса что-то говорил о своих племянниках. Они должны приехать в Эс-Суэйру, с женами и детьми. Помогать старику вести бизнес.
– В том-то и дело! Домом владеет европеец. Какой-то тип из Лондона. Имени я не знаю, но обязательно узнаю… Сашá, что же ты молчишь, Сашá? Ты меня слышишь?..
Я не удивлена, нет. Я потрясена.
– Ты, наверное, напутал, Доминик.
– Ничего я не напутал. Говорю тебе – хозяин дома отсиживается в Лондоне!
Если бы хозяин дома отсиживался в Париже, я еще могла бы это как-то объяснить. Лукавый старик (или все же лучше называть его пожилым крепким мужчиной?) прожил во Франции достаточное количество лет, чтобы получить гражданство или хотя бы вид на жительство. И женат он был на француженке, тогда при чем здесь Лондон? Может, Лондон имеет отношение к тому восхитительному набору техники, которую я видела в комнатушке с хорошо замаскированной дверью и которую никак не назовешь бытовой. Спутниковый телефон, компьютер, саквояж – я не успела сунуть нос в его внутренности, а жаль; возможно, там бы тоже нашлось немало интересного. А если даже и нет – телефона и компьютера вполне достаточно, чтобы перестать доверять дядюшке Исе. Скромному вдовцу, пребывающему в ожидании племянников из Танжера.
Танжер – вотчина контрабандистов. Это и ребенку известно.
Я не могу утверждать, что дядюшка Иса – контрабандист. Но то, что он лжец, не вызывает сомнений, «вот, купил здесь дом, русская Сашá» – надо же, какой прохиндей!..
– …Не стоит соваться туда, Доминик.
– Я просто поговорю с ним.
– Что это изменит?
– Я хочу вернуть все, как было, – неожиданно заявляет Доминик после паузы.
– Вряд ли это получится.
– Я хочу вернуть тебя.
Расстояние, лежащее между нами, придает толстяку смелости. Для того чтобы преодолеть его, придется переплыть море – неплохая тренировка для жирного брюха и неразвитого плечевого пояса. Доминик выйдет из волн обновленным – стройным, поджарым, с бугрящимися мускулами, с морской солью на коже, с морскими лилиями в волосах. И тогда он с полным основанием, с напором неотразимого самца, сможет сказать: «Я хочу вернуть тебя». Милый, милый Доминик, бицепсы и трицепсы не изменят ровным счетом ничего.
– А ты, Сашá? Ты хочешь вернуться?
– Да. – Греха черной неблагодарности я не совершу.
Тем более здесь, сидя в парижском отеле. Мое телефонное «да» безопасно, оно не предполагает действий, не обещает близости – помехи в трубке, неполадки на линии, его можно отнести к разряду несбыточных мечтаний Доминика о Марракеше, Касабланке, Рабате, хотя… Марракеш перестал быть для него мечтой, самое время устремить взоры к Парижу.
– Ты не приедешь? – с замиранием сердца спрашиваю я.
– Нет. Я должен быть здесь, в Эс-Суэйре. Слава богу!..
– Париж красив, да?
– Да. – Еще одно бессмысленное телефонное «да».
– Как у Sacha Distel?
– Как у Ива Монтана.
– Я позвоню тебе вечером. После того как поговорю с этим стариком, Исой. Ты ведь будешь вечером в отеле?
– Конечно.
– Береги себя, Сашá.
– И ты, Доминик. И ты.
Я слышу короткие гудки – на том конце провода, в Эс-Суэйре, Доминик не просто положил трубку, он оборвал связь. Волевым усилием, как я предполагаю. Доминик всегда был немного странным, с гибелью досок для серфинга странности усилились; кажется, я уже прогоняла эту пургу, – только сумасшедший мог пожертвовать отелем, чтобы вытащить из-за решетки никчемную девицу. Только сумасшедший. Мозг Доминика (и без того некрепкий, капризный, тепличный), окончательно расклеился после убийства. Не того, которое якобы совершила я, а того, которое совершил он. И речь идет не об одиночном факте, а о самой настоящей резне, бедные доски!.. Так я тогда о нем и подумала: маньяк, нездоровый человек. Конечно, я благодарна ему…
Ни хрена не благодарна.
Пока я находилась в камере, я могла сопротивляться. Не соглашаясь с обвинением, раз за разом доказывая непричастность к самой настоящей резне, бедный Фрэнки!.. У марокканского следствия были проколы, отсутствие у меня мотива, например. Ссора с некогда любимым человеком на почве личной неприязни – эту версию нельзя рассматривать всерьез. Ссора еще не повод взяться за бритву – раз, никто не видел, как мы ссорились, – два, спички – три. Вот оно! Я выпустила из поля зрения спички. Если бы я жгла их в поисках выроненной бритвы – наверняка от них остались бы огрызки. Ошметки. Обгорелые остовы. Но ни о чем таком араб-следователь мне не доложил, а я, фефела, – не додумалась порасспросить. Впрочем, и так ясно, чтобы он мне ответил:
Спички унесло ветром с океана.
И они считают, что я им поверю. Марокканские идиоты.
А теперь еще и старый лгунишка дядюшка Иса. С самого начала мне чудилось в нем что-то фальшивое, ненатуральное, какой-то подвох, изъян. Дядюшка – не владелец дома, следовательно, он врал мне изначально. Сознательно. Ничего особо криминального в такой лжи нет, но она автоматически вызывает недоверие и ко всем другим пассажам Исы Хаммади.
Он видел, как мы с Фрэнки поднимались на смотровую площадку? – очень мило, но никто этого не подтвердит.
Он заявил, что я спустилась вниз около полуночи, и при этом даже не потрудился взглянуть на циферблат часов? – очень мило, но никто этого не подтвердит.
Конечно, косвенно это могла бы подтвердить Фатима – ведь я вернулась в отель, когда бухарестские часы показывали без двадцати час. Время – вот кто играет против меня. Все учтено и запротоколировано, существует точка отсчета (наш с Фрэнки парадный выезд из «Ла Скала» в сопровождении официантов, грумов, гончих, ловчих и сводного оркестра кирасирского полка), существуют промежуточные точки. Так же имеется точка финальная, намертво вмонтированная в глупую тарелку с железнодорожного вокзала. Я нигде не отклонилась от маршрута, я вписалась во все предложенные сроки, но что, если сроков не было? А часы на ресэпшене могли просто подкрутить.
O-la-la, mademoiselle!
Сердце мое начинает бешено колотиться. Ведь если… Если часы и подкрутили, то вовсе не для того, чтобы подставить меня, какая разница, когда я вернулась? Если часы и подкрутили – то только для того, чтобы обеспечить алиби кому-то.
Кому-то.
Я знаю – кому. Алексу Гринблату. Знаменитому галеристу и Спасителю мира. Фатима утверждала, что он звонил из номера за час до того, как я вернулась. Следовательно – в самый момент убийства. Но если переместить стрелки хотя бы на пятнадцать-двадцать минут в ту или другую сторону – от алиби не остается и следа. За пятнадцать минут, а то и за меньшее время, хорошо тренированный человек добежит от форта до гостиницы. Алекс Гринблат, несомненно, хорошо тренированный человек, я сама видела его тело, я касалась его, ничего прекраснее в моей жизни не было… м-м… почему он уехал, даже не попрощавшись со мной?
Это бесчеловечно.
Стоп, Сашá. Глупое разнюнившееся существо, ты думаешь совсем не о том! Соберись и попытайся посмотреть на тело Алекса Гринблата трезво – как на улику.
Я знаю об Алексе не больше, чем в тот момент, когда увидела его в аэропорту. Да и что, собственно, мне известно? То, что никогда раньше он не был в Эс-Суэйре. То, что его галереи достаточно популярны и расположены по нескольким адресам в Старом и Новом Свете. То, что он практикует циничное втюхивание откровенной фигни, о-о, excusez-moi29! – шедевров современного искусства. Алекс Гринблат (по его же словам) в состоянии сделать бросовые вещи культом или, по-другому выражаясь, – брендом. А человек, так долго и упорно занимающийся брендированием, сам превращается в бренд. Такой же вездесущий и многоликий (многорукий), как Будда, Шива или Христос.
И такой же абстрактный.
Нет, я не отрицаю того факта, что Алекс Гринблат существует в природе. Вопрос в том, кто именно приехал в Эс-Суэйру под его именем.
O-lа-lа, mademoiselle!
Подобные рассуждения могут завести вас далеко; на вершину, с которой не только хорошо просматриваются живописные окрестности, но и циркулирует разреженный воздух. Кислородное голодание – вот что вам грозит. В этом случае с быстротой и живостью ума придется распрощаться навсегда.
Ну нет, голыми руками меня не возьмешь. Не так давно я уже побывала на вершине и благополучно спустилась с нее. На страховочном тросе, второй конец которого был пристегнут к телу Алекса.
Выступающему сейчас в качестве улики.
Помнится, я уже начинала думать о виновности Алекса. что же тогда меня остановило? То, что он был для меня Алексом Гринблатом, знаменитым галеристом.
Никем другим.
А если это все же не Алекс Гринблат, а кто-то еще, воспользовавшийся именем настоящего Алекса? Кто-то, кто уже успел побывать в Эс-Суэйре и изучить ее досконально. Кто-то , кто приехал с четко продуманным планом. Кто-то, кто пас Фрэнки с самого начала – ведь Алекс и Фрэнки летели в Марокко одним самолетом, не стоит об этом забывать.
А если Фрэнки пасли – значит, он был обречен. И я просто подвернулась под руку, максимально облегчив задачу убийце.
Такое положение дел вдохновляет. Я чувствую себя раскладывающей знаменитый арабский пасьянс, где вместо традиционного набора изображений – обрывки того немногого, что мне известно. Стоит совместить их под правильным углом – и картина прояснится. Единственное неудобство – правильный угол можно обнаружить лишь случайно.
Я не видела документов Алекса Гринблата – но с тем же успехом могла увидеть их, ничего бы не изменилось. У меня самой – чудесный, восхитительный, полноценный и полнокровный паспорт на чужое имя. Я могла бы пойти в другое кафе и не встретиться с Фрэнки, а могла бы и вовсе никуда не ходить – все равно рядом с мертвецом нашли бы бритву с моими отпечатками. На смотровой площадке старого форта или где-нибудь еще. И всегда нашелся бы очередной дядюшка Иса, который подтвердил бы, что видел меня в полночь – кружащейся на метле вокруг мертвого Фрэнки.
Или в полдень – делающей Фрэнки педикюр.
Или в три часа p.m. – берущей у Фрэнки сперму на анализ.
Или в три часа a.m. – выплясывающей на его костях ламбаду.
Самбу, румбу, пасадобль.
Все это может быть близко, очень близко к истине – вот только арабский пасьянс почему-то не складывается. Что, если попробовать еще раз?
ЛЕГКО:
То, что я нагородила – бред, по-другому не скажешь. Фрэнки могли убить где угодно и когда угодно, и не обязательно в Марокко. Фрэнки могли пристрелить из снайперской винтовки, если он фигура, равная начальнику департамента по защите дельфинов от окружающей среды. Или пырнуть армейским ножом, – если он не фигура, равная начальнику департамента по защите дельфинов от окружающей среды.
Зачем такие сложности с бритвой?
Зачем такие сложности с антуражем?
Зачем такие сложности с местом и временем убийства?
И зачем понадобилась я? Чтобы отвести подозрения от кого-то еще? Но ведь Фрэнки не прикончили на закрытой вечеринке, где подозрение падает на всех и каждого. И не замочили в жилом отсеке подводной лодки.
Узкого круга лиц, причастных к преступлению, не существует.
Есть только я и Фрэнки. Ни с кем другим он не общался.
Я – не убивала Франсуа Пеллетье.
Выбравшись из кровати, я принимаюсь скакать по номеру на одной ноге, повторяя на все лады: не убивала, не убивала, не убивала!..
Неуби-вала!!!
Неуб-ивала!!!
Неу-бивала!!!
О, радость, о, счастье! я здесь совершенно ни при чем! А еще два дня назад признательные показания были готовы сорваться у меня с языка. Положительно, сидение за решеткой еще никому не шло на пользу: так и норовишь примерить на себя одежку закоренелого преступника. Одежку на вырост, на все случаи жизни – зимняя коллекция, летняя коллекция (от кутюр и pret-a-porter); жакет «спенсер», ботинки «слиппер», брюки «сен-тропез», утягивающие эластичные трусы… Как бы идеально ни сидели на мне все эти тряпки – я не убийца.
Поверить в обратное так же трудно, как и… как и в то, что стрелки на часах были переведены. Во-первых, на ресэпшене всегда кто-то есть, а вечером – особенно. Во-вторых, чтобы добраться до часов, пришлось бы воспользоваться стремянкой, слишком уж высоко они висят. В-третьих, их нельзя подкрутить, не сняв со стены: стекло не позволяет проделать это прямо на циферблате.
Версия с часами не выдерживает никакой критики, а жаль.
Погоревав об этом дополнительных тридцать секунд, я снова перехожу к Алексу Гринблату (или к псевдо-Алексу):
Третья попытка в рывке и третья неудача – пора признать: единственная вина Спасителя мира в том, что он сбежал из Эс-Суэйры, не попрощавшись со мной. Вот я и злюсь. На Алекса, кем бы он ни был. А заодно – на Доминика, проявившего глупую инициативу и лишившего меня собственного имени. Может быть – навсегда. Конечно, окажись на месте Доминика Алекс, я испытывала бы совсем другие чувства.
Прямо противоположные.
Всегда приятнее ощущать себя героиней романтической драмы, а не какого-нибудь полицейского отчета, где кристально-чистое полотно моего имени вывешено рядом с дырявыми носками мелких воришек и выцветшими футболками уличных торговцев героином.
Запах жареного лука непереносим.
Именно желание избавиться от него, а вовсе не жажда заглянуть в глаза Парижу, гонит меня из номера. Джинсы, футболка «Born to be free», синий свитер с оленем Рудольфом на плечах – я готова к выходу. Что еще может понадобиться? – сумка для мелочей или рюкзак для скитаний. Единственная дамская сумочка, которая у меня была, осталась у следователя в качестве вещдока, а брать с собой большую спортивную – жутко неудобно. Впрочем, сумка не проблема, поблизости наверняка найдется магазинчик необходимых туристу вещей.
Деньги.
Я беру сотню из пяти, оставленных Алексом. А заодно прихватываю и визитку, вдруг у меня случится настроение и я отважусь позвонить? Звонить из номера не хочется, тем более что я не помню, давала ли марокканскому следователю телефон Алекса или все-таки нет: даже если нет – лучше подстраховаться.
Ключ.
Не отельный, полученный от девушки-портье, – универсальный, полученный от Ясина.
Монета с квадратной дыркой.
Паспорт Мерседес Гарсия Торрес. Ее международные водительские права.
Все отлично устраивается в карманах, трудности возникают лишь с журналом, прихваченным мной из самолета; но журнал можно сунуть и под мышку, черт возьми, я не хочу оставлять в номере ничего более-менее ценного, более-менее важного для меня. Ощущение такое, что я вовсе не собираюсь сюда возвращаться. Какие глупости! – в этом городе мне больше некуда идти, а вечером будет звонить Доминик, он – единственный человек в мире, кому я по-настоящему нужна, единственный, для кого мое прежнее имя – не пустой звук. Единственный, кто помнит натуральный цвет моих волос и их длину, я все-таки дрянь.
Неблагодарная стерва.
Угрызения проходят сразу же, как только я спускаюсь вниз, к стойке. Девушка-портье больше не говорит по телефону, она возится с бейджем, который никак не хочет держаться на фирменной темно-красной жилетке.
Natasha – написано на бейдже.
Наташа – должны называть ее французы. С характерным ударением на последнем слоге: Наташа Сент-Пьер, Наташа Ричардсон – явления того же порядка.
Отдав Natasha звезду шерифа, я (неожиданно для себя) спрашиваю:
– Здесь есть куда пойти развлечься?
Подобную фразу произнес в свое время Фрэнки.
– Таких мест полно, – отвечает девушка абсолютно в моем духе.
– Вы посоветуете самое убойное?
В моих устах это звучит как splendide, что не совсем точно отражает суть притязаний. К тому же последнее посещение подобного рода заведений закончилось для меня весьма плачевно.
– Что же тут советовать? – Наташа пожимает плечами. – Открывайте любую дверь – и вы на месте. Это – Париж.
«Это Париж» – вот фраза, которая все объясняет. А ты-то , ты – каким образом очутилась в Париже да еще заполучила страшно дефицитное место портье?.. Несколько секунд я пристально рассматриваю девушку: ничего особенно выдающегося, на подиумы таких не берут, в телезвезды – тоже, в секретарши к крупным боссам – jamais30, в секретарши к мелким боссам – как карта ляжет, в няни к годовалым младенцам – слишком уж они мечтательны, слишком погружены в ожидание большой любви, от этого бесплодного ожидания их губы зарастают ряской, их волосы блекнут, а глаза – теряют цвет. Если убрать родинку со щеки, снять очки и слегка подправить линию подбородка – девушка станет пугающе похожей на меня. Хотелось бы еще взглянуть на владельца отеля.
Оставайся я Сашей Вяземской, я бы обязательно заговорила с девушкой-портье по-русски, но в заднем кармане моих джинсов лежит паспорт, в котором черным по белому написано: Мерседес Гарсия Торрес. Поэтому я спускаю солнцезащитные очки со лба на переносицу и машу девушке рукой на прощание.
– Хорошей прогулки! – улыбается вежливая Наташа.
***
…Первый Librairie31 обнаруживается в нескольких кварталах от отеля, а до этого были еще бистро, станция подземки, «Макдоналдс», ресторанчик с итальянским названием, несколько магазинов, маленькая картинная галерея и указатель к выставочному залу «Монпарнас»; зачем мне понадобился книжный, я и сама не в состоянии объяснить. Ах, да! мне нужно разжиться картой города или хотя бы путеводителем.
Но стоит мне оказаться внутри, в небольшом сумеречном зальчике, как желание купить карту исчезает само собой. Я не нуждаюсь в карте, как не нуждаюсь в этом городе, лишь обстоятельства заставили меня приехать сюда. Не будь их, я бы не стояла сейчас у огромного стенда с путеводителями; их масса – от карманных до академических, от черно-белых дотисненных золотом, Хемингуэй о Париже, Генри Миллер о Париже, борцы сумо о Париже и (прости господи!) Сара Джессика Паркер о Париже; Париж в творчестве Пикассо, Париж глазами китайцев, Париж глазами индейцев навахо, Париж глазами aux voleurs32, Париж глазами бойцовых собак, Париж глазами рыбы-клоуна, Париж глазами бюстгальтеров на косточках. Не хватает только компетентного мнения о Париже Будды, Шивы, Иисуса Христа и двойной звезды из туманности G-33.
– Вам нужен путеводитель по Парижу? – спрашивает у меня продавец, субтильный старикашка с воинственной бородой Фиделя Кастро.
– Нет. Но если у вас есть путеводитель по Марокко… Я бы с удовольствием его купила.
Старик шарит глазами по Хемингуэю, Саре Джессике Паркер и индейцам навахо, заглядывает в потаенные уголки бюстгальтеров на косточках – напрасный труд, путеводителя по Марокко на этом самодовольном парижском алтаре не сыскать.
– К сожалению, мадемуазель…
– Может быть, имеется в наличии книга «Из Африки»?
– Мы не торгуем изданиями из Африки.
– «Из Африки» – так называется сама книга. Автор – Карен Бликсен.
– Вряд ли я смогу вам помочь…
Жрец путеводителей расстроен, я торжествую и уже готова покинуть так и не оправдавший моих ожиданий Librairie, когда мой взгляд натыкается на кое-что, заслуживающее внимания.
«В мире китов и дельфинов».
Блекло-синяя обложка, черный силуэт дельфина, выпрыгивающего из воды, – что делает эта довольно специфическая книга в краеведческом борделе – неясно; по книгу с таким названием привез в Эс-Суэйру покойный Фрэнки. И вот – стоило мне оказаться в Париже и зайти в первый попавшийся книжный, как я тут же наткнулась на ее аналог.
Можно ли считать это знаком?
Может – да, может – нет.
– Вот та книга. – Я тычу пальцем в дельфина. – Она тоже о Париже?
– Сомневаюсь.
Карманный Фидель морщится, он раскусил меня и мою странную неприязнь к Парижу; если бы не возможность подзаработать – он бы давно указал мне на дверь.
– Разве киты к вам не заплывают?
– Нет.
– И дельфины еще не составили представления о вашем чудесном городе?
– О-о, мадемуазель, должно быть, шутит.
– Нисколько не шучу.
– У вас что-то случилось?
Начинается. Сначала добрый старичок проявит живейший интерес к моей судьбе и моим возможным неприятностям, связанным с мужчиной: все женские неприятности связаны, с мужчинами – так наивно полагают сами мужчины, от прыщавых подростков до стариков с болезнью Альцгеймера в анамнезе. Дружеское участие – я уже проходила это с дядюшкой Исой, и моя откровенность вылезла боком. Ничего подобного я больше не допущу.
– Так у вас что-то случилось? – продолжает настаивать старик.
– У меня все прекрасно.
Накось, выкуси, как сказали бы мои питерские друзья.
– И правильно. В Париже нельзя грустить…
Я здесь меньше четырех часов и уже успела получить по физиономии универсальной, все объясняющей фразой: «Это Париж», теперь добавилась фраза более прикладная: «В Париже нельзя грустить».
– Чего еще нельзя делать в Париже?
По всем законам жанра старикашка должен отослать меня к стенду с бойцовым псом по кличке Хемингуэй и рыбой-клоуном по кличке Сара Джессика Паркер.
– Покупать путеводители по городу. – Старик оказывается намного забавнее, чем я предполагала.
– А карту?
– Карта тоже не нужна.
– Но…
– Не волнуйтесь, мадемуазель. В Этом городе вы всегда попадете туда, куда вам необходимо попасть. Пусть даже кружным путем.
– А если я не знаю, куда именно мне нужно попасть?
– Все равно – попадете.
Ценная мысль. Во всяком случае, она стоит того, чтобы ее запомнить.
– Вы очень интересный человек, мсье. – Я отвешиваю Фиделю неуклюжий, состряпанный на скорую руку комплимент.
– Ну что вы… Простоя очень давно живу…
– …очень давно живете в Этом городе. Понимаю.
– Хотите кофе?
Странно, что он не предложил чай. Помнится, арабско-французский перевертыш дядюшка Иса начинал именно с чая.
– Это входит в стоимость покупки?
– Если вы приобретаете больше чем одну книгу, – то да.
– А если нет?
– Если нет – я угощу вас кофе просто так.
– Именно меня?
– Сюда редко кто заходит, мадемуазель. Бывают дни, когда я не слышу человеческого голоса. Люди совсем перестали читать. И это печально. Очень печально.
– В Париже нельзя грустить, – мягко напоминаю я.
– Вы усвоили урок, прилежная мадемуазель. – Старик в шутку грозит мне пальцем. – Но когда я говорил об этом, то имел в виду только молодых и очень молодых людей. Тех, кто не читает книг. Книги – еще один повод для грусти…
– Почему?
– Потому что жизнь в них так прекрасна и трагична, какой никогда не бывает в действительности. Потому что жизнь в них недостижима. А опыт, который они нам несут, непостижим. Неумение воспользоваться опытом – разве не печально?
– По-моему, неумение воспользоваться опытом – прекрасно.
– Вы рассуждаете как очень молодой человек.
– Я рассуждаю как человек, который собирается приобрести книгу о китах и дельфинах. А их опыт вряд ли мне пригодится.
Старик симпатичен мне, я – приятна старику, мы оба улыбаемся друг другу совершенно искренне, за стендом с путеводителями обнаружилось прелестное местечко: низкий стол и две таких же низких скамейки, обитых потрескавшейся от времени кожей. Пока я изучаю рисунок трещин на коже, старик скрывается за пологом из плотной плюшевой ткани и уже оттуда кричит мне:
– Вы будете кофе с сахаром?
– Если можно…
Я ожидала совсем другого кофе – настоящего, с терпким ароматом: в духе мимолетного знакомства, которое (по прошествии времени) оказывается судьбоносным. Но принесенная стариком темно-коричневая жидкость отдает желудями, так что наличие в ней сахара можно считать спасением. Еще одно несомненное достоинство кофейной бурды – она горяча.
– Кофе, правда, не очень хороший, – запоздало оправдывается старик.
– Хемингуэя он бы вряд ли вдохновил.
– Но вы ведь не Хемингуэй?
– Нет.
Мне легко признаться в том, что я – не Хемингуэй, не Генри Миллер и не Сара Джессика Паркер, мне вообще – легко, впервые за четыре часа пребывания в Этом городе. Все из-за старика, из-за его манеры улыбаться сквозь бороду; улыбка похожа на бледную луну, она путается в ветках заснеженного леса. Я не в состоянии представить состарившегося Фиделя молодым и полным сил – из того времени, когда борода была черной как смоль и сражала наповал соратниц по борьбе. Поэтому в кофе, который принес старик, нет никаких подтекстов, это – кофе и больше ничего.
– …А кто вы?
– Я? Иностранка в Париже.
– В молодости я видел множество таких женщин. Они везде были иностранками, не только в Париже.
– Где же еще?
– Да где угодно. В любви, в постели, на пикнике, в читальном зале библиотеки, в просмотровом зале синематеки, в вагоне подземки, в салоне автомобиля… Потом их стало меньше, а потом они исчезли совсем.
– Все до единой?
– Да.
– Почему?
– Я постарел. Только и всего. И женщины больше не кажутся мне иностранками. У меня нет желания изучать их язык. А им даже не придет в голову разговаривать на моем.
– Это грустно.
– Это старость. Откуда вы приехали?
– Из Марокко.
– Тогда зачем вам путеводитель по Марокко?
– Я скучаю по дому.
– Этот город живо вас развеселит.
– Не думаю.
– Там, наверное, очень жарко – в Марокко?
– Там все по-другому.
– У меня дома есть деревянная шкатулка из Марокко. Я храню в ней счета. Когда-то в молодости ее подарила мне одна иностранка.
– Иностранка в вагоне подземки или иностранка на пикнике?
– Иностранка в любви. А до постели дело не дошло. Жизнь в Марокко не слишком весела?
– Там все по-другому, потому и жизнь другая.
– Зачем же вы приехали сюда, если так скучаете по дому?
– Мне предложили работу в Париже.
Останутся ли в силе наши договоренности с Алексом Гринблатом – неизвестно. Особенно теперь, когда Саши Вяземской больше не существует в природе. Русской Саши, Алекс не раздавал мне понять, что его интересует «русская Сашá».
– О-о, я поздравляю вас. Немногие получают предложение работать в Париже.
– Это можно считать большим выигрышем?
– Несомненно.
– Наверное, вы правы.
– Книга о китах и дельфинах действительно вас интересует?
– Очень.
– Тогда я бы хотел подарить ее вам.
– Очень мило. Я тронута. Но…
– Стоит она недорого, поверьте. Никакого ущерба магазину такой подарок не нанесет.
– Спасибо. Вы живете здесь давно?
– Всю жизнь.
– Должно быть, хорошо знаете Париж?
– Никто не может хорошо знать Париж. Он – как женщина.
– Как иностранка?
– Да. Но если вам необходимо какое-то конкретное место…
– Пожалуй. Кафе «Саппое Rose».
– Кафе?
– Может, это пивной бар. Или спортивный бар. Или бистро. Или центр, где торгуют со скидками. Не могу сказать точно.
Я вовсе не собиралась расспрашивать старика о кафе, существование которого подтверждает лишь картонка от спичек, да и зачем мне это кафе?
Чтобы встретить в нем убийцу Фрэнки.
Чистое безумие. С чего я взяла, что убийца Фрэнки обязательно бывает там? Что, если там бывал сам Фрэнки или люди, которые знают Фрэнки? все зависит от того, кто именно подбросил картонку ко мне в сумочку. Все зависит от того, в каком именно городе находится чертово кафе (пивной бар, спортивный бар, место дисконтного паломничества домохозяек). Тройки и семерки в номере телефона интернациональны, код страны я не разглядела, так что «Саппое Rose» может торговать пивом, виски и безалкогольным коктейлем «Папагайо» где угодно, даже в камбоджийских джунглях, даже в мексиканском штате Юкатан.
Там ему самое место.
Пока я размышляю о географическом расположении «Саппое Rose», Фидель исследует один путеводитель за другим, в мгновение ока перед ним образовалась бумажная гора из разнокалиберных томов; есть такие, что и на прилавок не выставишь.
– Этот путеводитель старый, очень старый, – комментирует старик, – 1921 года. Вряд ли он нам поможет. Но на всякий случай…
– Не думаю, что «Саппое Rose» засветилось в двадцать первом году…
– Ничего нельзя предугадать заранее, мадемуазель. Тем более что я уже кое-что нашел для вас. Кафе действительно существует.
– Какое облегчение!..
– В разное время оно располагалось в разных местах. – Ноготь Фиделя перескакивает со страницы на страницу, с тома на том. – Подпольный тотализатор, подпольное казино, подпольный дом терпимости…
– Веселенькое местечко. А героином там не торговали?
– Торговали. В восьмидесятых. А в сороковых там была одна из явок бойцов Сопротивления. Впоследствии проваленная.
– Замечательно.
– В нем было совершено девять убийств, два из них – ритуальные, два – на почве расовой ненависти. Одно время кафе было пристанищем хиппи…
– В ту пору, когда там торговали героином?
– Чуть раньше…
Образ «Cannoe Rose», который я нарисовала для себя – крошечная забегаловка в пять столов с дартсом и телевизором, – трещит по швам.
– Неужели в его истории не было ничего более радостного?
– Было. Несколько фильмов французской «новой волны»… Из тех, что называют поколенческими… Вам знаком этот термин?
– Я примерно представляю, что он может означать.
– Так вот. Несколько таких фильмов снимались неподалеку.
– Надеюсь, это были фильмы о любви.
Очередное справочное издание в руках старика только с виду напоминает путеводитель по городу. Его обложка украшена фотографиями разных людей, лица которых кажутся знакомыми и сопровождавшими меня всю жизнь, но я признаю лишь Катрин Денев и Фанни Ардан (Ума Турман, к счастью, отсутствует); мужчина, сфотографированный рядом с Фанни Ардан, мне неизвестен, может, это и есть близкий друг, о котором говорила Сальма?
– Занятная книга.
– Это путеводитель по местам в Париже, где когда-либо снималось кино. Здесь есть и фильмы, связанные с «Саппое Rose».
– О которых вы говорили?
– Да. Не все они были о любви. В основном – о том, что происходит с людьми после крушения любви. Или во время крушения любви. А еще – о героине, деятелей искусства необычайно волнует героин и другие тяжелые наркотики. Если бы их не существовало – половина картин, которые сегодня именуются шедеврами, просто никогда бы не были сняты…
– Наркотики как допинг, вы это имеете в виду?
– Как допинг, но главное – как тема.
– Не думаю, что эта тема – основная.
– Нет, конечно. Есть еще немотивированная жестокость и детские – самые яркие – воспоминания о ней. Есть еще большое ограбление поезда. Есть еще тотализатор, казино и дом терпимости…
– Это тоже можно считать синонимами слова «любовь»?
– С некоторыми оговорками. Вы очень умная барышня.
– Просто однажды я уже видела фильм о крушении любви. И даже не один.
– А я, признаться, небольшой любитель кинематографа. Продолжим?
– Конечно.
– Кафе использовали для встреч агентов под прикрытием несколько разведок, включая израильскую и британскую. Не избегали его и левые радикалы. Очевидно, именно в связи с этим оно было полностью разрушено взрывом и последующим пожаром.
– Так его больше не существует? – Я испытываю радостное облегчение.
Напрасно.
– Оно существует до сих пор.
– Под тем же названием?
– Да. Только сменило дислокацию. Я уже говорил вам – в разное время оно располагалось в разных местах.
– А теперь?
Старик достает из нагрудного кармана пиджака записную книжку, вырывает из нее листок и что-то записывает на нем.
– Вот адрес.
– Спасибо.
Даже не взглянув на бумажку, я засовываю ее в джинсы: поближе к универсальному ключу и монете Ясина.
– Вы даже не спросите меня, как туда добраться?
– Зачем? Вы же сами популярно объяснили мне, что в Этом городе всегда попадаешь туда, куда необходимо попасть. Пусть даже кружным путем.
– Я рад, что вы заглянули ко мне, – после недолгой паузы говорит старик.
– Я тоже чертовски вам признательна.
– Книга сейчас будет готова. Я устрою для вас подарочный вариант…
– Никаких вариантов, умоляю вас. Книга нужна мне. И только мне.
Возражения напрасны: силуэт дельфина скрывается под тонким слоем бумаги с нарисованными на ней еловыми ветками и рождественскими колокольчиками. Закончив паковать книгу, старик крест-накрест перетягивает ее тонкой лиловой лентой с бумажным бантом посередине.
– Готово.
– Спасибо за подарок.
– Приходите еще.
– Непременно к вам загляну.
– Все так говорят, но никто еще не вернулся.
Это откровение настигает меня у выхода; я уже взялась за ручку, но все еще не решаюсь толкнуть дверь.
– Нет, правда. Мне очень понравилось. Все было замечательно. За исключением кофе.
– Кофе неважный, да?
– На любителя.
– И то заведение, которое вы так упорно искали… «Cannoe Rose». Сдается мне, оно тоже на любителя.
Рука старика – пожухлая, с остро выступающими венами, пристраивается на дверной ручке рядом с моей рукой. Жест неопределенный, а потому – неприятный, что он собирается сделать? – закрыть дверь на щеколду или повернуть язычок замка, вмонтированный в ручку?.. Улица совсем рядом, за широкими окнами; я вижу деревья, растущие прямо из металлических решеток, уложенных на асфальт, вижу людей: они безучастно проходят мимо – так, как будто Libraine не существует, уличный шум не доносится внутрь магазина вовсе.
Странно. Хотя – почему же странно? ведь «люди совсем перестали читать».
– Какая глубокая тишина, – говорю я.
– В книжных магазинах всегда хорошая звукоизоляция. Разве вы не замечали?
– Я редко бываю в книжных магазинах.
– Теперь положение исправится?
– Надеюсь.
– Вы позволите совет напоследок, милая барышня?
– Конечно.
– Остерегайтесь мифов. Мифы имеют склонность втягивать человека в сомнительные истории. И, что самое неприятное, искажать его сознание.
– Я всегда была равнодушна к мифам.
– Это так, на всякий случай. Если вы все-таки найдете кафе «Cannoe Rose».
Пытка замкнутым пространством заканчивается так же внезапно, как началась: человек, бывший в прошлой жизни бородой Фиделя Кастро, нажимает на ручку и галантно распахивает передо мной дверь.
– Счастливого Парижа, мадемуазель.
– И вам счастливо…
…Я избавляюсь от еловых веток, рождественских колокольчиков и лилового банта у урны за ближайшим углом. И, стоя прямо посередине тротуара, бегло просматриваю китов и дельфинов, доставшихся мне на халяву.
Какое разочарование!
Я ждала романтического описания дельфиньей кожи. И историй зимней миграции китов, не менее захватывающих и не более правдоподобных, чем любая история миграции: с континента на континент, из страны в страну, из одной культуры в другую. Я ждала хронологии апокалиптических битв с акулами, муренами и электрическими скатами. Я ждала приложения с текстами песен, которые дельфины насвистывают своим возлюбленным в любом из океанов Земли.
Как бы не так!
Заунывный научный трактат – вот что такое «В мире китов и дельфинов»: графики, схемы, таблицы, математические и химические формулы. Данные, полученные при помощи батискафа. Данные, полученные при помощи эхолота. Данные, полученные при вскрытии и трепанации черепа. Влияние гамма-лучей на предстательную железу. Влияние бета-лучей на гипофиз. Пищевод дельфина-афалины(см. рис. 13), строение скелета дельфина-белухи (см. рис. 21), мочевыделительные пути касатки (см. рис. 75), забор планктона синим китом (см. рис. 194).
Какая скука.
Трудно представить, что подобная книга могла оказаться в багаже человека, отправляющегося в Африку покататься на волнах. Чем же она так привлекла Фрэнки? Даже если бы я знала ответ – это ни на шаг не приблизило бы меня к разгадке его убийства. Мочевыделительные пути касатки, надо же!..
Мочевыделительные пути, предстательная железа и гипофиз так и подталкивают меня к телефону-автомату, я полна решимости выбросить из головы китов и дельфинов, забить свой день до отказа, а заодно проверить телефонные номера на визитке, которую оставил мне Алекс. Их пять – и один точно французский, может быть – даже парижский. Я меняю сотенную, купив в ближайшем магазинчике пачку (ну кто бы сомневался!) ненавистных мне сигарет «Lucky Strike». Интересно, курила ли настоящая Мерседес, и если да – то какие именно сигареты? А может быть – самокрутки? А может быть – сигары? А может, она не курит вообще?.. Зажав мелочь в руке, я прохожу еще квартал в поисках телефона. После того, как телефон обнаружен, остается пробить номер, который я считаю французским (может быть – даже парижским). Мне везет, мне чертовски везет, с первого же раза я натыкаюсь на длинный гудок.
И трубку снимают сразу же.
– «Арт Нова-Поларис».
Застегнутый на все пуговицы и полупридушенный галстуком мужской голос на противоположном конце совершенно незнаком мне. Но я могу допустить, что у Алекса есть в запасе и такой – официально-офисный тембр. Уверенности придает и приставка «арт» в названии фирмы (если это фирма).
– Алекс?
– Простите?
Ну конечно же, это не Алекс. Сукин сын и правда оставил мне телефон фирмы, проведенная с ним ночь – совсем не повод, чтобы разбрасываться частными телефонами, я могла бы сообразить сразу. Ну хорошо же!..
– Я могу переговорить с Алексом Гринблатом?
– Нет.
– Почему?
– Босса нет в городе.
Уже легче. В главном Алекс не солгал: он заинтересован во мне и потому оставил телефон, по которому я смогу найти его.
Рано или поздно.
– Когда же он появится?
– Когда посчитает нужным. Он ведь босс.
Реплика слишком развязная для секретаря, или так шутит уборщик, вытряхивающий корзинки для бумаг во время обеденного перерыва? Судя по времени – он уже наступил.
– А с кем я говорю?
– Со мной. – Ну точно, уборщик. Или электрик. Или программист-надомник, приглашенный специально для того, чтобы восстановить рухнувшую операционку.
– Мне нужен Алекс.
– Сказано же: босса нет в городе. А вы по какому вопросу?
– Вы его заместитель?
– В некотором роде.
Разговор с заместителем-уборщиком-электриком-программистом-надомником медленно перетекает в иррациональную плоскость.
– Если вам необходимо связаться с Алексом…
– Необходимо.
– Вы можете все передать мне. Просто представьтесь и сообщите, по какому вопросу вы хотели связаться с господином Гринблатом.
«Господином Гринблатом», ого, я никогда не рассматривала Алекса под этим углом, что нужно сообщить офисному попугаю и о чем необходимо промолчать? «Мы перепихнулись» – конечно, это оживит деятельность конторы Алекса на ближайшие двадцать минут. «Мы перепихнулись в дешевой марокканской гостинице» – добавит еще двадцать минут хихиканья и перешептываний на рабочих местах. «Мы перепихнулись в дешевой марокканской гостинице, где я отвечала за кондиционеры и развозку постояльцев» – плюс еще полчаса гомерического хохота в курилке. «Мы перепихнулись в дешевой марокканской гостинице, где я отвечала за кондиционеры и развозку постояльцев, и после этого он предложил мне должность коммерческого директора» – вот это точно парализует работу конторы до конца рабочего дня, а заодно – и мочевыделительные пути особо впечатлительных и со скрипом продвигающихся по служебной лестнице работников. Меланхоличные раздумья о своей горестной судьбе у писсуаров им обеспечены.
– …Это личный вопрос.
– Хорошо.
– Передайте, что звонила…
Проклятье!., в беседах с марокканским следователем мы неоднократно возвращались к моим отпечаткам на бритве, только Алекс мог подтвердить невинность их возникновения. Тогда-то я и упомянула о визитке advise-giver, оставленной в номере. Визитка была передана мне Домиником вместе с другими вещами, но нет никаких гарантий, что она осталась невостребованной и что хитрый марокканец просто не списал номера телефонов. Если он всего лишь созвонился с Алексом по поводу чертовой бритвы – еще полбеды. Но сейчас, когда я совершила побег из Марокко, косвенно подтверждающий мою причастность к убийству, – телефон становится опасным. Что, если Алекса предупредили о том, что я – преступница и он должен сразу же сообщить о моем возможном появлении? Как бы я поступила на месте Алекса?
Ночь, проведенная в одной постели, – слабый аргумент.
– Алло? Я вас не слышу.
– Передайте ему, что звонила Мерседес.
Лихо. Признаться, я не ожидала от себя такой прыти.
С другой стороны – это самое разумное решение. «Никто нe собирается искать Мерседес Гарсия Торрес», – сказал Доминик. Сейчас я добавлю, что я в Париже и остановилась в гостинице «Ажиэль», и что в свое время Алекс был очень во мне заинтересован. Без сомнения, он назначит мне встречу – хотя бы из чистого любопытства. А потом…
Я не успеваю додумать, что будет потом: на том конце провода слышится тихий свист, и дыхание, до сих пор ровное и безучастное, становится прерывистым и совсем уж неприлично близким.
– Как вы сказали?
– Передайте ему, что звонила Мерседес, – терпеливо повторяю я.
– Но… Этого не может быть.
– Почему?
– Этого не может быть…
Непонятно, что так взволновало моего невидимого собеседника.
– Вы в Париже?
– С сегодняшнего дня. – Ответ хоть и туманный, но позволяющий продолжить разговор.
– Но как?.. Это невозможно…
– Возможно, как видите. Так как мне связаться с Алексом?
– Почему вы не позвонили ему на сотовый? Выходит, у Спасителя мира все же есть сотовый.
– Его телефоны не отвечают. Когда он появится?
– Я правда не знаю… – Такого искреннего сожаления, сострадания, сочувствия в чьем-либо голосе я не слышала уже давно. – Его нет не только в Париже, но и во Франции.
Алекс, Алекс, хренов коммивояжер!
– Жаль.
– Я понимаю. Где вы сейчас?
На табличке дома на противоположной стороне указано название, его я и произношу в телефонную трубку. Совершенно машинально.
– Улица Фердинанда Фабра. Кажется, так.
– Это… Какое-то определенное место на улице Фердинанда Фабра?
Интересно, что он имеет в виду?
– Да нет. Просто улица.
– Вы позволите мне приехать? – Такого поворота дел я не ожидала.
– Зачем? Мне нужен Алекс, а не м-м… его заместитель.
– Да, конечно… Возможно, я мог бы все вам объяснить при личной встрече. Поверьте, это очень важно.
– Для кого?
– Для меня.
Хорошо бы взять в толк, чего хочет человек на другом конце телефонной линии.
– Я сейчас подъеду. Буду так скоро, насколько позволят пробки… Только скажите, где конкретно вы находитесь?
– Разве мы знакомы?
– Нет. Но мне необходимо поговорить с вами.
Напор собеседника по меньшей мере удивляет. И заставляет искать подозрительные подтексты, двойное дно, усеянное обгорелыми спичками, частями скелета дельфина-белухи и насквозь проржавевшими опасными бритвами, задача номер один – не порезаться. Счастливо миновать возможные опасности; что, если людям, от которых я бежала, удалось выяснить, под каким именем обвиняемая в убийстве русская покинула Марокко, и уверения Доминика в том, что Мерседес Гарсия Торрес никто не ищет, лишены оснований? Одна лишь мысль об этом бросает меня в холодный пот. Нет-нет, марокканская полиция слишком нерасторопна и провинциальна, чтобы сработать так четко. Так безупречно.
– Что скажете, Мерседес?
Что сказала бы Мерседес, прекрасная, как яблоко? Мерседес, чье тело всегда на свету, а лицо – всегда в тени. Чье имя, впечатанное в искореженное железо мадридской электрички, на все лады повторяют мужчины в разных концах света; самба предполагает раскованность, румба – склонность к импровизации, пасадобль – здоровый авантюризм. Чтобы справиться со всем этим, мне просто необходим партнер.
– О'кей. Приезжайте. Только я понятия не имею, кто вы. Как мы узнаем друг друга?
– Это не проблема.
«Не проблема» означает, что некто из «Арт Нова-Поларис» (как быстро я запомнила дурацкое название!) видел меня раньше. Вернее, видел женщину по имени Мерседес. И даже ее паспорт в моем кармане не убедит его в том, что я и Мерседес – одно лицо.
– Вы полагаете, что это не проблема?
– У меня красный «Рено» с откидным верхом…
Ну зашибись!.. Это намного круче, чем престарелый «Мерседес» нашего автомеханика, впрочем, и «Рено» с откидным верхом тоже может оказаться заштатной колымагой. С помятым бампером и неродной краской.
– Скажите, куда подъехать точно.
– Слушайте…
– Меня зовут Слободан…
– Слушайте, Слободан. Здесь рядом уличная забегаловка, «Аль Карам». Я буду ждать вас в ней.
– Уже еду.
«Аль Карам».
Надпись на фронтоне здания маячила передо мной в течение всего разговора с таинственным Слободаном. Если судить по названию, посетителей должна ожидать чудовищно перевранная и оторванная от родной почвы cuisine arabe.
Спасибо, не надо.
На сегодня мне достаточно арабских воспоминаний. Каких бы то ни было: запеченных в тесто, жаренных во фритюре или притомленных в тажине с добавлением млухии, она окрашивает любое блюдо в жизнерадостный зеленый цвет. Я плюхаюсь в плетеное кресло за одним из стоящих на улице четырех столиков и заказываю вполне нейтральную чашку кофе. Возможно, кофе окажется не таким поганым, какой я имела неосторожность хлебнуть у карманного Фиделя. Возможно, таинственный Слободан окажется парнем, больше похожим на Алекса, чем на Доминика, о Фрэнки я даже думать не хочу.
Слободан, Слободан. Имя не французское и не арабское – югославское, правда Югославии больше не существует. Есть православная Сербия и мусульманская Босния, есть Словения, которую все вечно путают со Словакией, есть ворующее у Адриатики морских звезд Монтенегро, хорошо бы Слободан оказался атеистом.
«Аль Карам» явно не пользуется бешеной популярностью, и то, что я – единственный посетитель уличной его части, начинает меня беспокоить. Нервировать. Самую малость. Я выгляжу бельмом на глазу Фердинанда Фабра: сильно загорелая, почти темнокожая (но не арабка), черноволосая (но не брюнетка), с талмудом о китах и дельфинах, брошенным на столик. Из него торчит нелепый журнал с кроссвордом, буквы, которые помещены в его клетки, – русские. С другой стороны – стоит ли нагнетать ситуацию? Я вполне могу сойти за жительницу ближайших домов, которая пьет кофе в «Аль Карам» ежедневно, или за присевшую передохнуть туристку (в этом случае китов и дельфинов следовало бы перевернуть обложкой вниз, вряд ли туристы таскаются по городу с такими глубоко научными изданиями). Когда в конце улицы появится красный «Рено» с откидным верхом, я никак не отреагирую на его появление. Я предоставлю Слободану самому решать, подходить ко мне или нет. Если он когда-нибудь видел настоящую Мерседес, вопросы отпадут сами собой, он просто не найдет Мерседес в условленном месте, ей – прекрасной, как яблоко, – позволительны такие шутки с любым мужчиной. Если же нет…
Если нет – меня ждут несколько веселых минут (или десятков минут) до того момента, когда недоразумение выяснится и все станет на свои места, и о нем можно будет со смехом рассказать вернувшемуся в Париж Алексу. И пусть какой-то там Слободан зальется румянцем от стыда и неловкости за свою оплошность.
Красный «Рено» возникает на улице Фердинанда Фабра минут через двадцать. Издали я не могу точно определить марку машины, как не смогла бы определить ее вблизи, но красный цвет и откидной верх свидетельствуют: это и есть он, Слободан из конторы Алекса Гринблата. Прервавший офисную сиесту ради встречи с совершенно незнакомой ему женщиной. Я жду появления клерка в деловом костюме, или в белой рубашке без пиджака (но с галстуком), или в бледно-голубой водолазке; во всех трех случаях ботинки должны быть тщательно вычищены и выглядеть на тон светлее, чем брючный ремень. Именно такими – из безмятежно-каникулярной хмари Эс-Суэйры – мне всегда рисовались офисные работники.
То, что выпрыгнуло из красной машины с откидным верхом, меньше всего напоминает офисного антигероя моих эссуэйрианских грез.
Джинсовое недоразумение.
Прорехи на коленях и бедрах; драная жилетка, бывшая когда-то рубашкой, но теперь лишенная рукавов – они вырваны с мясом, с бессмысленной жестокостью, их дальнейшую судьбу даже страшно представить. Но и это еще не все: под жилеткой красуется футболка с хорошо известным мне именем:
РОНАЛЬДИНЬО
Ну точно, меня развели, как девчонку! И передо мной – типичный уборщик, воспользовавшийся телефонным звонком в кабинет боссу. Такой кретинический авантюризм, такой жлобский способ заводить знакомства – как раз в духе офисной обслуги (какой она виделась из безмятежно-каникулярной хмари Эс-Суэйры).
Ничто не заставит меня усомниться в правильности выводов.
Кроме разве что автомобиля. Слишком он хорош. Слишком нов. Слишком splendide. Уборщики на таких машинах не ездят по определению.
Пока я провожу сравнительный анализ красного кабриолета и почивших в бозе жилеточных рукавов, Слободан-РОНАЛЬДИНЬО шарит взглядом по окрестностям «Аль Карама». Спокойнее, Сашá, спокойнее, или лучше все-таки называть себя Мерседес?.. Я здесь одна, одна на четыре столика; четыре солонки, четыре подставки для салфеток и четыре стаканчика с зубочистками можно исключить. Каковы варианты последующего развития событий?
Он внимательно разглядывает меня и проходит внутрь, чтобы выйти через минуту с выражением досады на лице.
Он внимательно разглядывает меня, садится за соседний столик и смотрит на часы с выражением досады на лице.
Он внимательно разглядывает меня, садится за соседний столик, заказывает кофе и пьет его с выражением досады на лице.
Он внимательно разглядывает меня и возвращается к машине с выражением досады на лице.
Он внимательно разглядывает меня. Заливается краской (а я предполагала, что это наступит позже, много позже и совсем по другому поводу); ладно – пусть не краской, легким румянцем. Останавливается напротив, дергает себя за мочку уха и только потом подходит ко мне.
– Мерседес?
Вот оно!..
Он намного моложе Алекса и Доминика, и моложе Фрэнки, и ощутимо моложе меня, он никого не привел на хвосте, представить его в бледно-голубой водолазке невозможно, куда естественнее он смотрелся бы в велосипедном седле, или в седле мотороллера, или забивающим косячок, или крадущим кетчуп в универмаге, или взламывающим коды доступа к секретным файлам ФБР. Бездумный юношеский пух на его щеках венчается вполне осмысленной бородкой, мочки обоих ушей украшены серьгами (серьга в левом – попроще, серьга в правом – помассивнее). Уйма браслетов на запястьях (кожаный напульснике надписью «Someday my princess will соте», несомненно, украсил бы коллекцию), уйма дурацких бус на шее, единственное, что заслуживает внимания, – медальон на черном шнурке. Продолговатый и тонкий серебряный брусок с иероглифами.
Попсовый чувак, как сказали бы мои питерские друзья.
На голубого он не похож.
Вполне себе мачо, только очень юный. Очень хрупкий. Зарубка на дверном косяке, соответствующая росту юного мачо, была бы ненамного выше зарубки, соответствующей моему. Да нет же – совсем не выше! Он темноволос и светлокож, с глазами, из которых так и тянет своровать морскую звезду. И слишком яркими губами, уксусом такие не пригасишь.
– Мерседес?
Вот оно!..
Я делаю глубокую затяжку и выпускаю изо рта струю вонючего дыма. Нет, Мерседес никогда не стала бы курить такую дрянь, «Lucky Strike»!
– Рональдиньо?..
Отлично! Просто отлично! Даже Мерседес, сладкая, как яблоко, чье имя на все лады повторяют мужчины в разных концах света, – даже она не начала бы разговор элегантнее. «Мерседес – Рональдиньо», «Рональдиньо – Мерседес», пока все не выходит за рамки простого уличного знакомства, некая молодая женщина самым естественным образом отреагировала на надпись на футболке некоего задиристого юнца.
– Ха-ха! – неуверенно произносит Слободан-Рональдиньо.
Я снисходительно улыбаюсь ему в ответ.
Оказывается, всего-то и нужно было, что улыбнуться. Приободренный Слободан принимается хохотать: с такой готовностью, что юношеский пух моментально увлажняется и прилипает к щекам.
– Хорошая шутка. Мерседес! Вы позволите так вас называть?
– Рискните.
Вот оно!.. Он никогда не видел Мерседес раньше и никого не привел на хвосте. Кто такая Мерседес и почему она волнует воображение какого-то мальчишки из конторы Алекса Гринблата? Кто такая Мерседес и какие отношения связывали ее с самим Алексом? Уж явно не те, что связывали с ним русскую Сашá; ах, да, помнится, Алекс произносил мое имя без всякого акцента. И ставил ударение в нем именно там, где нужно.
Мерседес, кем бы она ни была, всегда имела под рукой личный телефон Спасителя мира. Она – имела, а я – нет.
И она спала с ним.
Эта мысль пронзает меня, словно молния. Из других мыслей (с риском для жизни они не связаны):
– все предопределено;
– случайностей не существует.
Я похожа на потерявшего память спецагента из множества американских боевиков; как правило, он приходит в себя среди предметов, которые ни о чем не говорят ему и назначение которых неясно. И любой из этих предметов может оказаться ключом к его прошлому. Или к будущему, все зависит от сценария. Или от того, насколько точно будет придерживаться сценария режиссер.
Неизвестная мне Мерседес может оказаться ключом к Алексу Гринблату. Хотя, признаться, дверь с табличкой «ALEX GRINBLAT» я не слишком-то искала. Но от череды событий, приведших меня к ней, просто дух захватывает: сначала обвинение в убийстве, затем побег: его устроил близкий друг, и он же снабдил меня новыми документами (то ли подлинными, то ли фальшивыми). Он отправил меня в Париж (а мог бы отправить куда угодно) – и единственный человек, которого я знаю в Париже, оказывается по меньшей мере хорошим знакомым женщины, чье имя проставлено в документах. А вдруг совпадет и фамилия? Совсем фантастический вариант, но тогда уже точно можно будет сказать:
– все предопределено;
– случайностей не существует;
– американские боевики не так уж не правы.
В любом случае я стала не только обладательницей ключа по имени Мерседес, но и некоего подобия замочной скважины по имени Слободан.
– …Итак?
Я с самым независимым видом постукиваю сигаретной пачкой по столу. Пути к отступлению не отрезаны, картинка обычного уличного знакомства не претерпела существенных изменений: некий задиристый юнец предложил некоей молодой женщине называть ее Мерседес, и та согласилась.
– Я чертовски рад, что сообщение о вашей смерти не подтвердилось.
– Было и такое?
Вытолкнуть эти слова из горла удается с большим трудом, до сих пор я серьезно не задумывалась о судьбе Мерседес – не той, которая якобы погибла в мадридской электричке, а той, чьи документы лежат сейчас в заднем кармане джинсов. Впрочем, может существовать еще и третья Мерседес, и четвертая, и пятая.
– Алекс очень расстроился.
– Могу себе представить.
– Компаньоны гибнут не каждый день.
– Это точно.
«Компаньоны», вот как. Пачка дешевых сигарет, которой я все еще колочу по поверхности стола, вступает в явное противоречие с саквояжем и туфлями Спасителя мира. Более того, и в страшном сне не приснится, чтобы дорогущий саквояж Алекса взял в компаньоны мои зачумленные «Lucky Strike». Но у меня все еще остается возможность перевести все в шутку и сказать юному Слободану, что он ошибся, что я совсем не та Мерседес. Я – номер два, а Алекс расстраивался по поводу номера три. Или четыре. Или пять. Только в этом случае наша возможная встреча с Алексом не будет отягощена побочными эффектами. И мы еще сможем посмеяться над мальчиком, принявшим меня за другую женщину.
Я должна признаться. Прямо сейчас.
Но вместо признания с моих губ слетает:
– Пора бы сменить чертовы сигареты. А лучше вообще отказаться от курения. Как выдумаете, Слободан?
– Все знают, что вы курите эту марку.
Вот так номер. Спасители мира и их компаньонки – слишком неисследованная область, чтобы делать скоропалительные выводы о совместимости очень дорогих и очень дешевых вещей.
– Вы тоже в курсе?
– Конечно.
– Вы в курсе, какие сигареты я курю, но никогда не видели меня в лицо?..
Все. Это больше не простое уличное знакомство. Я косвенно подтвердила, что и есть та самая Мерседес, встречи с которой так домогался парень из конторы Алекса. Но ничего противоправного я не совершила. И сказала лишь то, что хотели услышать.
– Однажды я подвозил к вашему дому пакет. По просьбе Алекса.
– Что-то я такого не припомню.
– Ну конечно. Я позвонил снизу, а вы сказали, чтобы я опустил пакет в почтовый ящик.
– И?..
– Я так и поступил.
– А по поводу сигарет?
– Алекс как-то заставил меня вынести целую кучу пустых пачек из своего кабинета. Сказал, что это ваши. Что Мерседес уже достала… простите…
– Ничего.
– Что Мерседес уже достала этим своим дерьмом, но что поделаешь – нужно мириться. Мерседес – это Мерседес.
– Даже так? – Странно, что мне до сих пор удается отделываться общими фразами.
– Мерседес – лучшая.
– Выдумаете?
– Так думает Алекс. Я, впрочем, тоже.
В глазах юного Слободана полно не только морских звезд. Но и раковин, жемчужин, осколков бутылочного стекла, давно превратившихся в смальту, – все это богатство сияет нестерпимым, обращенным в мою сторону светом.
– И я счастлив, что с вами ничего не случилось. Представляю, как обрадуется Алекс.
– Не уверена. Что он успел рассказать вам? О том, что произошло?
– Особенно он не распространялся. Я просто случайно услышал его разговор по телефону.
– С кем?
– Не знаю.
– И он сказал кому-то, что Мерседес погибла?
– Да.
– И выглядел при этом очень расстроенным?
– Да.
– И вы сложили два и два? И потому посчитали, что Алекс расстроился из-за гибели Мерседес? – Я тут же одергиваю себя. – Из-за моей гибели?
– Да.
– Сколько получилось в сумме?
– Не понял…
– Сколько получилось в сумме, когда вы сложили два и два?
– Четыре. А нужно чтобы сколько?
– Пять.
Я совсем обнаглела. Что сделал бы Алекс, если бы увидел, как недавняя марокканская знакомая из отеля (две звезды) разводит сотрудника его фирмы как последнего лоха?
Уволил бы сотрудника.
И принял бы меня на его место. Наше недолгое общение в Эс-Суэйре было довольно эксцентричным, полным скрытых психологических тестов, значение которых неясно до сих пор. Ну и отлично, в этом свете разговор за столиком кафе «Аль Карам» можно считать продолжением марокканской эпопеи. «Удивите меня», – неоднократно взывал Алекс. Вот я его и удивляю, бонус в десять евро мне обеспечен. Впоследствии мы вместе посмеемся над этой шуткой, этим розыгрышем, я все еще продолжаю надеяться, что посмеемся. И потом, я просто развлекаюсь, или скорее – отвлекаюсь. После всего пережитого мне просто необходимо сбросить напряжение, начать говорить – хоть с кем-нибудь, хоть о чем-нибудь. Сходные желания испытывает Слободан (с той лишь разницей, что говорить он хочет с одним конкретным лицом, а именно – с Мерседес).
– …Да. Пять, – парень сбит с толку окончательно.
– У меня всегда получается – пять.
– Что-то подобное я и предполагал…
– Зачем вы хотели встретиться со мной?
– Собственно… Меня не устраивает моя нынешняя работа. Когда Алекс нанимал меня, он говорил совсем о другом.
– При чем же здесь я? Вас нанимал Алекс, с ним и разбирайтесь.
– Я понимаю, но… такую работу я мог бы найти и у себя дома. Пусть даже это потребовало некоторых усилий.
– Откуда вы?
– Из Боснии. Я серб, но пришлось прикинуться боснийцем…
Ничего удивительного в этом нет. Я русская, но пришлось прикинуться испанкой, живущей в Нюрнберге. Остается надеяться, что обстоятельства, заставившие серба Слободана перекраситься в боснийца Слободана, были не такими трагическими. А впрочем, мне все равно.
– В Европе и особенно во Франции не очень-то жалуют сербов.
– К боснийцам относятся много лучше?
– Их тоже не любят, но терпят из соображений политкорректности. Как и всех остальных.
Тема, которую Доминик не затрагивал в наших вечерних разговорах на террасе, но иногда ее поднимала Фатима. И Джума, брат Фатимы, – если сумма, которую я платила за покупки в его лавке, превышала пятьдесят дирхам. Справедливости ради, это случалось довольно редко, но когда пятьдесят дирхам заплачены, Джуму не остановить. Как будто эти деньги – не что иное, как плата за входной билет на выставку его политических убеждений. И религиозных убеждений. И человеческих. В отличие от сестры, Джума нисколько не рвется в Европу, он искренне не понимает, почему западная модель мироустройства считается лучшей, считается единственно верной. Будь Джума рыбаком подобно Хакиму или Хасану, такие мысли даже не возникли бы в его голове. Но Джума – торговец и к тому же несколько лет был любовником одной экзальтированной бельгийки, приехавшей в Марокко в поисках острых ощущений. Отголоски споров с бельгийкой слышны до сих пор, хотя она, получив свою порцию адреналина, благополучно убралась обратно: из бедного королевства в королевство процветающее. Должно быть, бельгийка оказалась не очень хорошим пропагандистом: нелюбовь Джумы к Западу слишком очевидна. К двуличному Западу, к кичливому Западу, к зажравшемуся Западу. К дряхлеющему Западу, к высокомерному Западу, к Западу, погрязшему во вранье. К Западу, доставшему всех мнимой веротерпимостью. К Западу, постоянно и назойливо извиняющемуся за свое благополучие. К Западу, не способному отказаться от плазменных телевизоров, платных парковок и тряпок от Calvin Gain. К Западу, раздающему подачки. К Западу, разбрасывающему в бесплодных пустынях гуманитарные тюки с просроченными продуктами и одноразовой посудой. К Западу, время от времени записывающему песни в знак поддержки голодающих в Азии и Африке – эти песни никто и никогда не услышит, в Азии и Африке – уж точно. К Западу, готовому расстаться с некоторой (совсем не астрономической) суммой, только бы его покой не был потревожен. Напрасные старания, рано или поздно Запад падет. Под натиском тех, кого он не сумел ассимилировать, кого он не сумел переварить. С желудком у Запада – большая беда, слишком он изнежен. Слишком жалки его мускулы. Слишком рыхл живот – пояс шахида на нем не удержать. Фатима не так кровожадна, как ее брат, она все еще не теряет надежды перебраться в Голландию, не особо отличающуюся от Бельгии и от благословенной Франции. К тому же она куда как умнее своего братца, странное слово «политкорректность» не заставляет ее стыдливо прикрывать рукавом лицо. Совсем напротив – политкорректность отличная основа под макияж, несколько чрезмерный, как и все на Востоке. Но и Фатима считает, что Западу нужно перестать играть в вялые настольные игры типа «монополии» и викторину «угадай, кто твой друг?» – и всерьез начать качать брюшной пресс. Глубинному интересу к прайс-листам с бытовой и компьютерной техникой и увлечению арабскими гаданиями такие мысли не мешают.
Не знаю, с кем я солидарна больше – с нигилистом Джумой или с рассудительной Фатимой.
Похоже, что с Джумой.
– …Значит, вам не слишком-то здесь нравится, Слободан?
– Скажем, вернуться на родину я бы не хотел.
– Где же вы познакомились с Алексом?
– В Сараеве. В то время, когда американцы бомбили Белград. Тогда мне было пятнадцать.
Еще одна полузабытая война, сколько лет прошло с тех пор, как американцы бомбили Белград? Пять, шесть? Теперь не вспомнить точно, я и не должна помнить. Я русская, в худшем случае – испанка, живущая в Нюрнберге; будучи русской, я всецело поддерживала сербов (боснийские сербы не исключение). А кого бы я поддержала, будучи испанкой? Я была бы против войны вообще, ковровые бомбардировки не по мне, но и этнические чистки ничем не оправдаешь. Так сколько же прошло лет? Пять, шесть? Любовь, которая случилась со мной много позже, напрочь выбила из башки какие бы то ни было войны, что уж говорить о войне, не касавшейся впрямую ни меня, ни моих близких. То же или почти то могло произойти и с испанкой Мерседес. Но почему он так пристально смотрит на меня, этот Слободан? Мерседес имела отношение к бомбардировке Белграда?..
– Вы говорите – в Сараеве?
– Да. Алекс готовил к вывозу оттуда работы моего старшего брата. Художника.
– Кажется, я припоминаю эту историю. – Если бы не взгляд Слободана, я не стала бы распространяться на тему Сараева. Но и молчать невозможно.
– Кончилась она печально. Картины пропали. А потом пропал и брат.
– Сочувствую.
– Вы должны были знать его…
Впервые с начала разговора мы пересекаем черту, за которой солнечный парижский день слегка тускнеет; с замиранием сердца я жду, что Слободан произнесет всю фразу целиком: «Вы должны были знать его, если вы Мерседес».
– Вы должны были знать его. Душан Вукотич.
– Сколько лет прошло? Пять, шесть?
– Не важно. Я не верю в то, что он мертв. Во всяком случае, никто не доказал мне обратного.
– А что говорит Алекс?
– Алекс не любит вспоминать о неудачах, вы же знаете Алекса. Даже странно, что он взял меня в команду. Ведь я живое напоминание о той его неудаче.
– Значит, вы сильно его удивили.
Глаза Слободана смягчаются – я снова вижу в них морские звезды, раковины и жемчужины. И осколки бутылочного стекла, превратившегося в смальту.
– Возможно. Удивил.
– Интересно, чем?
– Я хороший снайпер. Выбиваю дырку в монете с расстояния в сто шагов.
– Впечатляет.
– Я разбираюсь в сигнализации любой степени сложности.
– Потрясающе.
– Я могу запомнить до семидесяти комбинаций пятизначных чисел.
– С одного прочтения?
– Да. Что скажете?
– Вы уникум.
– Алексу это не нужно.
Конечно, не нужно. Зачем знаменитому галеристу дырка в монете, выбитая с расстояния в сто шагов? Зачем крупному теоретику современного искусства семьдесят комбинаций пятизначных цифр? Вот если бы речь шла о комбинациях шестизначных цифр – дело другое, гребаное современное искусство (то, которым приторговывает Алекс) прочно зависло в шестизначном ценовом коридоре. Я не сомневаюсь в этом ни секунды.
– С чего вы взяли, что ему это не нужно?
– Я занимаюсь всякой ерундой. Оформляю выставки, оформляю таможенные декларации, заказываю авиабилеты, как последняя секретутка…
– Разве это не соответствует профилю фирмы «Арт Нова-Поларис»?
– Это может делать любой. Но даже сигнализация и охранные системы проходят мимо меня. Хотя я неоднократно предлагал Алексу свои услуги…
Зачем Алексу Гринблату услуги по установке сигнализации? Не такая уж я дура, чтобы не сообразить – зачем. Возможный ответ лежит на поверхности: за товаром, стоимость которого исчисляется в пятизначных, шестизначных (а то и семизначных) цифрах, нужен глаз да глаз.
– И что Алекс?
– Алекс считает, что испытательный срок еще не кончился.
– Какой?
– Он брал меня на работу с испытательным сроком.
Про испытательный срок лично мне не было сказано ни слова. Но обстоятельства нашего с Алексом знакомства были иными, чем обстоятельства его знакомства со Слободаном. А если и сходными – то постель в них явно не входила. Во всяком случае, мне хочется в это верить.
– И как долго он длится?
– Полтора года.
– Многовато.
Это и правда много – для оформления выставок, заполнения таможенных деклараций и заказа авиабилетов.
– И вы не пробовали поговорить с ним?
– Без толку. Вы же знаете Алекса…
Я совсем, совсем не знаю Алекса Гринблата!
– Чего же вы хотите от меня? Чтобы с ним поговорила я?
– Нет. Конечно, было бы неплохо, если бы вы поговорили с ним. Но совсем о другом.
– О чем же?
– Я хочу работать с вами.
– Со мной?
– С вами. Заниматься тем, чем занимаетесь вы.
Глаза Слободана темнеют, поршень юношеского кадыка едва не таранит кожу на шее, ноздри вибрируют. Я не имею ни малейшего понятия, чем занималась настоящая Мерседес, компаньонка Алекса, но… Из списка ее возможных занятий нельзя исключить ничего: ни установку (а возможно – и разблокировку) сигнализации и охранных систем. И стрельбу по монете с расстояния в сто шагов. Я совсем, совсем не знаю Алекса Гринблата!..
– Не думаю, что это хорошая идея.
– Я знаю… Мерседес всегда работает одна. Мерседес справляется со всем самостоятельно. Но в последний раз все вышло не совсем гладко, а?
– С чего вы взяли?
– Иначе Алекс не стал бы распространяться о вашей гибели. Как видите, я умею складывать два и два.
– Но в сумме всегда получаете четыре. Я жива.
Я брожу между фразами Слободана, как бродила по смотровой площадке старого форта в ночь убийства: меня окружает полная, абсолютная темнота. И, кажется, дела обстоят еще хуже, чем тогда: со смотровой площадки мне удалось выбраться, найдя точку опоры и ухватившись рукой за поручень. Теперь такой точки опоры нет.
– А если прибавить единицу? Получится пять. Единицу, Мерседес. Одного человека.
– Кого же?
– Меня. Я не дурак. Все это время я наблюдал и сопоставлял факты. – В голосе Слободана появляются новые – едва ли не угрожающие – нотки. – Я нарыл целую гору материала. И я давно мог бы сдать вас.
– Меня?
– Вас, Алекса – не важно…
– Что же не сдали?
– Я ведь уже говорил.
– Нет.
– Мне нравится то, чем вы занимаетесь. И я хотел бы заниматься тем же. Не заполнением таможенных деклараций. Не погрузкой в контейнеры всего того дерьма, которое выдают за шедевры. Не авиабилетами.
– А чем?
– Вы знаете. Если я со ста шагов попадаю в монету, то в чью-то голову попаду наверняка…
***
…MERSEDES TORRES
написано на белой узкой полоске бумаги, забранной в плексиглас, коричневая кнопка звонка – рядом. Для шестиэтажного многоквартирного дома список жильцов не слишком внушителен. Над Мерседес -
ZACHARY BREAUX
под Мерседес -
SHIRLEY LOEB.
Номер квартиры Захари – 26. Номер квартиры Ширли – 28. Мне (да нет же, Мерседес, Мерседес!) достается вечный двадцать седьмой.
Двузначная цифра, не представляющая никакого интереса для щенка Слободана.
Впрочем, после того что произошло, вряд ли можно считать Слободана щенком. Детская синева его глаз обманчива, раковины и морские звезды – сплошь подделки, какими новомодные дизайнеры заполняют стеклянные прогалины в дверях ванных комнат, жемчуг – не морской, не речной и не искусственно выращенный, так, легкие шарики из пластмассы, даже китайцы не опустились бы до изготовления такой дешевки. Лишь осколки бутылочного стекла не вызывают сомнений в подлинности, – того и гляди порежешься об их острые края.
Конечно, на эффект, который вызывает прикосновение к горлу опасной бритвы, рассчитывать не приходится, но… нужно соблюдать известную осторожность.
Слободан Вукотич – сумасшедший.
Психопат, маньяк. Тип, одержимый идеей убийства ради убийства – ни один из синонимов не будет преувеличением, я жалею лишь об одном. Ну почему, почему он не оказался Душаном Вукотичем, своим старшим братом-художником? У меня есть опыт общения с художниками и с философичным мямлей Душаном (он кажется мне похожим на Доминика), мы бы наверняка поладили. Но Душан пропал, и мне достался младший – Слободан.
Психопат, маньяк. Тип, одержимый идеей убийства ради убийства.
Стоит ли винить в этом самого Слободана? Ему было всего лишь пятнадцать, когда американцы бомбили Белград. Ему было десять, или одиннадцать, или двенадцать, когда этнические чистки шли вовсю, а ненависть боснийцев к сербам и сербов к боснийцам переживала расцвет. Сейчас она слегка поутихла, но не исчезла окончательно.
К сожалению, эта ненависть Слободана больше не волнует.
Он ищет другие поводы, другие причины, другие следствия, хорошо еще, что движение в Этом городе почти везде одностороннее, Слободан из тех ненормальных, что вечно выскакивают на встречную полосу. С неистовством и почти со сладострастием, с безудержным желанием столкнуться с кем-нибудь лоб в лоб – в надежде на то, что авто противника разобьется в лепешку, а сам он отделается легкой царапиной на бампере своего «Рено». Если бы мы сейчас оказались в Марракеше или на горном серпантине по пути из Эс-Суэйры в агадирский аэропорт – последствия этого путешествия были бы весьма плачевны.
Но и здесь, в самом сердце равнинного большей частью Парижа, их трудно предугадать.
Слободан сам вызвался отвезти Мерседес домой. Хотя и странно, что она без машины. Всем известно, что Мерседес предпочитает свою машину и обычно…
– Обычно да, Слободан. Но сегодня я решила обойтись без колес. После всех потрясений… Вы понимаете меня…
Конечно, Слободан понимает.
– И если вам не доставит беспокойства…
Никакого беспокойства, ему будет даже приятно, он всегда мечтал познакомиться с Мерседес и вот наконец это случилось, он знает, где находится дом Мерседес, он отвозил туда пакет с документами по просьбе Алекса и хорошо запомнил дорогу – не отсюда, конечно, из головного офиса, но дела это не меняет. Шестнадцатый округ, да?
– Да.
– Неподалеку от моста Бир-Хаким, да?
– Да. – Ни один мускул не дрогнет на моем лице.
– Авеню Фремье, я прав?
– Вы хорошо осведомлены.
– У меня отличная память.
– Семьдесят различных комбинаций пятизначных чисел. Я помню.
Если бы Слободан хоть однажды видел Мерседес, он бы просто не подошел ко мне в «Аль Караме»; сидя в «Рено» рядом с ним, я сожалею о том, что произошло. Я горько раскаиваюсь. Развести доверчивого юнца – одно, а обмануть сумасшедшего, психопата, маньяка – совсем другое, история может выйти мне боком. Мы слишком далеко зашли. Слободан – вот кто завел меня в трясину; сначала было не предвещающее беды мелководье – раковины, морские звезды и все такое, прозрачность воды не вызывала сомнений, все в духе пляжных отмелей, к которым я так привыкла в сине-белой и гораздо более благословенной, чем Франция, Эс-Суэйре.
Ничего этого больше нет.
Нет – после того как серб вполне прозрачно намекнул на несколько иную направленность конторы Алекса Гринблата, чем просто втюхивание современной мазни всем желающим. «Все это время я наблюдал и сопоставлял факты. Я нарыл целую гору материала. И я давно мог бы сдать вас» – от этого попахивает откровенным шантажом, на корабле зреет бунт, интересно, Алекс в курсе? Мимолетное и вполне невинное приглашение в Европу поработать не было связано с противоправной деятельностью, а от Слободана я услышала нечто совсем не предназначенное для моих ушей. Нечто бросающее тень на репутацию знаменитого галериста. В журналах, завсегдатаем которых является Алекс Гринблат, такое не печатают.
После всего я не могу появиться в конторе Алекса – ни как русская Сашá, ни как испанка Мерседес. А если и появлюсь – то как объясню, что по странному совпадению стала обладательницей паспорта на чужое имя? Чужое для меня, но хорошо знакомое самому Алексу. Ну почему, почему мне не досталась Мария, или Мартина, или Мишель, или Мона?.. Спаситель мира не производит впечатление человека, который верит в случайности.
Я и сама в них не верю.
Все предопределено – случайностей не бывает – американские боевики не так уж не правы.
С моей точки зрения картина мира выглядит именно так.
Но я вполне допускаю, что у Алекса может совсем иная точка зрения. И если он наконец-то даст Слободану именно ту работу, которой так добивается неугомонный серб, – не исключено, что эта точка запляшет в центре моего лба.
Как проекция лазерного прицела.
«Если я со ста шагов попадаю в монету, то в чью-то голову попаду наверняка». В чью-то голову, ха-ха!..
В мою, в мою, в мою.
Мне до тошноты хочется выбраться из проклятого красного «Рено», так почему я не прошу Слободана остановиться? Он бы не смог, не посмел отказать Мерседес. Единственная причина – Алекса нет в Этом городе. И когда он вернется – неизвестно, а значит, кем бы я ни была – русской Сашей или испанкой Мерседес, стоит взять себя в руки. В ближайший час или полчаса, или двадцать минут, или десять минут (я не знаю, сколько времени займет поездка до моста Бир-Хаким, я впервые услышала это название от Слободана) – мне ничего не угрожает. И, в конце концов, я оказалась в Париже не просто так, осмотр достопримечательностей и экскурсии по историческому центру в мои планы не входят. Я – бежала от обвинений в убийстве, которого не совершала, но в котором просматривается и след Алекса Гринблата. Если быть объективной, если быть честной до конца. И я имею право спросить, почему он заставил меня взять в руки чертову бритву, а сам даже не прикоснулся к ней.
Это по меньшей мере странно, мой марокканский следователь так прямо и сказал.
Но напрямую задавать вопросы Алексу я еще не готова. Слободан – дело другое.
– У вас прекрасный медальон, Слободан.
– Какой?
– Вот этот. – Я указываю пальцем на узкий прямоугольный брусок, болтающийся на черном шнурке. – С иероглифами. Он серебряный?
– Да.
– А иероглифы? Что они означают?
– Пожелание счастья.
– Оригинальная вещица.
– Ее отлил мой брат. Он ведь был еще и ювелиром. Занимался этим для души. Так же, как и картинами. У него было много идей. Много заготовок – из золота, из серебра. Но ничего не сохранилось, кроме этого медальона.
– Почему?
– Мастерскую разграбили. Боснийские твари. Я достал нескольких из отцовского ружья, но патронов было слишком мало. Вам правда понравился медальон?
– Он не может не нравиться.
– Тогда держите.
Бросив руль на скорости в запрещенные семьдесят километров, Слободан стягивает с себя медальон и надевает его мне на шею. Пальцы юноши горячи, как угли, а серебряный брусок, напротив, прохладен. Сходные ощущения от прикосновения металла я испытала не так давно – когда на моих запястьях щелкнули наручники, а один из представителей марокканской gendarmerie зачитал мне права.
– Боюсь, я не могу принять ваш подарок, Слободан…
– Почему?
– Это же память о брате.
– Мерседес сентиментальна?
– Нет, но…
– Пустяки. Поверьте, случаются ситуации, когда от памяти хочется отделаться. И чем скорее, тем лучше.
– Вы правы. – Впервые я смотрю на Слободана если не с симпатией, то с глубоким пониманием.
– Пожелание счастья. Мерседес! Пожелание счастья! – Слободан жмет на клаксон и (прямо на середине перекрестка) ударяет по газам.
Кажется, я совершила непростительную глупость, когда позволила психопату набросить на себя удавку – именно так это и выглядит, именно этого я и жду: черный шнурок легко стянуть под горлом, кожа посинеет, и через три-пять секунд наступит асфиксия.
– Пожелание счастья, Мерседес. – Синие сербские глаза становятся совсем прозрачными, а в сербском голосе явственно слышатся интимные нотки.
– С этим у меня все в порядке.
– У меня тоже. Я счастлив, что познакомился с вами, Мерседес.
Я совершила непростительную глупость много раньше – когда согласилась на встречу со Слободаном, теперь он от меня не отстанет.
О семидесяти километрах можно забыть, мы движемся едва ли на тридцати: из-за плотного движения мост Бир-Хаким все откладывается и откладывается. Слободан использует это обстоятельство на полную катушку: я уже успела прослушать курс лекций о ювелирном деле, которым занимался его брат, и о том, что обрабатывать серебро намного сложнее, чем золото, и о том, что сам Слободан никогда не стремился подражать старшему брату, в число его кумиров Душан не входил.
Философичный мямля, я была права.
Что же касается смерти Душана – подлинной или мнимой, – Слободан не верит в нее до сих пор. Не потому, что этого не могло случиться в принципе, нет. Просто смерть никогда бы не заинтересовалась такой блеклой персоной, как Душан Вукотич, а если бы он (по недоразумению) вдруг попался – его бы сняли с крючка как не заслуживающую внимания рыбную мелочь и отправили обратно в воду, подобный улов не делает чести никому.
Смерти тем более.
Душан с багажом из пятнадцати подготовленных Алексом картин сел в поезд в Сараеве, чтобы выйти в словенской Любляне и уже оттуда лететь самолетом во Францию, почему был выбран кружной путь – неизвестно до сих пор. К тому же Душан так и не прошел его до конца, вместо словенской Любляны случился хорватский Сплит – направление почти противоположное заданному, Душан развернулся на девяносто градусов. Это не в характере Душана, а его торопливый звонок из Сплита ничего не объяснил: планы изменились, братишка… я отправляюсь в Италию, пробуду там какое-то время, нет, ничего особенного не случилось, просто неожиданно возник покупатель на картины… ему нравится то, что я делаю, и он предлагает сумму гораздо большую, чем предложил господин Гринблат… позвоню, как только доберусь до места, а если объявится Алекс – передай ему… нет, не нужно ничего передавать, я сам свяжусь с ним и все объясню.
Больше звонков от Душана не поступало.
Алексу он тоже не звонил.
И все же Слободан пытался искать брата именно через Алекса, обозленного несоблюдением контракта, – тщетно. Душан как в воду канул. И его картины нигде не всплыли – ни одна из пятнадцати. Какое-то время муссировались слухи о гибели Душана, не сам ли Алекс их распускал?
Слободан не помнит точно.
– Он был очень талантливый художник, мой брат. – Слободан откидывается на сиденье и чешет переносицу. – Как говорит Алекс, такие рождаются раз в столетие.
– Я сожалею, Слободан.
– Лично мне не нравилась его мазня. Но если что-нибудь из этой мазни всплывет – оно будет стоить больших денег. Как говорит Алекс.
– Хотите наложить на них лапу?
– Нет. Я уже говорил, чего хочу. Работать с вами.
Я – в который уже раз – напрягаюсь, когда появится чертов Бир-Хаким?.. Общих фраз и туманных ответов на вполне конкретные вопросы все меньше и меньше, Слободан вот-вот меня раскусит. О том, что наступит после этого, лучше не задумываться.
– Назовите хотя бы одну причину, почему ваше желание должно быть исполнено.
– Я уже называл. И не одну, а целых три.
Байка про монету. Байка про сигнализацию. И – математическая байка, я помню.
– Я помню, Слободан.
– Этого достаточно или нужно что-то еще? К примеру, у меня нет моральных принципов.
– А неморальных?
– Никаких.
Он не врет, это видно по глазам, по-прежнему прозрачным; по губам – они вытянуты в шнурок, на нем может болтаться все, что угодно. Самый нейтральный вариант – гильза от патрона, которым был уложен босниец, попытавшийся ограбить ювелирную мастерскую Душана Вукотича. Ах, да, таких боснийцев было несколько, значит – и гильз будет больше, чем одна. И никаких иероглифов с пожеланием счастья – их просто умаешься выбивать.
– Вряд ли Алекс придет в восторг от того, что я увожу его людей.
– Значит, вы согласны?
– Нет.
– Вы можете поставить его перед свершившимся фактом. Вы компаньоны и имеете равные права, разве неправда?
– Хорошо, договоримся так: я буду иметь вас в виду.
– Это означает «да»?
– Это означает – «я подумаю».
Вот и мост.
Панорама, открывающаяся с него, впечатляет. Иногда стоит какое-то время пожить у океана, чтобы по достоинству оценить прелесть реки. Наличие в ней воды – уже потрясение, особенно для меня, привыкшей к сухим марокканским поймам, красным от выступившей на поверхность глины. Так было не всегда, три года – не вся жизнь, но я успела забыть о Неве, а Сена – напомнила, вода в ней такая же грязная, такая же мутная; она также загнана в каменный корсет набережных – ни вдохнуть, не выдохнуть, возможностей для импровизации не остается. Я скучаю по Марокко.
– Эта история с ювелирной мастерской вашего брата…
– Что вас беспокоит, Мерседес?
Пора бы перестать вздрагивать, когда тебя называют Мерседес. И нервно трясти сигаретой – тоже.
– Вы правда стреляли?
– Я устроил настоящую бойню! Если захотите, я расскажу подробнее.
– Не сейчас.
– Я понимаю. Не сейчас, но когда-нибудь.
– Когда-нибудь… может быть.
– Это означает «да»?
– Это означает – «я подумаю».
Что произошло бы со Слободаном, не будь войны, этнических чисток и бомбардировок Белграда? Он никогда бы не оказался здесь, а если бы оказался – то совсем по другому поводу. Насколько я успела узнать Слободана Вукотича и о Слободане Вукотиче – он бежал совсем не от войны. Бежать от войны – типам, подобным Слободану, такое и в голову не придет, они не отвалятся, пока не выжмут из нее все соки, пока она не затихнет сама собой или не будет прекращена насильственно, в виду явного преимущества одной из сторон; пока стреляные гильзы не станут диковинкой и поводом для возбуждения дела. День окончания войны всегда трагичен для типов, подобных Слободану, независимо от того, на чьей стороне они находятся.
Зачем психопат и маньяк понадобился Алексу? Это не мое дело.
Я больше никогда не увижу его. И об Алексе придется забыть – что ж, это всего лишь расплата за непростительную глупость, которую я совершила, согласившись на встречу с сумасшедшим из его конторы. И слава богу. Слава богу, что мы со Слободаном пересеклись на нейтральной территории, и я – совершенно безнаказанно – смогу вернуться в нигде не засвеченный отель, а вечером позвонит Доминик с утешительным известием о том, что детектив из Касабланки взял след; возможно – это сообщение придет завтра, или послезавтра, или через три дня. Но оно обязательно придет.
Иначе и быть не должно.
Мне не нравится роль Мерседес Гарсия Торрес. Пересечь в ее образе границу – еще куда ни шло, но все остальное… Легкий скетч прямо на моих глазах трансформировался в авантюрную драму с неясным финалом, я не знаю, чего ожидать от партнеров, возникающих совершенно ниоткуда, и я абсолютно не способна к импровизации.
Почти как река, затянутая в корсет набережных.
«Бездарная актрисулька» – так я думала о себе совсем недавно, утром, когда Natasha дала мне ключ от номера, заранее заказанного Домиником. С тех пор ничего не изменилось, и таланта не прибавилось, а вот подтверждений собственной бездарности – хоть отбавляй. Хоть задницей ешь, сказали бы мои питерские друзья.
– …Вы преувеличиваете, Слободан.
– Нисколько.
«Рено» стоит в довольно тихом местечке уже несколько минут, нас окружают однообразные фасады домов – если под однообразием подразумевать архитектурную сдержанность, буржуазную сдержанность, сдержанность цветов на этикетке бутылки хорошего вина.
Авеню Фремье выглядит вполне респектабельной.
Впрочем, после живописной и крикливой нищеты марокканских улочек любая европейская улица покажется респектабельной. Мерседес живет на авеню Фремье, так говорил Заратустра.
Слезайте, приехали.
Конец пути.
– …Нисколько не преувеличиваю, Мерседес. Я познакомился с вами и счастлив. Мне давно хотелось увидеть женщину, о которой Алекс говорит в превосходных степенях. И вот еще что… Мне кажется – он побаивается вас.
– А вот это – уж точно преувеличение.
На секунду мне даже становится жаль юнца с квелой бороденкой – так глубока пропасть его заблуждений относительно брюнетки, сидящей рядом.
– Нет, нет! Мерседес – это почти миф. Вы понимаете, о чем я говорю?
Все предопределено – случайностей не бывает – сегодня мне уже приходилось слышать занятную концепцию о мифе в истории Этого города, и во всех других историях тоже; грех не воспользоваться ею прямо сейчас, сию минуту.
– Остерегайтесь мифов, Слободан. Мифы имеют склонность втягивать человека в сомнительные истории. И что самое неприятное – искажать его сознание.
Я ничего не забыла, слово в слово повторив то, что сказал мне старик из Librairie, я добавила лишь имя, Слободан, общей стройной картины эта отсебятина не испортила. Но на то, как она подействовала на юного серба, – стоит посмотреть.
Юный серб впечатлен. . Подавлен.
Внимает моим текстам так, будто это – Нагорная проповедь Христа в оригинальном исполнении.
Рот Слободана приоткрыт; наглые, отливающие кафельной белизной зубы обмякли и сидят смирнехонько, теперь им и с тертой морковкой не справиться, не говоря уже о приличном куске мяса с кровью. Слободан смотрит на меня (да нет же, на Мерседес, на Мерседес!) почти с обожанием. Почти с вожделением.
Редко кто смотрел на меня так. И в жизни до Марокко, и в жизни в Марокко, кой черт – редко! никто и никогда не смотрел на меня так – ни те, кого любила я. Ни те, кто (как мне казалось)любил меня, серферы, кайтеры, любители воздушных змеев и искатели подружек на ночь отдыхают. Остается Доминик, но Доминик слишком толст и слишком застенчив, он не позволил бы себе даже намека на такой взгляд.
А этот парень – позволил.
Психопат, маньяк, тип, одержимый идеей убийства ради убийства; тип, переживающий окончание любой войны как личную трагедию, как плевок в лицо, и к тому же -
красавчик,
юный Аполлон (Адонис, Калигула, Ричард Гир),
снайпер и математический гений.
Пожалуй, из него можно извлечь еще массу достоинств. Если хорошенько покопаться. Если заглянуть под футболку без рукавов с надписью «Рональдиньо». Если заглянуть под брючный ремень, цвет которого не имеет ничего общего с цветом кроссовок, как поступила бы Мерседес, почти миф?
Именно так бы она и поступила:
Покопалась. Заглянула. Извлекла.
Невидимые токи перетекают от Слободана ко мне и обратно, проклятье, это не повторение истории со Спасителем мира. Это совсем другая история. В случае с Алексом все было гораздо более осмысленным, и желание обладать им поддавалось анализу и легко раскладывалось на составляющие, хотя тогда мне казалось, что дело обстоит совсем по-другому.
Нет, нет – иррациональное – совсем не Алекс.
Иррациональное – Слободан, он – не что иное, как воплощение мечты о безличном одноразовом сексе с владельцем велосипеда или владельцем мотороллера; или сексе в универмаге, рядом с полками, отведенными под кетчуп, видеонаблюдение за полками не ведется.
Слободан стоит большего.
Но не в моем случае. Разве что – в случае Мерседес.
– Вы именно такая, какой я вас себе представлял…
Почтительно заглушённый мотор не может меня обмануть – Слободан только того и ждет, чтобы втянуть меня в новый виток разговора, в новый курс лекций, в новый факультатив. И без воспоминаний о первом контакте с оружием не обойтись, они гораздо ярче, чем воспоминания о первом сексуальном контакте.
Я почти уверена в этом.
– Мне пора, Слободан. Спасибо, что подвезли.
Слободан заметно грустнеет, мысль о скором расставании с Мерседес причиняет ему боль – не сильную, но способную продержаться до ближайшего перекрестка.
– Это вам спасибо. За то, что нашли для меня время. Что согласились встретиться.
– Вы возвращаетесь в контору?
– Да.
– У меня будет к вам просьба.
– Все, что захотите!
«Tout се que tu voudras» – совсем как в записке Доминика. «Туе ке тювудра» – совсем как в призыве Доминика. От схожести интонаций я невольно вздрагиваю.
– Если объявится Алекс…
– Я передам, что вы искали его.
– Этого как раз и не нужно. Ему совсем необязательно знать, что мы виделись.
– Значит, мое предложение вас заинтересовало? – оживляется снайпер и математический гений. – И я могу надеяться?..
– Я же сказала, что подумаю.
– Мы увидимся?
– Я сама вас найду.
На прощанье он долго сигналит мне – прежде чем скрыться из виду. Он сразу набрал приличную скорость, по-пижонски рванув с места, так почему мне кажется, что красный «Рено» едва тащится? Я жажду поскорее остаться одна – вот почему.
Наконец-то – антракт!
У меня появилась возможность перекурить и соскрести с себя дурацкий грим Мерседес – никто больше не заставит меня вернуться к этой роли. А прямо сейчас я отправлюсь в отель и буду сидеть там тихо, как мышь, в ожидании звонка от Доминика; в окрестностях улицы Фердинанда Фабра лучше не появляться, в окрестностях кафе «Аль Карам» лучше не появляться; я не знаю адреса «АртНова-Поларис» – нотам нельзя появляться в первую очередь.
Визитку Алекса Гринблата, консультанта, – в мусорную корзину.
Нытье Слободана Вукотича по поводу гипотетической совместной работы – туда же!.. В доме, против которого остановился Слободан, нет ничего примечательного. Для танцовщицы Мерседес он бы еще сгодился, но для Мерседес почти мифа – большой вопрос. Я подхожу к нему скорее из любопытства, чем преследуя какую-то определенную цель. Женщина, которая жила здесь,– не Мерседес Гарсия Торрес из Нюрнберга, но она тоже – Мерседес.
Крошечный палисадник перед домом Мерседес (скорее всего – муниципальная собственность).
Широкие, забранные фигурной решеткой, двери парадного закрыты. Список жильцов в торце: против фамилий, забранных в плексиглас, – кнопки звонков.
26 ZACHARY BREAUX
27 MERSEDES TORRES
28 SHIRLEY LOEB
«Захари» – имя, похожее на джазовое; «Ширли» – имя, похожее на джазовое и киношное одновременно, приджазованные и околокиношные имена со всех сторон окружают имя для самбы, румбы и пасадобля.
Или – для стрельбы по монетам с расстояния в сто шагов.
MERSEDES TORRES – я не верю собственным глазам, Торрес, Торрес!..
Несколько секунд я раздумываю, что делать дальше: нажать на звонок или уйти отсюда, так и не нажав его. И то и другое – чревато, в случае если Слободан следит за мной из-за угла. И то, и другое красному «Рено» не объяснишь.
Но есть и третий вариант.
Я могу попытаться открыть дверь ключом.
Подходящий ключ имеется, весь путь от Фердинанда Фабра до авеню Фремье он подпихивал меня в задницу, то и дело напоминая о себе, пик его активности пришелся на мост Бир-Хаким, и лишь в последние пятнадцать минут наступило относительное затишье.
Скользнув рукой в задний карман джинсов, я вытаскиваю ключ Ясина. Его бородка слишком велика для замка, врезанного во входную дверь, – это видно невооруженным глазом.
Ничего не получится. Не стоит и пытаться.
Полностью убедив себя в этом, я все же сую ключ в замочную скважину – с гораздо меньшим энтузиазмом, чем в ту ночь, когда отпирала дверь между номерами в гостинице «Sous Le del de Paris». Франция – не Магриб, а Париж – не Эс-Суэйра, простодушные колдовские штучки здесь не пройдут, рыбьих знамений не случится – так думаю я. Так я утешаю себя. Так я страхуюсь от возможной неудачи.
Франция – не Магриб, а Париж – не Эс-Суэйра. Вот и объяснение.
Объяснения же тому, что ключ поворачивается в замке (сначала раз, а потом – другой) – нет. Плохо понимая, что делаю, я нажимаю надверную ручку: путь открыт! Меня встречает сумрачный холл, подножье лестницы со стертыми мраморными ступенями и стеклянный лифт за коваными, выкрашенными в черную краску воротцами.
Вполне респектабельно, вполне буржуазно, как и все на авеню Фремье.
Единственное, что не соответствует стандартам респектабельности, – отсутствие консьержа. И табличка на дверях лифта, я заметила ее только сейчас, когда глаза привыкли к полумраку:
«L'ascenseur ne marche pas».
Лифт не работает, и черте ним.
Лифт не работает, и это к лучшему, я все равно не знаю, на каком этаже расположена квартира двадцать семь, и как выглядит дверь с номером «27». Конфигурация замка (или замков) не волнует меня вовсе: до тех пор пока ключ Ясина (Ключ Ясина)со мной – ни один замок не преграда.
Первый лестничный пролет я преодолеваю в мыслях о возможностях, которые могут открыться в связи с трижды благословенным Ключом трижды благословенного Ясина. И о выгодах, которые меня ожидают.
Ничего сверхъестественного.
Я могла бы угонять тачки. Проникать в пустые дома в отсутствие хозяев. Проникать в магазины, кинотеатры, музеи (хотя – зачем мне музеи?); я запросто могла бы проникнуть в Librairie, то-то бы удивился престарелый жрец путеводителей, но – ничего подобного не случится, я знаю точно, я слишком уверена в себе. Или – наоборот – слишком неуверенна в себе. Тайная жизнь кинотеатров и Librairie мне ни к чему; тайная жизнь пустых домов – м-м… дома пустуют относительно редко. По крайней мере те, что заслуживают внимания. Заслуживающие внимания дома окружены заботой видеокамер и кодовых замков, снабжены датчиками слежения со спутника, системой распознавания объекта по сетчатке и радужной оболочке глаза. Нечего и думать, чтобы сунуться туда без помощи Слободана Вукотича, специалиста по сигнализации, как было указано в его устном резюме.
Второй и третий (самые скучные) этажи пройдены, никаких противоречий с общей – пока еще респектабельной – картиной я не заметила: простенки обшиты темными, состарившимися от времени деревянными панелями; в коридорах, уходящих в глубь дома, горят светильники, есть даже небольшие веселенькие деревца в кадках, но отсчет почему-то начинается не с квартиры номер один, а с квартиры номер шестнадцать.
Но стоит мне подняться еще на один пролет между третьим и четвертым этажами, как картина меняется. Изменения поначалу несущественны – так, легкий мусор на ступеньках: окурки, обрывки газет и рекламных проспектов, промасленные клочки от упаковок фаст-фуда: японского, китайского, мексиканского. А еще – ореховая скорлупа, а еще – апельсиновые корки. На четвертом этаже деревянные панели сменяют голые стены, там же обнаруживается первая надпись:
«I'VE GOT YOU UNDER MY SKSN»
Ничего шокирующего, все в духе если не авеню Фремье, то уж, во всяком случае, – в духе приджазованного Захари или приджазованной и околокиношной Ширли, где-то рядом следует искать Мерседес Торрес. Стараясь не растянуться на апельсиновой корке, стараясь не потревожить ореховую скорлупу, я прохожу чуть вперед, в глубь коридора, освещенного простой лампочкой (светильников со второго и третьего этажа нет и в помине). Так-так, квартиры номер двадцать (по одну сторону) и двадцать один (по другую). Простой математический расчет подсказывает: чтобы добраться до Мерседес, зажатой между время от времени свингующими Захари и Ширли, мне придется преодолеть еще как минимум два этажа.
…Пятый встречает меня совсем крохотным детским тельцем, повешенным на перилах.
Испуг, ужас, потрясение от увиденного длятся недолго, никакой это не младенец – обыкновенная кукла, целлулоидный пупс внушительных размеров, но в совсем уже тусклом свете его легко принять за настоящего. Какая сволочь практикует такие шутки? Наверное, та, что украсила стены одним и тем же словом:
CHAROGNE33
От «charogne» рябит в глазах, оно повторяется бессчетное количество раз – написанное в столбик и по диагонали, написанное через черточку – «charogne-charogne-charogne», и без всяких промежутков – «charognecharognecharogne»; сволочи, заплевавшей все стены, знакомы разные шрифты и разная техника, ей знакома стилизация букв под арабский, и, возможно, даже китайский, и, возможно, даже санскрит; уголь, краска, аэрозоль; готический вариант, минималистический вариант, вариант граффити. Иногда сволочь пускала в ход и пальцы – края букв смазаны, затерты; иногда субстанцию, которой пользовалась сволочь, невозможно определить, но это явно органические отходы – кусок яичной скорлупы, приклеившийся к «R» в одном случае, скукожившаяся веточка зелени, повисшая на «G», – в другом, сгусток томатного кетчупа на…
Мне хочется верить, что это – томатный кетчуп.
На площадке с «charogne» стоит мертвая тишина.
И ладно, и пусть ее, тишина много лучше, чем душераздирающие крики, треск мебели, стук падающего тела, вой собаки, вой полицейских сирен.
Контраст между нижними и верхними этажами разителен и необъясним. Для меня. И еще для миллиарда человек, живущих в благостных загородных домах с припаркованными к крыльцу газонокосилками. И еще для миллиарда человек, пользующихся лифтами. И еще для миллиарда человек, которые считают, что в трущобах проживает один сорт людей, а в закрытых кондоминиумах с автономной котельной – совсем другой, и это правильно, и только так можно соблюсти равновесие в неустойчивом, постоянно меняющемся мире. Старый антагонист и ненавистник Запада Джума моментально бы нашел объяснение всему в черной душе белого человека, этом прибежище мокриц, прибежище червей, мне же просто не по себе. Не лучше ли вернуться?
Не лучше ли спуститься вниз, к умиротворяющим панелям на стенах, к умиротворяющим светильникам и деревцам в кадках? И что ожидает меня наверху, если я все же решусь подняться?.. Собачье дерьмо, человеческое дерьмо, шприцы без иголок и иголки без шприцов, стреляные гильзы, полуразложившийся труп боснийца, мумифицированный труп серба; вышибленные мозги – больше всего они смахивают на кусок печени фуа-гра, засиженный мухами; потеки крови на стенах, – все это великолепие может быть прикрыто глянцевыми журнальными страницами.
«PLAYBOY»
«VOGUE»
«COSMOPOLITAN»
«VANITY FAIR»
Может быть, а может быть и нет. Потеки крови на стенах уж точно ничем не задрапируешь.
Я щелкаю зажигалкой, со времен блужданий во мраке смотровой площадки я стала умнее, я могу забыть надеть на себя лифчик, я могу забыть расплатиться за чашку кофе в уличном кафе, но зажигалку я не забуду никогда.
Подниматься становится все труднее, все неприятнее, ступеньки осклизли и едва просматриваются под грудой мусора, так и есть – шприцы без иголок и иголки без шприцов, потеки крови на стенах, куча дерьма (ее венчает обрывок светлого образа Колина Фаррела, по опросу читательниц «Vanity Fair» он был назван самым сексуальным актером прошлого года, «Vogue» и «Cosmo» придерживаются другого мнения). Что последует дальше?
Рай навозных мух? Рай кладбищенских червей? Тараканий рай?
Ни то, ни другое, ни третье.
Мусор заканчивается еще внезапнее, чем начался. Водоразделом служит последняя верхняя ступенька: передо мной открывается абсолютно стерильное, наполненное радостью и солнцем пространство шестого этажа. Солнечный свет льется из широкого панорамного окна, рельеф стен снова заставляет вспомнить о респектабельности – а она уже казалась утраченной безвозвратно. Ни соринки, ни пылинки, деревца в кадках уступили место вычурным вазам из толстого стекла, их тела отдаленно напоминают тела рыб из лодки Ясина.
Или – тела кошек из сна Ясина, теперь разгадывать его ни к чему: все дурное, о чем кошки могли намурлыкать мне, – уже произошло.
С сильно бьющимся сердцем я прохожу мимо дверей лифта (в отличие от дверей в самом низу – никакого стекла, никакого дерева, никакой металлической загородки; эти лифтовые двери – торжество хай-тека, должно быть, металлический сплав, из которого они сделаны, создан в секретных лабораториях NASA). Кроме лифтовых меня ожидают еще две двери – справа и слева.
К той, что справа, приткнулся веселенький розовый коврик с длинным ворсом, даже кукла Барби не отказалась бы соорудить из него экологически чистый палантин для межсезонья. Коврик слева – намного сдержаннее, его резиновая поверхность ничем не украшена, зато на дверь пришпилена золотистая нашлепка в виде саксофона.
Квартира двадцать шесть.
ZACHARY BREAUX
Захари помешан на джазе, все именно так, как я и предполагала. Полуденное помешательство, вызывающее дождь, полночное помешательство, вызывающее снег; идет ли в Париже снег, хотя бы изредка?.. Я столько лет не видела снега, что уже успела соскучиться по нему, но еще больше я скучаю по Марокко.
O-la-ta, mademoiselle, это всего лишь фраза – я скучаю по Марокко, ничего из нее не следует, да и сама тоска куда-то запропала. До сих пор она гнездилась в сердце (сердце свободно), перекатывалась в голове (голова пуста), свербила в носу (нос втягивает и выпускает воздух без помех). Поверхностная диагностика организма выдала неожиданный результат – я не скучаю по Марокко, остались лишь моральные обязательства перед Домиником. На общем тонусе это никак не сказывается – мне становится легко, как не было легко уже давно.
«UNFORGETTABLE» Ната Кинг Коула – самая подходящая случаю мелодия; обстоятельства, при которых я услышала ее впервые, не так уж важны, теперь она звучит второй раз, специально для меня. Но определить, откуда идет звук весьма затруднительно, первое, что приходит в голову, – Zachary Breaux упражняется на саксофоне. Исполнение не слишком чистое, это ясно и через дверь, слава Чарли Паркера и Бенни Вебстера ему не грозит.
Так же, как веселенький розовый коврик не может принадлежать Мерседес, почти мифу. Я назвала бы его по-бабски смехотворным.
Сплошное недоразумение, что-то здесь не так.
Недоразумение выясняется, как только я ступаю на коврик: ощущения почти те же, что я испытала, стоя на склизких, заваленных мусором ступеньках лестницы, – и это не квартира двадцать семь, принадлежащая Мерседес Торрес.
28 SHIRLEY LOEB
Как же, как же, киношница Ширли!.. Вот кто отвоевал бы У куклы Барби экологически чистый палантин на сезонной распродаже!.. К жизнеутверждающему саксофону из квартиры напротив присоединяются жизнеутверждающие реплики из старого, возможно – черно-белого – кино, то ли с Одри, то ли с Кэтрин Хепберн, куда подевалась квартира двадцать семь?!
После 26 идет 28 – в этом доме полно странностей, в этом доме хорошая акустика, и мне ужасно хочется взглянуть на соседей Мерседес, завести с ними беседу о Мерседес, а заодно узнать, когда починят лифт, – возвращаться тем же путем, что и пришла, мне совсем не улыбается.
Вот только с кого начать – с саксофона или с Кэтрин-Одр и?
Саксофон кажется мне предпочтительнее – к тому же «UNFORGETTABLE» (в том варианте, в котором я его запомнила) подходит к концу.
Так и не найдя звонка, я стучу костяшками пальцев по крохе-саксофону – звук получается неожиданно громким, ясным, игнорировать его невозможно. Хорошо, что я успела вклиниться между «Unforgettable» и чем-то еще, такие горе-саксофонисты терзают свой инструмент с утра до вечера и, как правило, не слышат никого, кроме себя.
– Кто?
Голос за дверью почти бесплотен, представить его обладателя не так уж сложно: интроверт, белый мужчина средних лет, всю жизнь сожалевший, что он не афроамериканец и не застал в живых Надю Буланже, и что мизинец и безымянный палец его правой руки не парализованы, как у Джанго Рейнхардта. И что не он изобрел боп, би-боп, фанк и фьюжн, и что не он сочинил популярную инструментальную пьесу «Nuages»34 – голос упущенных возможностей.
– Кто?..
– Я бы хотела узнать…
– Здесь вы ничего не узнаете. Убирайтесь!
– Ваша соседка…
– Моя соседка – сумасшедшая! Разговор закончен.
Единственное, что удалось узнать: отношения между квартирами 26 и 28 далеки от идеала, или Zachary Breaux имел в виду Мерседес?
Вряд ли.
Я снова возвращаюсь к розовому коврику, но не успеваю ни постучать, ни позвонить: дверь распахивается сама, на смену интроверту приходит экстраверт – белая женщина средних лет. Вот кто никогда не будет сожалеть ни о би-бопе, ни о фьюжне, Надя Буланже сыграла в ящик сто лет назад? – какая приятная новость, а я сокрушалась, что она будет жить вечно!., кутикулы мизинца и безымянного пальца правой руки обрабатывать намного сложнее, чем кутикулы мизинца и безымянного пальца левой!., к инструментальным пьесам, особенно когда тебе м-м… за сорок, нужно относиться с опаской – они надевают грусть, а грусть навевает повышенную кислотность, а повышенная кислотность провоцирует изжогу, – при этом макияж белой женщины средних лет соответствует моде ранних пятидесятых, а слегка запущенная стрижка – моде поздних шестидесятых, на ней темно-бордовый шелковый халат с драконами и комнатные туфли, скроенные из того же материала, что и коврик. А в руке зажата банка с испанскими оливками без косточек.
– Вы из полиции? – совершенно неожиданно спрашивает женщина. Ширли. Одри. Кэтрин.
– Нет.
– Жаль.
– А что произошло?
– Давно пора урезонить этого хама. Это чудовище.
– Вашего соседа?
– Он сумасшедший. Может быть, у вас есть знакомые, которые работают в полиции?
– Нет.
– Жаль. Он убил Сайруса.
– Кто это – Сайрус?
– Мой кот. Иногда я выпускаю его погулять по площадке. Он пропал три дня назад, а до этого сидел у двери этого сумасшедшего. И я подозреваю, что он заманил Сайруса к себе, убил и съел.
– По-моему, вы преувеличиваете.
– Нисколько. От того, кто целыми днями дует в проклятую дудку, можно ожидать чего угодно. Жаль, что вы не из полиции.
– Я ищу квартиру двадцать семь.
Фраза, произнесенная мной, производит странное впечатление на женщину. Ее правая бровь приподнимается (совсем как у Одри), а левая подтягивается к переносице (совсем как у Кэтрин).
– Вы собираетесь там жить? – спрашивает она.
– Нет. Я пришла навестить… э-э… подругу. Молодую женщину. Она живет в квартире двадцать семь.
– Какую из них?
– В смысле?
– Там их несколько. И все молодые. На любой вкус. Есть брюнетка, блондинка и даже рыжая.
Она совершенно непроизвольно касается своих – рыжих (совсем как у Ширли) – волос. И достает из банки оливку. И отправляет ее в рот. Еще не прожевав толком, она отрывается от дверного косяка и ступает на коврик, заметно потеснив меня: теперь мы стоим друг против друга, очень близко. Так близко, что я явственно вижу глубокие морщины под глазами женщины и печальные складки у рта, только что поглотившего оливку, – ни Одри, ни Кэтрин не позволили бы себе таких морщин.
Даже в старости.
А Ширли… Ширли не позволила бы себе таких волос – безжизненных, как пакля, с темными, плохо прокрашенными корнями.
– Вот что я вам скажу, милая. Они – не настоящие.
– Кто?
– Блондинка – не настоящая блондинка, брюнетка – не настоящая брюнетка, а рыжая… Ужас! Я сама рыжая, рыжая от природы, а та – ну просто кошмар!.. Ее волосы – самые лживые, уж поверьте. Она – ваша подруга?
Что говорить в таких случаях? что покажется убедительным?
– Нет.
– Я думаю – там подпольный публичный дом. Или что-то похожее на публичный дом. Салон массажа, в наше время все непристойности маскируются под оказание такого рода услуг. А может, там вообще снимают порнофильмы… Какая гадость! Хотите оливку?
– Я не голодна.
– Оливки – не для того чтобы утолить голод. А для того, чтобы ум оставался острым.
– С этим все в порядке. Пока…
– Ну, как хотите… Возможно, этот сумасшедший из квартиры напротив – их сутенер. Я не исключаю и такой возможности. Давно нужно было поговорить с домовладельцем, чтобы его выселили, но все как-то случай не подворачивался.
– К тому же у вас не работает лифт…
– Разве? А еще неделю назад все было в порядке. Я редко выхожу из дома, да и что делать там, на улице, где тебя никто не сможет защитить?
– Совершенно нечего, – безвольно поддакиваю я.
– Времена нынче омерзительные…
– Чудовищные.
– Наверное, началась война?
– Пока нет, но все к тому идет.
– Постоянно что-то взрывают, поджигают, громят, а теперь еще и кот пропал.
– Не переживайте так, вдруг он найдется?
– Не найдется! Говорю вам, его поймали, зажарили и съели. Бедняжка Сайрус, несчастный мой котик!..
– Я спрошу о… Сайрусе, как только разыщу свою подругу. Может, она что-то знает. Просто скажите мне, где эта квартира.
– Здесь.
Женщина хихикает и, покачнувшись, едва не падает на меня: едкий запах уксусной эссенции, едкий запах духов, разложившихся на составляющие по крайней мере лет пять назад; запах дешевой пудры – чуть мягче. И алкоголь. От Ширли за версту разит алкоголем, таким же дешевым, как и пудра. Она страшно пьяна, хоть ей и удается держаться на ногах. Почему я не заметила этого раньше?
– …Здесь?
– Пройдите вперед, к окну и сверните направо. Там все увидите.
– Спасибо. Как вы себя чувствуете?
– Я оплакиваю Сайруса, как я могу себя чувствовать?.. Это все арабы, шлюхи и те, кто дует в дудки целый божий день! Давно известно, что они едят кошек.
– Не знаю, как насчет шлюх и тех, кто дует в дудки, но арабы точно не едят кошек.
– Едят!
– Нет.
Простая справедливость требует, чтобы я заступилась за Джуму и Фатиму, за Джамиля и Джамаля, за верного Наби, который стриг мне волосы; за Ясина – повелителя рыб, ключей и курительных трубок, за Хакима и Хасана, оплакивающих гибель морского конька; открыточный вор с площади у старого форта – он тоже под моей юрисдикцией.
– Едят! – распаляется Ширли.
– Нет.
– Едят из принципа. Давятся, но едят. Чтобы досадить нам. Ведь они хватают не всех кошек, а только тех, у кого есть хозяева. Простые уличные им не нужны, нет, их цель – любой ценой причинить нам страдания, а кошки – только средство. Сайрус – не первый, не первый… До него была Жужу, очаровательная кошечка, такая ласковая…
– Она тоже пропала?
– В прошлом году. При сходных обстоятельствах. А еще говорят, что у нас безопасный район. Не верьте, с тех пор как здесь окопались арабы, шлюхи и те, кто дует в дудки, – никто не может быть в безопасности. У меня есть набор кухонных ножей и газовый баллончик, но при нападении они вряд ли помогут…
– Не помогут.
– Вот и я так думаю. А теперь нам грозит новая напасть, вы ничего о ней не слыхали?
– Нет.
Ширли, любительница котов и испанских оливок без косточек, прикладывает палец к губам и смеется аффектированным театральным смехом:
– Китайцы! Их уже несколько миллиардов… Два или три, а может десять, я не знаю точно. И им совершенно негде жить. Скоро они нагрянут сюда, и тогда нам всем не поздоровится. Не то что кошки, – таракана не останется. Они все съедят и примутся за людей.
– Ну это случится еще не скоро.
– Это случится быстрее, чем вы думаете. Держите…
Я не успеваю и глазом моргнуть, как банка с оливками оказывается в моих руках.
– Сейчас я принесу джин, и мы выпьем за то, чтобы произошло чудо и китайцы не добрались сюда, а вымерли бы по дороге. Все до единого.
– С чего бы им вымирать? Не вижу повода.
– Да. – Густо накрашенный рот Ширли выгибается подковой. – Тут вы правы. Но они могли бы объявить войну арабам, шлюхам и тем, кто дует в дудки, – и перебили бы друг друга. И все устроилось бы чудесно.
– Пожалуй, это самый оптимальный вариант развития событий. – Спорить с Ширли бесполезно, лучше во всем соглашаться, тогда и разговор закончится сам собой.
– Вот и вы со мной солидарны, – пританцовывая, Ширли отдаляется от меня. – Джин, джин, джин! Извините, что не приглашаю вас к себе, милая! У меня не убрано, я не ждала гостей. И никогда не жду гостей. Я жду только неприятностей. А еще я никогда не хожу по лестницам, и вам не советую. Там такое можно обнаружить, что мало не покажется!
Тут Ширли права.
– Но ведь лифт не работает, что же делать?
– Ждать, пока заработает. Я сейчас вернусь, дитя мое. И мы выпьем, чтобы забыть обо всех неприятностях. Хотя бы на время. Не будем думать о дурном или, как говорится, не будем портить фэн-шуй!..
Не будем портить фэн-шуй.
Хорошо сказано.
Все так же совершая странные, едва не рок-н-ролльные движения, она скрывается в недрах квартиры – а может, это элементы самбы, румбы, пасадобля?.. Через приоткрытую дверь видна часть прихожей: вешалка с летними плащами, дождевиками, пылевиками и шубками из синтетики (все вышло из моды много лет назад, еще до появления куклы Барби); переполненная стойка для зонтов – среди них есть и бумажные китайские; конусовидная шляпа из соломы – тоже китайская – заброшена на самый верх вешалки, к тому же Ширли встретила меня в китайском халате, как это соотносится с ее ненавистью к миллиардам, миллиардам китайцев – непонятно. Очевидно, все дело в двойных стандартах, которые исповедуют европейцы, что-то подобное я слышала от Джумы, Доминик не любит распространяться на эту тему. Ширли испытывает страх и животную ненависть к Мерседес, потенциальной шлюхе (и ее подругам, если таковые имеются), но при этом готова выпить джина с той, которая ищет Мерседес, и распахивает перед ней дверь, и оставляет дверь незапертой.
Странно.
Или речь снова идет о двойных стандартах? – розовый коврик на полу, старший брат коврика у двери, завершает убогое убранство прихожей. Пора линять отсюда, иначе Shirley Loeb заговорит меня до смерти.
Как и была, вместе с банкой оливок в одной руке и книгой со вложенным в нее журналом – в другой, я отправляюсь по пути, указанному Ширли: к окну и направо. Небольшая арка в стене (со стороны лестницы и даже от квартиры Ширли разглядеть ее невозможно) ведет в еще один коридорчик, заканчивающийся дверью.
Все это живо напоминает мне коридорное ответвление в марокканской тюрьме (я упорно продолжаю считать место, где провела несколько тяжких недель, тюрьмой) – оно тоже заканчивалось дверью, за которой меня ждала свобода.
Но что ожидает меня сейчас?
Ответы на вопросы, если не на все – то хотя бы на некоторые. Начало довольно впечатляющее: на двери Мерседес нет никаких опознавательных знаков, даже номер квартиры неуказан. Но сама она не позволяет усомниться в хорошем вкусе владелицы и в том, что недостатка в средствах хозяйка не испытывает: добротный дуб со вставками из более светлого дерева и капитальноукреплеиная дверная коробка, способная выдержать единовременный натиск команды поджигателей и пиротехников из числа арабов, шлюх, тех, кто дует в дудки, и примкнувших к ним китайцев. А предположение о том, что под дубовыми плашками скрывается пуленепробиваемая сталь или танковая броня, вовсе не кажется невероятным. Внимательно изучив поверхность двери, я нахожу два замка (верхний и нижний) и – присмотревшись – крошечный глазок видеокамеры.
У меня нет четкого плана захвата, и потому я просто звоню в дверной звонок. Если мне откроют, я спрошу о Мерседес. Если же мне откроет сама Мерседес…
Такой поворот событий я не рассматривала, но… можно представиться хорошей знакомой Ширли, обеспокоенной судьбой ее кота Сайруса. Звучит вполне невинно. То так, то эдак вертя в голове Ширли и Сайруса, Сайруса и Ширли, я жду ответа. Но пока в глубине квартиры царит абсолютная тишина.
Мерседес, ау!
Никто мне не откроет, ясно. Слободан что-то говорил о смерти Мерседес, что, если это оказалось правдой? И почему одна лишь мысль о ее смерти так пугает меня – в этом нет ничего нового, как и в любой другой смерти, ничего экстраординарного. Ничего выдающегося. Более того, смерть моей Мерседес (той, о которой я думала, которую представляла себе) в этом отношении гораздо более чувствительна и не лишена театральности – моя Мерседес была танцовщицей, сладкой, как яблоко, она могла прославиться в качестве солистки одного из коллективов современного балета или завоевать главный приз на чемпионате по бальным танцам, она оставалась предметом вожделения многих мужчин и погибла, как и подобает звезде, – почти в прямом эфире. При большом скоплении народа – уж точно. Смерть Мерседес из конторы «Арт Нова-Поларис» (не моей Мерседес) – скорее всего, анонимна. Никто о ней не побеспокоился – дубовая дверь не опечатана, кипы соболезнований не подсунуты под щель внизу, погребальных венков тоже не наблюдается. Из Захари и слова не вытянешь, но разговорчивая Ширли вполне могла сообщить об изменениях в жизни Мерседес.
Смерть – не последнее из них.
Как печально.
Печально до слез, с какого замка начинать – верхнего или нижнего? Я останавливаюсь на верхнем, английском (или сработанным под английский).
Щелк-щелк!
Ключ Ясина впивается в тело замка с тем же звуком, что и ножницы Наби впивались в мои волосы; воспоминание о Наби – Цандере тут же влечет за собой воспоминание о Доминике-Рудольфе и о тех жертвах, которые они принесли на алтарь моего спасения. Туе ке тювудра, хватит-хватит, сейчас не время расслабляться!.. Справившись с верхним замком, я перехожу к нижнему:
щелк-щелк, щелк-щелк.
Готово!
На ребре двери тускло блестит металл (мои предположения о танковой броне оказались недалеки от истины), а то, что я приняла за английский замок, оказывается довольно громоздкой конструкцией с десятком стальных штырей внутри. Наверняка сага о том, как простецкий ключ из рыбьего брюха сумел поладить с монструозными штырями, заинтересовала бы Дэвида Копперфильда.
Теперь осталось толкнуть дверь, и я получу ответы на вопросы. Пусть не на все, но на некоторые – вполне вероятно.
***
…Прихожая квартиры Мерседес заставляет меня поежиться. По сравнению с ней прихожая Ширли – милый анахронизм – хотя бы понятна. Вешалки созданы для того, чтобы вешать на них легкие плащи, дождевики, пылевики и шубки из синтетики. Плащи и шубки созданы для того, чтобы их носить. Китайские бумажные зонтики – чтобы прятаться от прямых солнечных лучей (для тех же целей годятся и конусовидные соломенные шляпы). Коврик на полу тоже вполне утилитарен: во-первых, он служит не бог весть каким украшением, а во-вторых – по нему приятно ходить и риск простудиться сведен к минимуму. В прихожей Мерседес (если это помещение, это пространство можно назвать прихожей) ничего подобного нет. Вешалки отсутствуют, шкафы, где можно было бы хранить плащи и шубки, – отсутствуют. О невинной стойке для зонтиков можно только мечтать.
О коврике беззаботной девичьей расцветки – тоже.
В прихожей абсолютно пусто, если не считать маленького монитора, прикрепленного к стене у двери; монитор напрямую соединен с видеокамерой снаружи, но сейчас экран погашен. И все устройство, скорее всего, отключено.
Миновав прихожую, я попадаю в зал, настолько большой, что квартиру можно считать студией. Здесь заметно веселее, чем в прихожей: здесь есть вещи и даже группы вещей, и даже кое-какая мебель:
кожаный диван;
два кожаных кресла;
журнальный столик.
Не похоже, чтобы здесь когда-либо снимались порнофильмы. Алкоголичка Ширли оклеветала Мерседес самым гнусным образом.
На журнальном столике лежит довольно толстый слой пыли, два пустых бокала и бутылка с остатками вина, стоящая в самом центре столика, тоже покрыты пылью.
CHATEAU PAPE CLEMENT -
написано на этикетке и чуть ниже:
Pessak-Leognan
Я плохо разбираюсь в вине, но бутылка выглядит недешевой и успокаивающе-буржуазной, 1998 год, не коллекционная, но разлита в Шато, а «Пессак-Леоньян» – лишь необходимое уточнение в географии, один из тех полумифических замков, которые обычно закреплены за виноградниками, для меня это – пустой звук.
Кроме бутылки и двух бокалов на столике ничего нет, хотя можно было рассчитывать на вазу с фруктами, плитку шоколада, букет цветов. Но кто-то как будто заранее побеспокоился об эстетичности картины: в отсутствие хозяев фрукты могли подгнить, шоколад – покрыться белесым налетом, а цветы – увянуть. Ничего подобного не произошло, в этом и заключается победа ушедшей (умершей) Мерседес. Я продолжаю свое путешествие по залу – новых предметов не прибавилось за исключением большого плаката на стене.
CAPOEIRA – выведено на нем большими желто-зелеными буквами. Львиная доля плаката отдана на откуп шести мужским силуэтам на фоне солнца, садящегося в океан: четверо (сжимающие в руках нечто отдаленно похожее на спортивные луки) образуют полукруг, еще двое застыли в воздухе, в самой середине полукруга, замерли – то ли в танце, толи в каком-то странном единоборстве. На стене рядом висит лук – точная копия луков с плаката.
Что такое capoeira?
Мерседес нет, и никто не может ответить мне на этот вопрос, тетива на луке (или струна, так будет точнее) издает глубокий печальный звук.
Удивительно, что в таком огромном помещении не нашлось места для телевизора или музыкального центра, стойка с дисками тоже не предусмотрена.
А хорошо было бы узнать, что слушает Мерседес. Кроме, разумеется, тягучего и надсадного гула струны – танцовщица не может существовать вне музыки.
Стоп-стоп, девушка, в чей дом я забралась, – не та Мерседес. Не моя Мерседес. Хотя не исключено, что она тоже была прекрасна.
Но яблоко в этом случае отпадает. Яблоко уже ангажировано другой.
Что слушала я сама на протяжении трех лет, проведенных в Эс-Суэйре? Ничего – и не страдала от этого. Ничего – кроме бредней Доминика, слушавшего – только и исключительно – Sacha Distel. Впрочем, если хорошенько покопаться, то в моей несуществующей фонотеке найдутся бесконечные крики Рональдо и Рональдиньо, играющих в футбол на пляже, шум ветра с океана, шепот песка, грохот трещоток, прикрепленных к хвостам воздушных змеев; плеск рыбы в лодке Ясина, гортанные вопли разносчиков воды – все это вместе образует бесконечную марокканскую симфонию, прослушать ее заново я пока не готова.
Как оказалось.
В зал выходят две двери – одна (стеклянная) ближе к прихожей, за ней расположена кухня. Еще одна находится в дальнем конце, она плотно прикрыта, и это почему-то настораживает меня.
Лучше начать с кухни.
Она почти ничем не отличается от зала – тот же минимум вещей, то же безликое запустение. Огромный холодильник престижной (на мой взгляд) марки пуст и даже не подключен к сети, пусты шкафы над мойкой, одинокая коробочка со специями – не аргумент в пользу долгой счастливой жизни в центре Парижа.
Плита – абсолютно стерильна.
Мусорное ведро – отсутствует.
Здесь никогда не снимали порнофильмы. Здесь никогда не было публичного дома. Здесь никогда не разделывали и не жарили котов, Shirley Loeb страдает галлюцинациями, сродни тем, что позволяют некоторым сумасшедшим видеть Божью матерь в образе цирковой наездницы.
Я с сожалением покидаю кухню.
С сожалением, потому что мне предстоит новое испытание – закрытая и совсем непрозрачная дверь в конце зала. Исходя из логики – там должна находиться спальня, с широкой кроватью, уравновешивающей диван, с трельяжем и комодом, уравновешивающим кожаные кресла. Спальня всегда сдаст с потрохами кого угодно, малейшая пылинка с тела хозяина въедается в ее кожу – да так, что ничем не вытравишь. Если и здесь я обнаружу пустоту, тогда придется признать, что Мерседес – это не почти миф.
Это – самый настоящий, полноценный миф.
Придуманный Алексом Гринблатом или кем-то там еще… кем-то из тех, кто манипулирует меньшинством, которое манипулирует большинством, так, кажется, говорил Алекс. Он говорил, а я – запомнила, ну надо же!..
Воспоминания об Алексе (ушедшем в слова Алексе) придают мне уверенности, не все так страшно. И любая манипуляция – вещь неприятная, но совсем не смертельная. Бойня в ювелирной мастерской – куда страшнее, надпись «charogne» (то ли кровью, то ли дерьмом, то ли гранатовым соком) – куда страшнее, пропажа домашнего кота – куда страшнее; то, что произошло со мной, то, что предшествовало приезду в Этот город – страшно, очень страшно. А абсолютно пустая квартира не таит в себе никаких опасностей.
Никаких.
Я выйду отсюда так же, как вошла. Без проблем.
За дверью действительно оказывается спальня и действительно оказывается широкая кровать, застеленная пледом из шотландки. Я присаживаюсь на ее край, а потом, не в силах побороть искушения, растягиваюсь прямо на пледе. Смутные ощущения, которые до сих пор вызывала у меня мнимая квартира Мерседес (или лучше сказать – мнимая квартира мнимой Мерседес?), становятся вполне осмысленными. Алекс раскусил меня, разложил по полочкам, вытащил на поверхность то, о чем я всегда подозревала: моему буйному воображению можно позавидовать, многие вещи я вижу под необычным углом, вот и сейчас – я думаю не о присутствии здесь Мерседес.
А об ее отсутствии.
Это – не квартира. Это – знак. Почти миф.
Но сначала был дом – приятный снаружи, но мрачный внутри, что-то здесь не так (миф о черной душе белого человека, его бы с радостью поддержал Джума, антагонист и заклятый враг Запада). Затем – игра на саксофоне за закрытой дверью, инструмент фальшивит и сбивается с ритма, но главное – имеется в наличии: в недрах любого дома в Этом городе должен присутствовать саксофонист, он смягчает атмосферу мегаполиса, делает ее притягательной, делает ее неотразимой. Затем – соседка саксофониста, полусумасшедшая старая дева, почитательница котов и видеоцитат из фильмов с участием Одри, Кэтрин и Ширли. Ее ненависть ко всему, что находится вне поля зрения дождевиков и пылевиков, ко всему иному – такая же необходимая деталь пейзажа, как и саксофонист. А старик из Librairie!.. Самая настоящая наживка для одиноких туристов, впечатлительных дамочек и порочных юнцов, раздумывающих, как бы половчее ограбить аптечный киоск – грех ее не заглотнуть!
Алекс – не единственный манипулятор, есть фигуры по-масштабнее – Этот город, например. Не прошло и суток с момента моего прибытия сюда, а он уже манипулирует мной вовсю.
Помощь Алекса Гринблата ему не нужна.
Вот когда начинаешь по-настоящему жалеть о простодушной Эс-Суэйре.
Квартира Мерседес – тоже наживка. Она слишком схематична, чтобы быть настоящей. Диван, кресла и журнальный столик – ровно то, что делает гостиную гостиной. Холодильник и мойка – ровно то, что делает кухню кухней. Кровать – ровно то, что делает спальню спальней, и трельяжа с комодом не понадобилось. Подобие жизненного пространства, на котором существовал почти миф по имени Мерседес Торрес. Не исключено, что когда-то это пространство было живым, когда-то это пространство было домом – наполненным запахами, звуками; набитым самыми разными вещами, зубными щетками, модными журналами, пузырьками со снотворным, справочниками по черной и белой магии, переносными светильниками из рисовой бумаги, подарочными свечами с изображением цирковой наездницы, веерами и керамическими фигурками быков и тореадоров (не стоит забывать, что Мерседес – испанка). Но Мерседес ушла (звучит намного оптимистичнее, чем «умерла»), а следом за ней ушли или умерли вещи. Растворились в воздухе, аннигилировали. Или – что более вероятно, хотя и прозаично, – были скопом вывезены в неизвестном направлении.
Здесь давно пора висеть табличке «СДАЕТСЯ ВНАЕМ».
…В норе с кроватью посередине прорыты еще два туннеля. Даже не вставая с пледа, я могу точно определить: один ведет в ванную комнату, а другой – в гардеробную.
В ванной комнате я не найду ничего, кроме собственно ванной и разве что – вполне исправного унитаза, и разве что – расколотого биде. А в гардеробной…
Два бумажных носовых платка и бесхозная майка размера «L» с надписью… с надписью РОНАЛЬДИНЬО!
О как! Ха-ха!
Почти уверенная в этом, я вскакиваю с кровати и отодвигаю зеркальную дверь, за которой мне несколько секунд назад чудилась гардеробная.
Здесь совсем не так пусто.
Гардеробная забита вещами.
И это не просто вещи, какие можно купить в любом стоковом магазине, или просто в магазине, или в универмаге по рождественским скидкам, – это дорогие вещи. Даже я, не слишком искушенная в моде, понимаю, что столкнулась с чем-то выдающимся, с чем-то из рук вон. Пальто, полупальто, шубы, полушубки (мех самый настоящий, Greenpeace – go home!), плащи и куртки, развешанные
а) по сезонам;
б) по именам модельеров;
в) по цветовой гамме.
Обувь – от зимних сапог до летних сабо, она занимает несколько нижних полок. На верхних – шарфы, платки и белье. Отдельно – костюмы, отдельно – платья. Вольер для галстуков, выгородка для солнцезащитных очков, на фоне которых мои собственные очки выглядят откровенной дешевкой. Загончик для сумочек, сумок, рюкзаков и баулов, Мерседес – большая модница.
Великая модница.
Такая коллекция одежды могла бы составить счастье сборной команды по синхронному плаванью, а то и сразу нескольких команд, вышедших в финал чемпионата мира.
Такая коллекция одежды могла бы составить счастье многих женщин – с самыми противоположными, если не взаимоисключающими вкусами. Да, пожалуй, взаимоисключающие – самое верное слово. Того, кто носит провокационный клубный латекс, не заставишь влезть в костюмную классику; тот, кто без ума от этнических мотивов и растаманских расцветок, не напялит на себя шифон, а глубоко джинсовое сознание вступит в обязательное противоречие с недалеким коктейльным, вишенка в бокале враждующие стороны не примирит.
Но в гардеробной Мерседес вещи прибывают в умилительном симбиозе, а стили заключили пакт о ненападении, никто никому не мешает, все равны.
Я не просто поражена, я близка к обмороку или, того хуже – к истерике.
До сих пор квартира выглядела нежилой (в гостиничном номере, снятом на одну ночь, и то больше подробностей) – и я без труда нашла объяснение этой пустоте. И не одно. Теперь, чтобы совместить забитую гардеробную и пустоту остальной квартиры, придется попотеть.
Включи воображение, Сашá!
Но воображение не включается, я слишком поглощена созерцанием тряпичного Эдема, м-да… даже прикасаться к нему страшно, я и не думаю к нему прикасаться, разве что – рассмотреть повнимательнее кофточку с лейблом Mariella Burani; дело не в лейбле, дело в самой кофточке, много лет я мечтала о таком сочетании ненавязчивой аристократичности и бордельного шика.
Моя рука совершенно непроизвольно тянется к подлой соблазнительнице Mariela и в тот же момент повисает в воздухе.
Парики.
Не замеченные мной сразу, заслоненные галстуками, очками, бельем.
Не то чтобы они спрятаны от глаз специально – нет. Просто парики лежат в укромном местечке, не выпячиваются и ведут себя сдержанно, как и подобает дорогим парикам из натуральных волос. Я всегда испытывала предубеждение к парикам, особенно из натуральных волос. Всему виной страшилки, их любили рассказывать мои питерские друзья: что мол-де волосы для подобных нужд срезаются с трупов, с невостребованных тел в моргах, но это – русские страшилки.
Не имеющие ничего общего с индустрией изготовления париков в просвещенной Европе.
Рыжий.
Белый.
Жгуче-черный.
Все три парика великолепны, роскошны. Все три парика кажутся скальпами, снятыми с черепов топ-моделей, рекламирующих шампуни, с черепов киноактрис, рекламирующих себя самих, с черепов участниц конкурса «Мисс Мира», которые заняли призовые места в номинации «купальники».
Вот откуда появились брюнетка, блондинка и рыжая – мне стоило бы больше доверять словам сумасшедшей Ширли. Да и наконец-то включившееся воображение рисует брюнетку в пончо из шерсти ламы (очки от Армани), рыжеволосую femme fatal в черном шифоне и с красной розой на поясе (очки от Джанфранко Ферре) и блондинку, затянутую в латекс (очки от мотоциклетного шлема, шлем и мотоцикл «Kawasaki» прилагаются).
Таких вариантов возникает множество, и в каждом ни одна из троих не повторит другую, вот Ширли и запуталась. Кем была Мерседес на самом деле?
Гением переодевания?
Еще – и гением переодевания. Ко всему прочему.
Кофточка от Mariella Burani больше не волнует меня, пошла она к черту!.. А следом за ней стоит убраться мне, и чем скорее, тем лучше: богатство, заключенное в гардеробной, не может долго оставаться невостребованным.
Но перед тем, как уйти, мне не мешало бы посетить туалет, от всех переживаний сегодняшнего дня мочевой пузырь непомерно раздулся и переполнился и теперь вряд ли так уж кардинально отличается от мочевого пузыря касатки средней руки.
С облегчением задвинув дверь гардеробной, я нацеливаюсь на ванную, где, по моим расчетам, должны находиться вполне исправный унитаз и расколотое биде.
…С биде все оказывается в порядке, роль ванны с блеском исполняет джакузи со множеством форсунок и задвигающимся стеклянным пологом, а белоснежный кафель унитаза заставляет вспомнить об улыбке Слободана Вукотича. Дно ванны пересохло, в ней нет ни капли влаги – так же, как нет ни капли влаги в раковине; ее поверхность свободна от кремов, гелей, зубных паст, зубных щеток и мыла, зато есть целый рулон туалетной бумаги в держателе.
И – зеркала.
В этом не было бы ничего странного, если бы зеркало было одно. Но их восемь: два вмонтированы в потолок, еще два – на стене, к которой примыкает джакузи, еще два – на стене напротив, еще одно – над раковиной, еще одно – против унитаза: едва усевшись, я обнаруживаю в нем свою физиономию и застывшее на ней выражение неземного блаженства. Да-а… Скрыться от своих отражений в самой интимной части дома невозможно. К тому же все система зеркал устроена так, что они замкнуты друг на друге и множат пространство внутри, одна лже-Мерседес прямо на глазах превращается в восемь лже-Мерседес, а затем и в шестнадцать, и тридцать две, и… и… и… фас-профиль, профиль – фас – три четверти, и… и… и…
Эти зеркала – верный путь в психушку. Таков мой вердикт.
Я выбираюсь из ванной комнаты с плотно зажмуренными глазами, а теперь – вон!.. Вон из этой странной квартиры, даже перспектива новой встречи с пупсом, подвергшимся линчеванию на перилах пятого этажа, меня не остановит.
Вон!..
Рысью промчавшись по залу и выскочив в прихожую, я уже готова взяться за ручку входной двери, когда меня останавливает телефонный звонок. В пустых гулких комнатах безобидная, в общем, трель звучит как удар бича, как серия следующих один за другим выстрелов, в них слышится угроза и торжество: ты попалась, попалась!..
А вот и нет!
Сейчас я толкну дверь – и только меня и видели! Накось выкуси, как сказали бы мои питерские друзья. Кажется, я проговариваю это вслух, после чего следует сухой щелчок автоответчика. И женский голос – глубокий, сильный (и кажется – когда-то мною слышанный) начинает речь, больше похожую на тронную:
«Абла пура мьерда35, но черт с вами, продолжайте. Только покороче, у вас есть ровно пятнадцать секунд. Время пошло».
«Мьерда» – дерьмо по-испански, вот и все, что я вынесла из вступительной части. Куда запропастился чертов телефон? Идя на звук, я обнаруживаю его стоящим прямо на полу, за диваном. На черном корпусе базы мигает красная кнопка.
«Вы как всегда неподражаемы, Мерседес. Это Слободан, мы сегодня виделись с вами…»
Слободан. Его голос слегка подрагивает, и даже телефонные помехи не в силах пригасить дрожь, что это ему взбрело в голову звонить Мерседес прямо домой? Полное нарушение субординации, более того – несусветная наглость!.. И откуда он узнал номер телефона? Ах да, оттуда же, откуда он знает адрес, – Слободан сам говорил мне, что привозил Мерседес какой-то пакет с документами и позвонил снизу, а Мерседес… нет, не так – царственная Мерседес, рыже-черно-белая Мерседес, Мерседес почти миф попросила… нет, не так – велела ему бросить пакет в почтовый ящик.
Зачем он звонит?
Чтобы проверить – на месте ли Мерседес. И что его не обвела вокруг пальца самозванка, только прикидывающаяся Мерседес. На его месте я бы тоже призадумалась.
Спросить бы у Ширли, у которой собрана самая достоверная информация о расах и национальностях, чего стоит ожидать от сербов. Впрочем, я и так в курсе, что услышу в ответ: сербов чуть меньше, чем китайцев, они расползлись по всей Европе, они сосредоточили в своих руках все канатные и монорельсовые дороги, они монополизировали продажу новогодних фейерверков, они делают подкоп под Монблан и уже перепилили ножовкой одну из несущих конструкций Эйфелевой башни и – если и не едят кошек – то знают толк в их приготовлении.
Зачем он звонит?
Я могу выяснить это, если сниму трубку. Но если я сниму ее… Слободан сразу же обнаружит полное несоответствие моего (самого обыкновенного) голоса и того царственного, что произнес «абла пура мьерда».
У меня остается не больше трех секунд на принятие решения.
Прокашлявшись, я (не надо, не нужно, не стоит!) снимаю трубку.
– Да! Слушаю! – Я стараюсь говорить тихо, с несвойственными мне глуховатыми интонациями – как раз в стиле очков от мотоциклетного шлема, как раз в стиле розы на шифоновом поясе.
– Мерседес?
– Да.
– Вас плохо слышно.
– Помехи на линии. Разве мы договаривались о звонке?
– Нет, но…
– Тогда в чем дело?
– Я просто хотел поблагодарить за то, что согласились встретиться со мной.
– Вы уже благодарили. Что-то еще?
– Нет, но… Мы увидимся?
– Я ведь сказала, что сама вас найду.
– Я буду ждать.
– Всего хорошего, Слободан.
– Всего хорошего, Мерседес.
Он медлит, и потому я кладу трубку первая, йес! йес! йес!.. я была неподражаема, я ни на секунду не выбилась из роли, мотоциклетный шлем может мной гордиться, роза на шифоновом поясе может мной гордиться, видел бы меня Алекс!..
Вот этого хотелось бы избежать.
И мне больше незачем оставаться в этой квартире – разве что голос, записанный на автоответчик. Меня по-прежнему не покидает ощущение, что я уже слышала его, абла пура мьерда, абла пура мьерда – нет, испанский мне не поможет. Присев на корточки перед телефоном, я несколько раз прокручиваю запись: абла пура мьерда, но черт с вами, продолжайте, и так далее, – чем больше я слушаю, тем меньше вероятность того, что голос когда-нибудь будет узнан. И вообще, не исключено, что он просто пригрезился мне вместе с историей о Мерседес, сладкой, как яблоко.
Такие голоса у всех на слуху.
Одна часть человечества хочет обладать чем-то похожим, а вторая – обладать обладателями. Я же, как всегда, не вписываюсь в контекст и коротаю время на обочине, рядом с Домиником, Ширли, котами и китайцами. И Королевством Марокко, съежившимся до размеров корзины для пикника.
Вот и все.
Культпоход завершен.
В последний раз я бросаю взгляд на кожаный диван, на недопитую бутылку «Chateau pape Clement» и на два бокала на журнальном столике. Прощание с прихожей будет еще короче, кроме мертвого монитора в простенке смотреть там не на что.
НЕ ТАК УЖ ОН МЕРТВ.
Об этом свидетельствует красный глазок на нижней панели, чтобы разглядеть ее, мне приходится несколько раз подпрыгнуть, а все из-за отсутствия в квартире стульев или хотя бы кухонных табуреток. Третий по счету прыжок позволяет увидеть панель целиком, она схожа с телевизионной. Монитор с телевизионной панелью, я безнадежно отстала от технического прогресса; Фатима с ее проспектами и прайс-листами электронных новинок могла бы мне помочь, но она слишком далеко. К тому же в кое-чем я могу разобраться и сама. Например, в кассете: наполовину выплюнутая, она торчит в щели, почти сливаясь с черным фоном самой панели. Немудрено, что я не заметила ее сразу. Что будет, если я засуну ее обратно и нажму кнопку «play»?
Принцип работы видеокамеры и подключенного к ней монитора мне не совсем понятен, один из вариантов: я имею дело с обыкновенной камерой слежения, какие установлены в любом, уважающем себя заведении – от супермаркета до банка. И эта камера следила за площадкой перед дверью Мерседес, остается только выяснить – как долго она следила и как давно отключилась. Или была отключена.
Это всего лишь любопытство.
Простое человеческое любопытство.
Ведомая этим чувством и напрочь позабыв о том, что мне нужно побыстрее сматываться из странной квартиры, я возвращаюсь в комнату – к дивану, креслам и журнальному столику. Двигать здесь мебель я не нанималась, но журнальный столик – как раз то, что нужно. Pardon, nana Клемент, и вы, бокалы, тоже, – придется вам поскучать на полу.
Столик только кажется хлипким. На самом деле это достаточно прочное сооружение, способное выдержать не только меня, но и меня с Фатимой, или меня с Сальмой, или меня с Ширли и Сайрусом, или одного Доминика без его дурацкой бейсболки, бейсболка – уже перебор. Пододвинув столик и вскочив на него, я становлюсь выше ровно на полметра и теперь могу совершенно спокойно производить любые действия с панелью и кассетой.
Это не монитор и не телевизор, скорее – видеодвойка, утопив кассету внутри, я перематываю ее на начало.
Так-так.
Пустая площадка перед дверью квартиры, начало довольно скучноватое.
Слегка подрагивающая картинка целую вечность не дает ничего другого, кроме изображения стен: тех, что поближе, и тех, что подальше (за аркой), никто не торопится навестить Мерседес, никто не несет ей Благую весть о непорочном зачатии, никто не приходит с предложением подписаться под петицией протеста против ресторанов Макдоналдс, никто не вербует ее в крестоносцы, вегетарианцы и Адвентисты Седьмого дня. Мерседес не беспокоят сантехники, водопроводчики и псевдосамураи с флайерами «Суши и роллы. Бесплатная доставка». Дети в маскарадных костюмах, Полицейские и Воры, Бэтмен и Робин, Тельма и Луиза, Фрэнки и Джонни, Чувства и Чувствительность обходят Мерседес стороной.
Меняется только освещение.
Утреннее, дневное, вечернее, ночное и снова утреннее.
Приз за оригинальное художественное решение на каком-нибудь малопочтенном фестивале арт-хаусного кино этой кассете обеспечен. С другой стороны – я и не ожидала увидеть на ней забойный экшен. Утро, день, вечер, ночь и снова утро.
Утомленная их неотвратимой, необратимой сменой, я едва не пропускаю кое-что интересное: нуда, у двери переминается с ноги на ногу мужчина лет пятидесяти, седоватый, хорошо постриженный, в костюме с галстуком и подобранным под цвет галстука платком. Краешек платка выглядывает из нагрудного кармана, и галстук и платок много светлее лица мужчины – смуглого, почти черного (впрочем, я могу быть не права, слишком интенсивен свет за спиной посетителя, слишком властно солнечные лучи вторгаются в окно). К тому же угол, под которым подается изображение, заметно искривлен, это – едва ли не вид сверху, так что разглядеть подробности не удается. Седой бобрик – черное лицо – мерцающие белки – светло-серый галстук – светло-серый платок, на том и остановимся. Кем бы ни был мужчина с пленки – он хорошо знаком Мерседес. Или тому человеку, который собирается открыть ему дверь. В ожидании, пока это случится, он улыбается и прижимает правую руку к груди.
Чтобы через несколько секунд исчезнуть с экрана монитора.
Есть. Вошел.
Теперь, вдохновленная галстуком и платком, я поступаю умнее – ставлю изображение на ускоренную перемотку.
Из нее нельзя понять, как долго мужчина находился в квартире, он вошел в нее солнечным полуднем и в полдень же покидает. Или это полдень следующего дня?..
Впрочем, все становится неважным в тот самый момент, когда я вижу на экране Алекса.
Алекса Гринблата, Спасителя мира.
Ну привет, милый!
Даже съемки с невыгодной точки его не портят, он все так же надменен и все так же дьявольски красив (пожалуй, дьявольское вышло на первый план и сейчас особенно заметно), сердце мое начинает бешено колотиться – я не забыла, я совсем не забыла Алекса!..
Не хватает еще расплакаться от бессильной ревности.
Почтенный хмырь в галстуке эффектно возникал на контражуре, Алекс – другое дело. Алекс мягко вползает в пространство кадра вместе с сумерками, я жажду видеть подробности, я мечтаю разглядеть в двуличных лапах Алекса хоть какой-то намек на предстоящий интим:
тигровые орхидеи;
бутылку «Chateau pape Clement»;
печенье с начинкой из марихуаны;
альпинистское снаряжение, адаптированное к садо-мазо утехам;
водолазное снаряжение, адаптированное к ролевым играм в стиле «спасатели Малибу»;
комплект наручников, вступивший в преступный сговор с пачкой презервативов.
Напрасный труд, сколько бы я ни вглядывалась, сколько бы ни останавливала пленку – я вижу лишь то, что вижу: ни-че-ro. Алекс пришел в гости с пустыми руками – маленькое, но утешение. И его дьявольская красота не несет в себе никакого чувственного подтекста – так хочется думать мне и так говорил Слободан:
они компаньоны.
С Мерседес, отнюдь не со мной. Со мной он просто переспал в заштатной гостинице на марокканском побережье и даже заплатил за это пятьсот евро.
– Ну привет, милый, – говорю я экранному Алексу. – Узнаешь меня?
Ни один волосок на голове Алекса не шелохнется.
– С трудом? Помнится, ты провел со мной ночь в гостинице. Точнее? В марокканской гостинице, куда ты приехал будто бы по делу. Письмо позвало в дорогу, ага. Еще точнее? Я – русская, и мое имя ты произносил без акцента. Наверное, долго тренировался… Не-ет, ты способный, так что много времени на тренировку не ушло. Припоминаешь, да? А после того, как ты уехал… Или вернее – бежал, со мной произошли крупные неприятности. Ты не в курсе? Жаль. Меня обвинили в убийстве. Обычное дело. Такое случается сплошь и рядом. С каждым вторым, с каждым первым… Не-ет, все-таки – с каждым вторым, а первые… Первые валяются где ни попадя с перерезанным бритвой горлом. Та еще картина. Такие картины случайно не интересуют твоих клиентов?.. Ни один мускул на лице Алекса не дрогнет.
– Все бы ничего, если бы не бритва. Зачем ты заставил меня взять ее, вытащить из шкафа? Нуда, нуда… чтобы наглядно продемонстрировать русской дуре одну из своих теорий. У тебя их целая куча, всяких теорий. И ты неплохо на них зарабатываешь. Или ты зарабатываешь другим способом? Давай-давай, расскажи. Не стесняйся!
Застывший Спаситель и не думает открывать рот.
– Молчишь?.. А знаешь, что я тебе посоветую, милый? Обрати внимание на одного своего сотрудника… или лучше сказать – подручного? Он дурак. Сербский дурак в пару русской дуре. Разве ты не знаешь, что связываться со славянами – последнее дело? Любой цивилизованный человек будет обходить славян стороной.
Я на секунду возобновляю движение пленки, и ракурс слегка меняется: теперь Алекс напряженно и даже с некоторой тревогой смотрит на дверь.
– Забеспокоился, милый? И правильно. Твой подручный сболтнул мне лишнее. И вообще – принял меня за другого человека. За другую женщину. И в этом качестве я произвела на него неизгладимое впечатление. Почти такое же, какое ты произвел на меня. И он готов оставить скучную службу в твоей конторе, чтобы присоединиться ко мне. И что там за история вышла с его братом, художником? Ладно, не напрягайся. Мне на нее совершенно наплевать. А вот на то, чем ты занимаешься на самом деле, – на это мне не плевать. Любопытство. Оно меня просто распирает. Светильники, обтянутые человеческой кожей, да? Чаши из человеческих черепов, оправленные в серебро, да?.. Нет-нет, для тебя бы это было слишком скучно, слишком мелко! Ты бы и размениваться на это не стал…
Изображение снова дергается и снова застывает: в моей воле так и оставить Алекса стоящим у двери в позе просителя, в моей воле погрузить его в сумерки на час, на два, на целую вечность, пока в квартире Мерседес не отключат свет за неуплату.
Это было бы жестоко.
Хоть он и не очень-то красиво поступил со мной в Эс-Суэйре – это было бы жестоко. Даже по отношению к его фантому на экране.
– Ну ладно, хватить тебя мучить. Входи, милый!..
Скетч получился чудесным, не так уж я бездарна, как всегда о себе думала, как могло бы показаться на первый взгляд. Единственное, что угнетает, – полное отсутствие зрителей.
– Входи, не стесняйся, – продолжаю куражиться я, то запуская пленку, то останавливая ее: беззащитный Алекс в который уже раз скребет щеку (в ритме самбы), трясет подбородком (в ритме румбы), протягивает руку к звонку (в ритме пасадобля). Иллюзия того, что я могу вертеть им, как угодно, накрывает меня с головой и заставляет слегка подрагивать руки.
– …Или тебя интересует Мерседес? Здесь ее нет. Здесь – только я! Ну как? Не передумал?
Звонок.
На этот раз – нетелефонный. Кто-то звонит в дверь. Раз, Другой, третий – звонки следуют друг за другом без перерыва, Алекс все-таки решился.
Стоп.
Это не может быть Алекс.
Пленка, которую я терзаю последние пятнадцать минут, была записана бог весть когда, была записана в сумерках, а сейчас – день, вторая его половина, если повернуться в сторону зала, можно увидеть солнечные лучи, падающие на слегка запылившийся паркетный пол, недопитая бутылка вина окутана ими, два бокала окутаны ими. Один мог принадлежать Алексу, а второй – Мерседес. Один мог принадлежать Мерседес, а второй – мужчине в светло-сером галстуке. Один мог принадлежать мужчине в светло-сером галстуке, а другой – Алексу. Или еще кому-то, ведь, зациклившись на Спасителе мира, я не досмотрела кассету до конца.
Звонки не прекращаются, а в проклятой входной двери нет даже глазка.
Это не Алекс, это не может быть Алекс.
Скорее всего, Ширли. Жаждущая выпить с женщиной, которая с таким пониманием отнеслась к ее пророчеству по поводу возможной экспансии китайцев. К тому же я пообещала ей, что поинтересуюсь судьбой бедняги Сайруса. И обнадежила насчет джина, и умыкнула банку с оливками. А у человека, редко заступающего за границы коврика в прихожей, – каждая оливка на счету.
Этого я не учла.
Вот и расплата.
Банка с оливками, даром не нужная мне, но представляющая несомненную ценность для Ширли, и сейчас стоит там, где я оставила ее: у входа в комнату, рядом с китами, дельфинами и журналом с кроссвордом.
Что, если она слышала мой голос из-за двери, более того – слышала, что именно я говорила? Акустика в доме – восхитительная, не стоит об этом забывать.
В любом случае – Ширли или не Ширли ломится сейчас в квартиру – я не открою. Убирайся вон, непрошеный гость. К приглашенным гостям это тоже относится.
Я все еще стою на журнальном столике, вцепившись пальцами в кронштейн, к которому подвешен монитор (телевизор, видеодвойка), звонки в дверь отупляют и лишают сил; нужно просто подождать, пока они прекратятся, не будет же Ширли звонить вечно!.. А еще говорят, что европейцы живут в своем узком мирке и совершенно не интересуются жизнью друг друга.
Какая ложь!
Все так же не выходя из состояния ожидания и отупления, я проматываю беззвучную кассету дальше – Алекс наконец-то сливается с экрана, отчаливает, отваливает, делает ноги (сам торжественный момент слива я пропустила, и неясно – вошел ли он в квартиру или повернул оглобли в сторону лифта). И еще долгое время (минуту или две) никто не приходит ему на смену.
Три, четыре минуты. Пять.
Звонки затихают. Слава богу!
Они прекращаются в тот самый момент, когда я вижу на экране черное пятно. Слишком маленькое, чтобы быть человеком. Слишком большое, чтобы быть неопознанным летающим объектом, зависшим на линии горизонта. Поначалу пятно не движется вовсе. Затем начинает перемещаться в сторону двери, не особенно при этом укрупняясь.
Кот! – доходит до меня.
Наверняка это Сайрус, пропавший кот Ширли, и я имею возможность увидеть его воочию.
Ничего выдающегося в коте нет, он не очень ухожен, не очень доволен жизнью и не очень счастлив, хотя откуда мне знать, как должны выглядеть счастливые коты? И как можно быть счастливым, когда за миску корма и плошку молока тебе ежедневно приходится выслушивать стенания по поводу скорой гибели цивилизации.
Заунывное мяуканье кота сжимает мне сердце, оно не предполагает множества трактовок: Сайрус взывает о помощи. Странно, ведь до сих пор с кассеты не доносилось ни звука.
Ну тебя к черту, Сайрус!
Я снова ставлю кассету на ускоренную перемотку, и кот выпадает из кадра: то ли возвращается к Ширли, то ли отправляется на съедение к владельцу дудки Захари, ну тебя к черту!.. Но избавиться от мяуканья не удалось, мало того – оно стало еще более жалостливым и не прекращается ни на мгновение. Приглушенный (временем? расстоянием?) вой несчастного животного доносится как из бочки, звучит на одной низкой ноте, изредка переходя на фальцет.
Ну тебя к черту, Сайрус!..
Единственно верное решение – выключить кассету вообще. Что я и проделываю.
Экран гаснет, но долгожданного избавления не наступает Мяу-мяу-мааау-маа! – кассета с тенями из прошлого здесь ни при чем, мяуканье – реально.
И идет оно из глубины квартиры.
Спрыгнув со стола, я возвращаюсь в зал (уже теплее), затем прохожу в спальню (совсем тепло), затем отодвигаю зеркальные двери гардеробной (горячо, горячо, горячо). Все ясно – источник звука находится именно здесь.
Среди полок, ломящихся от барахла.
– Сайрус! – осторожно зову я. – Сайрус, где ты? Кис-кис-кис!..
Мой призыв услышан, в этом нет никаких сомнений! Вой обрывается, но лишь для того, чтобы через секунду возобновиться с новой силой. Костюм от Версаче, костюм от Кардена, винтаж-костюм от Biba, белье, платки, набор махровых халатов, и только Сайруса нигде не видать.
Проклятье!
Сайруса нет, а мяуканье – вот оно!..
– Где ты, Сайрус? Где ты, малыш?
За стеной.
Я веду себя по-хамски: смахиваю с ближайшей угловой полки часть вещей, по-пластунски вползаю в нее и приникаю ухом к задней стенке.
– Сайрус? Ксс-ксс…
Сайрус взвывает так, что я отшатываюсь от стены: он и правда совсем рядом, за стеной, возможно – в нескольких сантиметрах от меня и я ничем не могу ему помочь! И вообще, что за пространство находится за стеной? Я не ставила себе целью изучить географию дома, географию квартиры, ее расположение относительно сторон света, ее расположение относительно окна в холле. Куда выходит задняя стена гардеробной? На фасадную часть, во двор (это автоматически переводит Сайруса в разряд летающих котов, чего, как известно, в природе не бывает). Или она примыкает к какой-то другой квартире? Скорее всего, но зачем тогда так мучить божью тварь?.. Чтобы хоть как-то утешить Сайруса, поддержать и успокоить его, я тихонько постукиваю по стене костяшками пальцев. Ответом мне служит гул, как если бы я стучала по дереву или по крышке гроба, ха-ха, очень остроумно!
Деревянная панель – ничего удивительного в этом нет. За деревянной панелью должна скрываться сама стена (кирпичная или цементная – не важно), тогда почему мои пальцы воспроизвели глухой звук, явно указывающий на пустоту за обшивкой? И вой Сайруса – он слишком близок, слишком явственен, стена между мной и котом уж точно не кирпичная.
И не цементная.
Еще больше продвинувшись вперед и приняв позу зародыша, я щелкаю зажигалкой, чтобы исследовать стыки в углу, я все еще полна решимости помочь Сайрусу. Эта помощь совсем не так глобальна, как та, что оказал мне Доминик, но… Если я спасу кота – мне станет намного легче. Да, именно так – легче.
Одержимая этой идеей, я едва не поджигаю винтаж-костюм от Biba (представить страшно, сколько он может стоить и что произойдет, если пламя перекинется на Кардена и Версаче!). Но, прежде чем зажигалка гаснет, я узнаю главное: между деревянными стыками есть щель, а рядом со щелью – странная, похожая на кнопку, выпуклость, не больше двух сантиметров в диаметре, глазу она не видна.
Ее можно только нащупать.
И, нащупав, вдавить в обшивку панели.
O-la-la, mademoiselle, кажется, вы нашли потайную комнату! Рип Ван Винкль и потайная комната, Гарун-аль-Рашид и потайная комната, Гарри Поттер и потайная комната, а теперь еще и вы! Или лучше сказать – Мерседес и потайная комната?.. Щель между стенами увеличилась, я могу просунуть в нее палец, а то и два, но для начала нужно убраться с полки и принять вертикальное положение.
Чужая тайная жизнь стоит того, чтобы к ней относились уважительно.
Дверь в комнату-невидимку открывается одним толчком, как будто все это время ожидала вторжения извне. Но в еще более страстном ожидании пребывает страдалец Сайрус. Он вопит так, что у меня закладывает уши, он стрелой бросается ко мне и, выпустив когти, взбирается по ногам. После такой встречи на коже останутся царапины, но спасение Сайруса того стоит.
И поэтому я мужественно переношу боль.
– Привет, малыш! Намаялся взаперти? Какая же сволочь тебя закрыла? Charogne! Но теперь все страшное позади, ты на свободе, дружок!..
Я и Сайрус, слившиеся в объятьях, не эту ли сцену видел в своем сне Ясин?
Сайрус черен, как ночь, если не считать двух размытых белых пятен: на груди и в паху; глаза Сайруса желты и слегка безумны, а из ушей торчат густые белые кисточки.
– Хочешь есть, да? хочешь пить? Здесь нечем поживиться, но хозяйка наверняка приготовит тебе праздничный ужин.
Ага-ага, и джин за счет заведения.
Маленькое сердце Сайруса колотится, маленькое тело Сайруса дрожит, я сейчас же должна отправиться к Ширли и вернуть ей ее сокровище, но это означало бы покинуть квартиру Мерседес в самый интересный момент. Квартира Мерседес, заканчивающаяся на пороге потайной комнаты, – ничто.
Сама же комната – все.
И если здесь я не получу ответы на вопросы – я не получу их нигде и никогда. И Мерседес Торрес (чье имя я присвоила, чей паспорт лежит сейчас в заднем кармане моих джинсов) так и останется для меня фантомом, плодом воображения, танцовщицей, сладкой как яблоко.
– Вот что, Сайрус, – я наклоняюсь к морде кота, и белые кисточки щекочут мне щеку. – Ты довольно долго находился в одиночестве, так что несколько лишних минут погоды не сделают. Ведь так, мой дорогой?
Сайрус кладет голову мне на плечо. Он больше не дрожит; похоже, мы поняли друг друга. Похоже, я произвожу на котов самое приятное впечатление, похоже, я умею с ними ладить!.. Весьма обрадованная этим открытием, я решаю закрепить успех: на границе зала и прихожей стоит банка с оливками (какая ни есть – все-таки еда!). Оливки наверняка заинтересуют голодного Сайруса, на некоторое время он отвлечется, и этого времени мне вполне хватит, чтобы исследовать потайную комнату.
– Смотри, Сайрус, оливки! – Я ловлю себя на том, что разговариваю с котом так же, как обычно разговаривала с Джамилем и Джамалем: серьезно и уважительно, без всякого сюсюканья. – Тебе нравятся оливки?
Кот, аккуратно спущенный на пол, засовывает морду в жестянку.
– Значит, нравятся. Подожди, я помогу тебе.
С трудом оторвав Сайруса от банки, я вынимаю из нее несколько оливок и кладу их себе на ладонь. Первые две скрываются в пасти кота, третья падает на пол. Сайрус устремляется за ней вдогонку, потеряв ко мне всякий интерес. Вот она, кошачья благодарность!
Но ведь и с Домиником я поступила не лучше.
Попереживав по этому поводу ровно три секунды, я возвращаюсь в спальню. Только бы потайная комната не пригрезилась мне, только бы…
Потайная комната на месте.
Примерившись, я толкаю лже-стену с тряпками внутрь, и проход делается шире, за ним меня поджидает темнота. И слегка застоявшийся воздух долго не проветриваемого помещения. Пустяки, главное, что оттуда не несет тухлятиной и еще чем-то, заставляющем вспомнить о червях и глинистой почве кладбища… чушь собачья, в жизни своей я не была на кладбище – ни в России, ни тем более в Марокко, и как только удалось увернуться? Смерть неблизких родственников, забытых приятелей, политических деятелей и кинозвезд – все это было, и, кажется, была гибель парня, которого я считала первой своей любовью (автокатастрофа), и гибель парня, у которого все одалживали лекции по французской грамматике (саркома легких), и смерть двоюродного дяди с маминой стороны (обширный инфаркт, четвертый по счету), и смерть пуделихи Альмочки, не прожившей и года (чумка), и еще кого-то, и еще, – кто мечтал написать бестселлер, выиграть в лотерею миллион, эмигрировать в Америку, эмигрировать в Австралию, прыгнуть с парашютом, купить остров в океане, выйти замуж за олигарха, жениться на Николь Кидман – и ни разу я не присутствовала на погребении.
Вот и теперь – если Мерседес мертва, я в очередной раз пропустила сезон муссонных соболезнований… да-а… не слишком благочестивые мысли, а местами – так даже откровенно циничные, во всем виновата потайная комната. И темнота в ней.
Они меня нервируют. Обе.
И будут нервировать до тех пор, пока я не найду выключатель – должен ведь быть выключатель?..
Выключатель находится слева, на уровне бедра – широкая плоская клавиша. Я щелкаю по ней, и загораются сразу несколько десятков крошечных лампочек, вмонтированных в стены в произвольном порядке и на разной высоте. Они освещают квадратную комнату, ее площадь не слишком велика – метров двенадцать, не больше. И на этих двенадцати метрах расположены:
стойки с оружием – холодным и огнестрельным;
полки с боеприпасами;
коллекция экзотических предметов, похожих на оружие;
широкий и длинный офисный стол, протянувшийся вдоль двух стен;
кожаное кресло с высокой спинкой;
железный сейф, им заканчивается левое крыло стола;
лотки и поддоны с папками;
компьютер с плоским жидкокристаллическим монитором;
мотки проводов, коробки с оборудованием, по поводу их предназначения у меня нет никаких версий, исключение составляют несколько плоских хромированных вещиц, по виду – диктофоны.
А еще – внушительных размеров пробковая панель на стене, густо завешанная фотографиями, журнальными картинками и газетными вырезками.
И коллекция виниловых пластинок в углу.
Пластинки несколько разрушают светлый образ убойного отдела, о котором я непроизвольно подумала. Или лучше назвать это подразделением Интерпола?
Лучше – никак не называть.
И потом, я совершенно убеждена, что такое количество оружия и электроники просто не может принадлежать одному человеку! Тем более – женщине. Мужчине – куда ни шло, представить в этом интерьере Слободана (особенно после того, что я узнала о нем) не составит особого труда. Представить в нем Алекса – уже сложнее, а Доминика и вовсе невозможно. Как невозможно представить, каким образом весь этот опасный для жизни и здоровья металлолом оказался здесь. Ведь его должны были пронести в дом, поднять на лифте и при этом не вызвать подозрений у приникших к глазкам соседей. А о том, что они время от времени приникают, можно судить по Ширли. И бдительная Ширли ничего не говорила мне о фальшивой Белоснежке с винчестером, и о фальшивой Покохонтас с автоматом «Узи», и о фальшивой Пеппи Длинный Чулок с автоматом Калашникова. Единственный правдоподобный вариант: начинка потайной комнаты прибыла сюда в ящиках и коробках, удачно имитирующих вещи Мерседес, – в то самое время, когда она переезжала сюда. Из Нюрнберга или откуда-то еще.
Мне не хочется думать об оружии и не хочется прикасаться к нему; две снайперских винтовки, стоящие рядом, пять оптических прицелов – ни один не повторяет друг друга. Три пистолета, два из которых я видела в кино; с десяток ножей, навевающих мысли о бесконечной и бессмысленной резне в камбоджийских джунглях; с десяток стилетов – ими можно ковыряться в зубах или пришпиливать мотыльков к тюлевым занавескам, но это – мое видение стилета, а никак не видение Мерседес. На то чтобы просто просмотреть папки, ушел бы не один час, а кресло с электронным регулятором наклона спинки – очень даже ничего.
Удобное.
Давненько я не сидела в таких замечательных, пахнущих дорогой кожей креслах.
Давненько я не включала компьютеров.
«MERCHE – MARAVILLOSA!»36
Похоже на клич болельщиков футбольной команды, что-то вроде «Зенит – чемпион!», похоже на табличку – из тех, что крепят к вагонам, что-то вроде «Москва – Пекин» или «Штуттгарт – Дюссельдорф». «Merche – maravillosa!» скрывается под именем пользователя, на картинке слева – желтый утенок, он никак не вяжется с двумя снайперскими винтовками и десятком ножей.
Чтобы войти в компьютер Мерседес, необходимо ввести пароль.
«Алекс» – набираю я совершенно произвольно. Появившееся сообщение утверждает, что пароль введен неверно и мне не мешало бы повторить попытку.
О'кей, дорогуша!
«Алекс – супер!»
«Алекс – дерьмо»
«Алекс – 666»
«коррида»
«паэлья»
«ЭльГреко»
«Рональде»
«Рональдиньо»
«Эс-Суэйра»
«Доминик»
«бейсболка»
«бейсбол»
«терминатор»
«Гарри Поттер»
«gotjflsovnlgjqkl 2»
«заколка»
«Гитлер капут!»
«чечевица»
«Че Гевара»
«1238907650102»
«Нюрнберг»
«авокадо»
«агнец божий»
«иди в задницу»
Именно так – иди в задницу, Мерседес! И прихвати с собой желтого утенка, и вагонную табличку «Merche – maravillosa!», и киношные пистолеты – два из трех. Не будь я такой идиоткой, мне бы в голову пришло что-нибудь более умное, чем «Гитлер капут!», что-нибудь более осмысленное, чем «gotjflsovnlg1qkl2», что-нибудь более структурированное, чем «1238907650102», ага, вот о чем я совсем позабыла – подсказка к паролю!
В любом компьютере с паролем существует подсказка, обычно она спрятана за синим значком с вопросом, нажмешь значок – она и выплывет. Вряд ли подсказка, которую Мерседес придумала для себя, поможет мне, но попытаться стоит.
«Пуля в голове»
Вот и подсказка, как раз в стиле этого мини-арсенала, не то что желтый утенок. Правильно ли я поняла се? «La balle dans la fete», все правильно. «Пуля в голове» – яркое воспоминание в жизни Мерседес почти мифа и обладательницы двух снайперских винтовок, остается только выяснить, в чьей голове оказалась пуля, когда и при каких обстоятельствах она была выпущена и где произошел сей знаменательный акт.
Задачка для психоаналитиков, судмедэкспертов и спецов по переговорам с террористами, ха-ха.
А может, вовсе не Мерседес была обладательницей винтовок? Подголовник кресла едва уловимо пахнет духами или туалетной водой, явно не женскими и к тому же – знакомыми мне. И знакомство произошло в экстремальной ситуации, а именно… а именно… нет, так сразу не вспомнить. Что нужно сделать, чтобы вспомнить? Откинуть голову, вжаться затылком в кожу, сосредоточиться и закрыть глаза… Круглое маленькое отверстие наверху в правом углу стены – до сих пор оно оставалось незамеченным. А всего-то и нужно было, что поднять голову! Отверстие когда-то было забрано пластиковой решеткой с мелкими ячейками, решетка существует и сейчас, но только держится на одном болте, живописно свисая. Вентиляционная шахта – вот что это такое.
Теперь по крайней мере ясно, как в потайную комнату попал бедняжка Сайрус. Вывалился сюда после долгого (трехдневного?) блуждания по коммуникационным системам дома. Но к разгадке пули в голове я не приблизилась, и к разгадке запаха, которым пропитано кресло, – тоже.
Ах, да, я забыла закрыть глаза!..
Искусственная темнота, окружающая меня, – не помощник, закрытые глаза ничего не дадут, нужно что-то еще, какой-то маленький, едва заметный толчок, ключ – и ключ Ясина вряд ли подойдет. От близости решения у меня чешется в носу, я близка к ответу, я знаю этот запах, я обязана его вспомнить, ну же, ну!..
Ничего не получается. Полный облом.
Да и зачем мне этот запах, даже если я вспомню? Что изменится, если я вспомню? Ровным счетом ничего. Просто – закрою гештальт, как сказали бы мои питерские друзья, я должна вспомнить – и я вспомню – ради собственного удовлетворения.
Удовлетворения, судя по всему, придется ждать очень долго.
Или все-таки, наплевав на запах, удовлетвориться кофточкой Mariella Burani?
Пока я меланхолично раздумываю об этом, мне на колени падает что-то мягкое, теплое, пушистое. Сайрус. На этот раз он не выпустил когтей из подушечек, его прикосновение приятно, к тому же я знаю – это Сайрус, почти приятель, он – совсем не то, что кошки, которые окружали меня на площадке старого форта. Абстрактные кошки, воображаемые кошки, кошки – плод разыгравшейся фантазии. Кошки Эдгара Аллана По, заблудившиеся во времени. Тогда мне казалось: страшнее кошки зверя нет. Тогда мне казалось: от них исходит опасность, они того и гляди вцепятся в горло, захлестнут его длинными, совсем не кошачьими хвостами, отправились в далекий путь котенок со щенком…
Старый форт.
Вот где мне впервые явился этот запах.
Последовавший сразу за поцелуем Фрэнки. Выплывший из темноты, в которой Фрэнки растворился. Он был мимолетным и ненавязчивым и исчез после исчезновения Фрэнки. И он был единственным – там, на площадке.
Он доминировал.
Не я была последней, кто видел Фрэнки живым. Не я – он.
Потом я ощутила этот запах еще раз – в старом авто нашего автомеханика на пути в кооператив по изготовлению масла аргано, на этот раз его носителем был Доминик, что же я подумала тогда? «Мускус, кожа, тальк, мужской секрет, возможно – эстрагон, кориандр, базилик». Все то же самое, только теперь я добавила бы еще и кисловатый металлический оттенок.
Он может исчезнуть, как только я покину military-вигвам.
Но пока я сижу здесь, почесываю Сайруса за ухом и уговариваю себя не делать скоропалительных выводов. О запахе и обо всем остальном. Искушение обвинить Алекса слишком велико: он был в Марокко и спал со мной, он спровоцировал меня вытащить бритву из шкафчика и спал со мной, он вовремя исчез из Эс-Суэйры и спал со мной, он знает женщину по имени Мерседес и спал со мной.
Он спал со мной.
И я знаю, что это – не его запах.
Ни единой ноты не совпадает, вместо мускуса – миндаль, вместо эстрагона – ваниль, от приторного и слащавого журнального героя и пахнет соответственно. «Секс со мной не доставит вам никакого удовольствия» – вот и мужской секрет оказался невостребованным, а ведь все было совсем не так плохо.
Совсем неплохо. Очень даже.
Очень, очень неплохо. Просто великолепно. Admirable, magnifique, splendide37, да-да, особенно – splendide, ничто не заставит меня расстаться с этой мыслью – ни обвинение в убийстве, ни возможная причастность к убийству самого Алекса; ни чужое имя, идущее мне, как корове седло; ни глобальное потепление климата, ни локальные войны, ни забастовки авиадиспетчеров, ни отсутствие в гардеробе кофточки от Mariella Burani и винтаж-костюма от Biba, эта мысль сидит в голове, как…
Как пуля.
– Не хочешь расставаться со мной, Сайрус?..
Сайрус тихонько мурлычет – идиллическая картина, Сайрусу нет дела до пули в моей голове. И, стараясь не потревожить его покой, я поднимаюсь с кресла и подхожу к пробковой панели, раскинувшейся на всю стену.
Фотографии, журнальные картинки, газетные вырезки – давно пора было это сделать, давно пора было взглянуть на них.
Никакой особой системы в их подборе нет. На первый взгляд. Главные действующие лица на фотографиях – мужчины (я начала с фотографий, потому что они – яркие, сочные, глянцевые, их можно разглядывать не напрягаясь), итак – мужчины.
Европейцы, азиаты, несколько черных, несколько латиносов; самого разного возраста (есть очень молодые, почти мальчики, а есть совсем уж старики на манер библейского Лота); большинство – в добротных костюмах, но встречаются и тенниски, и гавайские рубахи, и рубахи поло, есть даже один пляжный вариант. Между всеми ними – ничего общего.
Кроме пули в голове.
Все без исключения лица залиты кровью, все без исключения костюмы залиты кровью – то же можно сказать о гавайских рубахах и рубахах поло. Неясно, сделаны ли снимки с близкого расстояния или неведомый мне фотоохотник использовал сильную оптику, в жизни не видела такого убедительного собрания мертвецов.
Такой доски почета.
– Я сделала тебе больно? Прости, малыш!..
За секунду до этого придушенный писк Сайруса вывел меня из оцепенения: потрясенная выставкой простреленных голов, я слишком сильно сжала кота в руках.
– Прости, Сайрус. Ты здесь ни при чем.
Сайрус – ни при чем, он такой же случайный свидетель, как и я. Сайрус – ни при чем. А кто тогда причем? Компьютерная подсказка «la balle dans la tete», оставаясь анонимной, указывает на стенд с фотографиями, чья смерть произвела неизгладимое впечатление на «Merche – maravillosa!». Отсюда, с противоположной стороны доски, с противоположной стороны объектива, все смерти выглядят совершенно одинаково. А ведь я стою на той же линии, на которой стоял фотоохотник (и, возможно, снайпер) и вижу то же, что и он.
Но знаю много меньше. Много-много меньше.
Совершенно неизвестно, кому отдать предпочтение: европейцам, азиатам? Негру в гавайской рубахе, латиносу в рубахе поло, юноше, патриарху? Никаких указаний на этот счет фотографии не дают, они анонимны – так же, как la balle. Время и место остались за линией обреза.
– Ты ведь такого еще не видел, правда, Сайрус?
Хорошо, что кот со мной и что на этом чудовищном вернисаже я все-таки не одна. И что я могу в любой момент вжаться подбородком в мягкий кошачий подшерсток. Фотографии не вызывают у меня тошноты, какую вызывало располосованное горло Фрэнки, увиденное мной утром, после убийства, – в обрамлении мечтательных марокканских gendarmes. Я могу лишь внутренне содрогнуться – чувство, скорее рациональное, физических проявлений за ним не последует.
Рациональное начало присутствует и в снимках.
Не в их безумном содержании, а в расположении на стене. Недаром мне с самого начала показалось, что в хаотичной последовательности сменяющих друг друга пуль в голове есть какая-то система – как в кроссворде, который я начала составлять еще в камере и так и не успела закончить. Но между моим кроссвордом и декоративным панно на пробке есть существенное различие: фотографии все-таки поддаются расшифровке, нужно только пошевелить извилинами – и гирлянда из мертвых лиц зажжется и осветит все вокруг.
Фотографии – газетные вырезки – журнальные страницы.
Хотя, скорее – журнальные страницы – фотографии – газетные вырезки.
Они расположены в один длинный ряд или следуют друг за другом, занимая три коротких ряда (один под другим) – о-о!.. «charogne-charogne-charogne», – при этом фотографии всегда оказываются зажатыми между журнальными страницами и газетными вырезками.
Я сосредотачиваюсь на одном из снимков – европейца средних лет с хорошо развитой нижней челюстью, с подбородком, решительно рассеченным надвое. Его лицо пострадало меньше других лиц, и черты не так искажены, и кровь залила лишь правую половину, и не слишком испачкала костюм (пара мелких брызг и одно пятно в форме трилистника – не в счет). Впрочем, какая мертвому разница – пострадал его костюм или остался чистым, дело совсем в другом: решительную складку на подбородке можно идентифицировать.
Складка смотрит на меня с журнальной страницы, прикрепленной рядом с фотографией, она даже не помышляет о пятне крови в форме трилистника, а обладатель складки еще жив. Жив-здоров, жив-живехонек, чего и вам желает.
Крутой парень, настоящий Бэтмен, настоящий Спайдер-мен, настоящий капитан Сорвиголова. Но зовут его по-другому:
Фабрициус Тилле.
Типичный немец, возможно даже – уроженец Нюрнберга.
Статья (или часть статьи) написана на английском, в котором я не слишком-то сильна, но уловить общий смысл удается: mr. Тилле – крупный бизнесмен, владелец концерна, занимающего ведущие позиции на европейском рынке сталепроката; mr. Тилле – большой любитель «малых голландцев»; mr.Тилле – известный коллекционер; mr.Тилле – типичный self-made man, и если Бог создал Землю за пять дней, то mr.Тилле легко обошелся бы тремя. Мг.Тилле дважды совершал восхождение на Эверест. Благотворительная деятельность mr.Тилле позволила сохранить популяцию гималайских носатых обезьян и продвинуться в области исследования стволовых клеток. Имя mr.Тилле легко обнаружить в титрах бесконечного жизненного сериала «Богатые и знаменитые». Мг.Тилле находится в расцвете творческих и жизненных сил и еще долгие годы будет радовать нас и вселять в нас надежду.
Глянцевое пророчество не оправдалось.
Об этом свидетельствует фотография, а из газетной вырезки я узнаю подробности: mr.Тилле был убит в номере одного из отелей Акапулько, куда прибыл с частным визитом. Баллистическая экспертиза установила: пуля выпущена из снайперской винтовки, что явно указывает на заказной характер преступления. В связи с этим разрабатываются сразу несколько версий происшедшего.
Стволовые клетки полны скорби.
Вот для чего существует странный триумвират (фотография, газетная вырезка, статья из журнала) – он делает историю мертвой головы более выпуклой, более объемной и исполненной тайного философского смысла. Быть может, неизвестный мне расклейщик и не преследовал такую цель, а просто составлял наглядный отчет о проделанной работе – этот смысл для меня очевиден:
никто не может чувствовать себя в безопасности.
С тех пор как существуют снайперские винтовки.
Это касается не всех, в основном – богатых и знаменитых, у людей попроще есть множество других способов умереть. Не таких экзотических. Не таких пафосных. Не таких заметных, а иногда и вовсе незаметных. Смерть от голода целого африканского племени? – да и черт с ним, они всегда умирали. Цунами, унесшее жизни десятков, а то и сотен тысяч человек? – да и черт с ним, цунами существовали всегда. Как и землетрясения. Но представить mr.Тилле умирающим от голода, или унесенным волной, или раздавленным балкой в многоквартирном доме невозможно.
Смерть mr.Тилле – штучный товар.
С соответствующим ценником. И за половину стоимости, указанной на нем, можно купить не только винтаж-костюм от Biba, но и реанимировать сам модный дом. И запустить линию по пошиву курток для популяции гималайских носатых обезьян.
Штучного товара, подобного смерти mr.Тилле, – целая пробковая стена. Тех, кто получил пулю в голову, а до этого играл на бирже, или бурил нефтяные скважины, или занимался фармацевтикой, или существовал на ренту от виноградников, или скупал участки под строительство в сейсмически опасных зонах. Изучать их жизнь, а тем более – смерть – в подробностях у меня нет желания, одного mr.Тилле хватило с головой. Да и газетные вырезки, и журнальные описания – не всегда на английском, и далеко не всегда – на французском. То, что можно определить визуально: испанский – с перевернутыми вопросительными и восклицательными знаками в начале предложений; иврит и иероглифы, для расклейщика (фотоохотника, снайпера) границ не существует.
«Я убиваю меньшинство, которое убивает большинство», – говорил мне Алекс, вот черт, нет же!.. Он говорил совсем другое: «Я манипулирую меньшинством, которое манипулирует большинством». И убийства здесь совершенно ни при чем.
Это стена так на меня повлияла. Стена и фотографии на ней.
Я совершенно разбита.
И это при том, что невостребованными остались лотки и поддоны с папками. Сейф и компьютер. Прошло довольно много времени с тех пор, как я оторвалась от него: теперь на экране монитора плавает заставка Windows2000.
Ну хорошо. Последняя попытка.
Поглаживая левой рукой притихшего Сайруса, пальцами правой я набираю на клавиатуре:
«Acapulco»
(именно там смерть настигла mr.Тилле, надеюсь, что слово написано правильно) – никакого результата.
«Фабрициус». «Тилле», «Эверест» и «Джомолунгма», «Las Brisas» (название отеля в Акапулько), «GTR-industry» (название концерна mr.Тилле), – ничего, ничего, ничего!
Очевидно, смерть mr.Тилле не произвела должного впечатления на человека, скрывающегося под именем «Merche – maravillosa!» и это – не та пуля.
И это – не та голова.
– А у тебя какие варианты, Сайрус? – спрашиваю я у кота.
Вариант, который устроил бы Сайруса, – миска с едой и плошка с молоком, я напрасно мучаю бедное животное и себя заодно, пустые хлопоты, мартышкин труд!.. В папках (я заглядываю в них лишь мельком) – проспекты оружейных салонов с пометками «TOP SECRET» – красными, черными; топографические планы каких-то строений, испещренные стрелками и цифрами; панорамные снимки домов и пустынных улиц, следы маркера заметны и на них. Все это лежит вперемешку с проспектами выставок, галерей, фестивалей и биеналле, часто – заляпанными пятнами от еды и вина. Есть даже несколько обширных каталогов, отпечатанных на хорошей мелованной бумаге – пятна на них смотрятся особенно живописно. Похоже, современное искусство не вызывает должного почтения не только у меня.
Надо бы ознакомиться с папками повнимательнее – может, тогда удастся найти хоть что-то, что объясняет их нахождение в потайной комнате, я займусь этим не сейчас, а…
А когда?
Я же собиралась убраться отсюда навсегда – еще когда наткнулась на гардеробную, полную дорогих вещей. Потайная комната – не гардеробная и заключает в себе гораздо больше опасностей, один арсенал чего стоит, одна пробковая панель с фотографиями мертвецов! Невозможно поверить в то, что это добро никому больше не понадобится. Останется невостребованным.
Человек, более искушенный, чем я, наверняка нарыл бы здесь гору полезного материала, запустил бы механизм часовой бомбы, которая рванула бы в самом неожиданном месте и похоронила бы под осколками самых неожиданных людей.
Алекса Гринблата – наверняка.
Я думаю об этом совершенно отстраненно: Алекс остается для меня тем, кем был раньше, – Спасителем мира с чертовски красивыми глазами. Пастухом, выпасающим свой скот на полях, взятых в аренду у Бога. На подошвах его ног – слой дорогой кожи (крокодиловой, змеиной, антилопьей), так что заноза нашей с ним ночи вряд ли серьезно обеспокоила его. Это я не могу вытащить ее до сих пор, а ему – наплевать. Но даже если абстрагироваться от дурацкой ночи, и не думать о нем как о любовнике, и не думать о нем как о проповеднике… зачем Алексу убивать серьезных и почтенных людей? Их легко можно представить клиентами Алекса, скупающими псевдоконцептуальную трихомундию, которую господин Гринблат выдает за шедевры современного искусства. Конечно, я неправа, и современное искусство существует, как существуют по-настоящему серьезные произведения, тогда тем более – зачем? Зачем пастуху резать скот, когда его можно просто доить?
Не моего ума это дело.
Я не хочу думать об Алексе и не хочу думать о Мерседес, я не хочу видеть снайперские винтовки и простреленные головы, я не хочу находиться в этой проклятой квартире и еще больше не хочу, чтобы со мной произошло то же, что и с mr.Тилле, и со всеми остальными. Хотя вряд ли моя смерть удостоится двух строк в газетной рубрике «некролог», я принадлежу к большинству. К тем, ради которых затеваются землетрясения, наводнения, засухи, цунами, эпидемии и террористические акты.
Я не хочу думать обо всем этом, но все равно думаю. Алекс, Мерседес, снайперские винтовки – отдельно, простреленные головы – отдельно. Отдельно от всего, даже от своих имен. Это при жизни им посвящали журнальные обложки, а смерть оказалась стыдливо упакованной в газетную бумагу. Простреленную голову на журнальную обложку не поместишь.
Не моего ума это дело.
– И не твоего, Сайрус.
Кот больше не сидит у меня на руках.
Больше всего я боюсь, что он отправится в прихожую и начнет орать прямо у входной двери – с требованием выпустить из западни.
– Понимаю, Сайрус… Ты настрадался, но скоро все закончится. Совсем скоро, обещаю тебе.
«Совсем скоро» – я не обманываю Сайруса. Единственное, что могло бы меня задержать, – сейф. Но замков на нем нет, только квадратная панель с цифрами от 0 до 9. Это означает, что ключ Ясина мне не помощник: ведь для того чтобы открыть дверцу сейфа, мне пришлось бы подобрать комбинацию цифр. Код. Он может быть трехзначным, пятизначным, девятизначным, он может содержать в себе сведения о дне рождения матери Мерседес или о дне, когда сама Мерседес потеряла девственность. Он может содержать в себе сведения о дате высадки союзнических войск в Нормандии, об октановом числе в бензине, очищенном от примесей; о стоимости молочного коктейля в ближайшем баре или о стоимости бутылки вина в одном из баров на острове Реюньон.
Он может содержать в себе все что угодно. Так же, как и пароль к компьютеру «Merche – maravillosa!». Мне ни за что не открыть его.
Ни за что.
Помнится, Фрэнки говорил мне, что работал менеджером в фирме по изготовлению металлических сейфов. Помнится, Слободан намекал, что секретов в любой охранной системе для него не существует. Вот если бы Слободан был здесь!.. Вот если бы Фрэнки здесь оказался!.. Но Фрэнки мертв, а Слободан… Я искренне надеюсь, что никогда больше не увижу его.
У меня под рукой только черный кот, ждать от него помощи не приходится. Он и так много для меня сделал. Так много, что я не знаю, как уложить все это в голове.
– …Эй, Сайрус! Нам пора.
Прежде "чем убраться, я решаю прихватить из гардероба подходящую случаю сумку. Не потому, что мне хочется взять что-нибудь на память о Мерседес, а потому, что книга о китах и дельфинах и журнал с кроссвордом слишком неудобны, чтобы все время таскать их в руках.
Мерседес точно не обеднеет.
А еще я могла бы умыкнуть из комнаты с сейфом несколько виниловых пластинок. Если бы когда-нибудь задалась целью выработать безупречное испанское произношение. Наскоро перебрав стопку, я нахожу в ней конверты с «Аббой», Майклом Фрэнксом и группой «Fleetwood Mac» (датированные серединой семидесятых), но львиную долю винила составляет совершенно незнакомая мне испаноязычная музыка, все эти
EI Camison De Pepa
Ahora Me Da Репа
Son De La Loma
Chachacha Cachibache
Они нисколько не свежее группы «Fleetwood Mac», такие же раритеты.
Зачем они здесь? Чтобы под глухое потрескивание голосов из прошлого века изучать фотографии на пробковой панели?.. Мерседес Торрес, испанка из Нюрнберга, слушает испанскую музыку – ничего удивительного в этом нет. Такой же исполненный достоверности знак, как и диван в гостиной. Как кровать в спальне. Как иссушенная джакузи в ванной комнате.
Не моего ума это дело.
Сейчас я закрою полог потайной комнаты, опушу занавес и забуду о ней навсегда. Я совсем не уверена, что у меня хватит сил забыть.
Но никогда сюда не возвращаться я постараюсь. Во всяком случае, мне нужна будет очень веская причина, чтобы вернуться.
…Рюкзаки – большие, маленькие, для похода на блошиный рынок, для автостопа. Кожаные, замшевые, холщовые, сшитые из гобеленовой ткани. Я могу выбрать любую из сумок (среди них есть эксклюзивные дизайнерские модели, и модели без роду и племени – просто симпатичные) – но почему-то останавливаюсь на рюкзаках. Рюкзак подойдет моим демократичным джинсам, супердемократичной футболке и мечтательному свитеру с оленем Рудольфом, накинутому на плечи и узлом завязанному на груди.
Вот этот. Комбинированная кожа прекрасной выделки, мягкая и нежная, как щека Джамиля. Или Джамаля.
Расстегнув замок, я обнаруживаю в рюкзаке несколько пластинок жевательной резинки, мелочь (монеты по пятьдесят центов и по одному евро – всего около десяти: тариф на удивительные вещи и поступки, установленный Алексом), зубочистки и ушные палочки, использованный билет в кино, брелок без ключей в виде мексиканского сомбреро с римской цифрой «XX» в центре; обрывок записки «mardi38, 14.00, Le Sedillot», штраф за неправильную парковку.
У Мерседес есть машина, ничего удивительного, ведь ее водительские права у меня.
Если у мелкой сошки Слободана Вукотича такой роскошный «Рено», трудно даже представить, на каком авто раскатывает Мерседес! «Бентли», не иначе. «Роллс-Ройс» ручной сборки, с зубочистками и одиноким билетом в кино на двенадцатый ряд это не вяжется.
Мерседес – великая модница, великая путешественница, великая загадка.
То, что я испытываю к ней, пусть даже умершей, пусть даже ушедшей безвозвратно и прихватившей с собой несколько десятков простреленных голов, определяется коротким словом -
pelusa.
Детская зависть. Детская ревность. Откуда мне известно это слово – непонятно.
Рыскать по чужим сумкам – последнее дело. Но после того как я влезла в чужой дом, как я обшарила (пусть и поверхностно) потайную комнату и попыталась взломать чужой компьютер – уже ничто не покажется неприличным. Напротив, кожгалантерейный шмон безумно увлекает меня, я перебираю содержимое сумок едва ли не с упоением, к трофеям из рюкзака прибавились три тюбика с почти нетронутой помадой, кораллового, черного и нежно-перламутрового цветов, пудреница, духи «L'Interdit»39 (это выглядит почти предостережением), засохший цветок фиалки; еще с десяток штрафов за неправильную парковку, с десяток крохотных, величиной со спичечную коробку, упаковок гостиничного мыла – «PensioneNuova Medusa» (Римини), «Aster House» (Лондон), «Executive Inn» (Лиссабон), «AmbosMundos»(Baлеарские острова) и что-то там еще. Я втайне надеюсь обнаружить обмылок, прихваченный Мерседес из «Las Brisas» – напрасно.
Мерседес просто коллекционирует упаковки мыла из гостиниц, где когда-то побывала.
Хобби, достойное великой путешественницы.
Я нахожу еще несколько билетов в кино, билет в «Альберт Холл» на двадцать пятое декабря прошлого года (корешок на билете так и не был оторван), связку ключей с брелком, нетронутые спички из заведения «Cannoe Rose», две пустых пачки сигарет «Lucky Strike» и одну – только начатую. Sim-карты для мобильных телефонов, ручку «Монблан», огрызок карандаша, мумифицированный огрызок яблока, проспект Музея курьезов в Сан-Марино, проспект Национального музея мотоциклов в итальянском Римини (опять – Римини!), «выставка-обмен старинными мотоциклами и велосипедами каждое третье воскресенья месяца». На полях проспекта написано:
URBINO, Via delle Mura 28, «Bonconte»
И еще какие-то цифры. «Bonconte» может быть названием очередного отеля, а Урбино – городом. Точно, Урбино – город, в котором родился художник Рафаэль, так же, как Римини – город, в котором родился режиссер Феллини: эти знания свалились на меня еще в далеком стылом Питере, они абсолютно бесполезны в Эс-Суэйре. И в Марракеше, в Касабланке, в Рабате. Но все еще помогают мне считать себя цивилизованным человеком.
Впрочем, я не совсем уверена, что Феллини родился именно в Римини.
Начатой пачкой сигарет можно воспользоваться.
И ручка «Монблан» (очень недешевое удовольствие) пригодится. И духи «L'lnterdit», похоже, их никто еще не пускал в ход, флакон полон. Помаду я не возьму, пудреницу тоже, тонкие музейные проспекты для меня пустой звук, я никогда не любила мотоциклов. В отличие от ушных палочек.
Ушные палочки – вот чего мне не хватало для счастья.
Ключи.
То, что я посчитала брелком – на самом деле пульт от центрального замка и сигнализации, а значит, я имею дело с ключами от машины Мерседес. И Слободан говорил мне, что Мерседес всегда передвигается на машине. Знать бы еще, где она стоит!..
С лихорадочной страстью старьевщика я сортирую сумочные безделицы: ушные палочки в одну сторону, зубочистки – в другую. Жвачка в одну сторону, штрафы за парковку – в другую. Ключи в одну сторону, проспекты – в другую.
В одну. В другую.
В одну. В другую.
Все эти манипуляции я произвожу с одной целью: отложить принятие решения по поводу спичечной картонки с названием «Cannoe Rose». Я сразу ее узнала. Она ничем не отличается от той, которую показывал мне мой марокканский следователь: насыщенный красный цвет, тройки и семерки в номере телефона. Теперь видны и другие подробности, пропущенные мной когда-то из-за сильного волнения. А именно – изображение белой розы на обратной стороне. Роза выглядит сентиментально, чтобы не сказать – пошло. И я совсем не ожидала увидеть ее здесь, в сумке Мерседес, в доме Мерседес. На картонке нет ни единой пометки, ни единой рукотворной цифры (а Мерседес любит такие штучки, я успела это заметить); нет ни единой даты, ни одна спичка не использована. И это при том, что Мерседес курит. Можно было бы предположить, что Мерседес коллекционирует спички из различных увеселительных заведений – наряду с мылом из гостиниц. Можно было – если бы плоских спичечных коробков набрался хотя бы десяток.
Но «Саппое Rose» – один.
Второй остался в Марокко и приобщен к делу как немой свидетель преступления, которого я не совершала. Как он попал в мою сумку? – уж точно не так, как его брат попал в сумку Мерседес. Я не хочу об этом думать.
Не моего ума это дело.
Спичечный коробок пребывает в ожидании – в какую из двух горок с вещами отправиться. Одни я беру с собой, другие – оставляю здесь.
Хорошо, хорошо!
Я отрываю спичку от картонки Мерседес и прикуриваю сигарету Мерседес. До сих пор мне казалось, что мы курим совершенно одинаковые сигареты; сигареты одной марки – но сигарета из пачки Мерседес обладает гораздо более мягким вкусом, она не дерет горло, напротив – нежно обволакивает его. Чувство, которое я испытываю, – о-о… м-м… splendide!.. Все дело в спичках, все дело в сигаретах, все дело в Мерседес. Нет, нет, все дело во мне! – в странной психологической зависимости от великой модницы, великой путешественницы, великой загадки.
Я бросаю спички в рюкзак, туда же отправляются сигареты, ручка «Монблан», ушные палочки, ключи от машины.
Духи «Llnterdit» (сбрызнутые ими запястья пахнут совершенно очаровательно, хотя и совсем не так, как подголовник кресла и темнота старого форта).
Жевательная резинка. Кажется, все.
Все – из того, что я похитила у Мерседес, набор вещей дополняют мои собственные журнал и книга, вот теперь точно можно уходить.
Сайрус отирается у входных дверей, время от времени подпрыгивая и пытаясь ухватиться лапами за ручку. Мое появление вызывает у него новый прилив энтузиазма, прыжки становятся все выше, прихожая оглашается утробным «ма-аа, ма-аа!». Если кому-нибудь придет в голову приникнуть ухом к двери с противоположной стороны, он точно решит, что котов здесь едят заживо, без соли и специй, не дожидаясь, пока дичь подрумянится в духовке.
– Прекрати орать! – строго говорю я Сайрусу. – Мы уже уходим.
Кот моментально замолкает и не противится, когда я беру его на руки. Мерседес (как я ее вижу) покидала квартиру налегке, никаких домашних любимцев/питомцев, а только снайперская винтовка и оптический прицел к ней.
Оливки приходится оставить в квартире: беспокойный Сайрус требует слишком много внимания, а мне еще нужно докурить сигарету, не вынимая ее изо рта, управиться с ключом Ясина и закрыть дверь на оба замка. После того как дело сделано (щелк-щелк, щелк-щелк, щелк-щелк-щелк), я несколько секунд раздумываю, как бы половчее вернуть Ширли кота. Скажу, что нашла его сидящим на лестничной площадке между вторым и третьим этажом, – когда спускалась вниз, не застав свою подругу дома. Да, это объяснение подходит как нельзя лучше. Лишний раз спускаться и подниматься по заваленной мусором и нечистотами лестнице из-за кота – что может быть благороднее? Ширли должна по достоинству оценить мою жертву. Даже если я больше не увижу ее (а я не увижу ее) – то навсегда останусь для эксцентричной пьянчужки хорошим воспоминанием. Опровергающим ее тезис, что от людей следует ожидать только неприятностей.
Да. Я больше не намерена встречаться с Ширли. И не намерена возвращаться в квартиру Мерседес. Во всяком случае, мне нужна будет очень веская причина, чтобы вернуться. Ради этой неясной, гипотетической причины и ради того, чтобы обезопасить себя, когда она возникнет, я делаю следующее: наскоро разжевав резинку, доставшуюся мне по наследству от Мерседес, приклеиваю ее к нижней части двери. Теперь, по куску жвачки, соединившему саму дверь и дверной косяк, я буду знать – навещали ли квартиру в мое отсутствие.
Полностью удовлетворенная содеянным (сама Мерседес не придумала бы лучшего знака!), я заворачиваю за угол и направляюсь прямиком к квартире номер двадцать восемь. На этот раз дверь не распахивается сама, и мне приходится жать на звонок довольно продолжительное время.
– …Сайрус! Мой мальчик!..
Ширли еще пьянее, чем была в тот момент, когда мы расстались, она едва держится на ногах, на темно-бордовом халате с драконами видны свежие пятна, волосы всклокочены, макияж поплыл, это уже не пятидесятые – начало тридцатых, погруженных в Великую депрессию.
– Ты вернулся, Сайрус!.. Иди к мамочке!
Сайрус делает невообразимый кульбит и, безжалостно оцарапав мне кисть, оказывается в руках мамочки-Ширли.
– Какой ты стал худой! Ну ничего, мамочка тобой займется…
Эти слова вдохновляют Сайруса: замурлыкав, он взбирается Ширли на плечо и основательно там устраивается, а в пальцах Ширли неожиданно появляется длинный мундштук с зажженной сигаретой. Ширли делает затяжку и выпускает дым прямо мне в лицо.
Мундштук, сидящий на плече кот – мизансцена кажется мне до боли знакомой. Определенно я уже видела ее, и не однажды, вот только кот был рыжим, а не черным. И сама Ширли была брюнеткой с диадемой волосах и с оголенными плечами. И выглядела много моложе и много трезвее – все остальное сходится.
– Вы нашли свою подругу? – вполне светски интересуется Ширли.
– Я нашла Сайруса.
– А подругу?
– Нет. Она в отъезде.
– А остальные?
Очевидно, Ширли имеет в виду парики, позволяющие Мерседес быть единой в трех лицах, я не знаю, как ответить на этот вопрос.
– Остальные? Их тоже нет.
– Публичный дом закрылся, какая жалость! – Ширли торжествует. Выпускает изо рта кольца правильной формы, одно восхитительнее другого. – Теперь, надо полагать, съедет и их сутенер из квартиры напротив! И, возможно, кое-кто из арабов.
– Вы оптимистка, – осторожно замечаю я.
– Вы правы, не стоит расслабляться. Все перемены в этом мире только к худшему.
– Как у вас получаются такие чудесные кольца?
– Нравятся?
– Очень!
– Это секрет. – Жертва Великой депрессии шаловливо грозит мне пальцем. – Но вам, как спасительнице Сайруса, я его раскрою. Подумайте о том, что когда-либо поразило вас в самое сердце, округлите рот и смело выдыхайте.
– Это может быть человек?
– Это может быть что угодно. Единственное условие – это «что-то» поразило вас по-настоящему. Лично я в этот момент всегда думаю о коньяке «Мартель Кордон Бле», ха-ха-ха, это шутка! Мы могли бы выпить с вами джина за чудесное избавление Сайруса от смерти…
– Но…
– Не возражайте! Мы могли бы выпить джина, но он закончился. Ха-ха-ха!
Определенно Shirley Loeb пребывает в самом лучшем расположении духа. А от джина, после всего пережитого за последние полтора часа, я бы не отказалась.
– Вы не подскажете, есть ли тут поблизости стоянка?
– Стоянка?
– Или парковка автомобилей.
– Ненавижу автомобили! От них не продохнуть! Все шлюхи ездят на автомобилях. И арабы, и те, кто дует в дудки. Сколько китайцев может влезть в один автомобиль?
– Понятия не имею. – Вопрос Ширли застает меня врасплох. – Наверное, столько же, сколько… м-м… французов. Или арабов. Или шлюх.
– А вот и нет, вот и нет! Сразу видно, вы никогда не имели дела с китайцами. Вы понятия не имеете, как они выглядят. Всем известно, что среднестатистический китаец не больше кошки.
– Раньше вы утверждали, что китайцы едят кошек. Как же они могут есть кошек, если сами – как кошки?
– Не «как кошки», милая, а – не больше кошек! Это существенная разница, согласитесь. Но одно другому не мешает! От этих хитрых бестий можно ожидать чего угодно. А теперь представьте, что сюда ринутся автомобили, забитые китайцами!, .о-о, не будем призывать беду раньше времени! Не будем портить фэн-шуй!
– Не будем, – соглашаюсь я. – Так вы не знаете, где ближайшая парковка?
– Я бы запретила все парковки. И все автомобили. Будь я не так измождена тяготами жизни – давно бы вступила в общество по борьбе с автомобилями.
– Есть и такое?
– Еще бы!.. У вас хорошие духи. – Способность Ширли перескакивать с предмета на предмет поразительна. – «L'lnterdit», да?
– Точно. Но откуда вы знаете?..
– Еще бы мне не знать! Это первый аромат Юбера Живанши. Он придумал «L'lnterdit» в пятьдесят седьмом году и посвятил его Одри.
– Одри?
– Одри Хепберн.
Вот! Вот почему мизансцена с мундштуком и котом, сидящим на плечах, показалась мне такой знакомой. Если не брать во внимание цвет кота, цвет волос Ширли и саму Ширли (мундштук – величина постоянная) – они полностью повторили кадр из фильма «Завтрак у Тиффани», Одри сыграла там главную роль. Или это был просто плакат к фильму? Я не помню.
– Вам нравится Одри?
– Да.
Да, мне нравится Одри, но не настолько, чтобы мысль о ней заставила выдуть кольцо дыма абсолютно правильной формы.
– Я обожаю Одри. И ее однофамилицу Кэтрин. И конечно же Ширли. Ширли Маклейн! Я сама – Ширли, и волосы у меня натуральные! И мы могли бы выпить, за Одри, Ширли и Кэтрин, и за чудесное избавление Сайруса от смерти, если бы…
– Если бы у вас не кончился джин.
– Точно! Ха-ха-ха!
– Мне было очень приятно поболтать с вами, Ширли. И я бы с удовольствием поговорила бы с вами еще… Но мне пора.
Ширли в очередной раз выпускает изо рта идеальное кольцо.
– Ваша подруга вернется?
– Надо полагать. – Я совсем в этом не уверена.
– И вы обязательно придете ее навестить?
– Скорее всего.
– Если это случится до того, как Париж оккупируют китайцы и все мы окажемся съеденными ими… Если это случится до того – заглядывайте ко мне и к Сайрусу…
– Обязательно.
Ширли еще ни разу не улыбалась мне по-настоящему: нервный смешок, издевательский хохот, саркастическое похмыкивание – вот и вся немудреная гамма, на которую способна владелица бедолаги Сайруса. Так думала я и, кажется, ошибалась – Ширли дарит мне самую настоящую улыбку.
Почти такую же, какую дарили мужчинам своей жизни Одри, Ширли и Кэтрин.
И вместе с Ширли улыбаются драконы на халате, и розовые помпоны на ее комнатных туфлях, и мундштук, на секунду выгнувшийся дугой, и даже Сайрус.
Сайрус улыбается особенно приветливо. Со значением.
Ширли облеплена улыбками, как стаей птиц, слетевшихся на кормежку.
– Не знаю, что вы задумали, милая, но будьте осторожны.
– Задумала? – Неожиданная проницательность Ширли мне совсем не по нутру. – Ничего такого я не задумывала.
– Бросьте! Все люди время от времени задумывают мелкие пакости и вещи, способные принести крупные неприятности ближнему, я их не осуждаю. Если это вопрос выживания – почему бы нет?
– У меня нет планов навредить ближнему. Да и с ближними, надо признаться, не густо.
Я не солгала Ширли, в Этом городе я абсолютно одинока. Одинока настолько, что в спешке покинутая мной Эс-Суэйра кажется городом, населенным сплошными родственниками и близкими друзьями: братьями, сестрами, шуринами, деверями, внучатыми племянниками; чтобы приготовить для них подарки к Рождеству, пришлось бы потратить целое состояние; единственное, чего я не знаю, – как классифицировать Доминика.
– У вас нет родственников? Вам крупно повезло, – утешает меня Ширли. – В этом мире – каждый за себя. Кроме китайцев, разумеется. Так что будьте осторожны. Это – совет. Я даю их не всякому, а лишь тому, кто мне симпатичен.
– Значит, я вам симпатична?
– Вы спасли Сайруса. И это заставляет меня закрыть глаза на многие ваши недостатки. Например, на то, что вы тоже можете оказаться шлюхой, как и ваши подруги.
– Это вряд ли. – На секунду меня пронзает жалость к самой себе. Будь я шлюхой – со мной не произошло бы то, что произошло.
– …и на ваш странный акцент. Я ненавижу иностранцев, я им не доверяю. И ваш цвет волос – он ведь тоже не настоящий, правда?
– Ну-у…
– Тот, кто красит волосы, – лжет самому себе, в причины я вдаваться не буду. А если человек лжет самому себе – он солжет и всем остальным. И остальные в долгу не останутся, и пошло-поехало. Ведь если ты сам враль – трудно рассчитывать на ответную честность. Вот так-то! Вы все поняли, милая?
– Да. Я должна быть осторожна.
– Именно.
Улыбок становится все больше, их стаи кружат над Ширли, бродят между ее ступней, облаченных в розовые комнатные тапочки с помпонами. Они почти сливаются с ковриком в прихожей. Последнее, что я вижу прежде, чем за Ширли захлопывается дверь, – надпись, вытканная на коврике:
«charogne».
***
…«Салуд, маравильоса!»
Это похоже на приветствие. Это и есть приветствие. До сих пор я видела слово «maravillosa» лишь на экране монитора, теперь же – имею возможность услышать его. Произнесенное вслух, оно все расставляет по местам: я имею дело с испанским (не таким мягким, каким обычно бывает испанский); испанским с ощутимым привкусом металла. По другому и быть не могло – приветствие льется из динамиков, оно записано на пленку. И голос, воспроизводящий его, – не мужской и не женский, а нечто среднее, настоящий компьютерный унисекс.
Меня окликает бортовой компьютер.
Вернее, не меня, а Мерседес Торрес, ведь я сижу в ее машине.
Ничего вызывающего, о карманном джипе (на что я робко надеялась) и речи не идет, а красный «Рено»-кабриолет на фоне скромной тачки Мерседес смотрелся бы настоящим королем дороги. Поначалу я даже разочарована. Что толку от тонированных стекол, что толку от фар, скрытых металлом, когда сама машина представляет собой нечто невразумительное – с аэродинамической точки зрения. И с точки зрения дизайна тоже. «Альфа-Ромео», «Феррари», «Астон-Мартин», приземистый «Порш» – их черты можно найти в силуэте тачки Мерседес, но это лишь черты, не более. Впервые я не могу точно определить марку машины. С другой стороны, это соответствует образу.
Мерседес почти миф не похожа ни на кого, так почему ее машина должна быть одной из многих? Или одной из некоторых, так или иначе все равно образующих модельный ряд. А серийность противопоказана им обеим.
Если, конечно, речь не идет о серийных убийствах. Ха-ха.
Я нахожу тачку Мерседес совершенно случайно, хотя искала ее целенаправленно. Ключи – единственное, что у меня есть. Ключи и пульт от центрального замка с сигнализацией. Я разобралась в кнопках на нем довольно быстро, теперь осталось найти объект, на который они могут быть направлены. Мерседес, кем бы она ни была, явно дружит с техникой, что значительно расширяет поле деятельности кнопок. По моим предположениям одна из них должна зацепить тачку с расстояния метров десяти, а то и двадцати, если, конечно, тачка стоит в окрестностях авеню Фремье, а не где-нибудь в паркинге на другом конце города.
Хотя последнее – вряд ли возможно.
Мерседес не из тех, кто, поставив машину на стоянку, будет бить ноги, пешком добираясь до дома. «Не из тех», как мило! – я не имею ни малейшего понятия о Мерседес, я не знаю даже, как она выглядит, и вот, пожалуйста, уже делаю выводы о ее привычках.
Никакой стоянки поблизости нет. В Этом городе слишком мало места, здесь и без китайцев теснота. И слишком людно, и чересчур много домов, и чересчур много окон, к тому же окна – неестественно большие; еще днем меня это не раздражало. Сейчас – ранний вечер, сколько времени я провела в квартире Мерседес и потом – на лестничной площадке, болтая с Ширли?
Неизвестно.
Но можно предположить, что визит занял часа два-три, или четыре, или – пять, все дело в полутенях, полутонах. Этот город – город полутонов, в нем нет наивной ясности Эс-Суэйры, где день всегда был днем, а ночь – ночью: сумерки в Эс-Суэйре вещь настолько несущественная, что их легко можно сбросить со счетов. Но в Этом городе… такое ощущение, что в Этом городе сумерки длятся столько, сколько им вздумается. И будут длиться и длиться – целую вечность.
Вдоль тротуара припарковано несколько десятков машин, я прохожу мимо них, исподтишка щелкая кнопками на пульте: ни одна из четырехколесных тварей не отозвалась. Это – совсем не то, что я ожидала, это приводит меня в уныние, а затем – в ярость: мой план, такой четкий и ясный, неожиданно рушится. До сих пор мне везло, как будто сама Мерседес (пусть и не давая прямого ответа ни на один вопрос) направляла меня. Черт возьми!.. Если есть ключи – значит, должна быть и тачка! Должна быть, должна!..
Прочесав часть улицы справа от дома Мерседес, я возвращаюсь обратно и приступаю к прочесыванию левой части, непрерывно щелкая пультом.
Есть!..
Короткий рык свидетельствует: я попала в точку, и машина находится близко, совсем рядом. Но мне требуется приложить некоторые усилия, чтобы ее обнаружить. Она стоит в узком проеме между домом Мерседес и соседним многоквартирным монстром. Проем забран решеткой, за которой царит деревенский полумрак, и очертания машины лишь угадываются за густыми побегами плюща. Озираясь по сторонам (лишние свидетели ни к чему), я подхожу к решетке: как и следовало ожидать, она заперта. Воспользоваться ключом Ясина – что может быть проще!.. Сложность лишь в том, что на решетке нет замка.
Несколько минут уходит на то, чтобы сообразить: раз Мерседес так неравнодушна к изыскам технической мысли, значит, и решетка должна открываться автоматически, возможно – прямо с пульта дистанционного управления. Кнопок на пульте не три, как это обычно бывает, а четыре. Нажав нижнюю, я наконец-то слышу вожделенный щелчок, радующий меня не меньше, чем приглушенный голос самой тачки.
Решетка ползет вправо, и спустя мгновение я оказываюсь внутри, среди патриархальной тишины летнего вечера, не хватает только стрекота кузнечиков и шелеста стрекозиных крыльев.
Не «Альфа-Ромео», не «Феррари», не «Астон-Мартин»
Что-то среднее.
К тому же вместо четырех сидений в наличии имеются только два – Мерседес, привыкшая во всем полагаться на себя, не слишком жалует спутников. Один человек – вот тот максимум, который она могла бы выдержать рядом с собой.
А может быть, она гонщица? Женщина, рожденная для скорости, автобанов и Национального музея мотоциклов? И единственная из женщин, способная обставить старшего Шумахера и дать фору младшему. Это не кажется таким уж невероятным, время Шумахеров прошло, а время Мерседес вот-вот наступит.
Да-да, она помешана на скорости! ведь странный автомобиль, с которым я имею дело, – явно предназначен для автострад и испытательных полигонов. И к тому же лишенный недостатков и неудобств спортивной модели.
Он комфортен.
Я понимаю это сразу же, как только устраиваюсь на водительском сиденье. Его мягкая кожа (пахнущая так же, как и подголовник кресла в потайной комнате) обволакивает, расстояние до руля самое оптимальное, а ноги сразу же находят обе педали – газа и тормоза. Что же касается приборной панели… Кое-что в ней мне, безусловно, знакомо – спидометр, тахометр и прочие радости, но есть еще и небольшой плоский экранчик, чуть справа: он расположен над магнитолой и размерами походит на три сигаретные пачки, сложенные вместе. От гнезда в левом углу экранчика тянется провод, заканчивающийся небольшими наушниками со встроенным микрофоном.
Я тешу себя надеждой, что разберусь во всем по ходу движения. Ну, с Богом, Сашá!..
Надев наушники и сразу же почувствовав себя героиней космической саги о борьбе Межгалактического Совета с отщепенцами, Захватившими периферийные звездные скопления, я поворачиваю ключ в замке зажигания. Приборная панель вспыхивает изумрудно-зеленым с голубоватыми вкраплениями (берлинская лазурь – вот как называется этот цвет), а в наушниках раздаются первые такты джазовой композиции. Мерседес нравится джаз, ну кто бы сомневался! Я предпочла бы «Unforgettable» Ната Кинг Коула, но кому здесь интересно мое мнение?
Никому.
Единственные слова, которые удается разобрать, – «Sentimental Journey»40, что (опять же по моему, не представляющему никакой ценности мнению) вряд ли соответствует действительности. Путешествия Мерседес могут быть какими угодно, и исполненными опасностей тоже, но никогда – сентиментальными. Музыка обрывается внезапно, после чего мне и вливается в уши компьютерно-бесполое:
«Салуд, маравильоса!»
Я должна ответить? Похоже, что нет. Начинка автомобиля должна все сделать за меня.
Она и делает.
Экран, до сих пор остававшийся мертвым, начинает светиться ярким фосфоресцирующим цветом, на нем возникает некое подобие карты местности и две фразы, парящие над ней:
appuyer sur le bouton
push the button
«Нажми на кнопку» во французском и английском варианте, первый предполагает наличие в машине арабов, шлюх и тех, кто дует в дудки в непосредственной близости от парижского моста Бир-Хаким, второй – наличие всех остальных (китайцы и коты к ним не относятся). Инструкции понятны, теперь хорошо бы отыскать ту самую кнопку, на которую намекают надписи на экране.
После недолгих поисков кнопка находится в правом нижнем углу экрана (она симметрична гнезду с наушниками), и я осторожно давлю на ее хромированную плоть. Мое собственное сердце учащенно бьется, едва не выпрыгивая из груди – что последует за «push the button»? У тачки Мерседес вырастут крылья или появится вертолетный винт? Может, она вообще взлетит в стратосферу, а потом поднимется выше и растает в межзвездном пространстве – совсем как в сказке о Затерявшемся Самолете, над которой я прорыдала половину детства…
Все оказывается проще, все оказывается совсем просто. Совсем.
«Пункт назначения» – слышу я в наушниках, вот оно что! От меня требуется указать пункт назначения; тачке Мерседес не дотянуться до звезд, но на ее борту имеется умница-компьютер, снабженный навигационными системами GPS и Route Planner, способными составлять оптимальные маршруты передвижения и определять местоположения объекта в пространстве. Я знаю о них не слишком много и никогда не видела живьем, но это не мешало мне пугать умопомрачительными историями о них трусишку Доминика.
О нет, нет! Доминик больше не трусишка, что же касается пункта назначения…
Саппое Rose, я намерена отправиться прямо туда. Просто так, без всякого умысла. «Саппое Rose» – место, где бывал убитый Фрэнки и, возможно, бывала Мерседес. И, возможно, кто-то еще.
Алекс, например, что-то я давненько о нем не вспоминала.
В «Саппое Rose» когда-то курили гашиш. В «Саппое Rose» торговали героином. В его окрестностях снимали фильмы о том, что случается после любви. Там происходило множество странных вещей, там совершались ритуальные убийства и убийства на почве расовой ненависти, мой случай – не самый тяжелый.
В конце концов, я смогу там перекусить и выпить чашку кофе. И чего-нибудь покрепче, раз джин имени Shirley Loeb пролился мимо моего рта.
«Пункт назначения» – в компьютерном голосе нет никаких оттенков, но кажется, он озадачен моим затянувшимся молчанием. Я вынимаю из сумки красную спичечную картонку, нахожу отпечатанный мелкими буквами адрес «Саппое Rose» и впервые произношу его вслух:
– Ру Лепик.
Картинка на экране претерпевает существенные изменения, судя по всему, идет построение списка улиц, по которым я должна проехать, чтобы добраться до ру Лепик. Учтены мельчайшие подробности, повороты направо, повороты налево, движение по кругу, минимальный прямой отрезок (Place Blanche) составляет двадцать метров, максимальный (Boulevard de Courcelles) – около полутора километров.
Для того чтобы добраться до ру Лепик, мне понадобится двенадцать минут при оптимальном раскладе. Именно эта цифра стоит в summary41, выданной бортовым компьютером.
Компьютеры не лгут, в отличие от людей. В отличие от жрецов путеводителей, с одним из них я знакома лично, это он продал мне завалящую, хотя и претендующую на афористичность фразу: «В Этом городе всегда попадаешь туда, куда необходимо попасть. Пусть даже кружным путем». Я поеду прямым, и он составит двенадцать минут.
Плюс-минус. Плюс-минус.
– Ну и кто кого будет везти? – задаю я риторический вопрос компьютеру. – Может, сам будешь крутить руль и жать на педали?
Такого счастья мне не обломится – это ясно по тишине в наушниках. Выждав секунду, я вытаскиваю сигарету из пачки, прихваченной у Мерседес, и отрываю спичку от картонки «Саппое Rose».
– Не возражаешь, если я закурю?
Компьютер не возражает, он настроен вполне благожелательно, более того – стоит мне только сделать первую затяжку, как из нижней части панели (она расположена против коробки переключения скоростей) выскакивает пепельница. Вот это сервис!..
– Очень галантно. Я потрясена. Честно.
Алекс, Алекс, Алекс.
Прежде чем тронуться с места, я пытаюсь вызвать в памяти его чертовски красивые глаза, и безмятежные губы, и безмятежное тело со всеми перепадами высот и глубин – и, округлив рот, выдуваю кольцо.
Вернее, мне только кажется, что это – кольцо. Мне хотелось бы думать, что это – кольцо, ведь Алекс поразил меня по-настоящему, освободил от липких объятий прошлого, встряхнул, заставил поверить в то, что жизнь не кончена и не разбилась, как разбиваются волны о берег в черте городского пляжа Эс-Суэйры – и вкус к ней может вернуться в любой момент. Так и произошло, а о плате за прозрение я предпочитаю не вспоминать.
Не сейчас. Может быть – потом, но не сейчас.
Я могу думать все что угодно и сколь угодно долго уговаривать себя – вместо кольца по салону плывет нечто невразумительное, до идеальной формы этим жалким полоскам дыма далеко. Ширли соврала мне или так до конца и не раскрыла секрет. Никто и никогда не раскрывал мне никаких секретов, а если раскрывали – то это оказывались вовсе не те секреты, которые бы мне хотелось хранить. И передавать кому-то в редкие минуты откровений.
Пора ехать, иначе двенадцать минут до ру Лепик трансформируются в час двенадцать, или в два двенадцать, или в двенадцать часов. Я тихонько жму на педаль газа (неизвестно, чего стоит ожидать от этой тачки) и – вот проклятье! – автомобиль срывается с места, за секунду набрав скорость, какую мой марокканский рыдван набирал за несколько минут – и то после долгих уговоров, понуканий и угроз наслать на него немилость Всевышнего. Последние, как правило, остаются без ответа, у груды металлолома на колесах и у меня – разные религии. И Всевышние – тоже разные.
Тачка Мерседес – совсем другое дело. С такой не рискнул бы связаться ни один бог, легкое прикосновение к рулю заставляет ее сделать полицейский разворот: я слегка прихожу в себя под оглушительный скрип покрышек, вынесенная почти на середину улицы. Первый урок, полученный мной за крошечный отрезок времени и расстояния:
с этой машиной нужно быть предельно осторожной.
Как и со всем, что касается Мерседес, к чему прикасалась Мерседес. Путь, по которому Мерседес обычно ходит в булочную (кстати, ходит ли Мерседес в булочную?) может оказаться для меня дорогой в ад. Билет в кино, который Мерседес обычно забывает выбросить, может оказаться для меня билетом в один конец.
Я ничего не знаю о Мерседес.
Танцовщица Мерседес, прекрасная, как яблоко, была не так опасна. Вернее, она была избирательно опасна, ее жертвами становились, как правило, влюбленные мужчины. Или мужчины, которым не терпелось обучиться самбе, румбе, пасадоблю. Покойный mr.Тилле и все остальные, снимки которых висят на пробковой панели в квартире Мерседес, вряд ли входили в их число. Они имели дело с совсем с другой Мерседес:
Великой загадкой. Великой тайной.
И с ней ничего нельзя было поделать. Разве что – унести с собой в могилу. Только и всего.
Ничего, ничего не поделать. Не подобрать ключей. Даже я, вооруженная ключом Ясина, подходящим ко всем дверям, не открою дверь в Мерседес. В ее квартиру – да, я уже побывала там. В ее машину – да, я и сейчас в ней сижу. Но не в саму Мерседес.
Бортовой компьютер мне тоже не помощник.
– Ты ведь знаешь, Мерседес, да? – шепчу я ему в микрофон.
– Держитесь прямо к ру Л'Альбони, – отвечает он ни на йоту не изменившимся голосом. – Через двести метров поворот к ру Ваньес.
– Какая она?
Компьютер молчит, но лишь потому, что я не ошиблась с поворотом и все сделала правильно. Поправлять меня нет необходимости – на этом отрезке пути.
– Не можешь подобрать нужные слова?
– Улица Бенджамина Франклина. Вправо к площади Трокадеро.
– Хорошо, я поняла.
Площадь остается справа, и мы выбираемся на авеню Клебер, так отрекомендовал эту более-менее вменяемую трассу компьютер. Тачка Мерседес движется в плотном потоке машин, ясно, что мы не уложимся ни в двенадцать, ни в двадцать минут, оптимальный расклад времени предназначен исключительно для Мерседес, отнюдь не для меня. Только она не способна считаться с чужими интересами, только для нее вечно горит зеленый свет, представить Мерседес, стоящую в пробках, – нереально.
– Никто не может подобрать нужных слов, когда дело касается Мерседес, верно? Даже ты.
Триумфальная арка.
Самая знаменитая арка в мире, хотя и выглядит она совсем не так величественно, как на тысячах открыток, рисунков, кадров; совсем не так, как я ожидала. Да я и не ожидала! Вместо того чтобы любоваться красотами Этого города, я безостановочно, иступленно думаю о Мерседес. И слава богу, хоть какое-то занятие, хоть какая-то пища для моего воображения, так долго остававшегося невостребованным. Никому не нужным. Впервые его оценил Алекс Гринблат, он тоже остался для меня загадкой – хоть и не такой глобальной, как Мерседес. Опять Мерседес, снова Мерседес, Мерседес – почти миф, Мерседес – миф без всякого «почти»; мертвая Мерседес (в случае если Мерседес действительно мертва) нисколько не уступает живой, совсем напротив. Единственное, что может сделать смерть в случае с Мерседес, – так это придать ей дополнительный шарм.
Пикантность.
Тачка Мерседес снабжена навигационной спутниковой системой, самой совершенной спутниковой системой из всех возможных, иначе и быть не может. Что произойдет, если я поменяю пункт назначения? И вместо банальной улицы Лепик потребую, чтобы меня сопроводили к Мерседес Торрес? Улица Мерседес, какой я ее вижу: увитые плющом дома-призраки, чтобы в них попасть – необходимо набрать шифр на панели рядом с дверями; окна в домах сделаны из того же стекла, что и оптические прицелы снайперских винтовок, они так же приближают объект, даже разметка, нанесенная на них, – та же. Бродячих собак здесь не было никогда, так же как и приземленных лавок, торгующих овощами и зеленью. Зато непременно отыщется один оружейный магазин и один ювелирный. Когда в одном конце улицы Мерседес наступает ночь, в другом – непременно всходит солнце. На востоке улицы Мерседес шумит океан, запад же защищен горами; там нет ни одного дорожного знака, там бродят стада мотоциклов, сбежавшие из Национального музея в Римини, куда бы ты ни отправился – все равно вернешься к исходной точке.
Улица Мерседес – ловушка.
Такая же, как сама Мерседес.
– …Бульвар де Курсель, – направляет меня компьютер.
А, да, бульвар де Курсель, максимальный отрезок, который я должна преодолеть по прямой, так что произойдет, если пункт назначения изменится?
Ничего.
Я не собираюсь менять его. Даже ради Мерседес. А затей я что-нибудь подобное – бортовая навигация сильно бы озадачилась. Ведь это всего лишь техника, лишенная воображения и души, не способная на верность и на предательство, вот почему я спокойно заняла место, по праву принадлежащее Мерседес, и до сих пор остаюсь безнаказанной.
…Чего бы мне не хотелось – оказаться поблизости от Монмартра, кишащего туристами. Их с лихвой хватило бы на две, на три Эс-Суэйры. Но Монмартр существует (я знаю об этом из литературы и из многих других источников) – следовательно, существуют и туристы. Если уж ты попала на улицу Лепик, Сашá придется с этим смириться. Даром что «Саппое Rose» не расположилось на вершине холма, а обосновалось на очень дальних подступах, заслоненная другими улицами и другими cafes – количество людей меньше от этого не становится. С другой стороны – Европа, благословенная Франция, и уж тем более – Париж, здесь постоянно толпится народ, и его всегда будет чрезмерно, с лихвой, через край. Я вовсе не собираюсь привыкать к разношерстной, разномастной толпе (даже из салона автомобиля она выглядит пугающе) – я просто хочу посетить одно заведение.
При таком наплыве для меня там вряд ли найдется свободный столик, и это удручает.
Еще не свернув на Лепик, стоя в заторе на огрызке пути у бульвара Клиши, я вынула из кармана бумажку с адресом, которую дал мне старик из Librairie. На что я надеялась? На то, что адреса не совпадут друг с другом, и это будет означать лишь одно: «Саппое Rose» снова переместился в пространстве, обвел меня вокруг пальца, как самый распоследний уличный наркодилер. Мои надежды оказались тщетны, оба адреса – написанный от руки и выдавленный на картоне – совпали до последней буквы.
Воистину в Этом городе всегда попадаешь туда, куда необходимо попасть.
– Конец пути! – объявляет голос в наушниках. – Аста луэго, маравильоса!
Аста луэго – прощание, следующее за приветствием, что-то вроде бай-бай или пока-пока, или чус, или орэвуар, ма белль, в Эс-Суэйре, под шум волн, наслушаешься всякого. Кроме одного: «Оставь меня в покое, идиотка!»
– И тебе аста. Луэго.
– При необходимости вы можете сообщить новые параметры поиска.
– Не сейчас.
Я все еще одушевляю компьютерные схемы, платы и контакты, вместо того чтобы просто «push the button»; Мерседес, не склонная к сантиментам, так бы и поступила.
– При необходимости вы можете сообщить новые параметры поиска. Пункт назначения?
Мне все-таки придется жать на кнопку, Мерседес делала это неоднократно. Даже не слушая безостановочный рефрен в наушниках, я нахожу место для парковки. На стороне, противоположной номеру дома, указанного в обоих адресах. И наконец-то глушу мотор, запоздало думая о том, что никаких дополнительных аксессуаров вроде иммобилайзера или ключа, отвечающего за блокировку двигателя или коробки передач, не понадобилось. Что, если кому-нибудь придет в голову угнать тачку Мерседес?
Руки коротки – вот и все имеющееся у меня объяснения. Тачка Мерседес не угоняется в принципе. Все защитные системы работают от одной-единственной кнопки на пульте, у Мерседес наверняка имелся свой собственный Ясин, поставщик сакральных автомобильных прибамбасов, простых в управлении и безнадежно потерянных для взлома.
Я напрасно ищу вывеску «Cannoe Rose». Ничего подобного нет и в помине. Прямо передо мной жилой дом с приоткрытой дверью в парадное, вот ведь черт! – вместо ожидаемого облегчения я испытываю разочарование и злость. К тому же человеческий лес заметно поредел, людей на улице Лепик не больше, чем на любой из послеобеденных улиц Эс-Суэйры. Последующее развитие событий предполагает два варианта: либо я возвращаюсь к машине, и шепчу в микрофон спасительное «ру Конвенсьон, 237», и в благостной тишине отеля «Ажиэль» дожидаюсь звонка от Доминика, либо…
Либо.
Второй вариант кажется мне более предпочтительным, к тому же его отработка не должна занять много времени. Я тупо последую за адресом на картонке, всего-то и нужно, что войти в подъезд и поинтересоваться у консьержа, где находится «Саппое Rose», получить ответ «je ne sais pas»42 (в лучшем случае) или «hors d'ici!»43 (в худшем) и снова вернуться к машине, а потом – в отель и ждать, ждать совершенно бесполезного звонка от Доминика.
До сих пор в Этом городе я не видела ни одного консьержа.
Я не вижу его и сейчас.
Подъезд абсолютно пуст. Его единственное отличие от подъезда на авеню Фремье в том, что третий и (местами) четвертый этажи дома Мерседес снесены здесь на первый. Конечно, до повешенного на перилах пупса дело не доходит; до экскрементов, прикрытых бельишком из бумажных обрывков секс-символов – тоже, но глухая стена справа от меня до самого верха испещрена граффити. Слова «charogne», запечатленного в самых разных формах, не обнаруживается, зато имеются в наличии другие слова, я нахожу даже искрометное русское «S U К А», написанное почему-то латинскими буквами. Я нахожу множество забытых имен, множество не переданных приветов из Вудстока, из Сайгона, из Алжира и Кореи, из шестьдесят восьмого, с Левого берега, с мыса Канаверал; от американской версии фильма «На последнем дыхании», от английской версии коктейля «Б-52», от полутора десятков обновленных версий операционной системы Windows. Все это наплывает друг на друга, дробится и соединяется в самых немыслимых комбинациях, перемежается рисунками (иногда – фривольными, иногда – по-настоящему талантливыми).
От стены с граффити у меня рябит в глазах и неожиданно начинает болеть голова.
Но самое интересное раскрывается в конце стены, за нарисованной стаей птиц, белых и черных: сплетаясь крыльями, сцепляясь хвостами, они образуют искомое:
С
А
NR
NO
OS
ЕЕ
Маленькая, выступающая мысом стрелка (на ней сидит одинокая птичка, похожая на пересмешника) указывает направление и подтверждает – я на правильном пути.
Нес, йес, йес! Hourra-hourra!..
Последовав за стрелкой и за клювом пересмешника, обращенным в ту же сторону, я преодолеваю:
.– три ступени, ведущие вверх;
– узкий, плохо освещенный коридор;
– три ступени, ведущие вниз;
– еще один коридор, освещенный намного хуже, чем первый;
– арку с низкими, хлопающими дверцами;
– коридор с коптящими на стенах факелами;
– пролом в стене.
За проломом начинается самое интересное. За проломом начинается собственно «Cannoe Rose» – открытая площадка в пятьдесят квадратов или около того, с неровными шероховатыми стенами и полом, выложенным белой и черной плиткой. Одну стену занимает широкая барная стойка, другую – огромный аквариум – точная копия кораллового рифа, каким его представляют люди, никогда не спускавшиеся под воду.
Каким его представляю я.
Аквариум настолько завораживает, что все остальные детали уходят на задний план: пластиковые Столы и стулья, красные бумажные фонарики над ними, два неработающих игровых автомата и один работающий – музыкальный. Окно музыкального автомата, больше похожее на импровизированную витрину магазина грампластинок, отсвечивает мягким желтым светом; из него льется знакомая, много раз слышанная музыка, но уловить мотив я не в состоянии. Кажется, она связана с Вудстоком, а может быть – с шестьдесят восьмым годом, а может быть с фильмом «На последнем дыхании».
В его французской версии.
Все столики в «Cannoe Rose» заняты.
Шпионы, работающие под прикрытием, – ну да, ну да. Бледные провинциалы из Дижона, мечтающие надрать задницу первому подвернувшемуся черному или арабу, – нуда, нуда. Отставные хиппи – нуда, нуда. Торговцы героином и его верные адепты, ширяющиеся тут же, под красным бумажным фонариком, – нуда, нуда. Начинающие писатели, сценаристы и сатанисты – нуда, нуда.
Все не так. Все совсем не так.
Публика, которая оккупировала столики, – самая обыкновенная: влюбленные парочки и не влюбленные парочки, компания работяг, компания секретарш, компания футбольных болельщиков; два молодых человека в военной форме, одинокий, печальный алжирец в европейской одежде (алжирцев я всегда узнаю по мелко курчавящимся блестящим волосам), одинокая женщина средних лет, похожая на шлюху и Shirley Loeb одновременно. Никто не кричит, никто не устраивает склок и разборок, но в зале (если можно назвать залом площадку под открытым небом) стоит веселый непрекращающийся гул, от него – в противоположные друг другу стороны – уходят две волны. Одна разбивается об аквариум, а другая – о барную стойку.
Два свободных места есть только у нее.
Я подхожу к стойке, устраиваюсь на высоком стуле, напротив бармена – седого (или, вернее, абсолютно беловолосого) мужчины лет пятидесяти в ярко-синей вельветовой рубашке с короткими рукавами. Белый и синий – любимые цвета Эс-Суэйры, в случае с барменом они разделены светло-коричневым пляжем лица, такое определение вполне уместно: загар, покрывающий щеки, лоб и подбородок бармена – светло-коричневый, ровный, вечный. Морщин не слишком много, но они необыкновенно резки и выпуклы, за ними может стоять все что угодно: походя преданная дружба, походя брошенные женщины, карточные долги, бурная молодость охотника за головами. В глубоком вырезе рубашки виднеется диковинный крест, собранный из продолговатых темных плодов какого-то растения; тяжелый серебряный браслет на правом запястье и тяжелую серебряную серьгу в правом ухе можно считать удачным к нему дополнением.
Бармен похож на актера Шона Коннери.
Сходство так велико, что на мгновение мне кажется – это и есть Шон Коннери. Собственной персоной. Нисколько не постаревший со времен своего позднего Бонда Шон, зачем-то бросивший и Голливуд, и Эдинбург и устроившийся работать в вонючей парижской забегаловке… т-сс… ша! никакая это не забегаловка. Это… Это…
Это – «Cannoe Rose».
Место, в которое я так стремилась попасть, куда бы добралась рано или поздно – просто потому, что в Этом городе ты всегда оказываешься там, где должен оказаться. Случайных адресов в Этом городе не бывает.
– Я – не он, – неожиданно говорит бармен, обнажая в улыбке белые (на тон светлее волос) и странно молодые зубы.
– Простите?
– Я – не он. Не тот актер. Вы ведь как раз об этом думали, правда?
– Правда, – теперь уже я улыбаюсь бармену ответной улыбкой. – Именно об этом я и думала.
– Меня вечно с ним путают. И вечно приходят на меня поглазеть. Знаете, как это бывает – один идиот увидел и сказал другому, другой сказал третьему, вот и получается круговорот дерьма в природе. А в самой середине – я.
– Мне никто об этом не говорил.
– Да ну? – бармен искренне удивлен.
– Никто. Кофе, пожалуйста.
– И чего-нибудь покрепче?
– Хорошая идея. Джин у вас есть?
– Найдется.
– Можно закурить?
Праздный вопрос, в «Cannoe Rose» курят все кому не лень – даже субтильные секретарши дымят в четыре трубы; праздный вопрос – но он способен привлечь внимание бармена, молча пододвинувшего мне пепельницу. Я вынимаю сигареты и красную картонку (она будет жить вечно!), отрываю вторую по счету спичку и подкуриваю.
В совершеннейшем молчании.
Вчера, когда я был молод,
Вкус жизни был сладок, как дождь на моем языке,
И я дразнил ее, считая дурацкой игрой, -
Подобно вечернему бризу, дразнящему пламя свечи,
Я перепробовал тысячу грез,
Я запланировал уйму прекрасных вещей,
Но все, что я построил, – стоит на зыбком песке,
Просачиваясь во вчера, когда я был молод…
Не самый лучший подстрочник, да что там – просто отвратительный, он рождается в моей голове внезапно и не поспевает за музыкальным автоматом; крохи ускользающего смысла – вот и все, что мне остается.
Песня красива, грустна и банальна, она трогает меня по-; настоящему. Как тронула бы любая другая песня со сходным мотивом и сходными словами. Только банальности способны вызвать искреннее движение души.
Время зашло за мной для оплаты вчера -
Когда я был молод.
– Вы как будто расстроились? – участливо спрашивает бармен, не сводя глаз с картонки в моей руке.
– Нет, ничего. Просто песня…
– Вы можете выбрать другую, повеселее. Всего лишь один евро – и кто-нибудь типа Сашá Дистель быстро приведет вас в хорошее расположение духа.
– У вас есть Сашá Дистель? По-моему, его уже давно никто не слушает.
– У нас есть все. У нас есть песни, которых еще никто никогда не ставил. Все предпочитают слушать одно и то же. Каждый день. О том, как они были молоды вчера. И о том, как невыносимо проснуться завтра, в одинокой постели, из которой только что выскользнула любовь.
– Это волнует всех, ничего не поделаешь.
– Точно. – Морщины на лице бармена становятся еще глубже и выразительнее. – И бороться с этим невозможно. Вот ваш кофе и ваш джин.
Джин выглядит чертовски холодным, даже стакан запотел. Кофе, напротив, – обжигающий, кто из присутствующих заплатил один евро, чтобы послушать о несбывшихся мечтах и жизни, просочившейся сквозь пальцы, как песок?..
– Вы ведь не бывали здесь прежде…
– Никогда не бывала.
– Но у вас спички из нашего бара. Такие же, как во-он те…
Не-Шон указывает взглядом на большую стеклянную емкость, стоящую на столешнице справа от него. Просто удивительно, что я не заметила ее до сих пор. А между тем она доверху наполнена красными спичечными картонками, полностью идентичными моей.
– Вы же знаете, как это бывает. – Я смотрю прямо в глаза бармену, ярко-синие, удачно подобранные под цвет вельвета. – Один идиот влюбился в ваш бар и рассказал о нем другому, другой – третьему, третий – четвертому… Я была последней в списке.
– Значит, спички достались вам как сувенир?
– Что-то вроде того… То есть – сначала это был сувенир, а потом…
– А потом?
– Потом он превратился в единственную память о человеке, который был мне дорог.
– Его больше нет?
Студентик Мишель. Отставной горнолыжник Жюль, впоследствии оказавшийся легавым. И множество других людей, сочиняющих трагические истории, чтобы их собственное одиночество выглядело оправданным. Чтобы их собственное существование казалось не таким бессмысленным, каким оно является на самом деле. Все это множество сидит в дешевом кинотеатрике, на просмотре фильма о страстях, недоступных им, о приключениях, которые они никогда не переживали; никто не решается закурить, никто не решается выйти в туалет, пустое кресло у прохода предназначено специально для меня.
Никогда.
Никогда я в него не сяду.
Залпом выпив джин, я дружески подмигиваю бармену:
– С ним все в порядке. И со мной тоже. Просто мы давно не виделись.
– Повторить? – Не дожидаясь ответа, не-Шон снова наполняет мой стакан. – Это за счет заведения.
– Спасибо.
– Значит, ваш друг бывал у нас?
– И довольно часто.
– Я знаю всех. Всех, кто заглядывает сюда чаще, чем один раз. Нас ведь довольно трудно найти…
– Это точно. Случайно сюда не попадешь.
– Вы его разыскиваете?
– Не то чтобы я напрягала все силы в его поисках…
– Но?..
– Увидеться не мешало бы.
– Можете оставить ему записку. Все так делают.
– Все?
– Нуда. Видите деревянный щит?
Палец бармена устремляется по направлению к стене, примыкающей к аквариуму. Деревянный щит расположен прямо посередине и весь увешан бумажными листками и конвертами; я вижу даже засохший цветок ириса, намертво прикрепленный к дереву.
– Тот, кому нужно, обязательно подойдет, обнаружит оставленное для него послание и прочтет его.
– Не думаю, что это выход. Человек, о котором я говорю, – совсем не ждет от меня послания.
– Может, он ждет послания от кого-нибудь другого? – вполне резонно замечает бармен. – И тогда все равно подойдет. Как его зовут?
В вопросе нет ничего сверхъестественного, но он застает меня врасплох. Фрэнки, возможно, бывал в «Cannoe Rose», то же можно сказать о Мерседес, кого из двоих выбрать? Кого? Я стою перед двумя совершенно одинаковыми, наглухо закрытыми дверями, стоит мне толкнуть не ту – и тему с блуждающим по Парижу баром можно будет закрыть навсегда.
– Фрэнки, – наконец произношу я. – Его зовут Фрэнки.
– Я не знаю никого по имени Фрэнки.
Вот он, приговор! Но так просто я не сдамся.
– Неужели вам известны все имена?
– Тех, кто заглядывает сюда чаще чем один раз, – да. – Бармен подмигивает мне и принимается протирать стаканы, и без того чистые. – Вон тот парень – алжирец. Его зовут Али, он приходит сюда по четвергам и субботам. А сегодня как раз четверг. Или суббота?
– Понятия не имею.
Я действительно не знаю, четверг сегодня или суббота, я не уверена насчет времени суток, лишь одно не вызывает сомнений – с алжирцем я угадала.
– Ай-ай, красотка! – не-Шон одобрительно цокает языком. – Хорошо, что вы появились. Видите теплую компашку? Самый дальний от нас столик…
– И что?
– Не пропускают ни одного матча национальной сборной. Колесят за ней по всему свету. Гийом, Жан-Клод, Жан-Анри и просто Жан, и еще коротышка Венсан по прозвищу Хорек. Страшные люди, любители почесать кулаки о чужие челюсти. Лучше им не попадаться, но вас они не тронут.
– Почему?
– Не тронут, и все. У нас тишь да гладь. Даже отъявленные мерзавцы ведут себя так, как будто только вернулись с приема в посольстве Суринама.
– Тишь да гладь, я вижу.
Второй стакан джина (в отличие от первого, выпитого залпом) я лишь потягиваю. Странно, но обычной реакции на алкоголь не наступило, я чувствую себя просто замечательно. «Cannoe Rose» и вправду выдающееся заведение. Оно стоит того, чтобы вернуться сюда еще раз.
– …а как насчет девяти убийств? Два из них были ритуальными и два – на почве расовой ненависти. Кажется, так…
Белоголовый бармен смеется так заразительно, он так широко открывает рот, что я вижу две железные коронки в самой глубине – справа и слева.
– Вы хорошо осведомлены для посетителя, пришедшего сюда в первый раз.
– Я ведь не утверждала, что заглянула сюда случайно…
– Случайно сюда не попадешь, – повторяет не-Шон мои собственные слова, сказанные пять минут назад. – А что касается убийств – мрачные слухи о них сильно преувеличены.
– Их не было?
– Были.
– Их было не девять?
– Их было ровно девять.
– Тогда в чем же преувеличение?
– Они не были зверскими. И это случилось давно. Очень давно. Когда «Саппое Rose» располагался совсем в другом месте.
– Этот бар все время переезжал с места на место.
– Точно, красотка! У этого бара сердце бродяги, разве можно его за это винить? А что касается убийств… Они совершались в те времена, когда люди еще были романтичны. Были сентиментальны. Когда они плакали над словами из песен – как дети…
– И убивали.
– И убивали, как дети. Из любви, из ненависти, но совсем не расовой. Из желания обладать. Из желания получить то, что получить невозможно.
– И это оправдывает убийства?
– Это делает их понятными.
Похоже, не-Шона чрезвычайно волнует эта тема. Настолько, что и без того ярко-голубые глаза становятся нестерпимо-голубыми, а морщины – все до единой! – разглаживаются, на секунду явив миру не позднего, а раннего Бонда.
– Время таких убийств ушло безвозвратно, мир стал циничным. Теперь убивают совсем по другим причинам.
Располосованное горло Фрэнки – совсем другая причина. По моей спине пробегает холодок, и зачем я только завела дурацкий разговор об убийствах? Я могла поговорить с барменом о кино, которое снималось в окрестностях «Саппое Rose», или о шпионах, работающих под прикрытием: с кем же еще говорить о них, как не с точной копией агента 007?..
– Из тех, романтических убийств я не застал ни одного, – в голосе бармена сквозят нотки сожаления. – Последнее было совершено за неделю до того, как я впервые встал за стойку. Но и потом здесь случалось много интересного. И случается до сих пор. И может еще случиться.
– С кем?
– Да с кем угодно. С любым, кто заглядывает сюда чаще, чем один раз.
– Я поняла – это реклама вашего бара, – я понимающе подмигиваю не-Шону.
– Не совсем так, – не-Шон понимающе подмигивает мне и снова опрокидывает горлышко бутылки с джином в мой неосмотрительно поставленный на стойку стакан. – Повторить?
– Выбора нет. – Выпитое раньше незаметно настроило меня на философский лад. – Это тоже за счет заведения?
– Это – нет.
Нет так нет, нет – и черт с ним. Тем более что в этот раз я пью не в одиночестве. Ко мне присоединяется сам бармен, плеснувший в стопку спиртное совсем из другой бутылки.
– То, о чем я говорил, – не реклама. Случится может разное – и не всегда хорошее. Но пусть хоть что-то случается. Это означает, что мы еще живы.
– Да. Как ни странно – мы еще живы.
Только теперь я начинаю понимать все коварство джина и моего собеседника заодно: стойка, батареи бутылок и шеренги стаканов плывут у меня перед глазами, а стеклянная чаша со спичками раскачивается подобно фонарю на ветру. Стекло аквариума то приближается, то удаляется, рыбы за ним приобрели совершенно фантастические очертания, и я готова поклясться, что даже Ясин – повелитель моря Ясин! – никогда не видел таких причудливых созданий. А люди… Люди за столиками тоже преобразились, они стали бестелесны, бесплотны, я имею дело с небрежно расписанным театральным задником, с эскизом еще не написанной картины.
Я совершила непростительную глупость – еще одну в ряду других глупостей, не стоило лакать горячительное на голодный желудок, ведь я не ела со вчерашнего вечера. Да и скромный бутерброд в марракешском аэропорту трудно назвать едой.
Возьми себя в руки, Сашá! Соберись.
Вдох-выдох. Вдох-выдох.
Вдох-выдох -
прощай, Джонни До!
видишь, я уже могу дышать -
без тебя…
не волнуйся, смотри на вещи проще, Джонни До!
видишь, я уже могу дышать -
без тебя…
– Кажется, эту песню крутят в третий раз. – Только бы не-Шон не заметил, в каком плачевном состоянии я нахожусь!
– Все может быть, – соглашается бармен. – Вы опять погрустнели.
Я не просто погрустнела, я готова хлопнуться в обморок, проклятый джин! Вдох-выдох, вдох-выдох, должен же быть этому конец!
– Странно, что никто к нам не подходит. Вернее – к вам.
– Ничего странного. Все видят, что я разговариваю с девушкой. С симпатичной девушкой. А мешать разговору с девушкой – последнее дело. Разве нет?
– Да.
Уфф!.. Кажется, отпустило. Бутылки и стаканы перестали наползать друг на друга, вода в аквариуме успокоилась, а люди снова обрели плоть и кровь. И до меня по-прежнему доносится веселый непрекращающийся гул «Cannoe Rose».
– …И вы всегда располагались под открытым небом? – как ни в чем не бывало, как будто и не было минутной (трехминутной) слабости, спрашиваю я у бармена.
– Старались. Люди должны постоянно видеть солнце и звезды. Это благотворно на них влияет.
– А что вы делаете, когда идет дождь?
– Приходите к нам, когда идет дождь, – тогда и увидите.
– Меня наверняка будет ждать феерическое зрелище.
– Это точно. Договоритесь с дождем и приходите.
Мне становится совсем хорошо. Так хорошо, что я откидываюсь на спинку стула и снова закуриваю. Не-Шон – отличный малый, алжирец Али – один из самых симпатичных арабов, которых я когда-либо видела (а я перевидала их немало), Жан-Клод, Жан-Анри и просто Жан кротки, как овечки, дождя не предвидится, но есть потрясающий коралловый риф за стеклом.
Это что-то!..
– Наверное, трудно ухаживать за ними…
– За кем?
– За рыбами.
– Совсем не трудно. С русалками было сложнее.
– С какими русалками? – Не-Шон просто издевается надо мной. Разыгрывает одинокую подвыпившую девушку.
– С обыкновенными. С теми, которые вечно втягивали моряков в любовные истории. И все они заканчивались одинаково глупо и одинаково плачевно. Я бы никогда не связался с русалкой. Здесь плавали одна или две, и совсем не красавицы, я видел и получше и посисястее, уж извините за жаргон…
– Ничего.
– И то успели напакостить. Правда, времена русалок ушли в прошлое – вместе с теми убийствами…
– Романтическими.
– Да. Но я до сих пор нет-нет и вспомню о них.
Не-Шон смеется, его белые зубы ослепляют меня, его нательный крест из плодов какого-то растения ослепляет меня, дополнительные источники света: серебряный браслет и серебряная серьга.
– Вы ведь шутите, да? Никаких русалок не было.
– Конечно, шучу. Русалок, как это ни прискорбно, не существует. А вот дельфины у нас и правда жили. Два дельфина-афалины, самец и самка. Совсем недолго, но было на что посмотреть, уж поверьте. Некоторые – так просто приходили и сидели целый вечер, вперившись в стекло. Был один парень, Франсуа… Вот кто не пропускал ни одного дня! Он был забавный, Франсуа. Рассказывал мне, что не прочь сам подработать в каком-нибудь дельфинарии. Он вроде и устроился туда, но не продержался и дня. Все из-за запаха.
– Из-за запаха? – я едва слышу свой голос, так он тих.
– Запах сырой рыбы, ею кормят дельфинов. А парень его на дух не выносил. Вот такое трагическое стечение обстоятельств. Мне, например, все равно, сырая рыба или апельсин, я запах имею в виду. А вам?
– Мне тоже.
Таких совпадений не бывает. Не существует в природе. Это тот самый Франсуа. Франсуа Пеллетье. Фрэнки. Один единственный из всех возможных. Трудно представить, что в марокканской Эс-Суэйре зарезали сразу двух Франсуа. А если бы зарезали – я бы обязательно узнала о втором.
Это он.
Даже если бы я хотя бы на секунду усомнилась в этом – красная плоская картонка со спичками развеяла бы все мои сомнения. Фрэнки бывал в «Саппое Rose» перед тем, как уехать в Марокко: возможно, спасаясь от неприятностей, возможно – по какой-то другой причине. Несомненно только, что это он опустил пустую картонку в мою сумочку.
Это он. Больше некому.
Диджей на Ибице, рекламный агент по продаже сухих строительных смесей, менеджер в фирме по изготовлению сейфов, менеджер в фирме по производству сыров, сомелье, сотрудник дельфинария, не проработавший в нем и дня. Он не врал мне, Фрэнки. Во всяком случае, в том, что касалось дельфинов. Но даже правда о себе, которой Фрэнки поделился с совершенно незнакомой ему женщиной, ни на сантиметр не приближает меня к ответу на вопрос:
зачем он сделал это?
Зачем он сунул картонку мне, страшно далекой от Европы, и от благословенной Франции, и от Парижа, и от кочующего по Парижу цыганистого бара «Саппое Rose»? Я ведь не говорила ему, что собираюсь в Старый Свет, я и не собиралась туда, у меня и мысли такой не было, тогда зачем он так поступил?
Затем… Затем…
Затем, что больше никого не было рядом!
Никого, кроме меня.
Внезапно пронзившая меня догадка расставляет все по своим местам, теперь она кажется мне единственно возможной, теперь она кажется мне единственной: Фрэнки угрожала опасность, серьезная опасность, последствия которой он не мог просчитать и – в конечном итоге – не просчитал. Единственное, что оказалось у него под рукой, – дурацкое воспоминание о спичках из парижского бара. Единственное, что оказалось у него под рукой, – дурацкая я. Вряд ли он надеялся на меня, смешно надеяться на дамочку, навсегда застрявшую в североафриканской глуши.
Он и не надеялся.
В самый последний момент он поступил так же, как поступают все, когда либо попавшие в кораблекрушение и вынесенные волнами на пустынный берег пустынного острова. Он отправил послание в бутылке: может быть, возможно, peut-etre44 спустя много часов, много дней, много лет бутылка будет выловлена и послание прочтут – важно лишь, чтобы его текст не стерся, не был смыт водой.
Он – стерся. Он – смыт.
И я совершенно не знаю, что мне делать дальше. Совершенно.
– …Эй, красотка! – Не-Шон щелкает пальцами перед моим носом, и только это приводит меня в чувство. – Что с вами? Сначала грустили, а теперь и вовсе отключились. На джин вроде пока никто не жаловался…
– И я не собираюсь. Просто задумалась о своем приятеле.
– Том самом, от которого получили сувенир.
– Да.
– Я уже говорил вам – всех завсегдатаев я знаю по именам. И Фрэнки мне не попадался. Должно быть, ваш приятель заходил сюда лишь однажды.
– С чего вы взяли?
– У тех, кто приходит второй раз, я обязательно спрашиваю имя. Вот так. Это касается всех. И вас тоже. Так что оставайтесь пока «красоткой». Звучит неплохо, а?
– Звучит многообещающе. Но я, наверное, зашла не с того конца.
– В смысле?
– Фрэнки – это американизированный вариант Франсуа. Мой друг просил, чтобы я называла его Фрэнки, хотя на самом деле его звали Франсуа. Франсуа Пеллетье. Мой Фрэнки:.. Или мой Франсуа… уж как хотите… он тоже любил дельфинов и ненавидел запах сырой рыбы. Возможно, мы говорим об одном и том же человеке. Или нет?
Я не сказала ничего из ряда вон, я выстроила самую обыкновенную логическую цепочку, уныло-логическую, – тогда почему так изменился не-Шон? А он изменился – и джин на пустой желудок здесь совершенно ни при чем. Мое сознание прозрачно, мой взгляд кристален, и лицо не-Шона преломляется в нем: я вижу прижавшиеся к черепу уши, прилипшую к губам полоску зубов; я вижу выставивший защитный блок подбородок – что же такого страшного я сказала, черт возьми?!..
– Не знаю. Может – нет, может – да. Не знаю.
– Он давно здесь не появлялся, Франсуа?
– Давненько. С тех пор, как увезли дельфинов. – Бармен уже взял себя в руки, но восстановить иронический тон, которым разговаривал со мной, все еще не удается.
– Он бывал здесь один?
– Хотите спросить, бывал ли он здесь с женщиной?
Не-Шону страшно хочется перевести разговор в невинную плоскость взаимоотношений между полами – тех самых, которые предшествовали романтическим убийствам из прошлого. Не-Шон горазд разговаривать на эти темы, он с готовностью поддержал бы беседу о русалках, и о дожде в «Cannoe Rose», и о Sacha Distel, и о том, что чем глупее песня, тем она правдивее. Вот только собственно о Фрэнки он разговаривать не готов. И наверняка сожалеет, что вообще упомянул его имя: дельфины. Во всем виноваты дельфины, не-Шон ввернул байку про них, чтобы поддержать убойный имидж заведения, – и прокололся.
– …Хочу спросить, бывал ли он здесь вообще с кем-нибудь. С мужчиной, с женщиной – не важно. Приходил вместе с ними, уходил вместе с ними, просто встречался – не имеет значения.
– А вы кто? – проявляет запоздалую подозрительность бармен.
– Никто. Подруга Фрэнки. Или подруга Франсуа, как вам будет угодно. Красотка, как вы изволили выразиться.
– Нуда…
– Что скажете?
– Только то, что уже сказал. Парень, которого вы считаете своим другом… хотя я вовсе не уверен, что мы говорим об одном и том же человеке… остановимся на том, что некий тип по имени Франсуа приходил смотреть на дельфинов. И рядом с ним я никого не видел.
– Может быть, он оставлял что-нибудь?
– Оставлял?
– Записку, послание…
Послание в бутылке Фрэнки оставил много позже, и не здесь, а в Марокко. Но есть вероятность, что в «Cannoe Rose» отыщется черновик. Во всяком случае, мне бы страстно хотелось этого.
– Если он что-то и оставлял… то только на доске.
– Я могу на нее взглянуть?
– На доску? Конечно. Она для того и висит.
Под пристальным взглядом не-Шона я сползаю со стула и направляюсь к стене с записками. То, что раньше выглядело как деревянный стенд, на поверку оказывается пробковой панелью – почти такой же, какую я обнаружила в потайной комнате. Панели отличаются рисунком и (что немаловажно) – информацией, которую несут. Ничего кровожадного в этой доске нет: моему взору предстают веселенькие разноцветные листки, сложенные вдвое, втрое и вчетверо и даже свернутые в трубочку на манер древних манускриптов; есть несколько конвертов, есть вырванная из журнала страница с заметкой, обведенной красным. Засохший цветок ириса (он хорошо просматривался от стойки) – не единственный. В комплекте с ним идут еще несколько цветков помельче: гиацинт и фиалка, насколько я могу судить по их общему абрису. Пластмассовая футбольная бутса размером с одноразовую зажигалку, медвежонок Тедди на магните, медвежонок Тедди на присоске: они почти идентичны друг другу, с той лишь разницей, что магнитный Тедди держит в руках сердце.
Вообще – на доске полно сердец. Они выполнены с разной степенью мастерства и больше похожи на слова из песни, чем на иллюстрацию к анатомическому атласу. Разбитые сердца. Сердца, пронзенные стрелой. Сердца, соединенные друг с другом; сердца, входящие друг в друга; сердца, истекающие чернильной кровью.
Сердце – самый популярный мотив в «Cannoe Rose».
Есть еще несколько мотивов, не таких востребованных: нехитрые шифры, состоящие из набора повторяющихся в произвольном порядке букв и цифр; оттиски губ, фаллические символы (их забавная и почти всегда экстравагантная стилизация не вызвала бы протеста и у пуритански настроенных сельских священников), клочки с нотной записью, диски без конвертов, осколки винила, густо исписанные банкноты неведомых мне стран.
Я нахожу то, что мне нужно, как раз между одной из банкнот и эксгибиционистским манифестом «Don't let me be lonely tonight»45. В отличие от большинства записок, чье содержание скрыто от любопытных взглядов, этот – распахнут настежь, не оставляй меня одну этой ночью, ты никогда не делал этого прежде, так что же изменилось? Я? да нет же, я осталась прежней, и мои глаза по-прежнему видят только тебя, и мои губы по-прежнему чувствуют вкус только твоих губ… ты?., читать признание дальше – все равно что возвращаться к когда-то наизусть затверженному тексту, нечто похожее переживала я сама, нечто похожее переживает каждый или почти каждый, за исключением разве что Спасителя мира Алекса Гринблата и двух дельфинов-афалин, самца и самки; в историях, которые случаются с людьми после любви, нет ничего принципиально нового. Что можно было купить на банкноту, пришпиленную к панели по соседству? Книгу «Из Африки», билет на поездку в фуникулере, футболку с изображением медвежонка Тедди, ночь любви? Ее номинал (50) ни о чем мне не говорит, банкнота слишком цветиста, чтобы считать ее серьезной, она имеет хождение в стране, чья валюта никогда не была и не будет конвертируемой, да и само название страны заляпано кляксами, занавешено строчками, написанными вкривь и вкось: должно быть, они повествуют о совместной покупке книги «Из Африки», о поездке в фуникулере, о потрясающей ночи любви, футболка с медвежонком Тедди оказалась безнадежно испорченной томатным соком. Меня не должно это волновать.
И все же справиться с волнением я не могу. Виной тому – не купюра, похожая на персидский ковер, и не «Don't let me be lonely tonight», а то, что находится между ними.
Листок из блокнота.
Он не имеет адресата, как все прочие листки, никаких «Моему котику Бэбэ», «Моей киске «Пулу», «Девушке, заказавшей виски в 22.15 восьмого июля», «Королю океана»; никаких «Прочти это, стерва!», никаких «Никогда не читай этого, подлец!». Но тот, для кого предназначен блокнотный листок, наверняка выделил бы его из всех остальных.
Дельфин, выпрыгивающий из воды, – и это не просто рисунок от руки, скорее – нечто похожее на оттиск, личную печать, упрощенный вариант экслибриса. Я уже видела такого дельфина. Он являлся мне не в образе Фрэнки (хотя мог бы) и не в образе Алекса (хотя мог бы) – он являлся мне дельфином, выпрыгивающим из воды.
Книга, подаренная в Librairie.
Дельфин с листка – точная копия дельфина с обложки. Чтобы убедиться в этом, достаточно вынуть книгу из рюкзака и сличить оба изображения. Я проделываю нехитрые манипуляции быстро и (как мне кажется) – незаметно для не-Шона. И я не просто вынимаю книгу, я раскрываю ее на первой попавшейся странице – лишь для того, чтобы сунуть туда листок из блокнота. И снова захлопнуть.
Дело сделано.
А пустота, образовавшаяся между испорченным дензнаком и рукописным одиночеством в ночи, – вряд ли она надолго останется незаполненной. Не пройдет и дня, как на нее наслоятся иные чувства и иные переживания, и иные листки с любовными каракулями, в «Cannoe Rose» все помешаны на любви, и на отсутствии любви, и на игре в любовь, в каких бы причудливых формах это ни выражалось.
Дело сделано. Мне остается лишь заплатить за кофе и джин и элегантно покинуть заведение.
– Сколько я должна? – спрашиваю я у не-Шона самым независимым тоном.
– Должны? Вы должны вернуть то, что взяли, красотка.
До этого момента бармен был исключительно любезен, он проявлял искреннюю заинтересованность в клиенте, он хотел расшевелить меня, поразить мое воображение – от прежней любезности и следа не осталось. Более того – прямо на глазах лицо добродушного балагура не-Шона трансформируется в лицо головореза не-Шона. Он мог бы ударить женщину, пнуть собаку, свернуть голову птице, сжечь муравейник. А о том, что сделал бы головорез не-Шон с мужчиной, даже подумать страшно.
Хорошо, что я – не мужчина.
Хорошо, что в баре полно людей и играет музыка («Я похоронен под дождем» – Sacha Distel и правда веселит, да еще как!), при малейшей опасности я всегда смогу найти защиту… не у Жан-Клода, Жан-Анри и просто Жана, нет. У молодых людей в военной форме, к примеру.
– …То, что я взяла? Ничего я не брала.
– Вы взяли записку. Которая предназначалась не вам.
– Откуда вы знаете…
– Знаю, и все тут.
– Вы ошибаетесь.
– А мне сдается, что нет. Здесь не принято совать нос в чужие дела…
– Вот именно…
– Здесь не принято совать нос в чужие дела, но принято следить за тем, чтобы письма всегда доходили до нужного адресата, вне зависимости от того, сколько бы времени ни прошло. И я не вижу повода нарушать традицию, даже ради такой красотки, как вы.
«Красотка» – вовсе не комплимент, а первое подвернувшееся под руку слово, оно призвано заменить имя, которое отсутствует; с тем же успехом не-Шон мог назвать меня брюнеткой, куколкой, сучкой, дамочкой в стиле ретро, похитительницей спичек, теперь к спичкам прибавился еще и листок из блокнота. Я взяла его тайком, я не думала, что бармен заметит это. Но он заметил, так что отпираться глупо. Лучше попробовать договориться с ним.
– …Вообще-то записка предназначалась мне. Я и пришла сюда из-за нее. Я надеялась найти ее и нашла.
Стойка, разделяющая нас, придает уверенности: в открытое столкновение он не сунется, хватать красотку за руки? хватать ее за горло? ха-ха. не-Шон ничего не знает обо мне, как ничего не знает о побудительных мотивах, которые заставляют людей совершать те или иные поступки. Он ничего обо мне не знает, а строить предположения – неблагодарный и плохо оплачиваемый труд. Я могу оказаться обыкновенной влюбленной женщиной; могу оказаться психопаткой, разыскивающей ветреного любовника, чтобы пустить ему пулю в лоб; могу оказаться домохозяйкой, тайком изменяющей мужу. Но также я могу быть крупным специалистом по дельфинам, или крупным специалистом по промышленному шпионажу, или тайным агентом. Сколько тайных агентов в эту минуту, в эту секунду встречаются друг с другом по всему миру, передают сведения, микрофильмы, флэш-карты и электронные чипы с информацией? – скромный бар «Саплое Rose» уж точно не вместил бы всех.
– …Вы мне не верите?
Бармен медлит с ответом.
Чтобы успокоить его и склонить на свою сторону, я достаю книгу со вложенной в нее запиской и аккуратно постукиваю пальцем по обложке с дельфином:
– Видите этот рисунок?
– И что?
– А теперь давайте сравним.
Извлеченный из толщи графиков, схем и таблиц листок с оттиском я кладу прямо на обложку.
– Похоже, правда?
– Ну… В общем – похоже.
– Претензий больше нет?
– Нет.
– И я бы все-таки хотела расплатиться. Сколько с меня?
– Девятнадцать пятьдесят, включая кофе.
Не слишком дорого, если учесть культурную программу, душещипательные музыкальные вставки и экскурсы в историю.
– Чаевые не включены?
– Чаевые не обязательны. Чаевые – добрая воля клиента. Так обстоят дела в нашем замечательном баре, красотка.
Не-Шон хорошо потрудился, выложился по полной, что заслуживает отдельного вознаграждения, вопрос лишь в том, на сколько это вознаграждение потянет. Можно воспользоваться методом Алекса и выложить сразу десятку; в номинации «Тот, кто удивил нас на этой неделе» бармену, несомненно, досталось бы самое высокое место. В отсутствие Алекса Гринблата и моего друга Доминика Флейту. В отсутствие Слободана Вукотича, кота Сайруса и чудо-машины Мерседес.
И конечно же в отсутствие самой Мерседес.
Десятка – явный перебор.
Пяти евро будет вполне достаточно, а лучше ограничиться двумя, если у меня отыщется мелочь. Бросив на столешницу мятую двадцатку, я лезу в задний карман за монетами и выгребаю все. Китайская, с квадратной дыркой, вряд ли порадует не-Шона, но два евро все же находятся, и еще пятьдесят центов, и еще двадцать пять: что ж, не будем крохоборничать, когда речь идет о стандартных десяти процентах от счета – хотя счет мне никто не предоставил.
– Этого достаточно?
– Вполне. – Бармен сосредоточенно чешет подбородок. – Заглядывайте к нам почаще. Может, повезет, и вы застанете здесь Франсуа.
Кого я точно не застану – ни здесь, ни где бы то ни было, – так это Франсуа. Франсуа Пеллетье. Симпатягу Фрэнки, расставшегося с жизнью на атлантическом побережье Марокко.
– Вы же говорили, что он давно здесь не появлялся.
– Время не так уж важно, если хочешь найти человека, правда? К нам возвращаются и через несколько лет.
– Боюсь, у меня нет в запасе нескольких лет. В случае с Франсуа, я имею в виду.
– Тогда заглядывайте просто так. У нас полно замечательных парней, жаждущих познакомиться с красотками.
– Жан-Клод, Жан-Анри и просто Жан? И коротышка Венсан по прозвищу Хорек?
Приложенный к губам палец – такой реакции от всесильного бармена, обладателя хорошо развитой мускулатуры и разбойной физиономии, я не ожидала.
– Ш-шш… Не произносите их имена всуе!
– Это чревато неприятностями?
– Для красоток – всегда. С правилами хорошего тона они незнакомы. А у вас, оказывается, отличная память. Запомнили имена, которые вряд ли вам пригодятся.
– Память самая обыкновенная. Ведь и вы знаете массу таких имен. И любой другой. Так что в этом я нисколько не отличаюсь от большинства.
– В этом – может быть. А во всем остальном…
– Что?
– Вы совсем не простая. Совсем. Вы та еще штучка. «Та еще штучка» – вовсе не комплимент. И не первое подвернувшееся под руку слово, в отличие от универсальной «красотки». В голосе не-Шона мне чудится настороженность, скрытая угроза и еще что-то… Что-то, что позволяет предположить: странный бармен знает обо мне больше, чем знаю я сама. Или думает, что знает.
Мне пера покинуть «Cannoe Rose». Я и так задержалась здесь дольше, чем предполагала.
– Спасибо за гостеприимство.
– Остались довольны посещением? – живо интересуется не-Шон.
– Еще бы.
В подтверждение своих слов я вытаскиваю из стеклянной чаши несколько картонок со спичками и бросаю их на дно рюкзака. Это должно означать: красотка обязательно поделится впечатлениями о баре с людьми, чьи имена значат для нее больше, чем просто упоминание через запятую.
– Я не слишком размахнулась?..
– Не слишком, – успокаивает меня бармен. – Берите, сколько хотите. Они для того здесь и лежат.
И еще для многого другого, бедный Фрэнки!..
Вашей любви -
Это все, чего жаждет мое разбитое сердце.
Но вместе мы не будем никогда. И потому -
Я отпускаю вас на волю.
И я хочу, чтоб вы нашли приют от бури и огонь.
Который вас согреет.
Но больше всего я хочу
Вашей любви…
Всхлипы музыкального автомата несутся мне в спину, «любовь» – вот последнее, что я слышу, оставляя «Саппое Rose».
Занятный кабачок.
Надо бы вернуться в него еще раз, говорю я себе, прекрасно зная, что больше не вернусь.
***
…Пролом в стене, коридор с коптящими факелами, арка с низкими хлопающими дверцами, – теперь должна наступить очередь коридора с плохим освещением: за время моего пребывания в баре освещение нисколько не улучшилось, наоборот – стало еще хуже. Лампочки под потолком едва подают признаки жизни, не хватало, чтобы они погасли прежде чем я доберусь до конца коридора! Расстояние совсем не криминальное, метров двадцать – двадцать пять, быстрым шагом я преодолею их за несколько секунд, а еще можно припустить бегом.
Мне совсем не нравятся дряхлые источники света, от них можно ждать любой подлости. Такой, как эта, например: судорожно померцав, они гаснут.
Все разом.
Коридор погружается в темноту, вот проклятье!..
Новая жизнь вовсе не избавила меня от страхов и фобий прежней: темнота так и осталась моим врагом, препятствием, которое трудно преодолеть. Система координат потеряна безвозвратно, и я снова оказываюсь в безвоздушном, беззвездном пространстве; с кожей, липкой от пота, с зажмуренными глазами, с запоздалыми сожалениями по поводу не купленного когда-то самоучителя по испанскому.
Да-да, я могла бы изучить испанский, и тогда мои познания в нем не ограничивались бы тупой фразой «estoy en la mierda», и мне был бы понятен смысл слова «capoeira»
(с чего я взяла, что оно – испанское?) и почему вообще я думаю об испанском, тоже нашла время!..
Мерседес.
Она во всем виновата.
Мерседес посмеялась бы надо мной, надорвала бы живот от хохота: женщина, взрослая настолько, что уже успела побывать в роли обвиняемой в убийстве, боится темноты, как маленький ребенок. Впрочем, если я думаю об испанском и о Мерседес, – значит, и страх не такой тотальный, не такой всепоглощающий, каким был раньше. Осталось справиться с его физическими последствиями, а именно – с полной разбалансировкой движений, и с ощущением, что ни верха, ни низа не существует.
Они существуют.
Как существуют пол и потолок, как существуют коридоры позади и впереди меня, как существует бар «Cannoe Rose», и Этот город, и благословенная Франция, и красный кабриолет Слободана Вукотича, и мой друг Доминик. Как существуют спички на дне рюкзака. И зажигалка.
Но за ними я не полезу – избавляться от страха нужно, не прибегая к подручным средствам. Я должна двигаться вперед, к концу коридора, ведущему еще к одному коридору. И к выходу. Auanti tutta46 Сашá! – как сказали бы на родине Национального музея мотоциклов, какого только словесного дерьма не понапихано в моей бедной голове!..
Мне кажется, что я стою на месте, хотя, определенно, какое-то движение происходит: об этом свидетельствует темно-серый прямоугольник впереди, с каждым мгновением он становится все светлее и светлее. Я так сосредоточена на нем, что поначалу совершенно не слышу шагов позади. Между тем в коридоре появился кто-то еще. Ничего экстраординарного в этом нет: в баре было полно посетителей, мой уход просто совпал по времени с еще одним уходом. Но темнота и здесь выворачивает все наизнанку, и ее боязнь канализируется в новое русло – меня преследуют! Жан-Клод, Жан-Анри и просто Жан, за годы околофутбольных бесчинств спевшиеся настолько, что даже двигаются в унисон, не создавая лишнего шума; не-Шон предупреждал – они те еще ребята, и сам не-Шон – темная лошадка, зачем я только сунулась сюда, зачем настаивала на знакомстве с Фрэнки, на близкой дружбе с ним? И кто он такой на самом деле, дельфиний фанат Фрэнки? Горло, обработанное опасной бритвой, – не самая лучшая верительная грамота, не самая лучшая рекомендация, кажется, я непроизвольно перешла на бег, припустила во все лопатки, еще немного и…
Ступеньки.
Я совсем забыла о них.
Три ступеньки, я спотыкаюсь о нижнюю и больно ударяюсь локтем о верхнюю, драгоценные секунды потеряны, хотя и появился свет впереди.
– Не ушиблись? – раздается голос прямо надо мной.
Не-Шон.
– Слегка.
– Давайте-ка я вам помогу…
Он протягивает мне руку вместо того, чтобы ударить чем-нибудь тяжелым по башке. Бутылка с джином для этой цели подошла бы, но никто не собирается причинять мне зло. Так кажется на первый, свободный от сумрака взгляд.
– Все в порядке. Просто споткнулась.
– У нас вечные проблемы с освещением. Сегодня же займусь этим.
– Не мешало бы.
– Мне показалось, вы бежали…
– Шла быстрым шагом.
– Так не терпелось покинуть наше заведение? – Бармен не может удержаться от шпильки, да и плевать, в моих коротко остриженных волосах ни одна шпилька надолго не застрянет.
– С чего вы взяли? Вовсе нет.
– Мне нужно поговорить с вами.
– О чем?
– Не здесь.
Не-Шон больше не называет меня красоткой, странно.
– А что, собственно, случилось?
– Идемте.
– Никуда я не пойду.
– Это касается вашего друга. Идемте.
– Но…
– Франсуа – ваш друг, я правильно понял?..
Разве не этого я хотела? Узнать о Фрэнки больше, чем знала до сих пор. Узнать о нем и о его жизни что-то, что могло бы объяснить его смерть. Разве не ради этого я вообще приехала сюда? Да, возможно. Но сейчас, в темноте коридора, тема Франсуа Пеллетье вовсе не кажется мне настолько актуальной, чтобы идти неизвестно куда, неизвестно зачем, с человеком, которого я совершенно не знаю. И вовсе не Фрэнки был причиной моего визита в «Cannoe Rose» – я здесь только потому, что нашла спички в ее – ее! – сумке. А до остального (до остальных) мне нет никакого дела.
Не-Шон так не думает, он и не собирается выпускать меня из рук.
– Франсуа – ваш друг?
– Мне сложно назвать его другом…
– Идемте.
– Мы возвращаемся? – Голос мой предательски дрожит.
– Нет. В баре мы не сможем поговорить.
– Ничего, что вы оставили его без присмотра?
– Там есть кому побеспокоиться о клиентах, не волнуйтесь.
– Я и не волнуюсь. Это же ваш бар, не мой.
Малодушие – вот чего хотелось бы избежать. Я не должна впадать в панику, в конце концов, ничего страшного не произошло, не-Шон просто хочет поговорить.
Просто. Поговорить.
Несмотря на уверения бармена, мы все же возвращаемся. Не в сам бар – в конец коридора, за хлопающие, как в американском салуне, дверцы арки; «toujours»47 написано на обеих половинках масляной краской, раньше надпись не бросалась в глаза, ее тайный смысл – во множестве смыслов или в полном их отсутствии: всегда открыто, всегда вам рады, всегда готовы начистить вам морду, всегда готовы смешать вас с дерьмом; вы подохнете, а мы будем существовать всегда; выяснять у не-Шона, какое из определений соответствует действительности «Саппое Rose», я не рискну.
Себе дороже.
Факелы на стенах – несомненная фишка бара, такая же бессмысленная и также ни с чем не вяжущаяся, как и аквариум, как и допотопный музыкальный автомат, как дешевые китайские фонарики, пол в шахматную клетку, пластиковые столы и громоздкая стойка в викторианском стиле.
В стиле, в стиле, в стиле…
Стиля – вот чего не хватает «Саппое Rose», и как только я раньше не сообразила! Наскоро сочиненная яичница-глазунья – и та выглядит более стильной, чем хваленый бар-кочевник. Зал ожидания любого из вокзалов – и тот выглядит более предпочтительным. Трудно поверить, что о «Саппое Rose» слагались легенды, что здесь совершались преступления из-за страсти, встречались тайные агенты, и звенели своими колокольчиками еще не состарившиеся хиппи, и вовсю шла торговля героином. Миф может быть каким угодно, но быть не стильным он не имеет права. Иначе – это не миф. И бармен соврал мне и продолжает врать.
Живенькие мысли.
Впрочем, я могу думать о чем угодно – и о том, почему очередь в мужской туалет всегда намного короче, чем в женский, например; все эти ухищрения призваны отвлечь меня от того, что должно произойти в самое ближайшее время.
Я по-прежнему опасаюсь не-Шона.
А факелы – не так уж они просты, как кажется на первый взгляд. И не так уж бессмысленны. Мерцание огня и тени, которые он отбрасывает, делают рельеф стен прихотливым и постоянно меняющимся, в его складках можно спрятать все что угодно. Не-Шон прикладывает ладонь к поверхности, и в стене тотчас же образуется дыра, или, точнее, проем правильной формы: эта дверь ведет в недра бара, в его изнанку, где мы можем спокойно поговорить о Фрэнки.
– Еще один вход? – интересуюсь я. – Для избранных?
– Для персонала, – поправляет не-Шон. – Очень удобно.
– И очень конспиративно.
– Бросьте. «Cannoe Rose» – законопослушное заведение. Террористов мы не укрываем, наркотики не храним и исправно платим все налоги. Прошу.
Мои страхи и правда нелепы: за крошечным темным предбанником следует ярко освещенная и довольно чистенькая кухня – на ней орудуют двое арабов в белых легких куртках. Я киваю арабам головой, но мой приветственный жест так и остается незамеченным.
– Сюда.
Не-Шон распахивает еще одну дверь, и мы оказываемся в крошечной каморке с открытым настежь окном, забранным решеткой. Размеры каморки никоим образом не соответствуют ее обстановке: массивное антикварное бюро, диван с резной спинкой, кабинетное кресло из красного дерева, медная курительница, медный сундук, легкая китайская ширма и две картины в рамах. На то чтобы изучить экзотические безделушки, которыми заставлены бюро и диванная полка, потребовалось бы довольно продолжительное время.
– Присаживайтесь. – Бармен указывает на кресло.
– Разговор будет долгим?
– Как получится.
Я устраиваюсь в кресле (оказавшемся довольно жестким), не-Шон оккупировал диван. Несколько минут проходят в молчании: не-Шон достает из нагрудного кармана огрызок сигары и довольно долго раскуривает ее.
– Не возражаете? – спрашивает он, выпустив в потолок первую струю вонючего сизого дыма.
– А что бы это изменило?
– Ничего.
– Я вас слушаю.
– Это я вас слушаю.
Мне нечего сказать странному бармену. Или лучше назвать его эксцентричным барменом или барменом себе на уме?..
– Это Пикассо. – Не-Шон указывает сигарой на одну из картин. – Подлинник.
– Подарен заведению самим автором в незапамятные времена, разумеется? Хотите продать его мне?
– Вы забавная. Но я заговорил о подлинниках, потому что это тоже подлинник…
Пикассо не волнует меня ни в каком виде, будь то музейный холст или копия, отпечатанная на газетной бумаге. Пикассо не волнует меня – чего не скажешь о фотографии, которую протянул мне не-Шон. Для того чтобы взять ее с бюро, ему не понадобилось даже подниматься – так сужено пространство комнаты.
Главные действующие лица снимка – сам не-Шон и… и Фрэнки.
Франсуа Пеллетье, каким я запомнила его по Эс-Суэйре. По отелю Доминика, по ресторанчику средиземноморской кухни «Ла Скала», по рассказу о взрыве в лондонском автобусе; по заднице, затянутой в водонепроницаемый костюм для серфинга, по перерезанному горлу… нет-нет, лучше не вспоминать об этом, тем более что на фотографии Фрэнки
жив,
здоров,
улыбчив,
полон оптимизма,
совсем как mr.Тилле, герой другого снимка. На этом же – царят не-Шон и Фрэнки, стоящие в обнимку, с одинаковыми открытыми улыбками, в одинаковых шелковых рубашках (снимок сделан летом, судя по буйной зелени кустарников на заднем плане), короли общепита, короли океана, короли граффити, музыкальных автоматов и многих других вещей, о которых я не имею ни малейшего представления.
Иногда убивают и королей.
Я уже знаю об этом, но знает ли об этом не-Шон, сменивший шелковую рубашку на рубашку из вельвета?..
– Что скажете?
– Это и есть Франсуа. Мой друг. – С самого начала я была слишком опрометчива в определениях, но отступать поздно. Уже поздно.
– Да. Это и есть Франсуа. Мой друг.
У не-Шона, безусловно, гораздо больше оснований считать Фрэнки своим другом, вот и фотография это подтверждает, а что могу предъявить я? Регистрационный листок из отеля «Sous Le del de Paris», вечер под аккомпанемент арабского двойника Брайана Адамса? сбивчивую повестушку о телефонном звонке («estoy en la mierda!» – ей не поверил даже марокканский следователь) – а еще я могу предъявить смерть Фрэнки, хотя смерть еще никого не делала друзьями.
Любовниками – да (привет тебе, студентик Мишель, где бы ты сейчас ни оказался!) – но не друзьями.
– И давно вы знакомы с Франсуа? – задает не-Шон самый обычный вопрос.
– Скажем, к друзьям детства его явно не отнесешь. И к друзьям юности тоже, – отвечаю я ему таким же обыденным тоном. – В том смысле, что мы познакомились не так давно.
– И он не рассказывал обо мне?
– Опосредованно.
– Что значит – опосредованно?
– Я здесь и, следовательно, была наслышана о существовании этого бара…
– Вы могли узнать о нем из любого другого источника.
– Но узнала от Фрэнки. И он же подарил мне ваши фирменные спички. Вы сами видели.
– Да… Видел.
– Фрэнки – занятный тип. Много распространялся насчет своих подвигов на ниве сейфов, сыров и сухих строительных смесей. А еще он был диджеем на Ибице. И едва не завербовался в иностранный легион.
– Он любит этим прихвастнуть перед девушками. Откуда вы приехали?
Тон бармена нисколько не изменился, изменилась обстановка вокруг: вещи, до этого предоставленные сами себе, сжимают кольцо вокруг кресла, в котором я так неосмотрительно угнездилась. О том, чтобы подняться, не задев курительницу или сундук, не опрокинув ширму, не может быть и речи. И само кресло превратилось в ловушку – оторвать руку от подлокотника можно, лишь напрягая все силы. Но если словесная экзекуция продолжится теми же темпами – в скором времени и максимального напряжения сил будет недостаточно.
Малодушие – вот чего бы хотелось избежать.
– Откуда?..
– Вы ведь не француженка?
– Нет. Я – русская, но последние несколько лет прожила в Марокко.
– Так вы приехали сюда из Марокко?
– Ну… да.
– И когда?
– Это допрос?
– Нет. Мы просто беседуем.
– Вы пригласили меня поговорить о Фрэнки, но почему-то мы говорим только обо мне.
– Это естественно, вы ведь друзья, не так ли?.. Так когда вы познакомились с Фрэнки? И главное – где?
«Когда» и «где» охватывают королевство Марокко с флангов; стрела «когда» и стрела «где» направлены на его атлантическое побережье, их острия смыкаются в маленькой точке на карте – Эс-Суэйра, население городка (от грудных младенцев до дряхлых стариков) не самый вместительный бар «Cannoe Rose» переварил бы за несколько недель, что известно об Эс-Суэйре не-Шону? И знает ли он вообще о ее существовании?
– Помнится, вы употребляли словечко «давно». – На помощь это не похоже; скорее бармен решил утопить меня окончательно.
– Разве?
– Употребляли. Вы давно не виделись с Франсуа, он ваш давний друг и все такое.
– И что из того?
– А то, что Франсуа никогда не упоминал о вас.
– А должен был?
– Он никогда не упоминал, что знаком с русской.
– Знакомство с русской – из ряда вон выходящее событие?
– Неординарное.
– Я не говорила ему, что я – русская…
Я больше не контролирую ситуацию – и все из-за маленькой ошибки, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Отвлекшись на вещи в каморке, убаюканная монотонным голосом бармена, я – совершенно машинально – сказала правду о себе. Русская из Марокко, уличенная в акценте и еще бог знает в чем. Все было бы по-другому, представься я испанкой из Нюрнберга, ну что я за дура!.. Об испанку из Нюрнберга бармен обломал бы себе все зубы. Испанке из Нюрнберга все сходит с рук, чего стоила одна встреча с отмороженным сопляком Слободаном! Мы расстались, довольные друг другом, но в случае с барменом исход встречи вовсе не выглядит таким уж безмятежным.
– …Не говорили?
– Нет.
– Вы познакомились в Марокко?
– Допустим.
– Но Франсуа никогда не был в Марокко.
– Если он ваш друг, – я стараюсь сохранять спокойствие, – тогда вы должны знать, что он был в Марокко…
– …Он не был там до самого последнего времени. Он уехал туда совсем недавно. И месяца не прошло.
– Я знаю.
– И я думаю – с ним случилось несчастье.
Не-Шон говорит это не для меня, скорее – для себя, перекатывая во рту потухшую сигару, – грустную сигару в грустном рту, его глаза тоже грустны, в их глубине мерцают слова всех самых грустных песен на свете.
– С ним случилось несчастье, ведь так? Случилось самое худшее. Иначе вас не было бы здесь.
– Боюсь, что да. Мне очень жаль.
Я бы могла прикоснуться к локтю бармена, положить руку ему на плечо – и это было бы самым естественным проявлением чувств. До сих пор мы просто водили друг друга за нос, стараясь выведать главное окольными путями, но теперь все изменилось, и я не заметила – когда. И не поняла – почему. От не-Шона не исходит никакой опасности, хотя иногда убивают не только королей, но и гонцов, принесших дурные вести.
Ничего подобного мне не грозит, не-Шон пережил возможную кончину Фрэнки задолго до того, как я появилась в «Cannoe Rose».
– Дайте-ка сюда вашу монету.
Это не просьба – требование, ему невозможно не подчиниться, монета, монета… Какую монету имеет в виду бармен? Уж точно не мелочевку, которую я выгребала из карманов, такой мелочевки полно в любом другом кармане, в любом другом портмоне, на дне любого другого рюкзака. Разница в рисунке, диаметре и номинале настолько незначительна, что никогда не бросится в глаза. Какую монету имеет в виду бармен?
Отличную от других.
У меня есть только одна, отличная от других монета, и не-Шон уже видел ее на стойке. И теперь хочет видеть еще. Ладно. Вытащив единственный в своем роде нумизматический раритет, поднятый со дна Атлантики, я протягиваю его бармену. Несколько секундой изучает лошадь, иероглифы и квадратную дырку посередине, подбрасывая их на ладони и даже прибегнув к помощи лупы.
– Что скажете? – спрашиваю я.
– Да. Это она.
Мне требуется немало сил, чтобы скрыть удивление (до этого все они уходили на борьбу с подлокотниками кресла), – позеленевший медный кружок, выловленный марокканским рыбаком за тысячу километров отсюда, не может иметь ничего общего с этим местом, с этим человеком или с каким-нибудь другим человеком, кроме меня, Ясина или (возможно) Доминика. Несмотря на годы, прожитые в одной из стран Магриба, несмотря на подобие дружбы с заядлым иллюзионистом Ясином, я не верю в мистику и уж тем более – в магические совпадения, изменяющие судьбу. Должно быть и другое объяснение происходящему.
– Почему вы не показали ее сразу?
– Ждала подходящей минуты.
– Что произошло с Фрэнки?
– Его убили.
– Что ж, он понимал, на что идет. Он и отправлялся туда один, на свой страх и риск…
– Не один, – осторожно поправляю я. – Я была с ним.
– Да, простите. Не один.
Не-Шон надолго погружается в молчание. Я не уверена, что его слова были подобраны верно и что мои слова были подобраны верно, но молчание все расставляет по местам: этот мужчина стоически переживает гибель друга. А эта женщина полна сочувствия и сострадания к нему.
– Вы та самая девушка, которая работала с Франсуа на последнем задании? – Он нарушает гнетущую паузу первым. Задание – как удивительно! Будучи в Марокко, Фрэнки выполнял какое-то неведомое мне задание, но чьи интересы он представлял? Самое правильное – набраться терпения, истина может всплыть в любой момент.
Если уж друг Фрэнки решился поговорить со мной.
– Я – тот самый человек, который был рядом с Франсуа в Марокко.
– Он… погиб там?
– Да.
– Этим делом занимается марокканская полиция?
– Да.
– Убийц конечно же найти не удалось?
– Нет.
Марокканская полиция, занимающаяся делом Франсуа Пеллетье, думает совсем по-другому. Она уверена, что убийство совершила я, и мой побег лишь сделал эту уверенность железобетонной. Но доносить на себя другу покойного Фрэнки я не собираюсь. Не потому, что не-Шон тотчас же присоединится в своих подозрениях к следователю из Марокко, нет. Скорее, он примет мою сторону, как поступил бы любой незашоренный, обладающий известной рассудительностью и гибкостью ума человек. Впрочем, и обыкновенного здравого смысла было бы достаточно, чтобы понять: виновный в убийстве никогда бы не сунулся сюда и не стал бы искать связи Фрэнки и связь с Фрэнки, пусть даже и мертвым. И все равно – я ничего не скажу не-Шону, хотя он и обладает всеми вышеперечисленными качествами, – просто потому, что сам рассказ занял бы слишком много времени. И (по его окончании) я бы уже не была девушкой, которая работала с Франсуа на последнем задании; девушкой, которой можно доверять; девушкой, посвященной в тайну; девушкой, знающей секрет. Я бы снова стала той, кем была всегда, – мало кому интересной русской из Марокко, бесцельно проживающей скучную жизнь в ожидании такой же скучной смерти.
Собственная никчемность – вот чего бы хотелось избежать.
Мерседес – она во всем виновата! Быть такой, как она. Быть ею. Быть почти мифом, – эта болезнь заразна, этот вирус неистребим, он уже поразил весь мой организм, он добрался до самых дальних его уголков, он подчинил себе деление клеток и ток крови по венам; он и сейчас жмет на сердечный клапан, лениво догрызает глазные яблоки, дует в свирель позвоночника:
Мерседес, Мерседес, Мерседес.
Я не спрашиваю у не-Шона разрешения закурить (а что бы это изменило?), я просто закуриваю. И, сделав первую затяжку, округляю рот и выдыхаю дым. Смело, как учила меня полусумасшедшая Ширли. Кольцо идеальной формы, ну надо же!.. Настоящее произведение искусства.
Подумайте о том, что когда-либо поразило вас в самое сердце, – но я думала вовсе не о Ширли, и не о бармене из «Саппое Rose», и не о Фрэнки, и не о его марокканской миссии, и не об Алексе, и не о Том, чья нелюбовь когда-то заставила меня бежать куда глаза глядят, – я думала о Мерседес.
Мерседес.
Вот он, ответ. Мерседес поразила меня в самое сердце – такая же идеальная, как и кольцо, выпущенное в ее честь.
– …Что ж, он понимал, на что идет. – Не-Шон внимательно следит за кольцом, медленно растворяющимся под потолочными балками.
– Вы хорошо его знали?
– Достаточно, чтобы любить его и верить ему. Хотя я и никогда не знал его настоящей фамилии.
Мысль о том, что фамилия «Пеллетье» может не быть настоящей, никогда не приходила мне в голову, слава богу – хоть в имени мы с барменом сошлись.
– Я знала его как Франсуа Пеллетье. А что он говорил обо мне?
В комнате, несмотря на открытое окно, слишком мало воздуха, он пропитан дымом – сигарным, а теперь еще и сигаретным; наверное поэтому мысли мои путаются, я слишком попала под влияние Мерседес, я жажду новых откровений о ней, а следовательно, и о себе, ведь с некоторых пор я и есть Мерседес. Даже то, что Фрэнки мог не знать о существовании Мерседес, нисколько меня не смущает. Даже то, что Мерседес могла оказаться врагом Фрэнки, а следовательно – и его друга не-Шона, нисколько меня не смущает. Достаточно того, что Мерседес имела представление о «Саппое Rose» (спички, найденные мной в сумочке, – тому подтверждение), мысли мои путаются, медленно погружаясь в реку иной реальности.
– …Он боялся за вас много больше, чем за себя.
– Неужели?
– Говорил, что вы слишком горячи, слишком порывисты, слишком неопытны.
Эти характеристики были бы оскорбительны для Мерседес, я чувствую себя уязвленной и уже жалею, что вообще затеяла разговор о девушке, которая работала с Франсуа на последнем задании. Она не может быть Мерседес, между ними нет ничего общего.
– Я и сам так подумал, когда увидел вас в баре сегодня.
– Почему?
– Вы не слишком точно придерживались инструкции.
– Разве?
– Поначалу мне даже показалось, что вы совсем не тот человек, которого я жду…
Никаких новых откровений о Мерседес я не услышу. Напарник (наперсница) Фрэнки полностью зависела от него, была на подхвате и даже получила определенные инструкции на случай, если с боссом случится самое худшее.
К Мерседес это не относится, Мерседес сама была боссом и сама, если понадобится, могла бы сочинить инструкции. Ситуация дельфиньего фаната и его подручной зеркально повторяет мою ситуацию со Слободаном, прими я его предложение о работе вместе…
Иная реальность, вот черт, я возомнила о себе невесть что, упиваюсь своей новой ролью, вместо того чтобы прислушиваться к словам не-Шона и поддерживать разговор с ним.
– Смерть Франсуа. Она кого угодно выбьет из колеи.
– Да. – Бармен внимательно смотрит на меня. – Это верно.
– Но кажется, я все сделала правильно?
– Монета. Монета убедила меня окончательно. Хотя поначалу его идея с монетой показалась мне пижонской, да и вообще… я всегда думал, что Франсуа склонен к театральным жестам.
– Вовсе нет.
– Теперь я и сам знаю, что нет. Эту монету не спутаешь ни с какой другой, беглого взгляда достаточно. А я внимательно ее изучил – в тот последний раз, когда Франсуа был здесь. Он сидел как раз на вашем месте.
В эту секунду я должна бы испытать священный трепет, но не испытываю ровным счетом ничего. Я сосредоточена на одном: не сболтнуть лишнего, но и сказать именно то, что позволит другу Фрэнки безболезненно выйти на главную цель разговора.
А в том, что этот разговор преследует какую-то цель, у меня нет сомнений.
– Вы повели себя странно, – говорит не-Шон.
– Вы тоже повели себя странно.
– Меня можно понять. Несмотря ни на что, я надеялся увидеть здесь Франсуа. Надеялся до последнего.
– Я бы тоже хотела, чтобы все сложилось по-другому. Но Франсуа мертв.
Я не щажу чувств безутешного друга. Горячие, порывистые и неопытные молодые женщины по определению лишены сентиментальности. И бармен, проживший долгую бурную жизнь, помноженную на жизни многочисленных посетителей «Cannoe Rose», не может не знать этого.
– Как он погиб?
– Ему перерезали горло. – В своей беспощадности я незаметно дохожу до апофеоза. – Все оказалось много опаснее и много страшнее, чем он предполагал. Чем… Чем мы предполагали.
– Не думаю, что он недооценивал опасность. У Франсуа был нюх на опасность. Ион всегда мог адекватно оценить ситуацию.
– Эсто эн ламьерда, – вырывается из меня совершенно непроизвольно; телефонный разговор, невольно подслушанный в «Ла Скала», как раз и свидетельствовал о полной адекватности Фрэнки: «Я в полном дерьме». Глаза бармена на секунду стекленеют – кажется, сама того не ожидая, я попала в цель.
– Он знал это выражение, – выпускаю я еще одну стрелу.
– Но никогда его не употреблял. Не было повода.
– Не в последний раз.
Сходство бармена с Шоном Коннери никуда не делось, оно тотально и почти убийственно, а настоящий Шон уж точно не испанец. И я не вижу никаких причин, чтобы его двойник вдруг оказался испанцем. Но выражение «estoy en la mierda» ему знакомо.
Несомненно.
Как несомненно то, что друзья оперируют общими словечками, имеющими для них сакральный смысл, и хорошо понимают интонации друг друга и вообще говорят на одном языке. На одном. Языке. Что я подумала тогда о языке, на который Фрэнки перешел в своем телефонном разговоре? Он – восточноевропейский, или южноевропейский, сербский, чешский, хорватский, на большее у меня не хватило фантазии.
– Незадолго до того, как… это случилось… он разговаривал по телефону.
– Вы действительно тот самый человек, который был рядом с Франсуа в Марокко, – неожиданно произносит бармен.
– Разве вы сомневались в этом?
– Нет. Я ведь тоже получил инструкции. А Франсуа разговаривал со мной.
Не то, чтобы я была так уж сильно удивлена внезапным откровением не-Шона, скорее – не ожидала его. К тому же оно не меняет картины, постепенно складывающейся в моей голове, а просто вносит в нее еще один, не очень существенный штрих.
– Я так и не смогла определить язык…
– Хорватский. Мы разговаривали на хорватском. Мать Франсуа родилась в Сплите, а я по молодости довольно долго жил в Дубровнике…
Сплит, Сплит. Совсем недавно я слышала название этого города, он был упомянут вскользь; для того чтобы установить цепочку ассоциаций, много времени не понадобится. Я займусь этим, как только закончу (покончу) с не-Шоном. Он, в отличие от меня, слишком расслабился, слишком увяз в бесплодной географической ностальгии, вряд ли в инструкции, полученной им, значилась графа «воспоминания о Хорватии».
Нужно быть снисходительной к не-Шону.
В результате того, что произошло с Фрэнки, он потерял друга, и навсегда, а я – лишь свободу, и то на время.
– Жаль, что я не успела узнать его так же близко, как вы.
– Достаточно того, что вы просто знали его. Что были рядом с ним…
– Но не успела его спасти.
– Слишком порывиста, слишком горяча… – Не-Шон смотрит на меня так, как будто видит впервые. И этот его новый взгляд полон одобрения, уважения и еще чего-то, чего я явно не заслуживаю. – Франсуа был прав.
– Кроме недостатков у меня есть еще и достоинства.
– Я уверен в этом. Вы остались живы, и уже одно это можно отнести к достоинствам. Но он не сказал мне, что вы – русская.
Ого!.. Совет, данный Ширли и (много раньше) бесхитростным Ясином, по прежнему актуален: будь осторожна, Сашá! Ярко-синие полыньи глаз не-Шона в любой момент могут подернуться льдом, и, если ты провалишься под него – тебе не выплыть.
– А о вас он вообще не сказал мне ничего.
Сильный ход, теперь очередь за барменом.
– Да, это абсолютно в духе Франсуа. Склонность к подобной конспирации. – Не-Шон соглашается со мной подозрительно быстро. – Хотя в том, чем он занимается… Чем он занимался… Подобная конспирация вполне оправдана.
– Я тоже так думаю.
Вот так, ни больше, ни меньше, а ведь я до сих пор не имею никакого понятия о том, чем именно занимался Фрэнки. И трогательный намек на историю с матерью из Сплита мало что прояснил – но она, вне всяких сомнений, много человечнее, чем истории самого Фрэнки о сухих строительных смесях и металлических сейфах. И проигрывает лишь истории о нелюбви к запаху сырой рыбы.
– Книга, я полагаю, вам больше не нужна?
– Книга?
– О китах и дельфинах, – терпеливо поясняет бармен. – Это ведь его книга?
– Да.
Риск слишком велик, эта книга никогда не принадлежала Фрэнки, его книга – вещественное доказательство в деле, которым занимается сейчас марокканская полиция, и неизвестно, были ли в ней пометки, оставленные Франсуа Пеллетье, были ли в ней страницы, заложенные им. И неизвестно, знает ли об этих возможных пометках и закладках не-Шон. Но я не могу сказать бармену «нет».
Потому и говорю – «да».
– Я могу ее взять? На память? У меня не слишком много вещей, которые напоминали бы о Франсуа. Честно говоря, у меня их вообще нет.
– Я понимаю.
Теперь остается только достать книгу из рюкзака и вручить ее не-Шону. Что я и делаю, может быть, не так изящно, как хотелось бы. Ведь я – не Мерседес, это у нее все получилось бы без сучка и задоринки, у нее, да еще у Алекса Гринблата, ее компаньона. У Мерседес не дрогнула бы и прядь на виске, не пошевельнулась бы и ресница – мои же руки довольно ощутимо подрагивают. Книга выскальзывает из них самым предательским образом. Будь каморка не-Шона чуть побольше и не так заставлена вещами – китов и дельфинов ждало бы унизительное падение на пол. Но суженное, спертое пространство спасает их, а ребро конторки подхватывает под плавники. Теперь книга лежит обложкой к не-Шону, а блокнотный листок (о котором я и думать позабыла) скользит между страницами.
Подобно дельфину, выпрыгивающему из воды.
О записке не-Шон не сказал мне ни слова, к памяти о Франсуа она не относится. А значит, всецело принадлежит мне одной.
Я уже готова взять ее в руки, я и беру ее, и только теперь замечаю, что бармен смотрит совсем не на книгу, еще мгновение назад бывшую предметом его вожделений. Он смотрит на меня, готовую положить чертов блокнотный листок обратно к себе в рюкзак. И его ярко-синие глаза затягивает льдом. Лед некрепок, через секунду он может растаять, а может стать толще – все будет зависеть от меня.
Будь осторожна, Сашá!
Хороший совет. Сашá Вяземски, ответственной за кондиционеры и ресэпшен в мелкотравчатом отеле «Sous Le del de Paris», он бы нисколько не помог. Но той Сашá больше нет, есть другая – с вирусом Мерседес в крови. И этот вирус делает меня совершенно особенной, раз за разом оттачивая интуицию, вооружая логикой, до сих пор доступной лишь вожакам птичьих стай, пчелиным маткам и Спасителям мира. Я вижу то, чего никогда не видела раньше: таким зрением обладают лишь кошки, стрекозы и летучие мыши, реагирующие на ультразвук. При желании я могла бы просканировать содержимое медного сундука не-Шона и внутренности его антикварного бюро и сосчитать количество пружин в его диване. При желании я могла бы составить анатомический атлас самого бармена и придать товарный вид обрывкам мыслей в его голове и в голове любого другого человека, кроме разве что Мерседес.
Верховной богини.
Она отлучилась, и мне пришлось заменить ее, отличный повод, чтобы попробовать собственные силы, которых хоть отбавляй, – да-да, я всесильна!..
Вот оно, открытие последних секунд: я всесильна, лед в глазах не-Шона больше не страшит меня, как не страшат ловушки, которые он готовит. Я справлюсь и с не-Шоном, и со льдом в его глазах, но хотелось бы сделать это как можно элегантнее, что мешает нам начать игру? давай отбросим все и начнем.
Я чувствую легкое покалывание в пальцах, раньше оно предшествовало желанию без остатка раствориться в мужчине – теперь я собираюсь сделать нечто совсем противоположное: вступить с ним в схватку. И одержать победу. Обрывки мыслей в голове не-Шона не так сложно связать в узлы: достаточно вспомнить, что он говорил мне о Франсуа. И не только о нем.
С ним случилось несчастье, ведь так? Случилось самое худшее. Иначе вас не было бы здесь.
Дайте-ка сюда вашу монету. Почему вы не показали ее сразу?
Вы не слишком точно придерживались инструкции. Поначалу мне даже показалось, что вы совсем не тот человек, которого я жду…
Монета. Монета убедила меня окончательно.
Вы повели себя странно.
С точки зрения не-Шона, я повела себя странно, потому что не слишком точно придерживалась инструкции. Четкости, детально продуманного плана – вот чего мне не хватало. Но его и не могло быть, ведь план был придуман и продуман не мной, а Фрэнки – на случай, если с ним произойдет непоправимое. И предназначен для девушки, которая работала с ним. Не для меня. Я начала с дурацких общих фраз, или это не-Шон начал, а я подхватила? Сказала, что ищу друга, и для верности потрясла спичечной картонкой. Да-да, все именно так и было, но сама картонка не впечатлила бармена. Я оставалась самой обычной посетительницей до того момента, как?., как… Как упомянула имя Фрэнки. Или это не-Шон упомянул? Да, тогда была его подача, он и произнес – «Франсуа». Парень, увлеченный дельфинами. И уже после этого я связала Франсуа и Фрэнки в один узел, как сейчас пытаюсь связать гипотетические обрывки мыслей в голове не-Шона. Но и это не стало переломным моментом. Я могла оказаться простой знакомой симпатяги-брюнета. Той, которой легко нашпиговать мозги сказками про диджейство на Ибице, тема достаточно занимательная в ряду других тем. Ее можно чередовать с пересказом фильмов, мало соответствующим их действительному содержанию. Ее можно чередовать с флиртом, быстрыми поцелуями, медленными поцелуями, поцелуями изучающими – ведь были же у Фрэнки просто девушки, а не только девушка, которая работала с ним на последнем задании.
Наверняка.
И потому я могла оказаться простой знакомой Фрэнки, ведь я не слишком точно придерживалась инструкции. Не-Шон позволил себе заволноваться, когда я предположила, что Франсуа и Фрэнки – одно лицо (ведь я не слишком точно придерживалась инструкции), и насторожился, когда я отправилась к доске в поисках записки от Франсуа. Почему бы просто знакомой не попытаться найти послание от человека, внезапно исчезнувшего из ее жизни? Вполне логично, но… бармен выразил недовольство по этому поводу. Слишком очевидное, чтобы понять: он не позволит тронуть листок случайному человеку. И он не позволил бы, если бы я… если бы я не предъявила монету!
Монета. Монета убедила меня окончательно.
Она убедила не-Шона в том, что я не просто знакомая. И не случайно сняла листок. С изображением дельфина, выпрыгивающего из воды. Дельфин с блокнотного листка – он повторяет рисунок дельфина на обложке книги, с которой не расставался Фрэнки. И листок, и монета – параграфы инструкции, одно без другого недействительно, так или почти так… Да нет же, именно так! Тому, кто должен был прийти вместо Франсуа Пеллетье, достаточно было снять записку с доски и показать бармену монету. Все остальное – лирические отступления, недостаточно четкое следование инструкции, по выражению не-Шона.
Вполне, впрочем, объяснимое.
Покалывание становится нестерпимым и, достигнув пика, также внезапно исчезает. Абсолютно холодными, равнодушными пальцами я постукиваю по дельфину на листке.
– Я выбрала на доске нужный листок, я показала монету, разве этого недостаточно? – спрашиваю я у бармена.
– Достаточно. – Он откидывается на спинку дивана и вздыхает, как мне кажется – с облегчением.
– Вы забрали всех дельфинов Фрэнки, так что этого я оставлю себе. – На мгновение (но только лишь на мгновение) бумажная кожа дельфина становится настоящей – резиновой и гладкой; мое осязание (хвала вирусу Мерседес!) тоже претерпело изменения, пусть и не такие кардинальные.
– Конечно. – Бармен неожиданно резко поднимается с дивана. – Идемте.
Ощущение всесильности, еще недавно переполнявшее каждую клетку организма, покидает меня; так игра закончена или нет?..
…Кухня «Cannoe Rose» пуста. Я жажду видеть двух вполне нейтральных арабов в поварских куртках, но их нет и в помине. Зато полно разделочных столов, шкафов и ножей, воткнутых в деревяшки. В отличие от главной резиденции не-Шона, на кухне полно воздуха, напоенного запахами эстрагона, кориандра, базилика: они тотчас же пробуждают во мне воспоминания о Марокко и об Эс-Суэйре, гораздо более благословенной, чем Франция. Чем тысячи Франций. Не-Шон идет на шаг впереди, так же как шел в коридоре, и в другом коридоре – с факелами, но там было слишком темно, чтобы разглядеть его фигуру: не переполовиненную барной стойкой, а всю, целиком.
У не-Шона – шикарное телосложение.
Без всяких скидок на возраст. Даже настоящий Шон не обладает и никогда не обладал такими широкими плечами, такими упругими ягодицами, такими сильными стройными ногами. Облачись бармен в костюм серфера – со спины я не отличила бы его от Фрэнки. Положительно, фигуры Фрэнки и его парижского приятеля абсолютно идентичны, если бы Фрэнки не принял мученическую смерть, то со временем стал бы походить на не-Шона и Шона одновременно. Временные проекции людей друг на друга занимали меня и раньше, помнится, и лживый дядюшка Иса при первой нашей встрече казался похожим на состарившегося Ясина. Нуда, нуда, самое время думать о дядюшке Исе, и почему он только всплыл из глубин?..
Эстрагон, кориандр, базилик устилают логово торговца специями, и если я, преодолевая отвращение, вдруг решусь вызвать в памяти его лицо, то оно окажется переложенным листьями кориандра и базилика, перетянутым стеблями эстрагона. И уже над всем этим будет возвышаться седой бобрик, и уже сквозь все это будут мерцать белки. Светло-серый галстук и светло-серый платок в кармане пиджака на фоне эстрагона, кориандра и базилика выглядят нелепо…
Я останавливаюсь, как будто невидимая сила толкает меня в грудь.
Причем здесь светло-серый галстук и светло-серый платок в кармане пиджака? Традиционная арабская одежда, в которой дядюшка Иса комфортно существовал в Эс-Суэйре и в которой я запомнила его, не предполагает наличие галстука. И я по определению не могла видеть Ису в европейском костюме. Или могла?
Могла.
Мужчина лет пятидесяти, седоватый, хорошо постриженный, в костюме с галстуком и подобранным под цвет галстука платком. Краешек платка выглядывает из нагрудного кармана, и галстук и платок много светлее лица мужчины – смуглого, почти черного. Седой бобрик – черное лицо – мерцающие белки – светло-серый галстук – светло-серый платок.
Вот где я в последний раз видела Ису.
Не на террасе дома, купленного им для себя и племянников из Танжера, а на пленке: топчущегося у дверей в квартиру Мерседес! Странно, что я не поняла этого сразу же, при просмотре, и чем только была забита моя голова? Уж точно не мыслями о новоиспеченном жителе Эс-Суэйры, так органичен он был в роли обыкновенного продавца специй. Необыкновенного продавца, так будет вернее. Продавца со слишком правильной и слишком сложной речью, с безупречным французским – куда более безупречным, чем мой собственный французский и даже французский Доминика. Иса успел рассказать мне, что жил во Франции, и про жену с ребенком, погибших в автокатастрофе, – тоже. Единственное, что не подлежит сомнению: Франция.
Франция и квартира Мерседес. И дом в Эс-Суэйре, он был куплен не случайно. Что говорил мне насчет этого Доминик? По телефону, сегодня утром (господи, неужели только сегодня утром)? Угловой дом на перекрестке, ведущем к форту, продается. Дом, который был куплен совсем недавно, – и уже продается?! Почему бы и нет, если человек, продающий его, посещал квартиру, набитую оружием и еще черт знает чем, до чего у меня не дошли руки. А аппаратура, сваленная в потайной комнате? Чем она отличается от аппаратуры, которую я случайно обнаружила в доме дядюшки Исы?
Только количеством.
То, что франко-марокканский оборотень, старый гнус Иса знал Мерседес, не удивляет меня. И никак не влияет на мое отношение к ней – верховной богине и пчелиной матке. Почти мифу, что тоже соответствует статусу богини и пчелиной матки. Сегодня днем (господи, неужели только сегодня днем?) я имела глупость ревновать Алекса к Мерседес, я считала Мерседес другой, иной, не моей (моя была простой, хотя и прекрасной, как яблоко, танцовщицей, на раз управляющейся с самбой, румбой, пасадоблем и мужчинами заодно). Новая Мерседес впечатляет много больше, ревновать к ней самцов – все равно что ревновать к ней систему спутниковой навигации и все другие навигационные системы, и автомобили, и плакаты «capoeira», и оптические прицелы снайперских винтовок; все равно что ревновать к ней лунный свет или футболки с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо». Попытки ревности обречены на провал. В ушной раковине Мерседес заключен мир, который то и дело спасают карликовые деятели, подобные Алексу Гринблату. В пряди волос на виске заключен другой мир, который то и дело разрушают карликовые деятели, подобные Алексу Гринблату. В теле Мерседес отыщется уйма миров, еще не тронутых или уже уничтоженных. Категории добра и зла неприменимы к ней абсолютно. Из того, что мне открылось в потайной комнате, из простреленной головы mr. Тилле и других простреленных голов следует, что Мерседес, скорее, Зло, – но это никак не влияет на мое отношение к ней, верховной богине и пчелиной матке. Больше того, я не удивлюсь, если и не-Шон окажется связанным с ней липкими нитями, лесками, которые используют для того, чтобы привести марионетку в движение.
Нет.
Я, пожалуй, удивлюсь.
И Мерседес – не так уж она всемогуща. Не так уж хороша.
Все дело во мне. В том, что мне отчаянно хочется ухватить кусок ее жизни (омерзительной, очаровательной, опасной, холодной, теплой, отчаянной). Потому как куски моей собственной давно стоят поперек горла. А ведь раньше я совсем не замечала этого, совсем. Не тогда, когда уезжала в Марокко, подальше от любви, а тогда, когда осела в Эс-Суэйре. И замерла в ожидании пришествия charmantepetite vieille.
Теперь, глядя на прямую спину не-Шона, на ножи, воткнутые в деревяшки (ими удобно кромсать плоть), на разделочные столы (на них удобно кромсать плоть), на шкафы с плотно прикрытыми дверцами (в них удобно прятать то, что осталось от плоти), – теперь я думаю, что могу до этого пришествия и не дожить. Подобные мысли должны бы были вызвать страх или, по меньшей мере, волнение, но ничего подобного я не чувствую.
Я вообще ничего не чувствую.
И потому никак не реагирую на не-Шона, по ходу легко вытащившего нож из деревянной подставки. А спустя совсем непродолжительное время становится ясно, что нож приготовлен совсем не для меня – для выложенного кафелем куска стены: он расположен в нише за вытяжным шкафом. Со стороны входа этот участок кухни не просматривался.
«Трак-трак-трак» – именно такой звук издает один из кафельных квадратов, когда не-Шон поддевает его ножом. Запустив руку в открывшийся провал, бармен вынимает оттуда плотный толстый конверт желтого цвета, больше похожий на бандероль. И только потом поворачивается ко мне.
– Вот то, что отдал мне Франсуа перед своим отъездом. Я должен был вернуть ему это. Ему… или тому, кто придет вместо него. Держите, конверт ваш.
Последний привет от Фрэнки перекочевывает мне в руки. Игра закончена, главный трофей получен, его очертания туманны, но я надеюсь, что скоро, очень скоро, они прояснятся. А вместе с ним прояснятся и обстоятельства смерти Франсуа Пеллетье. И он больше не будет для меня дельфиньим фанатом. Парнем, не удержавшимся в Иностранном легионе. Парнем, знающим толк в винах и сырах. Парнем, который не умеет целоваться. Парнем, чье умение вести телефонные разговоры на хорватском передалось ему от матери, уроженки Сплита. Парнем, проделывающим пижонские трюки с монетами.
Он станет чем-то большим.
Ведь от того, что скрыто в конверте, зависит и моя собственная судьба.
Не судьба Мерседес Торрес, обаянию которой я поддалась настолько, что захотела стать ею, – нет. Судьба Сашá Вяземски. Или лучше вернуться к Саше Вяземской?
Я русская.
Я все еще – русская.
– Надеюсь, это вам поможет.
В голосе не-Шона мне слышится нежность. Его молодого друга нет в живых, но нежность не умерла, она все еще с ним, потому и переносится на того, кто пришел вместо Франсуа.
– Я тоже надеюсь. Нет, я уверена… То, что оставил Фрэнки, спасет много жизней.
Горячая, порывистая, неопытная – иногда такие впадают в пафос, и это простительно, это вполне объяснимо. Сейчас я не играю роль девушки, которая работала с Франсуа на последнем задании,– я действительно верю, что содержание конверта спасет если не много жизней, то хотя бы одну.
Мою.
– Будьте осторожны, – напутствует меня бармен.
– Буду.
– И если вам понадобится помощь… Вы всегда можете найти меня здесь. И вы всегда можете на меня рассчитывать.
***
…Блокнотный листок с дельфином.
Как и следовало ожидать – он оказался абсолютно пуст. Но большего, чем быть просто бумажным листком на доске declarations d'amour48, от него и не требовалось. Все это время, с тех пор как Фрэнки (или бармен по указанию Фрэнки) повесил его на доску, листок выполнял роль тайного знака. Дорожного указателя, подтверждающего: вы на правильном пути.
То ли благодаря счастливому стечению обстоятельств, то ли благодаря интуиции, разбуженной и обострившейся под влиянием вируса Мерседес, я все сделала правильно. Я вписалась в поворот, не проскочила развилки и вовремя заметила дорожный указатель, за что была вознаграждена желтым конвертом, больше похожим на бандероль.
Но ничего этого не было бы и интуиция мне нисколько бы не помогла – не вытащи я из кармана монету с иероглифами. В этом и заключается главная загадка: как монета из живота рыбы, выловленной у побережья Марокко, оказалась монетой Фрэнки?
Я всегда верила в случайные встречи, которые меняют судьбу человека или определяют ее на довольно продолжительное время.
Но не в такие. Это было бы слишком.
Ответ знает Ясин. Ответ может дать Доминик. Но оба они слишком далеко отсюда, следовательно, и ответа я не получу, придется обходиться своими силами и своим воображением. А оно-то как раз и нашептывает мне: не заморачивайся, Сашá, прими произошедшее как данность, рано или поздно все прояснится.
Рано или поздно. Да.
А пока я должна быть просто осторожной.
На этом настаивал не-Шон. И не просто настаивал: «Cannoe Rose» я покидаю совсем другим путем, чем тот, которым пришла сюда. Не-Шон выпускает меня через дверь на кухне, такую же малозаметную, как и кафельная стена с тайником. Мы лишь на минуту задерживаемся на пороге; отсюда (из-за света, идущего из кухни)хорошо просматривается маленький глухой двор, он засажен кустами сирени. Двор полон звуков, которые редко производит человек: легкое потрескивание, неясный, полный скрытого томления шепот; шуршание, щелчки, глухие удары. Так разговаривает между собой листва, сплетаются ветви. Так корни, причмокивая, сосут влагу из почвы, так расправляют крылья насекомые; и воздух – он сладок и почти осязаем, он то и дело вспыхивает яркими искрами, их происхождение неясно: то ли это крохотные электрические разряды, предвещающие грозу, то ли светляки, сбившиеся с пути.
Я вошла под своды бара в сумерках, теперь же стоит ночь.
– Вы на машине? – тихо спрашивает не-Шон.
– Да. Оставила ее неподалеку от входа.
– Сейчас вы пройдете через дворик. В углу – арка и проход на улицу Арми Ориент. Как только окажетесь на улице, сразу сворачивайте вправо и идите вперед. Через минуту-две упретесь в Лепик. И снова направо.
– Это все?
– Будьте осторожны. Ваша машина, надеюсь, не слишком бросается в глаза?
Я тотчас вспоминаю обтекаемые футуристические формы гибрида «Астон-Мартина», «Порша» и «Феррари».
– Не слишком.
– Отлично. Франсуа приходил сюда пешком.
– Это его не спасло. – Я снова говорю жестокие вещи, и не-Шон снова прощает меня.
– Вы помните, что я сказал?
– Что я все время должна поворачивать направо.
– Что вы всегда можете положиться на меня.
– Спасибо.
– Удачи…
Сирень будет цвести следующей весной и вряд ли я увижу, как она цветет. Увидеть – означало бы остаться в Этом городе как минимум месяцев на семь, еще и еще раз вернуться в «Саппое Rose», включившись в игру «Тайный агент» (в нее с упоением играет не-Шон). И я полагаю – Фрэнки был не единственным, кто оставлял информацию в тайнике. Развеселый бар всегда был наводнен шпионами и сотрудниками конкурирующих спецслужб. Кто-то из них привел Фрэнки, кто-то – так же, как и Фрэнки, – мог распроститься с жизнью ради общего дела.
Как правило, остающегося незамеченным.
Как правило, преследующего самые разные, радикально противоположные и постоянно меняющиеся цели.
Неизменен только бармен.
Он – да еще кусты сирени.
Я выполняю все указания не-Шона и, пройдя арку, улицу Арми Ориент и свернув направо, снова оказываюсь на Лепик. И сразу замечаю машину Мерседес, стоящую там же, где я припарковала ее несколько часов назад. Мою машину. Никаких других машин поблизости нет, ее одиночество тотально. Одиночество и незаурядность. В ранних сумерках четырехколесное чудо выглядело необычным, сейчас же смотрится и вовсе инопланетно. Представить ее на улицах Эс-Суэйры без огромной толпы зевак, цокающей языками и шумно восхищающейся, я не в состоянии. Да что там Эс-Суэйра! Даже в Париже такая тачка стала бы предметом вожделения сотен людей. Я поступила опрометчиво, оставив машину так надолго. Я поступила опрометчиво, оставив ее вообще. Свидетельством моей опрометчивости может служить белый листок, он торчит из-под дворника.
Штраф за неправильную парковку.
Попереживав долю секунды, я мгновенно успокаиваюсь: настоящая владелица тачки то и дело влипала в подобные мелкие неприятности (стоит только вспомнить ворох квитанций на дне многочисленных сумок) – и то не особенно мучалась. Так стоит ли страдать мне?
Не стоит.
Неизвестно, воспользуюсь ли я этой машиной еще когда-нибудь. Какой бы прекрасной она ни была и какой бы потрясающей ни была сама Мерседес. Я все же – не Мерседес. До того как у меня в руках оказался желтый конверт, мысль стать Мерседес не казалась мне утопичной, винтаж-костюм от Biba подходил мне по размеру даже на глаз, а сколькими еще восхитительными тряпками можно было бы разжиться!..
O-la-la, mademoiselle!
Мерседес – не только тряпки, сумки, парики, шикарная машина с навигацией и проспект Национального музея мотоциклов в Римини. Мерседес – это еще и потайная комната с оружием, сейфом, бумагами, Стеной плача по пулям в голове. Мерседес – это еще и старый лжец Иса, и лжец помоложе Алекс, и юный Слободан, выбивающий дырку в монете с расстояния в сто шагов. Находиться в поле притяжения Мерседес опасно.
И чертовски притягательно.
До сих пор мне плохо удавалось справляться с этим притяжением – возможно, конверт Фрэнки убережет меня от падения в черную дыру. Я собираюсь приступить к его изучению немедленно.
Устроившись в машине и включив подсветку, я в нетерпении отрываю полоски скотча, которыми заклеен конверт: одну, другую, третью. Справиться с ними оказывается не так просто, но вместе с последней полоской мне на колени падает и первый трофей: удостоверение личности на имя Франсуа Лаллана (Francois Lallanne) и еще одно удостоверение на имя офицера спецслужб Франсуа Лаллана. С обоих фотографий на меня смотрит Фрэнки.
Фрэнки.
Я не думала, что так легко узнаю его, – фотографии на любых удостоверениях обычно получаются безликими, стертыми, сохраняющими лишь отдаленное сходство с оригиналом. Да еще фамилия – Лаллан!.. Франсуа Лаллана и Франсуа Пеллетье роднит лишь сдвоенная «л». И – лицо на снимке. Франсуа Лаллан был офицером спецслужб и больше никем. Франсуа Пеллетье мог оказаться кем угодно, перечень его профессий я выучила наизусть с первого раза. К ним могли прибавиться еще два десятка специальностей и столько же выпасть. И Франсуа Пеллетье мог бездумно заснять на камеру мобильника взрыв в лондонском автобусе. Взрыв, который произошел еще и потому, что офицер спецслужб Франсуа Лаллан вовремя не вступил в контакт со своими английскими коллегами. А может, и не было никакого снимка. И он – лишь часть легенды, которую Франсуа Лаллан придумал для Франсуа Пеллетье.
Франсуа Лаллан, действующий совершенно автономно.
Что сказал мне о Фрэнки не-Шон? Что тот отправился в Марокко на свой страх и риск. Вот почему мне не предъявили обвинение в убийстве офицера французских спецслужб Франсуа Лаллана, а обвинили в смерти безликого (каких миллионы) гражданина Франции Франсуа Пеллетье. Вот почему мной занимался самый рядовой, хотя и не лишенный лоска, следователь.
Об офицере никто не забеспокоился. И не беспокоился – во всяком случае, в то время, когда я сидела в камере.
Нужно признать, что в роли водонепроницаемого плейбоя Фрэнки выглядел органично. Настолько, что возникает предположение: второй своей ипостасью Лаллан пользовался довольно часто и довольно давно – чего стоила российская виза трехлетней давности в паспорте на имя Франсуа Пеллетье!
И что он делал в России? – не как Пеллетье, как Лаллан? И какова была истинная цель его поездки?.. И какова была цель его поездки на Ибицу и работы в конторе по изготовлению металлических сейфов? И во многих других конторах. И были ли они вообще – конторы?
Этого я не знаю и никогда не узнаю. И не очень стремлюсь узнать.
Что он делал в Марокко – тема куда более актуальная.
Очевидно, именно ей посвящены две дискеты из конверта. Две дискеты и один диск, вряд ли на нем записаны песенки Sacha Distel. Но проверить стоит. Вдруг диск заполнен не графическими и текстовыми, а звуковыми файлами? Закусив губу, я поворачиваю ключ зажигания и снова слышу:
Салуд, маравильоса!
Салют-салют, но мне нужен вовсе не ты, дурацкий бортовой компьютер, жертва апгрэйда! Мне нужна скромная магнитола – не исключено, что именно она прольет свет на дорогу, по которой я продвигаюсь на ощупь, руководствуясь только своими догадками и предположениями.
Магнитола по отечески принимает диск, и на ее панели вспыхивает обнадеживающая надпись:
LOAD49.
Я готова расцеловать панель – напрасно. И радость моя преждевременна: подумав совсем непродолжительное время, магнитола выплевывает чертов диск обратно. Что ж, аудиооткровения мне не светят, работу с диском и дискетами придется отложить на неопределенное время, как и просмотр миниатюрной видеокассеты, ей тоже нашлось место в конверте. Хорошо бы еще разыскать аппаратуру, на которой все это можно увидеть!..
Нет-нет.
Нет.
Я вовсе не собираюсь возвращаться в квартиру на авеню Фремье. Это слишком опасно. Это не было бы опасно для Мерседес (для нее, какой я ее вижу, вообще не существует понятие опасности). Но я все же не Мерседес. И ни за что не вернусь туда.
Ни за что.
Самым верным было бы отправиться в «Ажиэль». Прямо сейчас. Доминик наверняка оборвал все телефоны с известием о владельце дома у старого форта – скоропалительно приобретшего его и так же скоропалительно от него избавившегося. Но дело даже не в доме, а в самом Доминике: он будет переживать, если на телефонный звонок никто не ответит, он с ума сойдет от волнения. А после того, что он сделал для меня, настоящее свинство так с ним поступать.
Настоящее свинство, пошел ты к черту, Доминик!..
Запустив руку поглубже в конверт, я нахожу нечто, что тотчас же заставляет меня напрочь позабыть о Доминике, и о его невыносимом благородстве, и даже о самом Фрэнки в обоих его личинах – Пеллетье и Лаллана.
Кипа газетных вырезок, сложенных вдвое и перетянутых обыкновенной резинкой. Я судорожно пытаюсь снять ее, и от неловкого движения резинка лопается, ударив по ладоням. Боли я не чувствую, ее заслоняет обжигающее ощущение близкой разгадки тайны.
Первой лежит заметка о гибели mr. Тилле.
Похоже, это та самая заметка, которая висела на доске в потайной комнате, только теперь я имею дело с отксерокопированным вариантом. Фрэнки и тот, кто повесил листок на пробковую панель, были едины в одном: своем интересе к Фабрициусу Тилле, главе концерна «GTR-industry», вот только направленность этих интересов была разной. Тот, кто повесил листок, знал, почему и зачем был убит mr. Тилле.
А офицер спецслужб Франсуа Лаллан хотел узнать. И, возможно, узнал. И, возможно, успел ответить на вопрос: кто это сделал.
Почти успел.
Но я могу и ошибаться.
Газетных вырезок в конверте гораздо меньше, чем на доске, и далеко не все они снабжены фотографиями, и далеко не все они – подлинники, встречаются и просто отксерокопированные копии. Такие же, какой была заметка о mr. Тилле. Если бы не мой добровольный помощник Фабрициус, я бы вообще не смогла бы их идентифицировать. Все латиносы, все азиаты, все заметки для меня на одно лицо, и в этом я похожа на Ширли, с которой так и не удалось выпить джин.
Утешает только то, что Сайрус в конечном итоге получил свою порцию еды и питья.
Сайрус, чудесный кот.
Ну так и есть – в самый ответственный момент я начинаю размышлять бог весть о чем. О коте, ну надо же! А еще можно озаботиться судьбой американской актрисы Умы Турман и тем, что произойдет, когда она наконец-то доберется до Касабланки и в довольно популярном и страшно киношном «Кафе Рика» встретится с Сальмой, техником из кооператива по производству арганного масла, срочно перекрашенной в blonde.
И как там поживает моя пишущая машинка?..
Я должна перестать думать о глупостях. И об авеню Фремье – тоже.
Я не вернусь туда, нет. Нет-нет.
Нет.
…«L'ascenseur ne marche pas»
Табличка, украшавшая лифт еще днем, исчезла. Означает ли это, что лифт снова работает и мне не придется преодолевать десяток лестничных пролетов пешком? Если так, то я счастливо избегну дерьма, наляпанного на стены пятого этажа, а также перил с казненным целлулоидным пупсом. И мусорных куч, и опасного восхождения по осклизлым ступеням, да еще в кромешной тьме. И днем там приходилось пользоваться зажигалкой, чтобы добраться до цели без потерь и подвернутых лодыжек, что уж говорить о ночи!..
В этом случае волшебно заработавший лифт можно считать спасением. Еще одним подтверждением того, что я все делаю правильно и обстоятельства складываются в мою пользу.
Если бы это было так!
Всю дорогу до авеню Фремье, под монотонный голос бортового компьютера, я пыталась убедить себя: я все делаю правильно. Я вернусь в квартиру Мерседес ненадолго, минут на двадцать, на полчаса от силы. Их должно хватить, чтобы содержимое пробковой доски перекочевало в рюкзак. Туда же отправятся папки из поддонов и кое-что из аппаратуры. Кое-что, что могло бы мне помочь в воспроизведении крошечной видеокассеты. Наверняка там отыщется какая-нибудь чудесная машинка, которая мигом решит эту проблему. О том, чтобы воспользоваться несговорчивым компьютером «Merche – maravillosa!», придется забыть, но я не расстраиваюсь. В Этом городе есть масса других компьютеров, гораздо более доступных. В любом, даже самом завалящем интернет-кафе я смогу спокойно открыть и диск, и дискеты – и узнать то что уже знал Фрэнки.
И что должно спасти меня, Сашá Вяземски. Сашу Вяземскую. И объяснить множество смертей, смерть Франсуа Лаллана (я по привычке все еще называю его Франсуа Пеллетье) в этом списке далеко не последняя.
Первая. Первая.
Да черт возьми, я смогу воспользоваться компьютером и в отеле! – наверняка они предоставляют такие услуги постояльцам. Там же, в спокойной обстановке, можно изучить все трофеи, все бумаги, все папки и составить общую, более-менее внятную картину происшедшего. Я надеюсь, я очень сильно надеюсь, что общая картина проявится, а потом…
Что будет потом?
Так далеко я не загадываю. Скорее всего, придется вызвать сюда Доминика. Или детектива из Касабланки, который работал на его отца и теперь согласился помочь сыну. Да, детектив здесь будет гораздо уместнее, гораздо полезней, чем бесхитростный, далекий от всякого рода смертоубийств Доминик, но… так далеко я не загадываю.
Ведь мне только предстоит подняться в квартиру Мерседес, все остальное – потом.
Помедлив секунду, я подношу руку к кнопке и нажимаю ее. Где-то в недрах дома слышится тяжелый вздох, и шумно приходят в движение скрытые механизмы – лифт и правда работает. И по мере того, как его кабина скользит вниз, мне снова становится не по себе: в этом спуске есть что-то неумолимое, неизбежное, роковое, грозящее бедой. Как будто кабина движется не в шахте, а опускается прямо на меня, готовая раздавить, смять, стереть никчемную русскую с лица земли. Ощущение так реально, что я вздрагиваю и отшатываюсь от кованых воротец, преграждающих путь в кабину.
Глупости.
Все это – глупости. Днем холл первого этажа был укутан полумраком, теперь он ярко освещен. Освещена и кабина, спустившаяся ко мне едва ли не с небес. Ступени мраморной лестницы умиротворяют, а где-то наверху смотрит свое бесконечное старое кино Ширли. В старом кино все заканчивается великолепно, влюбленные находят друг друга и сливаются в поцелуе; у всех детей в старом кино – симпатичные лукавые мордашки, у всех собак – гладкая чистая шерсть, никто не страдает гипертонией, никто не страдает ожирением; дожди в старом кино всегда теплы, снег потрясает белизной, и солнце всегда снисходительно, почему бы моей истории не закончится так же, как заканчиваются истории в старом кино?.. Почему?
– Подождите! – слышу я голос за своей спиной, когда дверцы лифта почти захлопнуты. – Подождите!
Такой призыв не может остаться без ответа – и я снимаю руку с кнопки.
Молодая женщина в солнцезащитных, несмотря на столь поздний час, очках. Свои собственные очки я похоронила на дне рюкзака еще до того, как вошла под своды «Cannoe Rose», прятать глаза за очками ночью – откровенное пижонство. Если за этим не стоит нечто большее.
Я вопросительно смотрю на женщину, ожидая, какой этаж она назовет.
– Четвертый, пожалуйста, – говорит она, улыбаясь извинительной улыбкой. Довольно приятной, а зубы, сверкнувшие между раздвинутыми губами, и вовсе хороши. Разве что – слишком крупные, но это не недостаток – достоинство.
– Мне выше.
Она кивает без всякого осуждения, а ведь «выше» расположена откровенная свалка, обнажающая не самые приятные стороны человеческой натуры. Но, может, все значительно проще, и она ничего не знает о свалке, она никогда не поднималась выше своего четвертого, вполне благополучного этажа. Этажа без респектабельных деревянных панелей на стенах, но зато с многообещающей любовной надписью в духе Одри, Ширли и Кэтрин -
«I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN».
Я хорошо ее запомнила, как запомнила несколько ореховых скорлупок и несколько апельсиновых корок на ступеньках. Вполне допустимая погрешность, учитывая кошмар верхних этажей.
Лифт ползет удручающе медленно – так медленно, что я переключаюсь с созерцания кнопок на созерцание женщины, волею судеб оказавшейся рядом со мной на крохотном пространстве. Ничего особенного в ней на первый взгляд нет. Кроме очков, закрывающих едва ли не половину лица. И темных блестящих волос, волнами спадающих на плечи. Если когда-нибудь мне захочется воспроизвести в памяти свою случайную попутчицу, то я вспомню только это:
очки;
крупные кольца волос, заслоняющие щеки и часть подбородка;
прямые, почти мужские плечи.
Бедняжка, должно быть, не слишком привлекательна, хотя и ничего отталкивающего в ней нет. Таких женщин миллионы, они пользуются исключительно общественным транспортом и покупают полуфабрикаты, потому что ненавидят готовить; они никогда не выходят замуж по любви, они заняты работой, требующей не очень больших умственных и физических затрат; они терпеть не могут комиксы и обожают тяжеловесные викторианские романы и фильмы в пересказе тайных агентов. Да, для тайных агентов такие женщины – просто находка! В силу обыденности, одинаковости, непритязательности их можно использовать вслепую, они не вызовут подозрений ни у кого. Их лица не поддаются анализу и сразу же забываются, бедняжка!..
Шею бедняжки украшает газовый платок терпимого качества, то же можно сказать о летнем пиджаке пастельных тонов, неброской блузке и юбке, слишком плотной для лета.
– Что? – неожиданно произносит женщина.
– Ничего.
– Вы так на меня смотрели… Мне показалось, вы хотели что-то спросить.
– Нет, простите. – Я смущенно опускаю глаза. – Ваши очки…
– А что мои очки? Выглядят устрашающе?
– Нет, конечно…
– Я недавно перенесла операцию на глазах, так что очки – прискорбная данность.
– Да нет же…
«Это не мое дело», – хочется сказать мне. «У меня тоже проблемы со зрением, – хочется сказать мне, – я совершенно не переношу темноты, она выбивает меня из колеи и заставляет совершать глупости. Но это проблема скорее психологического свойства, операция на глазах не поможет».
– Я и сама ненавижу, когда кто-нибудь щеголяет в солнцезащитных очках в не самое подходящее время суток, – неожиданно добавляет женщина. – Я считаю, что прятать глаза за очками ночью – мм-м… откровенное пижонство. Если, конечно, за этим не стоит нечто большее.
– Нечто большее? – Я вздрагиваю: бедняжка в непритязательном платке, кажется, умеет читать мысли.
– Нам это не грозит. Мы ведь не герои фильма «Матрица», правда?
– Точно.
«Матрица» в пересказе тайного агента. Или самой бедняжки. Любопытно было бы послушать. Не сам пересказ, а ее голос. Снова и снова – ее Голос.
Гораздо более интересный, чем внешность. Низкий, богатый, полный скрытых течений – холодных и теплых. Полный эмоций, впрочем, довольно хорошо контролируемых. И…
Кажется, я уже слышала его.
Или что-то очень похожее на него. И совсем недавно.
– Вы ведь живете здесь, – говорю я, не имея ни малейшего понятия, как закончить фразу. Плевать. Все мои усилия направлены па то, чтобы вновь услышать Голос. И попытаться вспомнить, откуда он мне явился.
– Не так давно. Но уже подумываю о том, чтобы сменить квартиру.
– Почему?
– Здесь не очень здоровая обстановка. Вы должны знать, если поднимаетесь наверх.
– Я как-то об этом не думала.
– А стоит подумать. Пока не поздно. В доме бесследно пропало несколько человек, и полиция оказалась бессильна в их поисках.
– Ужас.
– Еще бы не ужас. – Голос ускользает от меня, прячется в волосах и за стеклами очков, и за прямоугольником плеч. Он рассыпается на отдельные звуки; погнаться за одним означало бы тотчас же выпустить из виду другие.
Мне с ним не справиться.
Мерседес – она смогла бы. Не только поймать Голос в силки, но и завладеть им, приручить, сделать своим, подчинить себе. Да, именно таким голосом должна обладать Мерседес, именно таким голосом она должна разговаривать с не в меру расшалившимися в ее отсутствие снайперскими винтовками и Спасителями мира, отдавать приказы по уничтожению саранчи и коралловых рифов, оставлять сообщения на автоответчике…
Эта чертова кабина когда-нибудь остановится?!.
– …А знаете, кто будет следующим пропавшим?
– Нет, – я сбиваюсь на нервный шепот.
– Вы.
Автоответчик Мерседес! Вот где я слышала этот голос! Но… этого не может быть. Эта невзрачная женщина не может быть Мерседес. И голос – он просто похож на голос Мерседес, или мне просто хочется, чтобы Мерседес обладала именно таким голосом. Что она сказала о пропавших людях?
Что следующей буду я. Без всяких «может быть, возможно, peut-etre».
– Это шутка. – Черные очки непроницаемы, об улыбке нет и речи. – Простите.
– Ничего.
Лифт наконец-то останавливается.
– Мой этаж. Всего хорошего.
Женщина в летнем пиджаке берется за ручку кабины и распахивает ее. И только после того, как она выходит, я вспоминаю о нумерации этажей в благословенной Франции. Первый этаж – всегда нулевой. А тот, который принято называть четвертым, – на самом деле пятый. Не «I've got you under me skin» – «charogne».
Еще не поздно убраться отсюда, тупо думаю я, наблюдая за бликами света: неожиданно ускоривший свой ход лифт несет меня вверх.
…Мокрая, как мышь.
Я падаю в объятья этажа Мерседес мокрая, как мышь. Голос, оставшийся внизу, все еще преследует меня, цепляясь за запястья, щиколотки, подметки ботинок, в доме пропало несколько человек… а знаете, кто будет следующим? Вы. Вы, вы, вы, вы…
– Пошла ты! – говорю я вслух. Много громче, чем хотелось бы. – Падаль!..
Звук собственного голоса, совсем не такого завораживающего, приводит меня в чувство. Я сокращу визит в квартиру Мерседес до пятнадцати минут, этого должно хватить. Я не поддамся искушению навестить полусумасшедшую разбитную Ширли, которая кажется мне теперь едва ли не самым вменяемым человеком из всех, кого я знаю. Правда, пассажи про китайцев, арабов, шлюх и тех, кто дует в дудки, придется вынести за скобки. А в основном Ширли бесконечна мила.
И номер на ее двери бесконечно мил, и розовый коврик умилителен: и дверь, и коврик находятся на своих местах, так же как нашлепка с саксофоном на двери Захари. На этаже ничего не изменилось, кроме освещения (длинные люминесцентные лампы дают вполне достаточное количество света) и еще пейзажа за стеклом панорамного окна.
Мириады огней мерцают и подрагивают, слезятся, вспыхивают и снова гаснут. И снова вспыхивают, изменив цвет, – в Этом городе заключено множество вселенных, их гораздо больше, и они гораздо ярче, чем вселенные Эс-Суэйры. И все эти звездные скопления, туманности и сверхновые вступают в противоречие с моей собственной вселенной, одинокой и пустынной. Лишенной света и навсегда скованной льдом. Мне хочется раствориться в огнях внизу, раскрыть руки и устремиться вперед, быть подхваченной потоками теплого воздуха и парить, парить, забыв обо всем.
Десять минут.
Десяти минут в квартире Мерседес будет достаточно.
Прежде чем сунуть ключ в замочную скважину, я присаживаюсь на корточки и проверяю наличие жевательной резинки внизу, в месте, где дверное полотно упирается в наличник. Все в порядке, жвачка нетронута, ничего не нарушено, а это значит – за время моего отсутствия квартиру никто не посещал. И вряд ли посетит в ближайшие десять минут.
Путь свободен.
Мне уже знакомо устройство замков, и на то, чтобы отпереть дверь, уходит не больше десяти секунд. Я осторожно прикрываю ее за собой и оказываюсь в пустой прихожей: не темной, как ожидалось, а наполненной рассеянным голубым светом. Он не слишком интенсивен и, скорее всего, проникает сюда из зала, где много светлее за счет огромных окон без штор. Не особенно задумываясь о причинах свечения, я прохожу в зал. И только там, совершенно интуитивно, оборачиваюсь.
Монитор.
Он включен, вот проклятье!..
Монитор слишком мал, чтобы разглядеть картинку на его экране из зала, но я хорошо ее помню и так: унылая часть стены, которая оживляется лишь тогда, когда к двери кто-то подходит. Кто мог включить монитор? Уж не я ли сама, слишком вольно обошедшаяся с одной из кнопок и случайно нажавшая на таймер? Размышлять над этим у меня нет времени – десять минут, десять минут! Теперь – уже девять с половиной, нужно быть порасторопней, Сашá!..
Так, внутреннее подбадривая себя выкриками, которые издают пляжные футболисты в футболках с надписью «Рональде» и «Рональдиньо» на моей родине в Эс-Суэйре (ого! даже так!), я пересекаю зал и оказываюсь в спальне, а затем и в гардеробной. И по-хозяйски, как будто я и есть Мерседес (верховная богиня, умеющая видеть в темноте, под водой, при сплошной облачности и в задымленном помещении), сбрасываю вещи с полок, чтобы очистить проход в потайную комнату.
Собирать их будет кто-то другой. И уж точно – не я.
Часы Мерседес, а может, песочные часы Мерседес, а может, клепсидра Мерседес, запущенные в моем организме ее вирусом, четко отсчитывают секунды. Не ускоряя и не замедляя темп времени. Один – костюм от Версаче, два – костюм от Кардена, три – винтаж-костюм от Biba, четыре – кнопка, она открывает потайную комнату, еще мгновение – и я буду внутри.
Пять!..
Стеклянная оболочка песочных часов лопается. Стеклянная оболочка клепсидры лопается. Вода и песок смешиваются, заливают мне глаза, забивают ноздри и рот. И сквозь пелену песка, сквозь толщу воды я вижу сидящего в кресле Алекса.
Алекса Гринблата.
Знаменитого галериста и теоретика современного искусства. Спасителя мира, переспавшего со мной когда-то в прошлой жизни. До того как я имела наглость взять себе имя Мерседес Торрес, его компаньонки и почти мифа.
Не так давно в этом кресле сидела я и нашла его чрезвычайно удобным. При других обстоятельствах знакомства в нем можно было предаться мечтам или заняться литературными опытами в стиле portative, неосмотрительно оставленной у Сальмы. Судя по всему, сходные чувства испытывает и Алекс. Он устроился в кресле с максимальным комфортом и вертит в руках конверт из-под винила: черные геометрические фигуры на красновато-оранжевом фоне. «Абба» или «Fleetwood Mac», я тотчас принимаю сторону «Аббы»: из всего обширного репертуарного наследия группы ««Fleetwood Mac» мне запомнилась лишь песня «Сара». Наверное, я бы смогла даже напеть ее, но вряд ли это впечатлило бы Алекса и заставило его расстаться с десятью евро.
Алекс щурится и смотрит на меня в упор, даже не пытаясь скрыть изумления. И после секундного замешательства (я так и ощущаю, как он тасует приличествующие случаю маски, выбирая подходящую) пытается улыбнуться. В этом подобии улыбки нет мстительного торжества («ну вот ты и попалась, дорогуша!») – скорее это улыбка облегчения («слава богу, в этой ужасной комнате я теперь не один»!). Да, определенно – это улыбка облегчения с легкой примесью тревоги. Как будто он ожидал увидеть кого-то более опасного, чем его мимолетная марокканская знакомая.
– Сашá?
Полупарализованная страхом и неожиданностью, я ограничиваюсь кивком головы.
– Someday my princess will come, – говорит он, заметно волнуясь. – Вот вы и пришли. Здравствуйте, Сашá.
– Да, – я пропускаю «да» сквозь зубы с большим трудом. Не исключено, что до Алекса оно дошло в несколько измененном, искаженном, потрепанном виде.
На что может быть похоже «да» в моей новой интерпретации?
Ты уже вернулся? – судя по всему.
Как ты здесь оказался? – я и раньше бывал здесь, ты должна это знать.
Кто ты на самом деле? – разве ты сама не догадываешься?
– Как вы сюда попали? – осторожно интересуется Алекс, все также пощипывая пальцами пластиночный конверт. Он и не подумал встать, и (учитывая, что в комнатушке только одно сидячее место) мизансцена выглядит не лучшим образом. С точки зрения безмозглых читательниц женских журналов, готовых простить мужчине любую подлость, но никак не отсутствие галантности. Я же нахожу сидящего Алекса благом. Я снова вижу в нем библиотекаря, а не Спасителя мира и компаньона Мерседес. Библиотекаря, напуганного и раздавленного тем, что вместо привычных карточек в его каталоге обнаружились карточки с видом на убийство. А в новые книжные поступления включены оружие и боеприпасы. Мне страшно хочется думать именно так.
В противном случае ничего хорошего меня не ждет.
– Как вы сюда попали, Сашá?
– А вы?
– Я первый спросил.
– Случайно. Теперь ваша очередь.
– Вы соврали. Вы не могли попасть сюда случайно.
– Вы наверняка тоже.
– Я бывал в этой квартире. – Голос Алекса звучит обезоруживающе искренно. – Но никогда – в этой комнате. Для меня она – полная неожиданность.
Что ты задумал, Алекс? Что за игру ты ведешь?.. Вполне возможно, что те же вопросы Алекс вправе задать и мне. И с большим основанием. Ведь это он работал с Мерседес (если фотогалерею на пробковой стене вообще можно назвать работой), а я и понятия о ней не имела. Так обстояли дела на тот момент, когда Алекс покинул Эс-Суэйру. Вернее, бежал из Эс-Суэйры, оставив меня на растерзание служителям ленивой марокканской Фемиды. Все это время бегство Алекса вызывало у меня подозрения в его причастности к убийству Фрэнки. А еще бритва, которую он очень вовремя заставил меня вытащить из стеклянного шкафа. А ведь там были предметы куда более занятные: статуэтка Будды и статуэтка Мэрилин Монро. Или, к примеру, – музыкальная шкатулка, наигрывающая джазовый мотивчик. Но ни одним из этих трех предметов нельзя перерезать горло. И джазовый мотивчик не может причинить никакого вреда упругой молодой коже.
А бритва – может.
И комната битком набитая оружием, аппаратурой, документальными свидетельствами о пуле в головах многих людей!.. Она находится не в безвоздушном пространстве, а в квартире женщины, которая имела с Алексом что-то типа совместного бизнеса. И Алекс бывал здесь. Даже если бы он не признался, – его уличила бы видеозапись.
Но он признался. И выглядит смятенным, удивленным, потерянным. И с его языка готова слететь тысяча вопросов. И он… он не собирается причинить мне зло. Иначе в его руках был бы не конверт с пластинкой, а нечто совсем другое. То, что легко сиять с полки за спиной. То, во что легко вставить обойму. Но ничего подобного Алекс не предпринял, он не вооружился пистолетом, не вооружился армейским ножом. Он до сих пор сидит в кресле, а я стою, опершись о косяк двери. Мое положение много предпочтительнее, чем положение Алекса. В любой момент я могу сделать шаг назад и захлопнуть дверь. И броситься к выходу. В этом случае преимущество в пять-десять-пятнадцать секунд (все будет зависеть от расторопности обычно вальяжного Спасителя мира) мне обеспечено. И этого преимущества вполне достаточно, чтобы покинуть квартиру и попытаться спастись. Шансы у меня есть.
Шансы – я рассуждаю так, как рассуждала бы Мерседес, попади она в сходную ситуацию. Хотя не слишком она экстремальна, Алекс не проявляет никаких признаков агрессии, никакого желания расправиться с женщиной, случайно узнавшей то, чего ей знать не положено. Он сам… Он сам выглядит человеком, случайно узнавшим то, чего ему знать не положено.
Что же происходит, черт возьми?! Что происходит – вообще и со мной в частности? – я верю в непорочность Алекса, как последняя идиотка!.. Я по-прежнему имею дело с vip-персоной, способной спасти от дефолта экономику Парагвая, но совсем не способной на убийство. То есть он в состоянии рассуждать об убийствах, и даже гораздо более изысканно, чем это делал адепт романтической поножовщины не-Шон, привлекая к этому поэзию, прозу и жалкий постмодернистский потенциал современного искусства, – но сам не в состоянии зарезать и цыпленка.
Знаем мы таких умников, сказали бы мои питерские друзья.
Алекс наконец-то прекращает терзать конверт, и тот соскальзывает вниз. Первое, что я вижу: пистолет, лежащий у Спасителя мира на коленях. Он обращен дулом ко мне.
– Хотите меня пристрелить? – глупо интересуюсь я, топчась на месте и совершенно позабыв, что в любой момент могу сделать шаг назад и захлопнуть дверь.
– Нет, что вы! – пугается Алекс. – К тому же пистолет не заряжен. Я взял его с полки… Просто так… На всякий случай. Вот, смотрите.
Жалкие попытки Алекса выбить обойму из пистолетной рукояти ни к чему не приводят. Но я смотрю не на него – на полки, на которых еще днем лежали боеприпасы, ножи и коллекция экзотических предметов, похожих на оружие. Поверхности полок стерильно чисты, хотя снайперские винтовки и прицелы к ним на месте. На месте и два пистолета (третий прихватил Алекс) – если патронов нет и в них, толку от железной рухляди будет немного.
– Патронов нет нигде, – тихо говорит Алекс, перехватив мой взгляд. – Я уже проверил. Объясните мне…
– Сначала вы объясните.
– Хорошо. С чего начать?
– С того, как вы здесь оказались.
– Я был в отъезде. Крупная сделка в Чехии, впрочем, это неважно… Сделка по определенным причинам не состоялась, и я вернулся много раньше, чем предполагал. Вернулся сегодня днем. И сразу же получил звонок от одного из своих сотрудников. Этот звонок показался мне чрезвычайно важным. Речь шла о женщине… Которую я считал погибшей.
– Эта женщина была так для вас важна?
Мерседес, ну конечно же! Мерседес – вопрос о ней, заданный Алексу напрямую, не может не выглядеть унизительным, учитывая ночь в Эс-Суэйре. И я не должна была задавать его – хорошо еще, что Алекс слишком поглощен происшедшим с ним, чтобы обращать внимание на легкие ревниво-эротические акценты. А «один из сотрудников», конечно же, Слободан. Это он сдал меня, щенок! Сдал человеку, работать на которого ему было невмоготу. Сдал после того, как предмет его обожания лично попросил его ничего не говорить Алексу о воскресшей компаньонке. И просьба, как мне помнится, была неоднократной – совсем как припев в песне «Сара».
– Эта женщина долгое время имела свою долю в моем бизнесе. Она была незаурядна, правда. – Алекс обводит взглядом потайную комнату. – Даже более незаурядна, чем я мог предположить. Совсем недавно я получил известие о ее гибели. Я был расстроен. А сегодня выясняется, что она жива и уже появилась в Париже…
Пока Алекс не сказал мне больше того, что сказал Слободан. Пожалуй, Слободан был намного раскованней в своих комментариях по поводу Мерседес.
– Этот ваш сотрудник – он виделся с ней?
– С Мерседес? – Алекс растерянно потирает идеально выбритый подбородок. – Кажется, я не успел спросить его об этом. Нуда, он просто сказал: Мерседес вернулась. И это хорошая новость.
– А плохая? – машинально спрашиваю я.
– Плохая? Плохая – то, что мы с вами оказались здесь.
– Это чревато неприятностями?
– Послушайте, Сашá! Когда я узнал, что Мерседес жива, но почему-то не позвонила мне… Я сразу же отправился сюда, к ней. Вы должны понимать…
– Я стараюсь понять.
Алекс оправдывается, как будто я вытягиваю у него признания под дулом пистолета. Но оба мы не вооружены и находимся в сходной ситуации. К тому же еще совсем недавно он был Спасителем мира и человеком, созданным уберечь от банкротства издания, посвященные современному (мерзость какая!) искусству. А я – кем была я? Девкой с ресэпшена в марокканском отельном захолустье. Нет-нет, нужно отдать должное Алексу, еще до всего произошедшего он по достоинству оценил мое воображение и мою неординарность и даже пригласил работать в его команде… Теперь роли поменялись, и Алекс ищет в моем лице сочувствия, если не покровительства. И от лоска, который всегда (и в постели тоже) отличал знаменитого галериста, и следа не осталось. Все это неправильно, так не должно быть – ведь он все-таки мужчина. И обязан вести себя как мужчина, а не как мальчишка, запертый в чулан за кражу варенья.
– …Я стараюсь понять, Алекс.
– Я поднялся сюда… Я ведь знал, где живет Мерседес, я бывал у нее несколько раз… Так вот, я поднялся сюда и позвонил.
– Но парадное закрыто на ключ, – замечаю я. С каких это пор во мне проснулся мой марокканский следователь?
– Оно обычно закрыто на ключ, я знаю. Но как раз сегодня… Как раз сегодня дверь внизу была распахнута настежь. То же самое случилось с дверями в квартире Мерседес.
– Они тоже были распахнуты настежь?
– Скажем, они были приоткрыты. Тоненькая щелочка. Это показалось мне странным – Мерседес неохотно пускает в дом гостей, без довольно придирчивого фейс-контроля сюда не попадешь, а тут пожалуйста… Естественно, я вошел.
– И?..
– И никого не обнаружил. Никого и ничего.
– Что значит – «ничего»?
– То и значит. Когда человек на протяжении длительного времени живет в доме, то вполне естественно, что он этот дом обустраивает. Вы понимаете, о чем я говорю?
Даже я, последние три года прожившая в гостиничном номере, понимаю, о чем говорит Алекс. В кухне должна быть посуда, должны быть микроволновка, электромясорубка или электрокофемолка, штопор, подставки для яиц, подставки под горячее; в зале – шторы или жалюзи, газетница, стеллажи с керамикой, светильники, напольные вазы; в ванной…
– Она, конечно, не слишком походила на обычных женщин. Она, например, собирала ритуальные предметы самых различных культов смерти. Много путешествовала по Африке, по Латинской Америке – по самым диким уголкам. Коллекция располагалась на стене в зале. Теперь ее тоже нет.
Алекс слишком отвлекается на прошлое Мерседес, вместо того чтобы озаботиться своим настоящим. Прошлое Мерседес способно увлечь кого угодно, особенно в той его части, где она, облачившись в эксклюзивные дизайнерские лохмотья, передвигалась по сельвам и саваннам.
– Возможно, ваша подруга просто решила сменить квартиру. – Я не хочу быть втянутой в разговоры о Мерседес – и все равно втягиваюсь.
– Эта квартира вполне ее устраивала.
В доме бесследно пропало несколько человек, и полиция оказалась бессильна в их поисках. Чудесное место, которое ни на какое другое не променяешь!..
– По-моему, мы слишком отвлеклись, Алекс.
– Да, действительно… Вот я и подумал – если женщина решила сменить квартиру и вывезла всю обстановку…
– Не всю. Диван и кресла остались.
– …и вывезла почти всю обстановку, то почему оставила одежду?
– Вы у меня спрашиваете?
– Просто размышляю. Одежда, кстати, была в полнейшем беспорядке…
Почему – кстати? Для кого – кстати?
– …часть вещей вообще была свалена на пол, остальные пребывали в чудовищном беспорядке. Собственно, только поэтому я обнаружил комнату, в которой мы сейчас находимся.
Самое время уличить Алекса во вранье. Потайную комнату нельзя обнаружить, не зная о ее существовании. Не потратив длительного времени на ее поиски. Ч наткнулась на нее случайно, благодаря воплям застрявшего в каменном мешке Сайруса. Не будь Сайруса – я ничего бы не узнала. Трудно предположить, что у Спасителя мира оказался под рукой (за стеной) свой собственный Сайрус. И пора наконец прекратить называть его Спасителем.
Алекс – не спаситель.
Его напряженная вылинявшая физиономия сама мечтает быть спасенной. Что не мешает Алексу врать насчет потайной комнаты и одежды, сброшенной на пол и валяющейся в полном беспорядке. Войдя в гардеробную, я нашла все вещи на местах. Аккуратно сложенными. Никем не потревоженными. Безмятежными.
– …Так как вы ее обнаружили, Алекс?
– Комнату?
– Да.
– Не хотелось бы лишний раз повторяться, но… дверь в нее так и приглашала войти.
– Распахнутая настежь? Или… так, слегка приоткрытая?
– Что-то среднее. Я никогда не был в спальне Мерседес…
– И никогда не пользовались туалетом в ее квартире? – Я испытываю странное облегчение от сказанного Алексом. Почти торжество.
– Здесь есть еще один туалет. В коридорчике за кухней, если вас интересуют такие пикантные физиологические подробности.
– Не слишком. Я спросила просто так.
– Естественно, я вошел вовнутрь. Увидел оружие. Увидел стену с ужасными фотографиями. И даже ощутил приступ тошноты, я совсем не считаю такие фотографии высоким искусством… Хотя не исключаю, что любая из них, будучи выставленной, собрала бы вокруг себя гораздо больше посетителей, чем обычное ню или какая-нибудь видеоинсталляция. Или пейзажи пустыни Наска в исполнении угасших голливудских звезд. Забвение делает их либо философами-натуралистами, либо неврастениками, либо членами анонимного общества алкоголиков…
Нельзя дать Алексу возможность снова заматывать меня, укутывать в разговоры о современном искусстве, вонючие потроха которого булькают в чаше из черепа, оправленной в серебро.
Made in Tibet.
– Я тоже не считаю эти фотографии высоким искусством. Скорее, это отчет о проделанной работе. Кто-то убил всех этих людей и запечатлел убийства на пленку.
– Кто-то?
– Чем занималась ваша подруга? – Я не даю поникшему Алексу опомниться.
– Искала потенциальных клиентов. И умела находить, нужно признаться. Схожую работу я хотел предложить вам.
Предложить мне, вот так. Правда, о моей собственной доле в бизнесе Алекса не было сказано ни слова.
– Что, Мерседес больше не справлялась?
– Почему, она отлично справлялась. Но рынку современного искусства необходимы новые территории. Вы, русские… Вы сказочно разбогатели, у вас появились обладатели миллионных, миллиардных состояний. Они интересуют меня прежде всего. И сейчас я набираю команду из людей, знающих славянскую ментальность изнутри. Вот почему мне понадобились вы, Сашá.
– Можно было бы обойтись без постели. – Как только у меня вырвалась эта фраза?
– Это вас оскорбило?
– Это доставило мне удовольствие. Сексе вами, я имею в виду. – Лишь на секунду потеряв контроль за ситуацией, я снова возвращаю себе первенство. – Хотя, помнится, вы хотели внушить мне обратное. Что же касается «сейчас»… Сейчас вы не набираете команду. Сейчас вы сидите в комнате с оружием.
– Меня в ней заперли.
– Заперли? Что значит заперли?
– Когда я вошел внутрь и увидел все это… Меня едва не стошнило…
– Вы это уже говорили.
– Я хотел покинуть ее сразу же… ненавижу все эти штуки… Но оказалось, что дверь заперта и выйти отсюда невозможно.
– Кто же запер дверь?
– Я понятия не имею. Возможно, она захлопнулась… Мне бы хотелось так думать…
Мне бы тоже хотелось думать, что Алекс не лжет. Но для этого нужно вспомнить, что происходило с дверью в потайную комнату все то время, что я находилась здесь. Кажется, я не закрывала ее за собой. И Сайрус свободно перемещался по квартире. Да. Дверь все время была открытой. И захлопнуться она не могла, потому что сквозняков в квартире нет, – во-первых. И во-вторых – ее механизм устроен вовсе не по типу обыкновенной псевдоанглийской защелки. Я ощупываю ребро двери и не нахожу не только собачки, выскользнувшей из замка, но и самого замка.
– Знаете, Алекс, я не уверена, что она захлопнулась.
– Не уверены? – в голосе Алекса снова слышится тревога.
– Может, вы сами ее захлопнули?
– Да нет же!..
– Это точно?
– Абсолютно.
– Да, я вижу сама. В двери нет замка.
– Как что нет?
– Он есть, конечно, только его не видно. Скорее всего, кнопка приводит в движение какие-то механизмы внутри.
– Какая кнопка? – удивление Алекса вполне понятно и косвенно подтверждает его слова насчет потайной комнаты: «дверь в нее так и приглашала войти».
– Чтобы попасть сюда, нужно найти кнопку на задней панели шкафа и нажать на нее.
– Откуда вы знаете?
– Долго объяснять.
Меня так и подмывает проделать несколько манипуляций с кнопкой и дверью, чтобы понять принцип устройства замка, я уже готова заняться школьными опытами и останавливаюсь лишь в самый последний момент. Я пришла сюда совсем не для этого и вместо намеченных десяти минут торчу здесь много дольше. В любом другом случае я бы обязательно запаниковала, но нервозность и абсолютная потерянность бывшего Спасителя действуют на меня самым удивительным образом: еще никогда я не была так собрана и хладнокровна, как сейчас.
– Хорошо, объясните потом.
– Я просто хочу сказать, что эта дверь не может захлопнуться сама. И что ее нельзя запереть изнутри. Только и всего.
– Вы намекаете, что в квартире кто-то был?
– Не знаю.
– Или что кто-то зашел следом за мной?
– Не знаю.
– Кто-то очень тихий…
Алекс – взъерошенный, с мокрым от пота лицом, мокрыми от пота подмышками – понижает голос до шепота. И невидящим взглядом смотрит мимо меня, в изменчивый сумрак зала. Вместо того чтобы сузить пространство самой большой в квартире комнаты, темно-синяя мгла неожиданно расширила его. Теперь оно кажется необъятным – на его преодоление потребовалось бы несколько дневных переходов. Вопрос в том, наступит ли день вообще.
Где-то в глубине квартиры слышен стук падающих капель. Настолько резкий и четкий, что даже странно, почему его не было слышно раньше.
– Что это? – Алекс не кричит, не говорит и не шепчет, он просто раскрывает рот, выпуская оттуда пустые оболочки слов.
– Не знаю. Вода.
– Какая вода?
– Может быть, протекает кран?
– Какой кран? При чем здесь кран? О, боже! – причитает Алекс.
– Кто-то не до конца завернул его. Кто-то очень тихий. – От монотонного повторяющегося звука у меня по спине бегут мурашки, но даже сейчас я не могу отказать себе в удовольствии поддразнить Алекса.
– По-моему, нужно выбираться отсюда.
– Хорошо бы. Но сначала я кое-что здесь соберу.
– О чем вы. Сашá?
– Вам непонятно? Я хочу снять фотографии с доски, прихватить папки. Возможно, найдется еще что-нибудь интересное.
– Зачем вам это?
– А вас не смутила галерея мертвецов?
– Смутила… Я скажу вам больше… Многие из этих, как вы выразились, м-мм..мертвецов в разное время покупали у меня картины.
Все начинает проясняться и без сравнительного анализа материалов Фрэнки и бумаг, вывешенных в потайной комнате. Алекс и Мерседес, Мерседес и Алекс – один втюхивал доверчивым клиентам всякую лабуду, а другая благополучно их отстреливала. Две стороны одной медали. Я почти уверена, что именно Мерседес насылала пули на жалких, погрязших в роскоши людишек, как древние боги насылали беды и несчастья на снедаемый гордыней род человеческий… Что ж, Мерседес – из того же пантеона великих древних богов, не стоит об этом забывать. Мерседес, Мерседес – невидимая, недостижимая, огромная, как скала, еще более прекрасная, чем когда-либо, – ослепляет меня, заставляя содрогаться от близости темной бездны ее души. Она собирала ритуальные предметы самых различных культов смерти? Какая чушь, она сама была ритуальным предметом, сама была культом! Алекс Гринблат, теоретизирующий на темы небытия, жалкий пигмей Алекс Гринблат – он мог не знать об этой стороне жизни Мерседес, кто станет посвящать в свои леденящие тайны пигмея?.. Я готова поверить тому, что Алекс был не в курсе, да нет же, еще ничему я не верила с такой готовностью! Странно лишь, что все его бывшие покупатели дохли как мухи и их гибель счастливо прошла мимо Алекса. И всплыла только теперь. Чего стоил один mr. Тилле, глава крупного европейского концерна! Жизнь таких людей еще может протекать в тени, но их смерть всегда становится достоянием гласности. Алекс не читает газет, не смотрит телевизор?.. Вместо того чтобы думать об этом, я думаю о том, что (пусть и недолгое время) была по-настоящему увлечена им. Спаситель мира может изменить мою жизнь? наполнить ее новым смыслом? Ха-ха!..
Возня с кнопками отняла бы слишком много времени – и потому я просто срываю фотографии и газетные вырезки, одну за другой. С доской покончено теперь остались папки в поддонах, а о компьютере и сейфе можно забыть. Винчестер слишком тяжел, а сейф и вовсе неподъемен. Конечно, можно было бы напрячь Алекса: даже такой, абсолютно деморализованный, он много сильнее меня, но… С некоторых пор я смотрю на господина теоретика как на пустое место.
Папок слишком много, и в один несчастный рюкзак они не влезут. И у меня нет времени решать, какую из них взять, а какую оставить. Алекса действительно заперли.
Заперли.
Ясно, как божий день.
Его запер тот, кто был хорошо знаком с механизмом двери в потайную комнату и знал о нем много больше, чем успела узнать я. Сначала комната, а потом квартира: тот, кто запер Алекса, запер затем и квартиру. С куском жвачки на двери. С моей меткой. Он знал о ней или предполагал, что она может там находиться. Или… или следил за мной. И заперев Алекса и покинув квартиру, вернул жвачку на место, чтобы… Чтобы я ничего не заподозрила. И вошла.
Кто-то очень тихий… очень хитрый… очень опасный. И не исключено, что он стоит сейчас за входной дверью…
О, черт!
Я стараюсь держать себя в руках, но все равно срываюсь на крик.
– Принесите какой-нибудь рюкзак, Алекс! А лучше два. Их там полно! И пошевеливайтесь, у нас нет времени! Нужно убираться отсюда и побыстрее!..
Чтобы заглушить страх, я снова углубляюсь в папки, бессмысленно верчу их в руках, складываю одну на другую, где же проклятые рюкзаки?
– Алекс, вы заснули?!
Алекс, до сих пор с энтузиазмом откликавшийся на любое мое движение, на любое, брошенное вскользь слово, молчит. Проклятый идиот!
Мексиканский негодяй, как сказали бы мои питерские друзья.
Я наконец-то отрываюсь от папок и оборачиваюсь к двери. Алекс стоит в проеме, облокотившись на косяк и скрестив руки на груди. Он сосредоточен и даже слегка надменен, от недавней растерянности не осталось и следа.
Vip-персона. Спаситель мира с чертовски красивыми глазами. Точно таким я увидела его у своего автобуса, на площади перед зданием аэропорта. Метаморфоза, происшедшая с Алексом за последнюю минуту, снова заставляет колотиться сердце, казалось, навсегда успокоившееся.
– Что? – спрашиваю я у Алекса.
– Я хочу, чтобы вы мне все объяснили, Сашá.
– Я все вам объясню, только не сейчас – потом.
– Когда?
– Когда мы выберемся отсюда. Оставаться здесь опасно, неужели вы не понимаете? Погибло много людей. Мертвые на доске – еще не все. Не все!
– Мы не уйдем отсюда, пока вы все мне не объясните.
Прическа Алекса снова в идеальном состоянии, от темных пятен пота на рубахе остались одни воспоминания, жестким подбородком можно колоть орехи; нежными, почти женскими губами… нежными губами можно бредить по ночам. Под шум волн, шепот песка, крики мальчишек в футболках с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо». По полтора доллара за штуку.
– Я понимаю, происходит что-то из ряда вон. Вы говорите о смертях…
– Об убийствах.
– Об убийствах, да. Так почему бы нам прямо сейчас не вызвать полицию и спокойно ее не дождаться? Здесь есть телефон, мы могли бы позвонить. И почему… Почему вы так поспешно собираете улики? Это ведь улики, не так ли?
– Да.
– Что вы хотите с ними сделать?
Он не верит мне, и он много сильнее меня.
– Хорошо, я все объясню.
– Тогда я вызываю полицию, и, пока мы будем ее ждать, вы все расскажете.
– Мы не можем вызвать полицию! – Я неожиданно слабею и впадаю в легкое отчаяние, Алекс взял себя в руки не в самый подходящий для меня момент. Он не к месту отважен. И необъяснимо безрассуден – если будет доказано, что его партнер по бизнесу Мерседес убивала людей, то из этой истории без серьезного ущерба для репутации не выплывешь.
– Почему не можем?
– У меня проблемы с полицией. – Видя, как Алекс подается вперед, я останавливаю его взмахом руки. – Это не то, что вы думаете! Я прилетела сюда по подложным документам. Не знаю, может, они были настоящими…
– Зачем вам нужно было прилетать по подложным документам?
– Господи, Алекс… В то утро, когда вы так галантно меня покинули… В то утро на смотровой площадке форта обнаружили труп одного парня. Вы должны его помнить, он жил в нашем отеле… Фрэнки.
– Нет. Я не помню Фрэнки.
– Неважно. Так вот, в его убийстве обвинили меня.
– Вас? – Алекс удивлен, хотя и заметно меньше, чем я предполагала. – Почему?
– Потому что бритва, которой зарезали Фрэнки… На ней обнаружили мои отпечатки.
– Так вы его действительно зарезали? – И снова Алекс не выглядит особенно удивленным. – С вашим воображением, Сашá, с вашим складом характера я вполне это допускаю.
– Да нет же! Нет. Это была бритва из нашей гостиницы! Помните галерею забытых вещей? Бритва была там, в шкафу за стеклом. Вы попросили достать ее, и я достала. Помните?
– Что-то припоминаю. Бритва мне не понравилась.
– Да, да. Поэтому вы и не стали брать ее в руки. Поэтому, да?
– Скорее всего. Но при чем здесь убийство?
– При том, что я брала бритву один-единственный раз. При вас. А потом она исчезла, вы сами обратили на это мое внимание. Помните?
Я мучаю несчастного Алекса давно и прочно забытыми им подробностями, и он честно пытается вникнуть в суть проблемы, о, Алекс! Лишь временное помутнение заставило меня думать о Спасителе мира как о ничтожестве!..
– Я помню, помню, Сашá! Продолжайте.
– Это просто роковое стечение обстоятельств, которым воспользовался настоящий убийца. Когда меня допрашивали…
– Вас допрашивали?
– Еще бы! Я довольно долго просидела в каталажке… Когда меня допрашивали, я честно рассказала о вас и о бритве, вы простите.
– Вы все правильно сделали. – До сих пор так проникновенно Алекс произносил лишь одну фразу: «Секс со мной не доставит вам никакого удовольствия».
– Они должны были связаться с вами…
– Никто со мной не связывался. Иначе я бы подтвердил все ваши слова. Марокканские свиньи! Заставили вас так страдать, бросили в тюрьму… Милая моя Сашá!
– Я бы сгнила там, если бы не Доминик.
– Толстяк! Ваш друг. – Алекс щелкает пальцами. – Тот, что уничтожил свои доски из ревности! Из ревности, да? Так что же совершил ваш герой?
– Он расстался с отелем.
– Что значит – «расстался»?
– Заложил его, чтобы дать взятку полицейским. И они закрыли глаза на мой побег.
– Вы бежали?
Алекс так обстоятельно расспрашивает меня и выглядит так беспечно, как будто мы сидим не в квартире, пропахшей убийствами, а за столиком в «Ла Скала» в ожидании яичницы с беконом и брюссельской капусты. Эй, Алекс, готовь десять евро, мне есть чем тебя удивить!..
– …Да. Бежала.
– И как выглядел побег?
– Как в кино.
– Ну конечно, так я и думал. А что было потом?
– Доминик достал для меня новые документы. Возможно, купил их у тех же полицейских, которым сунул взятку. Возможно, у кого-то другого. Знаете, на чье имя были документы?
– На имя Кондолизы Райс?
Толстуха Кондолиза, официантка из утренней смены в «Ла Скала», боже мой, как давно это было! Из этого далека я не в состоянии разглядеть ни фигуры Алекса, ни своей собственной фигуры, они залиты солнцем, вечным солнцем; над ними шелестит листва, вечная листва – ничего страшного еще не случилось…
– Нет. Имя было другим. Мерседес Гарсия Торрес.
– Что?!
– Мерседес Гарсия Торрес, – медленно повторяю я. – Кажется, именно так зовут вашего замечательного партнера по бизнесу. Мерседес Торрес – уж точно.
– Откуда вы знаете?
– Табличка внизу, у парадного. Список жильцов.
Вот теперь Алекс удивлен Удивлен по-настоящему, изумлен, ошеломлен. Он даже не пытается справиться с эмоциями, он не в состоянии оседлать полезшие вверх брови, не в состоянии взнуздать округлившийся рот, его плечи и ключицы живут своей жизнью; волосы, предоставленные сами себе, встали на дыбы. Еще немного, и все части его тела распадутся на детали конструктора и рухнут к моим ногам.
– Вы меня разыгрываете, Сашá. Этого не может быть!
– Может. – Я достаю из кармана паспорт Мерседес и протягиваю его Алексу. – Вот, смотрите.
Он хватается за паспорт так, как будто от этого зависит его жизнь, он снова растерян, ну же, Алекс, не подведи меня! Отвага и безрассудство в твоем исполнении нравятся мне гораздо больше.
– Этого не может быть… не может, – то и дело повторяет он.
– Почему?..
То, что имена обоих женщин (его Мерседес и моей Мерседес) совпали – случайность. Великолепная, единственная в своем роде, граничащая с чудом. Хотя то, что совпали имена моей Мерседес и Мерседес студентика Мишеля, танцовщицы, сладкой, как яблоко, – случайность еще более великолепная. Еще более единственная. Еще более похожая на чудо. Настоящим чудом было бы то, если бы Доминик действительно достал для меня паспорт настоящей Мерседес Торрес, компаньонки Алекса. Но вот этого уж точно не может быть.
Никогда.
С какой стати Мерседес посещать Марокко? Алекс ничего не говорил мне о Марокко. В Марокко он был сам. Не Мерседес – он.
– Вот это да! – Алекс уже взял себя в руки и теперь…
теперь с его губ готов сорваться смех. Да что там – хохот! – Ваш друг толстяк…
– Доминик, – поправляю я.
– Простите. Ваш друг Доминик, сам того не зная… Втравил вас в потрясающую историю!
– Вы еще не знаете всей истории…
Алекс смотрит на меня так же, как смотрел на Мерседес почти миф Слободан Вукотич. От этого взгляда у меня ноет сердце, ни при каких обстоятельствах я бы не хотела потерять этот удивленный, потрясенный взгляд, подумаешь – Мерседес! подумаешь – паспорт на тоже имя!.. Совершенно забыв, что нам с Алексом нужно выбираться из опасной квартиры, я выкладываю ему все, что произошло со мной после бегства из Марокко. Так не похожее на бегство из Марокко самого Алекса, совершенное совсем по другой причине. И о том, как попала сюда, благодаря Слободану («Мальчишка совсем распоясался, пора его увольнять!»). О том, как узнала о существовании потайной комнаты благодаря коту Сайрусу («Обыкновенный кот открыл для вас необыкновенный мир, ну надо же!»). И о том, как благодаря картонке из-под спичек попала в кочующий бар «Cannoe Rose». И о том, как благодаря бармену не-Шону, бессменному оруженосцу секретных агентов, стала обладательницей тайны Франсуа Лаллана, офицера спецслужб. Я стараюсь поведать Алексу лишь главное, опуская мелочи. Так, в число мелочей попадает рыжая Ширли, хотя киноповесть о Ширли наверняка вызвала бы у Алекса восторг.
Я расскажу ему о Ширли потом, когда мы будем в безопасности и когда… Лучше не думать о том, что случится, когда мы с Алексом будем в безопасности. Лучше не расслабляться.
– Значит, парень, которого убили в Марокко, а тот Фрэнки… Был офицером спецслужб? – сосредоточенно спрашивает Алекс.
– Да.
– И он отправился в Марокко один?
– Нет, у него была помощница. Мне ничего не удалось узнать о ней. Но, кажется, они действовали автономно.
– Автономно?
– Никого не ставя в известность. На свой страх и риск. Так сказал не-Шон.
– Бармен в кабаке?
– Да. Он и передал мне документы Фрэнки.
– Они при вас?
– Да.
– Потрясающая, удивительная история… Я поверить не могу!
– Что же говорить обо мне, Алекс?
– Потрясающая история, потрясающая вы…
Еще мгновение назад Алекс стоял в полуметре от меня, теперь я оказываюсь в его объятьях.
– Черный цвет вам идет, Сашá, – шепчет мне Алекс. – И эта стрижка. И этот город. И это имя. И этот мир… Он очень вам клипу. Вы… Вы позволите поцеловать вас?
Ответа на риторический вопрос не требуется. Губы Алекса касаются моих, и я снова оказываюсь на заснеженной вершине, едва не задохнувшаяся от разреженного воздуха, ослепленная, дрожащая и полная торжества.
– Теперь нам и правда пора уходить. – Алекс первым приходит в себя. – Сейчас я принесу рюкзаки… Мы выйдем отсюда и отправимся ко мне.
– К вам?
– Зачем вам возвращаться в гостиницу? Остановитесь у меня. Вместе мы разберем бумаги, а потом…
– Что будет потом? – с замиранием сердца спрашиваю я.
– Потом будем решать, как вытащить вас из подполья. Не думаю, что это будет так уж сложно, у меня есть друзья в полиции, довольно высокие чины. Их наверняка заинтересуют материалы, которые вам удалось добыть. Нет, это просто потрясающе! То, что с вами произошло. – Алекс никак не может успокоиться. – Вы умница, Сашá…
Вдвоем мы быстро справляемся с бумагами и рюкзаками. И прежде, чем покинуть потайную комнату навсегда, я кладу в рюкзак, поверх папок, один из оптических прицелов и оба пистолета. Неизвестно, куда подевался третий, – тот, который Алекс вертел в руках совсем недавно. Но и двух будет вполне достаточно.
– Зачем вам это, Сашá? – удивляется Алекс.
– На всякий случай. Может быть, на них остались отпечатки…
– Мерседес?
– Не обязательно Мерседес. Ведь кто-то закрыл вас здесь.
– Да, об этом я как-то не подумал… Нам все еще угрожает опасность… – в голосе Алекса слышна ирония. Или это мне просто кажется?
– Она может находиться прямо за входной дверью…
– Проверить это достаточно легко.
Алекс взваливает на спину оба рюкзака, я ограничиваюсь своим, и мы перемещаемся в зал: Спаситель чуть впереди, я – чуть сзади, как и положено доверившейся Спасителю. От двери, за которой ждет спасение, нас отделяет несколько метров и несколько секунд.
– А что произошло с Мерседес? С настоящей Мерседес? – спрашиваю я.
Покачивающиеся за спиной Алекса рюкзаки замирают.
– Я не знаю. Пришло сообщение о ее гибели, вот и все.
– А где она погибла?
– Вроде бы где-то в Македонии. Маленький городишко рядом с албанской границей. Подробностей пока нет и документального подтверждения ее гибели тоже. Но знаете, – Алекс оборачивается ко мне. – Лучше бы она погибла. Потому что если она не погибла… И все, что мы видели на стенах, – правда… Я больше не хотел бы встретиться с ней лицом клипу. Мерседес – это Мерседес.
В голосе Спасителя мира звучат нотки невольного восхищения, существующего независимо от нас, но являющегося постоянным спутником разговоров о Мерседес. Так же думаю о Мерседес и я, и в этом мы с Алексом похожи.
Мерседес – это Мерседес.
…Тишину мертвой, пустой квартиры взрывает трель звонка. Звонят в дверь: настойчиво, долго, без перерывов. Так может звонить сосед снизу, в случае если его затопило или прорвало трубу между этажами. Так может звонить Ширли, так она и звонила в то время, когда я пялилась на монитор в прихожей, прокручивая пленку, полную визитов из прошлого. Алексу неизвестны тонкости местной жизни, я же (хоть и совсем немного) посвящена в них. Но все равно вздрагиваю и хватаю Алекса за руку.
– Кто это может быть? – спрашиваю я шепотом.
– Уж точно не Мерседес. Она бы открыла дверь ключом. Или подождала бы нас снаружи. Но звонить в собственную квартиру она бы не стала. Это противоречит логике.
Это противоречит логике, тут Алекс прав. Звонок можно расценивать как предупреждение об опасности, а тот, кто сам опасен, никогда не будет предупреждать об опасности других. Тем более врагов, готовых его разоблачить.
– Смотрите, Сашá! – Алекс указывает на монитор, но я и без того уже вижу, что происходит за дверью. Кто стоит за ней.
Женщина.
Но не Мерседес, какой я представляла ее себе все это время. И не Ширли, что было бы настоящим спасением, что сразу бы перевело нашу с Алексом историю из разряда триллера в разряд водевиля. Очки, закрывающие пол-лица, крупные кольца волос, прямые, почти мужские плечи.
– Вы знаете эту женщину, Алекс?
– Впервые вижу.
– Это не Мерседес?
– Конечно же нет! Не смешите! А вы знаете ее, Сашá?
– Я видела эту бедняжку…
– Почему бедняжку?
– Когда я поднималась сюда, мы вместе ехали в лифте.
– Лифт уже пустили? – Алекс не предпринимает никаких активных действий, ограничившись внимательным разглядыванием женщины на мониторе. – А я поднимался сюда пешком. Отвратительная лестница! С Мерседес она несовместима.
Проклятье, он все еще не может избавиться от призрака великой испанки из Нюрнберга! Или не Нюрнберга, из Каталонии, неважно. Из Лондона, Нью-Йорка, с Тимбукту, с Луны. Откуда бы ни вышла Мерседес, даже из чрева кита, даже из могилы, кишащей червями, – ничто не может умалить ее бесстрастного величия.
– Мы вместе ехали в лифте и успели немного поболтать. Она вышла этажом ниже. Тогда я и подумала про нее – бедняжка. Не слишком красива…
– Отчего же, – равнодушно перебивает меня Алекс. – Она мила. Обыкновенная милая замарашка. Сидит за кассой в магазине или что-то вроде того. Что ей нужно?
– Понятия не имею.
– Может, имеет смысл открыть?
– Может быть.
– Тогда открывайте. Вы ведь уже виделись, а значит – почти знакомы. Скажете, что уходите по делам.
– Глубокой ночью?
– Какая разница? Если вас это смущает, скажите, что отправляетесь в ночной клуб. А лишний человек нам не помешает. Убрать нас при свидетеле будет затруднительнее, чем убрать нас просто так. Вы ведь об этом все время думаете?
– Да, – нехотя сознаюсь я.
– Вот и отлично. Покинем это место большой компанией. Открывайте, Сашá!..
Я подчиняюсь, тем более что ничего необычного в просьбе Алекса нет. На то, чтобы распахнуть дверь, уходит доля секунды.
– Доброй ночи, – произносит женщина, и в то же мгновение я чувствую, как что-то холодное упирается мне в спину. – Доброй ночи, Сашá.
– Откуда вы… знаете мое имя? – Штырь в спине беспокоит меня гораздо больше, чем волчья улыбка женщины. Чем то, что она назвала меня по имени.
На ней все тот же газовый шарф, тот же пиджак пастельных тонов, та же блузка. Но теперь они не кажутся мне органичными, они достались женщине явно с чужого плеча, как я не заметила этого раньше? Как я не заметила, что в ней есть что-то неестественное? Неправильное, непропорциональное?
– Ваше имя! Еще бы его не знать. – Она по-прежнему скалится, тесня меня в квартиру. – Оно доставило нам много неприятностей, ваше имя! Вернее, даже оба имени – старое и новое.
И, оттеснив на приличное расстояние, захлопывает дверь.
– Доброй ночи! Или лучше сказать – салуд, маравильоса?
– Не делайте глупостей, Сашá! – слышу я над своим ухом прерывающийся и почти нежный шепот Алекса. – Иначе мне придется пристрелить вас прямо сейчас. Вы ведь не хотите отправиться на тот свет раньше времени?
Ослепительно белой вершины, на которую я поднималась столько раз, больше не существует. Она разрушена, каменные глыбы срываются с высоты и падают, падают, падают, погребая меня под собой. Острая физическая боль и опустошенность – вот и все, что я испытываю.
– Что происходит, Алекс? – жалобно спрашиваю я.
прекрасно понимая, что ничего хорошего не происходит. А дальше будет только хуже.
Я поворачиваюсь и наконец-то вижу его. Vip-персону, знаменитого галериста и теоретика современного искусства. Advice-giver. Спасителя мира с чертовски красивыми глазами. Его глаза красивы и сейчас. Сейчас – еще более чем когда либо раньше. Они полны умиротворения. Покоя. Радости от хорошо проделанной работы. Плечи Алекса больше не отягощены рюкзаками, а в руке поблескивает пистолет.
– Думаю, нам стоит присесть. Пойдемте в комнату, Сашá. Еще никто не предлагал мне присесть под дулом пистолета.
– Так он заряжен? – задаю я наивный вопрос только для того, чтобы оттянуть наступление необратимого.
– Хотите проверить?
– Нет.
– Кто это? – Я киваю в сторону черноволосой фурии, сопровождающей нас в зал. – Мерседес?
– Не совсем. Хотя этот человек тоже вам знаком.
Не выпуская меня из поля зрения, Алекс говорит женщине тоном, больше похожим на приказ:
– Пойди, переоденься.
– О'кей. До смерти надоели эти тряпки…
Она ведет себя так, как будто бывала в этой квартире неоднократно. Она безошибочно находит путь в спальню и скрывается за ее дверями.
– Присаживайтесь, Сашá.
Алекс добродушно похлопывает по спинке кресла, приглашая меня присесть. Если бы не пистолет, все выглядело бы обыкновенным полудомашним флиртом, Une Femme50 в гостях у Un Homme51, что может быть непритязательнее? Дождавшись, когда я опущусь в кресло, Алекс садится на диван, все так же поигрывая подслеповатым пистолетным дулом.
– У вас наверняка множество вопросов?
– Что-то типа того. – Губы не слушаются меня, мысли разбегаются.
– Вы можете задать любой. И обещаю, получите исчерпывающий ответ. Вы это заслужили. Вы заслужили правду. И узнаете ее прежде, чем…
– Прежде чем умру?
– Вы и правда умница. Начнем?
– Что такое капоэйра? – Неужели с моих слетело именно это? Так и есть! Я как будто вижу себя со стороны – обездвиженную, заиндевевшую, притихшую в ожидании необратимого. Оттянуть его надолго не удастся.
Алекс смеется. Хохочет. Его позабавил мой вопрос, но он готов ответить.
– Почему вы спрашиваете об этом?
– Плакат на стене. Он давно не давал мне покоя.
– Не могу сказать точно, но капоэйра – это один из видов боевого искусства. Кажется, бразильского. Они совместили его с танцем. Они это умеют.
Танец. Самба, румба, пасадобль. Прекрасная, как яблоко, Мерседес, была танцовщицей. Но это другая Мерседес…
– А ваша компаньонка Мерседес… Она действительно умерла?
– Моей компаньонки Мерседес никогда не существовало. У меня есть помощники. Есть сотрудники. Есть заказчики. Если бы я назвал вам хотя бы одно из имен, вы бы безмерно удивились. Но свой бизнес я привык делать один. Разрабатывать и приводить в исполнение планы. Меня это увлекает.
– Манипуляции меньшинством, которое манипулирует большинством?
– Я не манипулирую меньшинством, которое манипулирует большинством. Я его отстреливаю.
Голос Алекса, спокойный, лишенный всяких интонаций, доносится до меня как сквозь слой песка, как сквозь толщу воды. Разбитые песочные часы Мерседес, разбитая клепсидра Мерседес – их осколки все еще со мной. Хотя Алекс Гринблат утверждает, что Мерседес никогда не существовало.
Но как?..
– Что значит Мерседес не существовало? А эта квартира? Табличка внизу?
– Табличку легко заменить, что мы и проделали.
– Тогда кому она принадлежит?
– Франсуа Пеллетье. Или Франсуа Лаллану, уж как хотите.
Не хочу. Я больше ничего не хочу. Умереть было бы прекрасным выходом – почему медлит Алекс? На то, чтобы спустить курок, много времени не потребуется. И я обрету покой – такой же, какой разлит сейчас в глазах Алекса. Я думала, подобное переживают после любви. После крушения любви. Но я ошибалась.
– Что-то вы совсем расклеились, Сашá. – Голос Алекса участлив до приторности.
– Ella en la mierda!52 – слышится реплика из спальни. А следом за ней появляется Слободан. Без мальчишеского пуха на щеках, но серьги, рваные джинсы и майка с надписью «Рональдиньо» на месте. И уйма дурацких браслетов на запястьях, и уйма дурацких дешевых бус. Слободан по-прежнему темноволос и светлокож, с глазами, из которых так и тянет своровать морскую звезду. И слишком яркими губами, уксусом такие не пригасишь.
Я не удивлена. У меня нет сил удивляться. Я лишь спрашиваю:
– Что он сказал?
– Он сказал – вы в полном дерьме, – с готовностью переводит Алекс.
– Он знает испанский?
– Он знает и много всего другого. Так много, что иногда я думаю, а не пристрелить ли его?
– И останешься без лучшего в этой части света киллера. – Слободан позволяет себе снисходительную улыбку.
– Только это меня и останавливает.
– Киллер, конечно же, – эхом повторяю я. – Он выбивает дырку в монете с расстояния в сто шагов. И еще разбирается в охранных системах. И еще он хороший математик.
– Все верно, – подтверждает Алекс. – И еще он страшный негодяй. Скольких придурков ты уже порешил, мой мальчик?
– По-моему, учет ведешь ты. – Они перебрасываются словами как шариками для пинг-понга, и я не нахожу возможности, чтобы снова вклиниться в разговор.
– И разрабатываю операции тоже. – Отвратительно самодовольный подбородок Алекса вздергивается вверх. – Хотите, расскажу вам, чем мы промышляем, Сашá?
– Не хочу.
– Хотите, хотите. Я ведь и правда занимаюсь современным искусством, для этого у меня существует несколько галерей, они разбросаны по всему миру. И штат аналитиков.
– Тунеядцев! Настоящих отбросов! Падальщиков. – Слободан никак не хочет уняться. – Давно пора сократить этот хренов раздутый штат.
– Не падальщиков, а аналитиков, друг мой. И тебе, неучу, лучше помолчать. Они консультируют меня, а я консультирую сильных мира сего. Тех, кто хочет приобрести то или иное произведение. Я – респектабельный член общества, я вхож во многие дома. И некоторые из этих домов знаю досконально. И знаю привычки этих домов. И привычки тех, кто в них живет. И то, как они перемещаются в пространстве. И то, где они любят проводить свободное время, которого у них навалом. Это помогает потом, когда…
– Когда некоторых из сильных мира сего необходимо убрать, – вырывается у меня. – По заказу конкурентов. Или просто так.
– По заказу конкурентов исключительно. А просто так – в самых крайних случаях, когда речь идет о больших деньгах, которые не мешало бы переложить в свой карман. Но этим я не злоупотребляю, разве что когда приз очень уж соблазнителен. А так мне вполне хватает средств на существование. Я же говорил тебе, она настоящая умница! – Алекс едва ли не аплодирует мне. – Все правильно, Сашá. Но грязную работу делаю не я, а этот грязный серб.
– Грязным сербам – грязную работу, – присоединяется к сдержанному веселью босса Слободан.
– Все обстоит великолепно, правда, мой мальчик?
– Все обстоит замечательно!
– Дело поставлено на широкую ногу, механизм давно отлажен, а моя дневная сторона никогда не сталкивается с ночной. Так и было до недавнего времени. – Алекс становится серьезным. – Пока не появился этот выскочка из спецслужб.
– Фрэнки. – Воспоминание о Фрэнки разрывает мне сердце.
– Именно. Его даже в своей конторе считали полусумасшедшим романтиком. Отстранили от нескольких дел за недетское рвение и излишнюю впечатлительность. А потом и вовсе выкинули с работы.
– Откуда вы знаете?
– Я же говорил, Сашá! У меня много высокопоставленных друзей в полиции и не только. Так вот с некоторых пор этот недоумок стал вертеться вокруг меня. Все из-за одного дела, которое проходило через его руки. Что-то там было такое… Легкая зацепка. Намек на одну из моих галерей. Вот он за нее и ухватился, щенок.
– Вы были знакомы с ним?
Лестница в отеле. Я и Алекс, стоящие на площадке рядом со стеклянным шкафчиком. И Фрэнки, идущий по коридору с доской для серфинга на плече. Фрэнки облачен в водонепроницаемый костюм, черный, с фиолетовым отливом; волосы Фрэнки обильно смочены гелем и зачесаны назад. Узкие очки на лбу и широкие квадратные часы на запястье завершают картину.
У Фрэнки отличная фигура.
Что сказал Фрэнки? – «"Ла Скала". Я бы рекомендовал вам "Ла Скала". Симпатичный ресторанчик, и кухня неплохая. Не знаю, что вам предложат поутру, но вечером я остался доволен».
Что ответил ему Алекс? Ничего. Он только спросил у меня: «Это ваш знакомый?..»
– Мы никогда не были знакомы. Никогда не были представлены друг другу, мы ведь вращаемся в совершенно разных кругах. А выцепить меня по долгу службы этому щенку не удалось. Но он, конечно, знал меня в лицо. Хотя не имел понятия, что я тоже знаю его…
– Это его погубило? – спрашиваю я, делая ударение на «это».
– Вряд ли.
– Его погубила девка. – Слободан так неожиданно вклинивается в разговор, что я вздрагиваю. – Дура, в которую он имел неосторожность втюриться.
– Не стоит так, мальчик. – Алекс примирительно похлопывает рукоятью пистолета по колену. – Дурой она не была. Просто беспечной девушкой, какими и положено быть девушкам. Ей было далеко до вас, Сашá. Но если бы на ее месте оказались вы – возможно, щенок Фрэнки был бы до сих пор жив. А мы бы угодили за решетку.
– Жаль, что этого не произошло. – Даже в преддверии скорого конца я не могу удержаться от злой иронии. – Я бы с удовольствием полюбовалась вашим лицом, располосованным тюремной клеткой.
– К счастью, все случилось по-другому и вам пришлось любоваться располосованным горлом самонадеянного идиота, не помню уж, в каком чине он пребывал.
– Та еще была картина, – подхватывает Слободан. – Получилось красиво, хотя и пришлось повозиться.
– Так это ты убил его?
Напрочь забыв об Алексе, я поворачиваюсь в сторону серба. Яркие порочные губы, яркие порочные глаза, и как только я могла видеть в них морские звезды? Тина, гниющие рыбьи потроха, ржавые жестянки, разложившиеся моллюски – вот и весь улов, который можно поднять со дна его зрачков.
– Ты удивлена? – Волчья улыбка, так хорошо мне знакомая, снова сияет на лице серба. – Это было непросто – перерезать ему горло. Мне пришлось держаться за лезвие, чтобы не потревожить твои пальчики.
– Ты забежал вперед, Слободан, – мягко укоряет своего пса Алекс. – Нашей гостье, наверное, хочется выслушать всю историю целиком?
– Гостье? Разве вы здесь хозяева?
– Запомнили, что я говорил вам о квартире? Вы все-таки умница, Сашá. Эту квартиру снимал Франсуа, а потом к нему переехала его девушка. Кстати, ее и звали Мерседес Гарсия Торрес. Испанка из Нюрнберга. Ничего выдающегося, поверьте. Смазливая мордашка, не более.
Третья Мерседес. Третью мне не осилить, не потянуть. Для того чтобы представить ее и ее жизнь с Фрэнки, необходимо время, которого нет. Теперь я понимаю это отчетливо:
нет. нет. нет.
– Она была большой любительницей шмоток, хотя и со степенью бакалавра, полученной в каком-то заштатном университете, у Слободана нет и этого. Обожала розыгрыши, обожала переодевания, обожала путешествия. Бедолага Фрэнки, ему, наверное, приходилось несладко с такой подружкой.
– Откуда вы знаете?
– Несколько месяцев назад Слободан въехал в квартиру ниже этажом…
– Квартиру? – Слободан с негодованием хлопает себя по ляжке. – Ты называешь квартирой эту дыру? Этот клоповник?
– Он переехал сюда и почти сразу подружился с этой маленькой дурочкой Мерседес. Но настоящим дураком оказался сам Фрэнки, который посвятил подружку в свои дела. Не во все, конечно, в какую-то их часть…
– И она все рассказала вашему ублюдку?
Я разочарована. Третья Мерседес оказалась самой худшей.
– Нет, конечно. Но она усиленно намекала, что ее парень выполняет какое-то важное секретное задание и что они собираются отбыть по этому поводу в Марокко. Я тоже собирался в Марокко… Не к вам, Сашá…
– Не сомневаюсь. Все ваши разговоры о моем письме, которое так вас заинтересовало, – настоящая липа.
– Скажем, художественное преувеличение. Так вот, я собирался в Марокко, на одну из сделок с далеко идущими последствиями, и уже знал, что он пытается следить за мной. Ведь мои люди тоже следили за ним.
Наблюдающие за наблюдателями – так, кажется, называлась одна из книг, менее интересная, чем никогда не читанная мною «Из Африки», наблюдающие за наблюдателями – это почти манипуляция меньшинством, которое манипулирует большинством.
– Нетрудно было сложить два и два, как вы думаете?
– А у нее всегда получается пять, – тут же сдает меня Слободан.
– Это ничего не меняет. Вам интересно, Сашá?
– Нет.
– Тогда я позволю себе продолжить. Сделку, которую я готовил, пришлось отложить, хотя для этого моим человеком был специально куплен дом в Эс-Суэйре. Чудесный городишко, кстати…
– Ваш человек – дядюшка Иса?
– О, я вижу вы успели подружиться. Он рассказывал мне, что остался доволен общением с вами. Но мы отвлеклись. Я отложил сделку и сосредоточился на этом щенке. Он мешал мне, понимаете? Был как бельмо в глазу, как гвоздь в ботинке…
Представить Алекса с гвоздем, торчащим в ботинке за полторы тысячи долларов, я не в состоянии.
– Все вышло замечательно. Вдохновение меня не покидало, оттого и план сложился быстро. А тут еще вы, Сашá. Я ведь очень понравился вам.
– Не очень.
– Бросьте. Вы сразу влюбились. А влюбленных женщин легко просчитать. Вы не исключение, какой бы умной ни казались. Да, я попросил вас достать бритву специально. И сам не взял ее в руки тоже специально. Я вытащил ее из шкафа, когда вы отправились разбираться с толстяком по поводу досок и затем, в подходящий момент, передал Слободану. И не явился на свидание с вами. Тогда вы отправились на свидание сама. Вам важно было подцепить какого-нибудь парня. Любого. Вы слишком много рассказали мне о себе, Сашá. Слишком. И то, что вас бросил ваш предыдущий любовник, и то, что вы боитесь темноты и совершенно теряетесь в ней… Положительно, вас надо было выдумать. Второе предательство со стороны мужчины – это слишком, вот вы и оказались в этом ресторанчике. Там, где мы завтракали. И где отирался Фрэнки.
– Он мог не подойти ко мне.
– Не мог. Он поссорился со своей дурочкой. В целях дешевой конспирации они поселились в разных гостиницах и встретились днем. Чтобы расплеваться окончательно. Она сказала, что уходит к другому, несмотря на то, что ее теперь уже бывший бойфренд озабочен секретным правительственным заданием.
– К кому – к другому? – тупо спрашиваю я.
– Не догадываетесь? – Алекс кивает в сторону серба. – К нему.
– Ко мне, – подтверждает тот. – Романтическая поездка в Марокко с девушкой, что может быть прекраснее?
Я не могу сосредоточиться, переводя взгляд с одного на другое отталкивающее, омерзительное лицо.
– Она еще появилась вечером в «Ла Скала» – Мерседес. И даже лихо отплясывала там с какими-то французами… А потом ушла. Оставив ищейку-неудачника в полном одиночестве.
DANGEROUSLY!
INFLAMMABLE!
EXPLOSIVE!
Барбарелла-Эммануэль, так напомнившая мне прекрасную цыганку-танцовщицу; Барбарелла, отбрившая Жюля; Эммануэль, в упор не замечавшая Джима. Я завидовала ей ровно две минуты: ее умению обходиться без сумочки для коктейля, умению носить в ушах всякую дрянь с таким шиком, как будто это бриллианты.
Вот кем была третья Мерседес. Настоящая и единственная.
– …Фрэнки не был в одиночестве.
– О, да! Он был с вами. Он приехал в Марокко, чтобы следить за мной, а оказался в обществе русской… Нужно отдать ему должное – интуиция его не подводила, и он чувствовал, что кольцо вокруг него, такого смелого, такого отчаянного, сжимается. Он чувствовал, что совершил ошибку, отправившись сюда один и положившись на любовницу. А тут возникли вы. Возможно, он надеялся, что вы… Хоть вы поможете ему, а вы привели его прямиком к месту казни…
– Это была случайность.
– Конечно. Вы могли выбрать любое другое место. Но почему-то слишком долго нахваливали старый форт. Не его любовница, а вы погубили его, Сашá.
– Нет.
– Да. Слободану хватило времени, чтобы перерезать провода в распределительной коробке у форта и спрятаться наверху с бритвой и прибором ночного видения…
– Он не мог сделать это один… – Я обращаюсь напрямую к Алексу, как будто Слободана вовсе нет в комнате.
– Конечно, нет. Вас с недоумком вело несколько человек, которых вы даже не видели. А если видели, то никогда о них не вспомните. Но наверху мой мальчик был один. И все сделал сам.
– А потом укрылся в доме на углу?
– Верно. И чтобы вы не проклинали несчастную Мерседес… Она ведь ненамного пережила своего припадочного романтика.
– На два часа. – Слободан оказывается прямо передо мной и присаживается на корточки. И смотрит на меня суженными мертвыми глазами серийного убийцы. – Я прикончил ее, не выпуская из объятий. В ту ночь она трахалась особенно хорошо.
– Не нужно этих сальных подробностей, Слободан. – Алекс морщится. – Видишь, нашей гостье не нравится то что ты говоришь…
Я с удовольствием бы плюнула сербу в лицо, но не могу разжать губ. И лишь с трудом выдавливаю из себя:
– Пошел ты!..
– Не надо так нервничать, – даже сейчас Алекс хочет быть миротворцем. – Остальное вы знаете, Сашá. И, честно говоря, я не надеялся больше вас увидеть. Ваш побег – это чудо. А ваш друг толстяк – настоящая находка. Жаль, что у щенка Франсуа не оказалось такого друга. И жаль, что вы не успели стать ему таким другом. А вы могли бы… Если бы у вас было чуть больше времени… Но у вас его нет.
– Нет. Зачем тогда было все это представление? Зачем этот подонок навязал мне встречу и зачем вы… корчили из себя черт знает что, сидя в той комнате?
– В комнате, которую дурачок использовал для работы? Все собранные вами бумаги не имеют ни малейшей ценности. Это бумаги недоумка, он имел склонность к макулатуре. И к систематизации проделанной работы. Фотографии, возможно, имеют ценность, но их больше нет, правда? Винтовки и аппаратуру принес Слободан, так сказать, для большей убедительности. Для эффектной картинки. Но он унесет их обратно к себе, как только все будет кончено.
– И телевизор из прихожей?
– И его.
– Я не собираюсь там больше оставаться, – глухо рычит серб.
– Тебе придется там остаться еще на несколько дней. – В голосе Алекса появляются металлические нотки. – Сейф, кстати, тоже пуст. А в компьютере, который вы с таким пылом пытались вскрыть, нет ничего, кроме компьютерных игр. Это компьютер подружки недоумка.
– Мерче-маравильоса, – почти напеваю я, раскачиваясь.
– Мерче – сокращенное от Мерседес. А маравильоса… Что скажешь, Слободан?
– Великолепная. – Слободан произносит это, осторожно отделяя один слог от другого. – Эта сучка была шикарной любовницей. Так что все соответствует истине. Надеюсь, моя машина тебе понравилась.
– Зачем был нужен этот спектакль? – я пропускаю замечание серба мимо ушей.
– Зачем? – переспрашивает Алекс. – Вы появились в Париже, хотя должны были сидеть в марокканской тюрьме. Иса сообщил нам, что вы бежали, у него есть свои осведомители. И потом, когда вы позвонили, то назвались Мерседес. Это было странно, этого я не ожидал. Мне нужно было услышать историю вашего чудесного спасения из первых рук. Насколько оно было случайным. И не стоит ли за одинокой русской кто-то еще. Вот вы ее мне и рассказали. Всю. Без лишних подробностей, но подробности всегда можно домыслить. Эта история похожа на правду, Слободан?
– Слишком невероятна, чтобы быть ложью. Такого не придумаешь.
Лапы грязного серба тянутся ко мне и срывают с шеи медальон. Продолговатый и тонкий серебряный брусок с иероглифами. Сегодня днем он сам повесил его на меня: подарок от юноши из боснийского Сараева, потерявшего старшего брата-художника, навсегда искалеченного этническими междоусобицами.
Это, скорее всего, неправда. И не было никакого брата. Сараево, возможно, и было, но что там делал этот серб – неизвестно.
Убивал. Он убивал. И убивает до сих пор. И не может остановиться.
– Диктофон, – объясняет Слободан, постукивая пальцем по обратной стороне медальона. – Вмонтирован прямо в металл, а звук поступает через отверстия-иероглифы. Незаменимая штука. И очень полезная.
– Запись идет и сейчас. – Мы говорим так долго, что Алекс заметно выдохся и погрустнел. – Аппаратура стоит у Слободана внизу. Я не стану стирать эту запись. Она будет напоминать мне о вас, Сашá. И еще паспорт. Он настоящий и принадлежал той самой неистовой шлюшке Мерседес. Должно быть, ваш друг купил его у продажных полицейских, на которых повесили бесперспективное дело испанки из Нюрнберга. Коррупция когда-нибудь обязательно разрушит мио, нуда бог с ней, если она способна творить такие чудеса. Ведь ваша история – чудо, Сашá. Разве нет? Я молчу.
– Только оно вас не спасет. К сожалению. Рано или поздно полоса удачи заканчивается. И это время для вас наступило.
Я молчу.
– Мне будет не хватать вас. Но и оставить вас в живых я не могу. Вы сразу же сдадите меня с потрохами. Разве нет?
Я молчу.
– Значит, я прав. Что ж, прощайте, удивительная русская. Дело есть дело. Ничего личного. Ты сделаешь все как нужно, Слободан?
– Конечно…
Алекс поднимается и бросает на меня прощальный взгляд. Чертовски красивых глаз больше не существует. А через несколько мгновений перестану существовать и я. Сашá Вяземски. Русская Сашá Вяземская, пробывшая в роли испанки Мерседес Гарсия Торрес всего лишь сутки. Страха я не чувствую – лишь громадную усталость и тупое желание покончить со всем прямо сейчас. Все, что случилось со мной после любви, сделало меня иной, но совсем не сделало счастливой. Кто знает, может быть, в том, что я присоединюсь к Фрэнки и еще многим, жившим когда-то, и будет заключаться настоящее счастье? Кто знает… Единственные, о ком я буду скучать, – это Доминик и Эс-Суэйра. Но о них я подумаю позже. На небесах. Или в аду. Какая разница, где думать о том, к чему ты привязана?
Главное – думать.
И в тот момент, когда я уже готова принять пулю в голову, раздается взрыв. В своих мечтах о Марракеше, Касабланке, Рабате – разве ты мог представить что-нибудь подобное, Доминик?..
***
…Самолет из Марракеша задерживается.
Я никогда не видела человека из полицейского департамента, который должен привезти мне мои настоящие документы, но зато его хорошо знает не-Шон. Когда-то бармен «Cannoe Rose» оказал ему услугу: из тех услуг, что он время от времени оказывал секретным агентам самых разнообразных спецслужб, которыми наводнен бар-кочевник. Несколько последних дней мы почти не расстаемся с не-Шоном, это ему я обязана своим чудесным спасением. Ему и своему вопросу, заданному в тот первый вечер: как относился ко мне Франсуа?
Если бы я действительно была девушкой, которая помогала Фрэнки на последнем задании, – этот вопрос никогда не был бы задан. Потому что Фрэнки любил Мерседес, и бармен знал об этом. А я – нет. Тогда еще нет. Не-Шон отдал мне конверт в точном соответствии с инструкциями Фрэнки, но заданный мной вопрос занозой сидел в сердце, мешая сказать самому себе: ты все сделал правильно, старик! Потому он и отправился следом за мной, в дом Франсуа Лаллана, по ходу связавшись со своими друзьями из секретных служб. Не для того, чтобы изобличить меня, а для того, чтобы подстраховать горячую, порывистую, неопытную – ту, которая осталась единственной памятью о его молодом друге Франсуа. Не знаю, как не-Шон заставил их приехать, но парни из секретной службы подоспели вовремя. И только поэтому я жива.
А Алекс Гринблат и Слободан скорее всего умрут. И еще нескольким десяткам подручных Алекса придется несладко.
Я стараюсь не думать о них, хотя это практически невозможно: их фотографиями украшены первые полосы газет, по улице нельзя ступить и шагу, чтобы не наткнуться на чертовски красивые глаза. Аудиозапись, которую вел Слободан в квартире этажом ниже, скорее всего, будет одним из главных доказательств на процессе. Наряду с материалами, которые собрал Франсуа Лаллан.
Фрэнки.
Меня, скорее всего, тоже вызовут на процесс в качестве свидетеля, но до этого еще далеко.
А пока я собираюсь вернуться в Эс-Суэйру. Вернуться навсегда. Вернуться к Доминику, Ясину, Наби и Джуме, Джамилю и Джамалю, Хасану и Хакиму, Фатиме и Сальме, если она еще не уехала в Касабланку, где в кафе «У Рика» ее ждет Ума Турман.
– Ты все-таки решила лететь, безумная русская? – спрашивает у меня облокотившийся на поручни не-Шон. – Ты могла бы остаться здесь. И мы бы вместе поработали. Мы стали бы отличной командой.
– У меня нет вида на жительство.
– Думаю, это не очень большая проблема… Учитывая то, что ты сделала для благословенной Франции. Я могу уладить все формальности.
– Не стоит. Я возвращаюсь домой. В Эс-Суэйру. Не хочешь составить мне компанию? Марокко – прекрасная страна.
– Все может быть. – Не-Шон всматривается вдаль, туда, где то и дело взлетают и приземляются самолеты.
Все может быть.
Не-Шон никогда не покидал Парижа. Париж – смысл его жизни, так же как Эс-Суэйра – смысл моей. А каждый должен находится там, где смыслы его жизни, сверкая и переливаясь, накатываются один на другой, как волны на песок. Я не увижу не-Шона в Эс-Суэйре и поэтому мне немного грустно.
Самую малость.
– Как же монета оказалась у тебя?
– Доминик сказал мне – она лежала в паспорте той испанки. – С некоторых пор я избегаю имени Мерседес. – Паспорт он купил у полицейских. И когда я попросила его принести одну вещь от одного человека… Он и принес эту монету, потому что того человека не оказалось на месте. А Доминику не хотелось расстраивать меня. Он очень нежен со мной, Доминик.
– Ты не можешь дать ее мне?
– Конечно.
Все эти дни я ждала вопроса о монете, поэтому она сразу возникает в моей руке.
– Когда-то я подарил ее Франсуа. – Не-Шон подбрасывает монету на ладони. – А теперь она снова вернулась ко мне. Жаль, что у вас не было времени узнать друг друга получше. Вы были бы отличной командой.
«Отличная команда» – рефрен сегодняшнего дня.
– Приезжай ко мне в Эс-Суэйру.
– Может быть.
Я все еще зову с собой не-Шона прекрасно зная, что он никуда не полетит. Да и сама я не знаю, что будет со мной в Эс-Суэйре. Отель заложен, и Доминику с трудом удалось избежать ареста за подкуп должностных лиц. Очевидно, без знакомств не-Шона в полицейском департаменте не обошлось. Но все это – неважно. Важно лишь возвращение домой.
Я закрываю глаза, и прямо передо мной возникает сине-белая Эс-Суэйра, и длинная ленивая полоска пляжа, и выточенные из жести фигуры серферов на волнах, и воздушные змеи в небе и мальчишки, играющие в футбол. Стать Рональде, стать Рональдиньо – не такая уж это запредельная мечта.
Все должно получиться. Все.
1
Прелестной маленькой старушкой (фр.).
2
Любовь (фр.).
3
Дерьмо (фр.).
4
Свободные места (англ.).
5
Мужчина и женщина (фр.).
6
«Однажды придет моя принцесса» (англ.).
7
Средиземноморская кухня (фр.).
8
Портативная (фр.).
9
Опасно! Огнеопасно! Взрывчатое вещество! (англ.)
10
Удивительно! (фр.)
11
«Рожденный быть свободным» (англ.).
12
Антикварная лавка (фр.).
13
Выставки, аукционы, галереи, современное искусство. Консультант (англ.).
14
Счастливого пути! (фр.)
15
Жандарм (фр.).
16
Тунец (фр.).
17
Все, что захочешь (фр.).
18
Блондинку (фр.).
19
Радикальная (фр.).
20
Незаменимый олень (англ.).
21
Река Мерседес (фр.),
22
Елисейские поля (фр.).
23
Церковь Инвалидов (фр.).
24
Литературных (фр.)
25
Шикарный любовник (фр.).
26
Свободный художник (фр.).
27
Карий (нем.).
28
Для всех стран.
29
Извините (фр.).
30
Никогда (фр.).
31
Книжный магазин. (фр.)
32
Карманных воров (фр.).
33
Падаль (фр.).
34
Облака (фр.).
35
«habia pura mierda» – вы говорите чистое дерьмо (исп.).
36
«Мерче – великолепная.» (исп.)
37
Великолепно (фр.).
38
Вторник (фр.).
39
Запрет (фр.).
40
Сентиментальное путешествие (англ.).
41
Краткая сводка (англ.).
42
Не знаю (фр.).
43
Вон отсюда! (фр.)
44
Возможно (фр.).
45
«Не оставляй меня одну этой ночью» (англ.).
46
Полный вперед (ит.).
47
Всегда (фр.).
48
Признаний в любви (фр.).
49
Загрузка (англ.).
50
Одна женщина (фр.).
51
Одного мужчины (фр.).
52
Она в полном дерьме (исп.).