Книга: Леонид Филатов
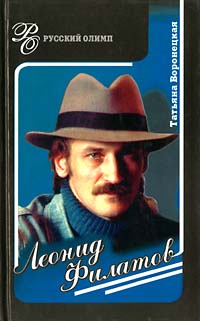
Леонид Филатов
Посвящаю моей маме
...«У меня ощущение, без кокетства, что я как бы не из тех людей, которые родились артистами. Я не родился, я сделался. Поэтому у меня все время такое чувство, что рядом с моей судьбой есть еще не сбывшаяся, не знаю что... Не думаю, чтобы это было писательство в чистом виде, нет. Не думаю, чтобы это была режиссура, я никогда этим не занимался! Но я думаю, что это не актерство...».
...90-е годы.... Перестройка. Время, которое перевернуло нашу жизнь. До сих пор мы не осмыслили того, что произошло с нами. Кто-то так и погиб, в этом «кульбите» перестройки не став снова на ноги. Перестраивать всегда сложнее, нежили строить. Это не просто созидать, но еще и разрушать.
В 1992 году в издательстве «Искусство», с большими сложностями вышла моя книга «Леонид Филатов». Сложно она выходила потому, что старая структура издательства рухнула, а новая была непонятна. Денег не было. Бумаги не было, но книга все таки вышла.
Что бы понять весь трагифарс времени, надо сказать, что на гонорар за книгу до перестройки можно было купить машину, после 92-х, благодаря министру-Гайдару и его экономической политике, я смогла купить себе только два «сникерса». Когда я их съела, то дала себе клятву, никогда ничего не писать и по возможности, даже не читать. Но, как мы знаем не в деньгах счастье. Вот уже XXI век. 2002 год и я снова возвращаюсь к человеку, который очень много определил в моей судьбе — Леониду Филатову.
Последние десять лет были очень не просты для Леонида. Он становится режиссером кино... Леня уходит из театра Любимова. Конфликт на Таганке. Тяжелая, внезапная болезнь. Борьба за жизнь. Сегодня Леня пишет много и интересно, выходят его новые сказки, стихи, пьесы. Он возвращается в театр и в кино, но уже как драматург.
Еще десять лет назад, я начинала книгу со слов Леонида, что актерство это не его жизнь. Он чувствовал это когда был в зените своей актерской славы. Для нас, зрителей, Леня по-прежнему и актер, и режиссер, и писатель, удивительная звезда русской культуры, потому, что мы ему верим. То что было написано о Лене не теряет своей актуальности и сегодня, а встреча с людьми окружающими его вновь спустя десять лет позволит дать объем Времени, очень не простого не только для Филатова, но и для всех нас.
Трудно сказать, кем бы стал Леонид Филатов, наверное, все же человеком искусства, в нем сильно желание сказать о своем времени, понять что-то в нем, в себе, в других и высказать в любых формах — в театре, в кино, на телевидении, в стихах, сценариях, пьесах...
Каким должен быть современный артист? Какова его миссия в современном мире? Этот вопрос невольно перекликается с другим, не менее важным: кто сегодня герой нашего экрана, а еще точнее — нашего времени?
Сегодня мы интересны себе в истории. Время переосмысления — это время личности. Личность всегда несет в себе, как в капсуле, осознание конфликтности времени, его противоречия. В XX веке нами утрачено ощущение целостности мира, ощущение себя. Люди Ренессанса — редкость, они исключение, а не правило. Раздвоенность нашего времени усугубилась коллизиями отечественной истории — культом личности Сталина и вытекающей отсюда трагедией народа, а также периодами оттепели и застоя. Часто мы обретаем целостность, приходим к ощущению истории через яркую, интересную личность в искусстве, которая, выявляя противоречия времени, обнаруживая их, дает возможность осмысления, очищения. Особое значение приобретает личность в искусстве. Такими были А. Тарковский, В. Высоцкий, В. Шукшин... Они спасали нас от раздвоенности, оставляя ориентиры во времени.
В чем феномен современной актерской личности? Возможно ли авторское начало в актерской игре? Современный актер — это не феерия перевоплощения. Его авторство, его личность складываются из духовного потенциала, четкой гражданской позиции, интеллекта плюс виртуозного владения профессией. Только при наличии этих качеств можно стать определенным выразителем времени, автором своей роли.
«...Я знал поразительного по мастерству актера, который мог сыграть все, — говорит в одном из интервью Леонид, — даже, к примеру, воду, стул, телефонную книгу... Это был гениальный инструмент в руках других. Однако ремесла недостаточно, нужно иметь что сказать»1 ... За этим «что сказать» — напряженная работа человеческой души. Самосжигание, уносящее жизнь, здоровье, обнажающее нервы, но дающее ощущение пульса времени. Для Филатова его личная жизнь неотделима от жизни театра, от съемок в кино, от творческого процесса, который не кончается с концом рабочего дня, а поглощает его целиком, определяя существование.
Наше время — время особенного жизненного ритма. Катастрофически не хватает свободного времени, постоянная спешка, гонка, в которой исчезает самое главное и невосполнимое—духовность. В этом-то и заключается трагизм современной жизни. Своеобразный парадокс—чем больше ты хочешь успеть, тем меньше остается времени пополнять то, что расходуешь.
Леонид Филатов живет в спешке, как и многие другие люди искусства. Спешит играть в театре, сниматься в кино, на телевидении, выступать в концертах, писать стихи, пьесы, сценарии. Много замыслов, творческих желаний, которые не отпускают его, не дают передохнуть. Начинаешь жить, растрачивая то, что когда-то накопил. Филатов-художник по своему мироощущению, по своей удивительной ответственности за все происходящее. Что же спасает его от, казалось бы, неминуемого кризиса, когда хочешь сыграть, отдать, но уже не можешь, да и нечего. Спасает удивительное качество, которое определяет его человеческое существо,—пытливость, искренность души и ума, неравнодушие ко всему происходящему вокруг. Ему интересно жить, поэтому любой процесс, в котором он участвует, как бы восполняет его духовные силы. Юрий Любимов определил Филатова очень точно: «Он живой, с ним интересно работать...» Часто современных актеров обвиняют в том, что они в своих работах одни и те же. Нет чуда перевоплощения! Однако для современного актера главным становится не степень неузнавания, а умение в разных ролях сохранить верность своему мироощущению. Важным становится не только твоя актерская тема, но и твоя личность. «Соответствовать себе самому, тому, что исповедуешь, прежде всего в человеческой, а не только в творческой твоей биографии» (Л.Филатов). Не соответствовать — значит где-то лгать, или на сцене, или в жизни.
На одной из репетиций «Маленьких трагедий» А.С.Пушкина Юрий Любимов повторит давно известную истину: «...В искусстве лгать — это ужасно, если ты чуть соврал — все видно, никакое мастерство не поможет...» Филатов всегда соответствует себе. Отсюда удивительная правдивость, искренность, полная отдача роли. Мы слишком долго в чем-то «не соответствовали», так складывалась жизнь нашего общества, тоска по соответствию, явная или неосознанная, определяла выбор наших героев. Они становились выразителями современности и образа современника в искусстве и в жизни. Поэтому все, что делает Леонид Филатов, даже в так называемых средних фильмах, всегда интересно, потому что в любой его роли есть тот осколочек современности, который выражается не в современном костюме и не в современной тематике фильма, а в отношении артиста ко времени.
Современность — понятие сложное. Это не только «сегодняшний день», но и история, взаимосвязь времени, понятий вечных и преходящих. «Повседневно-обычный», «такой, как все», «на улице встретишь и не узнаешь» —слова эти как особую заслугу адресуют артистам, играющим наших современников. Однако современность приходит не от внешности, не от манеры говорить и выглядеть, она рождается глубже, там, где надо понимать, чувствовать, осмысливать, а потом уже говорить и выглядеть.
Первой работой в кино у Леонида был фильм режиссера Захариаса «Город первой любви» (1970 г.). Филатов не любит вспоминать этот фильм, считая его неудачным дебютом в кино. Однако в этом фильме режиссером был использован интересный прием. Леонид рассказывал нехитрую историю первой любви своего героя прямо в камеру, зрителю. Своеобразная исповедь, где актер и герой слились воедино, как бы пренебрегая условностью искусства. Мы видим очень молодого человека, только входящего во взрослую жизнь. Перед нами не красавец-герой кино, а, скорее, антигерой, но что подкупает в этом лице, в этом наивном рассказе?
Обаяние 60-х годов, острое чувство современности, документальности, необычной, ершистой фактуры лица, одежды героя, манеры говорить, двигаться. Эта небольшая роль очень символична. Диалог артиста со зрителем с годами усложнился, личность актера обрела особое значение. Зритель шел на фильм потому, что там играл Леонид Филатов.
Многое определяет актерскую судьбу, не только внутренний потенциал актера, не только время, сделавшее его героем, но и, конечно же, сам процесс развития искусства.
XX век — век аудиовизуальной культуры, и любой актер, даже не снимающийся ни в кино, ни на телевидении, попадает под ее требования. Внешность актера, его пластика, манера игры определяются во многом этими законами. Особое значение обретает имидж актера. С этим явлением массовой культуры, культуры зрелища приходится считаться. У Филатова тоже есть свой имидж, который зритель любит и оберегает, возникший сразу после роли летчика Скворцова в фильме «Экипаж». Однако это только то, что является несколько упрощенным внешним выражением современного героя, глубинный же пласт, о котором мы уже говорили, определяет прежде всего личность артиста.
Сегодня нас захлестнула волна рок культуры. Режиссеры, артисты пытаются осмыслить процессы, происходящие с молодежью. Казалось бы, время должно выдвинуть молодого, даже юного героя на киноэкран. Однако мы не теряем интереса к поколению, которому за сорок, к герою, который и по возрасту и по образу мыслей и чувств отличается от молодежных лидеров. В поколении сорокалетних есть тайна, разгадав которую мы лучше поймем, что происходит с нами, с молодежью сегодня, когда возникли глубинные процессы «неверия», потери нравственных ориентиров. Сегодня мы во многом повторяем нашу, не столь отдаленную историю. Поколение, которое пережило оттепель, интересно нам и сегодня. Что с ним произошло, в чем драма его нереализации, почему наступило время застоя.
Есть и еще один важный момент, определяющий интерес к личности и творчеству Леонида Филатова. В конце 60-х годов прошлого столетия сложилось такое понятие, как русская интеллигенция, которая всегда жила особенно совестливо, ответственно... Филатов—представитель такой интеллигенции и на экране и в жизни. Сегодня понятие интеллигенции шире только лишь классового определения, это некое состояние души, культура человека. Тяга к такому герою у нас сложилась как бы исторически. Это в традициях нашей культуры. Именно через таких людей осмысливается наше прошлое и настоящее, и становится не важным возраст героя па экране, он может быть любым и выражать настроения как молодежи, так и старшего поколения.
Герой книги — артист Леонид Филатов, но есть еще один герой, как бы постоянно незримо присутствующий во всем, что делает артист, о чем думает, чем живет, — это Время, время его творчества, время его поколения, время его современников. Об этих героях и пойдет наш рассказ.
...Идут съемки фильма «Город Зеро» режиссера Карена Шахназарова. В главной роли Леонид Филатов. Я нахожусь в съемочном павильоне, который представляет грандиозный хаос времен. Необычные экспонаты: первые исполнители рок-н-ролла в нашей стране; римские легионеры. Более близкие моменты истории: портрет Хрущева, подарки города Зеро Леониду Ильичу Брежневу в связи с его 70-летием...
Снимаются сцены в краеведческом музее города Зеро. История, доведенная до фарса для того, чтобы мы лучше осмыслили себя сегодня. И давит время, которое собралось здесь в один день и час наперекор всей хронологии.
ИЗ ИНТЕРВЬЮ С КИНОРЕЖИССЕРОМ КАРЕНОМ ШАХНАЗАРОВЫМ
«...Я с большим интересом всегда следил за Леонидом Филатовым, за его работами в театре, в кино. Он всегда вызывал у меня интерес и принадлежал к типу тех актеров, с которыми очень хотелось бы поработать, но у меня не было случая пригласить его до фильма „Город Зеро“. В этой картине возникло желание поработать вместе. Я думал, что роль инженера Варакина, когда приглашал Филатова, может быть для него интересна, хотя у меня было много опасений, связанных с тем, что у Леонида выработался стереотип яркого, неординарного героя, а инженер Варакин — самый что ни на есть обычный: „стертый“, незаметный персонаж... До этой работы я не был близко знаком с Леонидом, сейчас я благодарен судьбе, что она свела нас... С ним необычайно легко работать. С большими артистами всегда легко работать. Филатов — человек чрезвычайно творческий, эмоциональный... Во время работы я для себя не разделяю профессиональные и человеческие качества артиста. В кино ты встречаешься с человеком на длительный срок и для тебя важны все его качества, которые аккумулируются в процессе работы и в конечном счете влияют на картину. На съемках мы с Леонидом как-то очень близко общались. Меня он просто обаял. Это удивительно тонкий, интеллигентный человек. Я открыл его для себя и нахожусь под большим впечатлением нашего с ним общения...
— Ваше мнение о театральных работах Леонида?
— ...Я видел его в театре в основном в 70-е годы. Леня еще был в тени более старших и знаменитых артистов. Работы в театре были не те, по которым его можно было как-то отметить, выделить... Потом я отошел от Театра на Таганке... Я хорошо запомнил Леонида по его телевизионным работам. Он писал сценарии для телеспектаклей и играл в них. Думаю, не я один заметил его именно тогда. Он был очень интересен в этом телевизионном сериале, как бы принес героя на экран. Вообще, что такое Филатов как явление, с чем связана его действительно очень большая популярность? Он несет в себе определенный тип героя, который нужен сегодняшнему дню, который совпадает с желанием зрителя видеть, иметь такого героя. Это появилось в телеработах и развилось в дальнейшем творчестве...
— Какая работа в кино Филатова, по вашему мнению, наиболее полно раскрыла его возможности?
— Я думаю, у Леонида не было еще работы, которая в полной мере раскрыла бы его возможности даже на 50 процентов... Он несет в себе гораздо больше, чем заложено в драматургии тех ролей, которые он играл и играет... Беда такого класса артистов, что они иногда до конца дней своих не могут себя реализовать, найти такой материал, который наиболее полно их раскроет. Хотя это их не ущемляет, они несут в себе образ времени, и многие из них, в том числе и Филатов, как бы ни сложилась их дальнейшая судьба, в основном сделали свое дело... Я думаю, Леонид потому так энергично параллельно с кино и театром работает в литературе, что его личные возможности во многом еще не реализованы. Эта потребность писать — от недосказанности. Творческий потенциал Филатова очень высок, и в существующих рамках ему тесно. Леониду нужны другие формы, он желает другого выхода, в котором он также необычайно талантлив. На мой взгляд, у него хорошо получается писать, а не только играть.
— Вы принадлежите к молодым режиссерам нашего кинематографа, Леонид же сформировался в 60-е годы. Есть ли в связи с этим какие-то трудности в совместной работе?
— Сегодня, безусловно, кино другое, чем в 70-е годы. Это не значит, что я как режиссер жил вне существующих традиций. Просто сегодня уже другое время. Леонид в большей степени принадлежит 60-м годам, но он необычайно гибок, способен воспринимать современные тенденции в искусстве и в жизни... Это во многом рождается и от актерской профессии, когда в какой-то момент ты должен сыграть то, что не совпадает с твоей личностью. Лицедейство в хорошем смысле слова.
— Чем для вас является актер, какую роль вы отводите ему в процессе создания фильма?
— Для меня актер в значительной степени соавтор. Я выбираю актера в момент утверждения его на роль. Как только он утвержден, я подчиняюсь артисту, как и он мне. В чем-то подстраиваюсь под его индивидуальность. Артист — живой организм, он всегда богаче любых схем, которые ты можешь умозрительно придумать... Я никогда не знаю, как я буду снимать сцену, пока вместе с актерами не выйду на съемочную площадку и не увижу все своими глазами. Важен «живой» момент в работе. Я жду от актера всегда прибавления в работе и стараюсь «вытащить» из него как можно больше из того, что может он нового привнести в фильм. В чем прелесть работы с большими мастерами, к которым относится Леонид? Они понимают тебя с полуслова. Удивительная чуткость, интуиция. Им не нужно много слов о роли, показов. Они очень конкретны в работе.
— Влияет ли количество дублей на игру Филатова, на конечный результат, который мы видим уже на экране?
— Актер всегда работает лучше первые два дубля, в том числе и Леонид«.
...«Город Зеро»... Город ноль. Что значит — ноль? Пустота? Точка отсчета или, может быть, начало, а может, и конец? То и другое. Как белый цвет, который впитывает в себя все цвета и становится началом начал. А может быть, это что-то вроде детства человека. Как осмыслить детство, как осмыслить свое начало? Сложно. Можно вернуться к нему, вернуться в зрелости. «Где-то около пятидесяти лет все начало жизни возвращается к нему (детству)»,—писала Анна Ахматова. Что есть магическое в начале? Что заставляет нас возвращаться...
В перерывах между съемками мне предстоит разговор с Леонидом Филатовым на трудную тему—его детство и юность. В него надо вернуться, как в историю своего поколения... Вспоминать о детстве сложно. Оно предстает перед нами в ускользающих образах-настроениях. Иногда помнишь совсем не главное, казалось бы мелочи, которые видишь отчетливо, почти до физического ощущения места и времени. Самое обидное, что воспоминания о детстве, материализуясь в словах, теряют, к сожалению, всю поэтичность невысказанности, делаются незначительными, сентиментально-грустными пустяками, которых порой стесняются. Так значительны эти воспоминания в душе каждого взрослого, пока не переходят границы реальности слов. Филатов вспоминает свое детство и юность без стройной хронологии, избирательно: где факт, где образ, где ощущение... Образ детства и города, в котором жил, слились воедино.
Родился Леонид в Рождество, в 1946 году, в городе Казани. Отец был геологом. Семья кочевала из города в город, вскоре после рождения Леонида—опять переезд. Собственно, с города Ашхабада и начинается памятливая жизнь Леонида. Здесь он пошел в первый класс, здесь же и окончил школу-одиннадцатилетку. Надо учитывать тогдашний нравственный климат, социальный срез южного города, такого, как Ашхабад, удаленного от всех транзитов. Своеобразный Вавилон—там жили турки, армяне, азербайджанцы, русские. Город благодаря своей близости к границе был достаточно «снабжен» уголовными элементами. Его атмосфера не могла не сказаться на жизни Леонида. Он жил около нового университета, но ходил лупить «представителей» старого университета. Это были не какие-то банды, а просто, как часто бывает в 16-17 лет, кто-то кого-то где-то обидел и шли защищать. В то же время Леонид со школьными друзьями увлеченно ставил спектакли в школе, репетировал, писал стихи. Создавался двойственный мир, который казался ему тогда вполне органичным. Сейчас, вспоминая то время, он не может понять, как могли уживаться вместе участие в каких-то драках, никчемная, глупая жизнь и увлечение поэзией,—уже тогда он «терся» при газете, делал переводы, публиковался.
ГЁЗЫ
Слышите «охи»? Слышите «ахи»?
Это для гёзов строятся плахи.
Солнце лучом нам прощальным машет,
Стонет земля похоронным маршем.
Эй, не робейте!
Пойте и пейте!
Не умереть после смерти сумейте!
Нашим грехам индульгенций не хватит,
Гёз за прожитое жизнью заплатит.
Эй, голенастый В робе цветастой!
Выпей ты с нами! Выпей за нас ты!
Кружится все разноцветной мозаикой;
Море в неводе солнечных зайчиков,
Солнце, земля и небо, за руки
Взявшись, крутятся в пестрой мозаике.
Солнце в бокалы
Луч свой макало,
Пенилось солнце в прозрачных бокалах.
Пенилось, билось, бурлило игриво,
Словно шипучее золото пива,
Пенилось весело, пенилось грозно.
Грозно, как кровь неотмщенного гёза.
Эй, не робейте!
Пойте и пейте!
Не умереть после смерти сумейте!
Хотел ли он быть в то время актером? Нет. Собирался стать кем угодно, только не актером. Однако уже были сыграны первые роли в школьных спектаклях. Началось все с исполнения одного из героев, теперь уже трудно восстановить кого именно, в спектакле «Кошкин дом». Потом роль Тома Сойера. Сопутствующий образ тех дней — мама, которая прячется за колонной и плачет, когда видит своего сына на школьной сцене. Мама Леонида расскажет, что Леонид учился хорошо, любил рисовать иллюстрации к маленьким книжечкам, которые сам писал и раздавал ребятам во дворе.
Он научился читать, когда тихо сидел рядом с соседом-школьником и смотрел, как тот делает уроки. В детстве Леонида, как, наверное, во всяком другом, есть и случайное, и закономерное. Он попал в хорошую школу, к хорошим учителям, в газету, в драмкружок. Его окружал мир интеллигентной провинции с ее цельностью, а главное, с ценностями. Все это привило вкус к особому душевному состоянию — к творчеству.
50-е годы — время, когда родители больше доверяли школе, искренне верили в учителя как первого и главного воспитателя. Не было телевизоров в каждом доме, избытка информации. Дети росли более самостоятельными и, видимо, более ответственными. Юность этих детей приходится на 60-е годы. Послевоенное поколение... Что суждено было им сделать? Сейчас им за сорок. Это расцвет и зрелость, а может, усталость, измотанность временем и невозможностью себя реализовать...
ВЕСЕННИЙ ЭТЮД
И ветка в темноте хрустит
и гнется,
И громоздятся сонные грачи,
И разом все невидимые
гнезда
Тревожно зажигаются в ночи.
Чердачный кот неряшлив
и печален,
С усталой морды стряхивает
сны,
Бредет смешной и
маленький, как Чаплин,
В индустриальном грохоте весны...
Лет с пятнадцати Леонид довольно регулярно печатался в местной газете «Комсомолец Туркменистана» без всяких снисходительных рубрик «стихи молодых» или «дебют».
Вот как об этом вспоминает мама Леонида Клавдия Николаевна:
«Первое опубликованное Ленино стихотворение „Колино признание“ именно в этой газете. Когда он увидел, что его стихи напечатали, ну неимоверная радость была. А потом он получил вдруг гонорар. И этот гонорар настолько его поразил, настолько это было неожиданно — и для всех нас, для всей семьи... но он пытался как-то использовать эти деньги для всех нас. Мне он подарил духи, моему брату Юре подарил несколько билетов в театр, себе купил билеты в кино, а бабушку спрашивал: „Бабуся, тебе нужны деньги?“.
Она сказала: «Конечно нужны, ну как же не нужны?»
Вот остаток этого гонорара он дал бабушке на хозяйственные расходы.
Чуть позже, в 17-18 лет, занялся переводами, но в основном писал собственные стихи. С поэзией связано все его детство и юность. В газету, которая во многом определила его судьбу, Леонид попал почти случайно. Как часто бывает в таких случаях, мама, собирающая все тетради со стихами сына, решилась их показать поэту Юрию Рябинину, который работал в местной газете. С этим человеком Леонида свяжет дружба на долгие годы. В то время Филатов писал басни, по его мнению, «чудовищные по своей направленности и лишенные хотя бы грамма таланта...». «Меня извиняло только то, что все-таки я учился в 4-м классе», — вспоминает он. Однако, в отличие от Леонида, Юрий Рябинин увидел в этих баснях проявление таланта, и вот появились на страницах газеты две басни ученика 5-го класса. Конечно же, это событие было гордостью мамы и, по мнению Леонида, «мощная стимуляция его графомании». Вот одна из басен, удивительно впитавшая в себя установки тех лет, которые воспринимаются теперь как пародия. Когда Леонид читает свои басни, он не может удержаться от смеха.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ И КОЛИНО ПРИЗВАНИЕ (басня)
Мама папе говорит:
«Коле путь везде открыт!
Пусть актером Коля будет,
Через сцену выйдет в люди!
А потом, быть может скоро,
Станет кинорежиссером.
Я заметила давно:
Часто ходит он в кино!»
Отвечает папа: «Коле
Нужно быть в авиашколе.
Пусть помажет руки в масле...»
Мама крикнула: «Ужасно!
Алексей! Ведь это вроде
Как работать на заводе!»
Тут вмешалась тетя Тома:
«Коля будет агрономом!»
«Не болтайте, право, что ли!
Будет шофером наш Коля!
Станет ездить на «Победах»...
Вдруг на эти крики деда
Бабушка, присеменила:.
«Коля-шофер? Вот чудило!
Не согласна нипочем!
Станет Коленька врачом!»
Не знаю, чем кончилось это собрание,
Быть может, доныне идет пререкание...
Одно лишь могу вам сказать .» пока:
Я этого Колю видал у станка.
ученик 5 класса
Ашхабадской школы № 6.
Нашу беседу прерывает очередная подготовка к съемкам, на которых Леонид четок, собран, я бы сказала, предельно дисциплинирован. Он не опаздывает на съемочную площадку, его не приходится искать по коридорам студии. Слова Карена Шахназарова «с ним удивительно легко работать» в первую очередь относятся к одаренности, профессионализму артиста и, конечно же, к его необычайной собранности на съемках. Роль инженера Варакина Леонид играет почти без грима: чуть припудрили лицо, чтобы не блестело под юпитерами, капнули в глаза какую-то гадость, говоря, что это необходимо,—вот и весь грим. Суета съемок для Леонида—состояние наивысшего комфорта, хотя он ужасно устал, плохо себя чувствует, но именно на съемках, в работе испытывает чувство равновесия. Истинный покой, без суеты, без бесконечного процесса творчества, поиска, для него был бы просто адом, непреодолимым испытанием...
Разговор о детстве продолжается. «...В фильме „Грачи“, — говорит Леонид, — есть такая сцена, где упоминается Эдик Хачатуров. Тогда ты поймешь, как говорят в Ашхабаде. Медленно... не то чтобы агрессивно, нет. Именно юг, юг русскоязычный, он говорит на странном жаргоне. Не поймешь, что за акцент, то ли армянский, то ли туркменский... В городе существовало братство, никаких национальных проблем я не видел, не чувствовал...».
Люди, которые окружали Леонида в газете, куда он ходил почти каждый день, были для него больше чем воспитателями, они были — друзьями. «...Юрий Рябинин, который даже и не знал, какого класса он поэт на сегодняшний день, — вспоминает Леонид, — человек откуда-то из России, занимался переводами, выпустил несколько книжек своих стихов. В 70-е годы Юра трагически погиб... Потом погиб Олег Калмыков—замечательнейший человек, книгочей невероятный... Образованности такой, какой только может быть интеллигент настоящей провинции. Совсем еще молодым человеком он был проректором Туркменского университета. Несчастный случай — и его не стало... Мой поэтический учитель Эдик Скляр отличался удивительным литературным вкусом. Маленький, блондинистый, синеглазый человек. Похоронил свою молодую жену и не смог этого перенести..,. Страшные истории, но при всем при том — это люди моего детства, очень много сделавшие для меня...
В газете я понял, что самые бескорыстные люди — это, конечно, провинциальные газетчики, и особенно южные. Там одна ковбоечка, одни сандалии чудовищного канареечного цвета и остальное неважно, человек шлепает в этом года три-четыре. Поэтому любые малые деньги, 20-30 рублей за какую-то публикацию, за подборку стихов, тратились на пиво с друзьями. Я не видел, чтобы кто-то особо пьянствовал из газетчиков. Пили пиво... Жара чудовищная. К пиву — либо подсоленный горошек, либо еще какая-нибудь ерунда, либо горячие манты. И пиво, пиво, пиво... Вот за пивом бесконечные разговоры только о поэзии, о кино, о том, что в Москве. Бесконечные прожекты. Кто-то пишет повесть, кто-то пишет рассказ. Этот рассказ не пропустили, и так далее... Собственно, воспитывался я этими бескорыстными людьми, в общем нищими с точки зрения финансов, но замечательными товарищами. Казалось бы, чего им водиться с пацаном, я даже по возрасту им не подходил. Это время надолго осталось в моей памяти... Так что вот что такое город Ашхабад...».
Сразу после выпускного бала Леонид выехал в Москву с целой группой своих товарищей. Почти все собирались поступать в гуманитарные вузы. Леонид мечтал о режиссерском факультете ВГИКа, но, правда, режиссуру Леня представлял себе чисто умозрительно: это как бы какой-то «главный, мужского облика человек, который ставит кино». К экзаменам Леонид подготовил прозаический отрывок, а также стихи, которые сочинил сам, и решил прочитать их под другой фамилией. Вместо басни использовал случайно купленную в Москве книжечку Феликса Кривина. Таким образом подготовка была завершена для поступления на режиссерский факультет. До экзаменов оставалось еще полтора месяца, а деньги, выделенные мамой, уже были на исходе, к тому же для поступления на режиссерский факультет ВГИКа, как оказалось, необходимо было иметь трудовой стаж, которого у него не было, и еще нужна была режиссерская разработка, о необходимости которой он тоже не подозревал. Ребята, приехавшие вместе с Леонидом в Москву, звали его поступать вместе с ними в театральное училище. Леонид решил попробовать. Юные максималисты быстро определили, что самое лучшее училище — это, конечно же, Щукинское, там учатся Никита Михалков, Настя Вертинская, что было определяющим моментом, и всем гуртом повалили в Щукинское училище.
В это время в Москве проходил кинофестиваль, на который Леонид ходил каждый день и благодаря которому экзамены в училище прошли как бы между прочим. Так складывалось, что Леонид приходил на приемные экзамены ближе к вечеру, когда все апокалиптические картины дня уже были на исходе, народ расходился. Около дверей толпилось каких-нибудь тридцать — сорок человек. Комиссия прослушивала Леонида и предлагала ему прийти на следующий день к вечеру. «Если бы я хоть раз пришел утром, — вспоминает Леонид, — возможно, моя впечатлительная натура была бы смущена и вряд ли бы я пришел на следующий экзамен. А так у меня был совершенный покой и провинциальная наглость. Я считал, что все идет как надо». Так, посещая параллельно кинофестиваль, проходит Леонид тур за туром все вступительные экзамены и, единственный из всей компании, поступает в училище. Судьбу решил не искушать и остаться в театральном, а в город Ашхабад маме полетела телеграмма о том, что он принят на актерский.
В Москве — лето, стоит жара, прямо пекло. В павильонах «Мосфильма» прохладно. Леонида зовут на съемочную площадку. Опять погружаемся в загадочный мир фильма «Город Зеро». То снимают массовку —легионеров, то пионеров, то ветеранов, то не так вымыли полы в павильоне, то партнер по роли перепутал текст, то одно, то другое. Леонид хоть и звезда советского экрана, но умеет терпеливо ждать своей очереди. Пока его готовят к дублю, читаю сценарий будущего фильма, начало которого простое и ясное: «Железнодорожная станция. Раннее утро. Из поезда вышел мужчина с чемоданчиком в руке, лет 45-ти, невысокого роста, довольно крепкого сложения...»1. Даже внешне крепыш-инженер не вяжется с нервным, импульсивным обликом Леонида Филатова.
«С одной стороны, мне нужен был очень обычный, стертый персонаж, — расскажет несколько позднее Карен Шахназаров, — но с другой, в кинематографе есть своя тайна: тебе нужен неприметный человек, ты берешь такого, как бы выполняя задачу своего замысла, но он настолько неприметен, что получается обратный эффект. Зритель теряет интерес к герою, который просто не в состоянии удержать его внимание в течение полутора часов, и ты губишь свой замысел. Надо точно найти артиста, именно крупная актерская личность может сыграть неприметного человека!»
Традиционно начало фильма: завод, командировка героя за недостающими запчастями. На этот раз сложности с задней стенкой кондиционера. Рождается конфликт до боли знакомый: дадут не дадут герою необходимые детали для его завода. Судя по всему, нас ожидает фильм на производственную тематику с элементами лирики, но неожиданность: секретарь директора завода сидит за своим рабочим столом абсолютно голая! Герой удивлен, удивлен и зритель. Невольно вспоминается рассказ Теффи, где юная писательница для шарма, которого от нее требовал незадачливый издатель, сделала всех своих героев голыми, чтобы привлечь внимание читателя. Может, и здесь такая же попытка, все-таки как-то легче пойдут вопросы производства, если кто-то голый. И вот герой Филатова, традиционный как сама традиционность, с портфелем, в сером плаще, с унылой физиономией идет обедать в ресторан, и опять неожиданность: ему приносят на десерт его же собственную голову в виде торта...
Что происходит на экране? Абсурд... Гротеск... Авангард... Эксперимент... В какой-то мере всего понемногу. Можно спорить, что удалось или не удалось в фильме, но бесспорно: фильм — талантливая, оригинальная попытка осмысления истории нашего общества, времени сегодняшнего и вчерашнего. Язык фильма необычайно современен, и не в смысле ежеминутной моды, а в самом широком — искусстве XX века, интересны временные, пространственные построения в фильме, которые не самоцель, а принцип видения, размышления, разговора...
Роль Филатова в фильме «Город Зеро» — одна из последних работ актера в кино. Леониду интересен был сценарий «Города Зеро» и необычайный подход к осмыслению истории, хотя он заранее знал, что роль Варакина для актера невыигрышная, знаковая, статичная, в ней нет особого психологизма, который и не требуется для этого фильма. Варакин, в отличие от предшествующих работ актера, лишен острой индивидуальности, личностного начала, он своеобразный антипод героев Филатова.
Варакин — обычный, рядовой человек, живущий по принципу «не высовывайся». Он — не плохой и не хороший, он — никакой, а профессия у него — инженер, что стало своеобразным стертым признаком принадлежности мужчин к некоторым техническим делам. Он не привык что-либо выбирать, решать, быть сопричастным. И вдруг столько свалилось на него сразу. Варакина втягивают во все новые и новые, непонятные ему и навязанные человеческие связи и события: то он чей-то сын, то он присутствует при странном убийстве... Вот уж поистине все в мире оказывается взаимосвязанным. И в истории тоже: если бабочку прихлопнули на заре человечества, то мы сегодня не досчитываемся слона, а если нас долго держали в страхе и лучших из нас уничтожили, то сегодня наши герои — инженеры Варакины. Горькая ирония, гротеск происходящего заложен во всем: в сюжете, в китчевой стилистике фильма, в образе Варакина, в манере игры актеров... Герой охвачен единственным желанием — бежать в конкретный мир из города, в котором его с кем-то перепутали, не за того приняли. Но как сбежать от времени, как сбежать от своей истории, которая мстит за непричастность, за инертность и незнание...
«Вы никогда не уедете из нашего города», — скажет Варакину маленький мальчик, сын обычного электрика, в чьем доме остановился Варакин на ночлег. «Вы никогда не уедете отсюда, — повторит мальчик, — и будете похоронены на городском кладбище». Есть от чего похолодеть. И героя Филатова охватывает ужас, который усугубляется обыденностью всего происходящего. Весь фильм пронизан гофмановской чертовщиной, когда одно и то же событие реально и ирреально, когда охватывает ужас в момент проникновения в особую тайну связи времен и событий. Филатов прекрасно перелает то чувство «жути». Герою и шелохнуться-то лишний раз страшно. Он застывает, пораженный внезапным открытием, как это было перед портретом Патрика Дювалье, основоположника города Зеро, о чьей исторической миссии не подозревают случайные хозяева портрета.
В эпизоде, когда герой смотрит на портрет Патрика, во взгляде актера возникает глубокая, пронзительная мысль— как все взаимосвязано!.. Как, казалось бы, миф, ирреальность, то, во что ты не верил, приобретает реальные черты. Переворачивается твое сознание. Однако двойственность, многомерность происходящего, то, что прекрасно чувствовал и играл Филатов, не всегда подкреплялось в полной мере всеми остальными компонентами фильма. Исчезала легкость игры в условном мире, который рассыпался, так как не выдерживалась стилистика, вернее, не была найдена создателями фильма. Это приводило к неточности в ощущении и понимании времени, а порой к тому, что не прочитывалось задуманное авторами. Редко происходило чудо попадания в цель. Исчезала многомерность события. Роль Варакина, как и все остальное, делалась мельче. История в фильме подастся как китч, поэтому авторами используются самый стереотипные, примитивные знаки времени. В городе Зеро есть большой краеведческий музей, но и сам город-своеобразный музей, где, как в Ноевом ковчеге, «каждой твари по паре» и где экспонируются определенные модели человеческих отношений. И вот когда все герои фильма, обитатели Ыоева ковчега, идут к дубу-символу власти, под которым сидел когда-то сам Дмитрий Донской (дуб этот, правда, давно сгнил, хоть и находился с 1917 года под охраной государства), в этот момент Варакин пытается бежать из города в очередной раз... Замкнутый круг истории: нельзя сбежать от себя, от действительности. Символичен финал фильма. Побег героя кончается тем, что он плывет в лодке без весел. Лодка без весел—известный символ восточной культуры, где человека определяет мир, природа, история, а действия героя — вторичные производные. Весла ему не нужны, его путь определяет течение. Этот символ использован в фильме, скорее, как невозможность физическим, материальным путем покинуть духовное пространство времени и истории... «Течение выносит лодку на середину реки. Варакин ложится на дно и, заложив руки за голову, смотрит в высокое хрустально-голубое небо»1.
«Есть в жизни всех людей порядок некий, что прошлых лет природу раскрывает. Поняв его, предсказывать возможно с известной точностью грядущий ход событий, что еще не родились...». Герой Филатова должен обрести время, утраченное время сна, прозябания. Вернее, время должно начать свой отсчет после духовного пробуждения героя. Филатов и его герой Варакин не просто ровесники, они —люди одного поколения. И, конечно же, Филатову был интересен взгляд со стороны на свое время.
На юность актера и его героя выпали 60-е годы. Время, которое сейчас романтизируется. Однако страшное наследие 30-х годов сохранилось и в эти годы свободы и новых планов. В 1956 году был осужден культ личности. Однако что-то, тогда пошатнувшись, все же обрело равновесие и силу к концу 60-х годов. Это «что-то» было вечной нашей раздвоенностью, ложью самим себе, так как состояние полуправды сохранилось, страх присутствовал, отношение к человеку как к «винтику» оставалось. Мы были поглощены технической гигантоманией, ждали начала коммунистического общества, которое нам обещали в ближайшее время. Во всех концах страны сеяли кукурузу и внушали себе, что стране нужна именно она. Наши внушения с сомнениями в душе и порождали ложь. 70-е годы были логикой развития нашего отношения к себе, к миру. Мы их допустили, так как носили их в себе. Интересна в фильме судьба первых исполнителей рок-н-ролла. Этот невинный танец сломал жизнь множеству людей, привел к драматическому концу даже в то время, когда они уже стали героями дня, а запрещенный рок-н-ролл-любимым танцем в городе.
Постоянное состояние двоемыслия породило особый язык в искусстве и в жизни. Анатолий Найман, работавший над переводами с Анной Ахматовой, очень точно заметил:
«Что касается тайны, то уже при жизни Ахматовой тайна стала заменяться намеком, а после ее смерти поэзия намеков сделалась общепринятой и общепризнанной. В 70-е годы поэт намеков имел большую, преданную ему, им самим воспитанную аудиторию, которая прекрасно разбиралась, о каком политическом событии или лице идет речь в стихах, посвященных рыбной ловле: „мальки“ означали молодежь, „сети“-цензуру. Это был символизм наоборот...»1.
Немыслимый, казуистический язык! За него мы прятались, считая, что сохраняем себя и постигаем высший смысл.
Тем временем мы теряли себя. Наши мысли и действия расходились, опять рождался страх, мы впадали в безвременье, потому что связь времен — ощущение себя в истории — требовала согласованности действий и мыслей. Безвременье привело к тому, что так ярко прозвучало в фильме: потеря традиций и глубинного многомерного осмысления событий истории; к вырождению, к стереотипным, примитивным представлениям, к тому китчу, в котором и проходит перед нами история на экране.
Выйти из безвременья может духовно сильный человек, имеющий нравственные ценности. Сможет ли это сделать Варакин? Сможет ли это сделать послевоенное поколение?
КЮХЕЛЬБЕКЕР
Ему какой уж месяц нет письма,
А он меж тем не ленится и пишет.
Что ж сообщить?.. Здоровьем он не пышет,
И это огорчительно весьма.
Он занемог и кашлял целый год,—
Хвала его тобольской Дульцинее,—
Он мог бы захворать еще сильнее,
Когда б не своевременный уход.
Но что он о себе да о себе,
Унылый пимен собственных болезней!
Куда важней спросить, — да и полезней! —
Что слышно у собратьев по судьбе!
Как друг наш N.?.. Прощен ли за стихи?..
Он числился у нас в дантонах с детства!..
(N. поступил на службу в министерство,
Публично осудив свои грехи.)
Как буйный R.?.. Все так же рвется в бой?..
О, этого не сломит наказанье!
(R. служит губернатором в Казани,
Вполне довольный жизнью и собой.)
А как там К.?.. Все ходит под мечом?..
Мне помнится, он был на поселенье!..
(К. взят на службу в Третье отделенье
Простым филером. То бишь стукачом.)
Как вам не позавидовать, друзья,
Вы пестуете новую идею.
Тиран приговорен. Ужо злодею!
Зачеркнуто. Про то писать нельзя.
Однако же ему не по себе,
В нем тоже, братцы, кровь, а не водица,
Он тоже мог бы чем-то пригодиться,
Коль скоро речь заходит о борьбе!
Таких, как он, в России не милъен,
И что же в том, что он немного болен?
В капризах тела, верно, он не волен,
Но дух его по-прежнему силен.
Он пишет им, не чуя между тем,
Что век устал болтать на эту тему.
Нет добровольцев бить башкой о стену,
Чтоб лишний раз проверить крепость стен.
Все счастливы, что кончилась гроза!..
...А он, забытый всеми, ждет ответа,
Тараща в ночь отвыкшие от света
Безумные навыкате глаза...
«Время, когда я учился в Щукинском, было очень интересным. Мы ставили все — от Солженицына, Шукшина до Дюрренматта, Ануйя»,—вспоминает Леонид. Годы действительно были удивительно свободные, творческие. Это было особое время подъема в искусстве. Казалось, что многое уже можно, что будет еще лучше.
Шестидесятые годы запомнились и мне, коренной москвичке, своим особым неповторимым настроением. Помню длинные, бесконечные коридоры коммунальной квартиры в доме на проезде Серова, называемой в то время «коридорной системой». Она напоминала абсурдный город из произведений Кафки, в котором посторонний человек будет долго блуждать по кругу, не находя выхода, что бывало довольно часто. На огромной кухне столов сорок, и, конечно же, как у В. Высоцкого, «на тридцать восемь комнатов всего одна уборная», которая к тому же еще запиралась большим чугунным ключом от посторонних, так как вход в квартиру был всегда открыт. И в этих, казалось бы, нечеловеческих условиях жила старая Москва, причем жила полно, как-то особенно душевно и наивно. Все читали стихи, пели, сами сочиняли песни, увлекались Б. Окуджавой, джазом, роком, который тогда сильно отличался от нынешнего, в нем было больше юмора, иронии, гротеска... 60-е годы — золотое время в нашем искусстве. Мы научились думать, спорить... И, что, наверное, самое главное, чувствуя дыхание свободы, только учились говорить...
Из интервью с Владимиром Качаном (март 2000 года)
— Ни для кого не секрет, что львиное большинство песен слагается по принципу «раз дощечка, два дощечка — будет лесенка, раз словечко, два словечко — будет песенка». Я не хочу никоим образом обидеть хорошего поэта Юрия Энтина, сочинившего эти бессмертные строки, но тем не менее он как бы подытожил принцип действия поэтов-песенников, которые слагают по этому принципу хиты сезонов. Ведь мы очень часто встречаем подобный текст «лучшая подруга-лучшая подруга — что-то ты наделала, лучшая подруга, лучшая подруга — что тебе я сделала» т.е. рифма «сделала-наделала» это «как какала-накакала»... Или когда известный петербургский певец поет лирическую песню, как водится, об ушедшей любви и там встречаются слова « давно друг друга простя, сто лет спустя» мы даже не задумываемся, что правильно это «простив», но тогда рифма потребовала бы «спустив», а это уже песня несколько про другое. И поэтому говоря о Лене Филатове как не только о друге, а моем первом и основном соавторе по песням, нельзя не отметить, что он от этого принципа куда как далеко ушел. Его стихи — это не песенные тексты и песни-стихи. Это осмысленная поэзия, которая имеет прямое отношение к чувству и уму. Вот, и я вспоминаю... вспоминаю наш первый опыт в общежитии в этом смысле. Там словно получилось как-то, словно судьбы распорядилась так, что мы оказались вместе в одной комнате в общежитии. Мало того, что на одном курсе актерского факультета Театрального училища имени Щукина, но нас еще поселили в одной комнате, номер 39. И я еще тогда не подозревал, что умею сочинять мелодии — меня научил играть на гитаре старшекурсник Виталий Шаповалов, ныне артист театра на Таганке, среди своих «Шопен». И вот сама собой как бы получилась первая песня...
И первая песня, естественно, о какой-то неудавшейся любви. В 18-19 лет — это понятно. Это у всех какие-то любовные драмы в это время. И мы сочиняем песню «Ночи зимние»... Первая наша песня и какой-то студеный надрыв ее куплетов несется по ночным коридорам общежития. Потом к нам начинают приходить однокурсники, соседи по этажу, все со своими напитками, все хотят послушать эту песню. Мы понимаем, что это ошеломляющий успех, популярность этой вещицы обусловлен не ее качеством, а тем, что у всех в той или иной степени была какая-то любовная драма или какая-то история любовная не совсем получившаяся. И «Ночи зимние» попадали в резонанс с настроением большинства. Окрыленные этим первым успехом, мы продолжали сочинять дальше. Каждую ночь или стихи или песню. В сигаретном чаду, куря через каждые пять минут новую сигарету и сидя на своей бедной левой ноге, т.е. в экологическом кошмаре, который Филатов сам себе и создает — он сочиняет новые стихи или новую песню. Я сижу рядом, жду, не заглядываю через плечо — нельзя, табу, жду, когда он закончит, когда я возьму гитару, гитара уже без чехла, лежит тоже, ждет, Он закончит и я примусь сочинять мелодию и где-нибудь на кухне часа эдак в три ночи (а в уж 10 утра на следующий день первое занятие), будет премьера песни. Посреди вот этой кухни — окурков, картофельной шелухи Леня сидит и пишет — это надо знать почерк Филатова — каллиграфическими буковками. У него очень красивый почерк — он пишет такими красивыми буковками, что даже жалко зачеркивать, словно это какой-то старинный писарь составляет прошение на какое-то высочайшее имя. Потому что Филатов, так скромно всегда говорит — стишки пишу, стишки.
Вот сегодня читал новое произведение в стихах — пьесу — так, ерунда, чепуха какая-то. Мы с вами закроем глаза на эти конвульсии скромности у мастера слова, потому что даже если красавица говорит время от времени окружающим, что она уродина, ей, понимаете ли, это не вредит. Ее начинают возмущенно опровергать не очень умные люди или наоборот с улыбкой смотреть, которые поумнее. Во всяком случае, — пусть будут стишки, если ему так нравится. И вот он пописывает эти стишки, выводит их таким красивым-красивым почерком и мне приходит в голову, что может быть действительно та правда прошения на самое высочайшее имя, чтобы его, как он сам выражается, стишки превратились в стихи — диковинный язык, на котором изъясняется душа. Средство доставки чувства и ума человека человеку. Или еще того больше — хрупкий мост между небом и землей или очередная попытка создателя быть нами услышанным, достучаться до нас, чтобы это превратилось в стихи. Вот он пишет, зачеркивает-перечеркивает, снова опять закуривает, снова пишет, опять закуривает, опять пишет, перечеркивает, опять пишет — в конце концов получается какой-то конечный продукт и тем же вечером, как я уже говорил, этой ночью сочиняется новая песня...
Во время учебы Леонид не переставал писать стихи, выдавая их за чужие произведения. Это стало своеобразной легендой в училище. Все, от педагогов до сокурсников, гадали, кто же действительно это написал. Леонид умело путал карты. Он дошел до такой наглости, что — ладно там популярные Ежи Юрандот или Васко Пратолини — один свой отрывок он выдал за часть из «Процесса» Артура Миллера. Целый час Леонид играл его преподавателям кафедры училища, которая, к чести ее надо сказать, не вся прельстилась, но кое-кто оплошал. Был сделан даже комплимент такого рода: вот видите, какие надо брать отрывки, тогда и играть сможете, а то наберете черт знает что. Товарищ Леонида, Боря Галкин, не выдержал напряжения тайны и, думая, что делает Леониду приятное, выпалил, что это вовсе не Артур Миллер, а Филатов написал самостоятельно, чем, конечно же, смутил высокого преподавателя. «Это было время вольницы, — вспоминает Леонид, — нас никто никогда не курировал: что мы ставим, откуда отрывок, где он печатался...». Сейчас из того, что Леонид писал в то время, ничего не сохранилось, только в памяти сокурсников — Бори Галкина, Володи Кочана, Нины Руслановой. Леонид писал почти для каждого экзамена по актерскому мастерству 2-3 сценических отрывка. Делал как бы одноактную пьесу, но к этому своему виду творчества относился беспечно, безжалостно уничтожал написанное, так как не считал это фактом литературы, стеснялся, а писал отрывки чисто из актерского эгоизма, подгоняя их под некий характер, человеческий тип. Играть так было легче и интереснее.
В училище он в то время находился мало, в основном ходил на занятия по актерскому мастерству. Художественным руководителем курса, на котором учился Леонид, была В.К.Львова. Однажды из-за прогулов его чуть не исключили из училища, помогла Вера Константиновна, так как считала его способным.
Куда любил Леонид ходить в то время, так это в кино, не пропускал ни одной новой картины, был киноманом. Смотрел послевоенных поляков: «Пассажирка», «Мать Иоанна от ангелов», «Канал», раннего Вайду, который, что бы ни сделал тогда и потом, казался Леониду грандиозным. Юношеская влюбленность... «Тогда меня, — вспоминает Леонид, — впечатляла невероятно вся эта эстетика, — это замечательное черно-белое письмо. Я не мог от него никак отвыкнуть. В цветном кино все время чего-то не хватало, раздражало, казалось глупым и пошлым...».
Из интервью с Михаилом Задорновым (12 декабря 2000 года)
— Нас познакомил с Филатовым, Володя Качан, с которым мы учились еще в Риге и я как бы, прилип сразу к их компании, несмотря на то, что я был инженером. Они приняли меня, потому что все-таки меня очень интересовал театр. Что сказать о Лене? Вокруг него всегда были интересные компании и Леня среди нас, был учителем, который прививал хороший в первую очередь поэтический вкус, во-вторых — Леня рассказывал очень много о фильмах западных, о хороших западных фильмах, а не о таких, которые сегодня как бы выпускает с конвейера Голливуд... Леня являлся определенным эталоном вкуса для нас. Мне тогда очень нравилось, как он легко пишет стихи, он тогда написал несколько сценариев юмористических... Это было очень остроумно... Мы выпивая в пельменной по стакану водки отправлялись я помню с ним обязательно, посмотреть какой-то фильм неореализма. Он знал всех артистов, он знал всех режиссеров... у него были какие-то совершенно уникальные знания в кино. Должен сказать, что сегодня я тоже отношусь к нему, как к человеку, при котором я бы не хотел плохо шутить и не хотел бы говорить то, что порою говорится с эстрады. Вот у меня есть два таких человека на сегодняшний день в жизни — это моя мама и Леня Филатов. Часто так думаешь, интересно, если бы он был в зале, он сказал бы, что это пошлость — то, о чем я рассказал, или нет. Вот таким дорогим человеком для меня всегда был и есть Леня Филатов...
Мы действительно тогда носились по Москве, в поисках интересных фильмов — буквально надо было, выуживать какой-то интересный итальянский фильм, который шел в ДК и был так... завуалирован под некую лекцию. Я недавно ехал к Лене посидеть на кухне, поболтать о сегодняшнем... вообще о сегодняшних настроениях, о том, что творится — и я подумал — как изменилась Москва, она была в нашу пору... Москвой музейной, театральной и музыкальной. А сегодня Москва превратилась в бессовестно красивый город, но стала чужой: она купеческая, финансовая, банковская, политическая. Остались люди, которые ходят в филармонию, в театр, но я в театр уже стал ходить меньше, потому что обязательно тема гомосексуализма есть и я боюсь даже идти смотреть Дядю Ваню, потому что мне неинтересно, если дядя Ваня — гей... Не знаю, мне стало очень грустно, когда я поехал к Лене и вспомнил, как мы болтались по студенческой Москве...
В училище Леонид в основном играл характерные роли, все с увлечением ими занимались, не задумываясь над тем, что характерные роли редко кому удается сыграть. Щукинское училище славилось любовью к подобным ролям.
...«Мы в то время были лишены честолюбия. Нам важен был прежде всего мир училища, что нас именно здесь называют талантливыми, здесь нас ценят... Мнение товарищей было самым важным...».
ОТКРЫТИЕ
Мир, кажется, зачитан и залистан,
А все же молод. Молод все равно!
Еще не раз любой из древних истин
В грядущем стать открытьем суждено.
И смотришь с удивленьем кроманьонца,
И видишь, пораженный новизной,
Какое-то совсем иное солнце,
Иное небо, шар земной...
О, радость первозданных откровений!
О, сложность настоящей простоты!
Мы топим их в пучине чьих-то мнений,
Сомнений и житейской суеты.
Они даются горько и непросто,
Который век завидовать веля
Безвестному Колумбову матросу,
Что первым хрипло выкрикнул: «Земля!»...
«— Что вы понимаете под словом „талант“? — Талант — это то, что от господа Бога, предназначение!.. Есть удивительно талантливые люди, совершенно нераскрывшиеся, всю жизнь прожившие как бы рядом со своим талантом... Очень важно словить Удачу. К одним она приходит поздно, когда они у же слепы и глухи, когда нет сил, здоровья реализовать себя, к другим — когда есть еще. силы работать... В моей жизни было много счастливых встреч с людьми, которые определили судьбу: не будь преподавателя Щукинского училища Альберта Бурова, я не пришел бы в Театр на Таганку; не будь Юрия Любимова, я не узнал бы таких людей, как Борис Можаев, Федор Абрамов, Альфред Шнитке... И, наверное, моя жизнь была бы совсем иной... Не будь работы на телевидении с режиссером Сергеем Евлахишвили, не было бы встречи с Константином Худяковым... Беспрерывная цепочка счастливых встреч, но она стала возможной, потому что я очень много работал, старался, чтобы меня заметили».
Юрия Петровича Любимова в нашей стране не было пять лет, но театр и зритель его ждали, не мог он не приехать. И вот Любимов в Москве, он ставит по контракту «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина. Есть в этом слове «по контракту» что-то щемящее... Какой-то абсурд, нелепость. Любимов, который всей своей душой, талантом, всей жизнью своей боролся с гражданской апатией, рабством мыслей и поступков, который всегда утверждал человеческую личность, стал в силу обстоятельств не нашим гражданином. Чиновники выиграли еще одну дуэль, но лишь в том, что на долгих пять лет лишили зрителя режиссуры Ю.П.Любимова, а театр пережил в своей жизни множество драматических минут и невосполнимых утрат. Мы часто забываем, что театр — это единение людей, не только спектакли, существующие сами по себе, как праздник искусства, но это и будни, с каждодневным, непростым трудом. Театр — единение не только актеров, режиссера, драматурга, художника, композитора, но и зрителя, который включен в театральный организм. Только тогда можно говорить о факте существования театра, когда он имеет свою высшую идею, его формирующую, свой стиль, свое мировоззрение. Театр — это коллектив, но этот коллектив определяет лидер-режиссер. Без Станиславского не было бы МХАТ, без Таирова-Камерного. Мы узнаем театр не столько по актерам и названиям спектаклей, сколько по именам: Мейерхольд, Вахтангов, Товстоногов...
Таганка — это театр Любимова, уйдет его идея, его видение мира, современности — и театра не станет. Не мог этого не понимать Анатолий Васильевич Эфрос, когда писал открытое письмо Ю. Любимову в эмигрантский журнал «Континент», упрекая его в том, что тот хочет погибели своему театру. К сожалению, от 30-х годов нам досталась знаменитая фраза: «Незаменимых нет». За этой фразой страшное пренебрежение к индивидуальности, к личности человека. В наше время надо буквально кричать: «Каждый человек незаменим! Помните это!» Ю. Любимова нельзя заменить потому, что он — Любимов, потому, что он угадал время, когда в 1964 году создал Театр на Таганке...
ИЗ ИНТЕРВЬЮ С Ю. П. ЛЮБИМОВЫМ
(в беседе с Ю. П. Любимовым участвовал старейший друг Театра на Таганке, член художественного совета театра Михаил Александрович Еремин)
«— Юрий Петрович, помните, как к вам в театр пришел Леонид Филатов?
— Помню. Он играл Актера из пьесы М. Горького «На дне». Мне это понравилось, и я сразу пригласил его работать, но он норовист, характер у него сложный... Мне очень нравится, как Леонид сочиняет пародии, по-моему, он достигает прекрасных по сути вещей, может, проникает через актерский свой дар? Не знаю, что здесь помогает. Он актер умный, с ним приятно беседовать и интересно работать.
— А есть что-нибудь, чего Леониду не хватает как профессионалу?
— Он очень много всего делает, а ему надо сосредоточиться, потому что выпала прекрасная возможность сыграть интересные роли в «Маленьких трагедиях», а он как бы забегался в славе... Звездная болезнь, я считаю, одна из страшных болезней, это как СПИД. Про человека говорят: «Прошел огонь, воду и медные трубы». Огонь и воду многие проходят, а вот «медные трубы» — редко кто. Леонид, надеюсь, пройдет «медные трубы», только, не дай Бог, кто это испытание не выдержит, теряет все. И нет уже ни трубы, ни огня...
— Как вы считаете, реализовались ли возможности артиста в театре?
— Филатов не совсем раскрылся в театре, у него больше возможностей. Если бы сейчас я ставил «Бесов» Ф.М.Достоевского, то Леонид мог бы сыграть Петра Верховенского. Я вижу его развитие в театре. Творческий запас у пего большой, поэтому я дал ему роли в «Маленьких трагедиях» А.С.Пушкина. Рассчитываю, что через характер Леонид сможет очень глубоко эти роли постичь, то есть подойти к тому, как Пушкин эти роли определил: Зависть, Скупость... А иногда Леонид сам виноват, он мог давно играть Мастера. Когда ставился спектакль, он был занят и вводился в спектакль уже без меня. Собираюсь переделывать спектакль и обязательно порепетирую с ним. Леониду в этой роли не хватает булгаковского взгляда на жизнь, где-то — философичности. А во второй части спектакля он должен думать о фразе, которую говорит Воланд: «Здорово его отделали!» У него мало этого чувства, что его сильно отделали дьяволы.
Я считаю, что Леонид очень прилично сыграл в спектакле «Что делать?». В поэтических представлениях он прекрасно чувствует стих, сам пишет, может, поэтому так удалась роль Пушкина в спектакле «Товарищ, верь!». Леонид хорошо работал в спектаклях «Дом на набережной», «Владимир Высоцкий»... Он человек мыслящий, творческий...
— Как вы нашли профессиональную форму актеров театра, когда вернулись?
— Кто-то из них профессионально стал крепче, кто-то погряз в штампах, очень много маньеризма, как на Западе говорят...
— А Леонид?
— Все-таки он живой. Старается понять, что режиссер от него хочет, а в наше время это заслуга, потому что артисты стали мало ценить форму.
— Как вы относитесь к тому, что современные актеры совмещают работу в театре и в кино?
— Для театра, когда актеры много работают на стороне, плохо. Страдают от этого главные режиссеры. Правда, я сейчас гражданин Израиля, гость. Работаю по контракту. Однако такое чувство, что я никуда не уезжал из театра, потому что я двадцать лет его создавал, делал, в театре я знаю все. В стране за пять лет, которые я здесь не был, произошли изменения, много интересного, радующего читаешь в журналах, видишь по телевизору.
— Как вы относитесь к временному уходу Леонида из театра в период вашего отсутствия?
— Мне об этом трудно говорить... Сейчас в театре идут, конечно, смешные споры: кто благороднее — кто остался или кто ушел? Контраргумент тем, кто ушел: «А если б и мы не остались и не сохранили театр, то вам некуда было бы и возвращаться». Мне покойный Анатолий Васильевич Эфрос написал открытое письмо в эмигрантский журнал «Континент», который наша страна не жалует. Журнал предложил мне ответить. Я отказался, так как ответил бы с удовольствием, но в «Советской культуре», в «Литературной газете», там, где знают всю происшедшую историю. Напечатайте оба письма в советском издании, и тогда я отвечу. Главное обвинение Анатолия Васильевича было в том, что я хочу, чтобы театр распался, умер. Однако он, понимая, что я этого хочу, так как мне как художнику обидно, что театр существует без меня, прощает мне это желание. Мне кажется, что некрасиво обвинять другого человека в том, что он хочет зла своему детищу. Почему я, как говорится по-народному, издалека начинаю, потому что вот это и говорит о поступке. Каждый в тот момент совершал свой поступок. Наступает время, когда человек должен что-то решить, вот это и определяет личность...
М.А.ЕРЕМИН: «У покойного Анатолия Васильевича была двойная вина. Когда Юрий Петрович в первый раз уезжал в Италию, Анатолий Васильевич ставил на Таганке „Вишневый сад“ с согласия и по приглашению Любимова. И после этого идти в этот театр... Я до последнего не верил, когда мне говорили, что Эфрос назначен на Таганку. Ребята, которые ушли, поступили благородно, и никаких разговоров на этот счет не может быть среди оставшихся, тем более что все знали обстоятельства травли на расстоянии. И знали, что их обманули...»
Ю.П.ЛЮБИМОВ: «Мне было официально разрешено лечиться. В театр сообщили, что я вернусь через 2-3 месяца, а тем временем уже был назначен Эфрос. Все время шла игра, и, конечно, люди понимали эту игру. Москва знала, что происходит».
Т.В.ВОРОНЕЦКАЯ: «Сейчас во всем обвиняют чиновников. Однако во все времена, даже самые жестокие, человек сам определял свой выбор».
Ю.П.ЛЮБИМОВ: «Одних чиновников нельзя винить. Это не сталинское время, когда грозило что-то страшное в случае отказа. Тем более Анатолий Васильевич сам пережил когда-то трудную ситуацию, когда его выгнали из Театра Ленинского комсомола. Тогда все мы его поддержали, цех поддержал. А после смерти Володи Высоцкого все близкие мне люди видели, что тут со мной творили. Было ясно, что фактически дело идет на уничтожение... Я не хочу быть злым. Думаю, что тут было сильное влияние людей, окружавших Анатолия Васильевича. Он был человек слабый, надломленный чиновниками. Было время, когда они и с ним обращались жестоко... однако потом он имел все, никто его не притеснял...»
— Юрий Петрович, почему вы решили сейчас поставить «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина?
— Сейчас все гонятся за острыми материалами, а надо заниматься искусством. Разве не современен «Живой» —пьеса, которая пролежала двадцать один год? Конечно, спектакли стареют, дряхлеют. Уходит жизнь. Остается одна голая форма. Если есть надежда, что форма совершенна и современна, то надо обновить спектакль... Собственно, так делали и старые мастера. Они возобновляли лучшие свои работы. Конечно, это глупость, что новое — это всегда что-то лучшее. Можно в первый год сделать что-то интересное, а потом десять лет ничего подобного и не суметь сделать, Если удается создать интересное произведение искусства, то его надо беречь, чтобы оно жило дольше...
Я особенно поразился за рубежом. Когда ко мне приходили сотни людей и приносили пожелтевшие программки нашего театра. Как ни парадоксально, но там я ощутил, для скольких людей театр был духовной отдушиной. Я обижался на актеров, что они этого не понимают, вернее, недооценивают, внешне вроде приятно, а внутренне они мало ценили это. Когда появились подряд такие работы, как «Борис Годунов», «Владимир Высоцкий», стало понятно, что театр не успокаивается, а снова обретает силу. Появилась возможность идти дальше, но, конечно же, при доброй воле и самоотверженности актеров. Все время, которое у меня будет, постараюсь отдать театру... Я свои шаги сделал, актеры попросили, я приехал и работаю.
— Какие человеческие качества Леонида Филатова вам импонируют, а какие — нет?
— У него, слава Богу, есть редкое качество — представление о товариществе. А то, что я бы ему не пожелал, — он иногда бывает несдержан и становится экстремичен в каких-то своих соображениях, которые его одолевают. И тогда он считает, что безусловно прав».
Когда говорим о Леониде Филатове, понимаем, что его судьбу определил во многом театр и, конечно же, Юрий Петрович Любимов. Видимо, чтобы понять личность актера, формирование его творчества, надо хотя бы обозначить те актерские проблемы, которые возникали в театре, и понять принципы, определяющие существо Театра на Таганке.
В 1969 году, окончив Щукинское училище, Леонид Филатов пришел «показываться» на Таганку. Его отговаривали, говорили, что этот индустриальный театр не для него, что он нужен там, где мог бы создать роли с тонким психологическим рисунком. А на Таганке—одни горластые! «Там все орут» — так пугали Леонида. Однако было попятно, что Театр на Таганке—это интересно, престижно. Попасть туда и зрителям и артистам было просто невозможно. Там были Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, там была Зинаида Славина, знаменитая по театральной репутации на всю Москву. Там была Алла Демидова, Вениамин Смехов — к тому времени это были уже имена! «В Щукинском училище, — говорит Леонид, — все разговоры были вокруг Таганки: что там делают, кто играет?..» Какие поэты, писатели собирались на Таганке: А.Вознесенский, Б.Ахмадуллина, Е.Евтушенко! Невозможно было не хотеть в этот театр человеку, пишущему стихи, пьесы, пародии, сочинявшему песни.
Первые два года работы в театре не принесли Леониду желанных ролей. Юрий Петрович Любимов давал небольшие роли в спектаклях, а хотелось по нахальству молодому чего-то более значительного. В это время Леонид пишет пьесу «Время благих намерений» для дипломного спектакля Щукинского училища. Играли в спектакле Юра Богатырев, Наташа Варлей, Костя Райкин. Ставил спектакль режиссер Валерий Фокин, который учился на параллельном режиссерском факультете. Аркадий Исаакович Райкин посмотрел спектакль. Пьеса ему понравилась, и он пригласил Филатова на разговор. «В театре я тогда особенно занят не был, — вспоминает Леонид, — Аркадий Исаакович так мило умел разговаривать: „Ленечка, я вам предлагаю в моем театре писать, играть, то есть делать все, что вы хотите. Пожалуйста“. Разговор меня как-то вдохновил». Леонид преодолел этот соблазн, так как понимал что за Таганкой стояло время, определенная идея, режиссура.
К тому же в это время Юрий Петрович Любимов предложил первую крупную работу артисту — роль Автора в спектакле «Что делать?» (1970 г.) по роману Н.Чернышевского.
Спектакли Любимова, как правило, полифоничны. В них сопрягаются разные времена, пространства. Многоголосие, создающее особый временной объем, позволяет рассматривать события, людей в разных временных ракурсах. По этому принципу построен спектакль «Что делать?». Роль Автора в спектакле —своеобразный центр полифонии. Автор в спектакле не простой комментатор событий, к которому часто прибегают из-за просчетов в драматургии, и не попытка изобразить самого Н. Чернышевского. Автор Филатова — обобщенный образ времени, образ «нового типа человека». Ироничность, ум актера, его острое чувство справедливости пригодилось как протест против обывателя, его духовной, умственной ограниченности, которая порождает злобу, зависть, цинизм. Автор Филатова не монологичен, он в постоянном диалоге со временем, со зрителем. В рецензиях на спектакль тех лет писали: «Образ Автора — несомненная удача театра: его драматургия, сценическое решение образа и, наконец, работа Филатова с ее неподдельной искренностью, умом, тактом, чувством меры». Филатов остался в театре.
ИЗ ИНТЕРВЬЮ С КИНОРЕЖИССЕРОМ СЕРГЕЕМ СОЛОВЬЕВЫМ
«...Потом я, как и все мы, „болтался“ в Театре на Таганке. Наблюдал, как Леня медленно не то чтобы входил, „вползал“ на Таганку, очень осторожно, пробиваясь между тогдашними уже мастодонтами: Высоцким, Губенко, Демидовой... Нельзя сказать, что после какой-то роли, сыгранной Филатовым, все ахнули и он встал вровень с Высоцким. Не было такой роли. А была какая-то очень духовная роль в этой компании, которая, в общем-то, не была компанией добряков и не стала бы с любовью пододвигаться при любом натиске извне, а все-таки для Лени раздвинулась и нашла место. Я думаю, что дело тут не в какой-то актерской удаче, а в том, что Леня внес в этот необыкновенный, разнообразный, талантливый спектр личностей, из которых состояла Таганка, свою личностную окраску, такую своеобразную, которую не спутаешь ни с чем, как бы ерническая Таганка. Поскольку Таганка — детище 60-х годов, романтический статус ее создателей и почитателей очень ценился, некий такой романтический либерализм. И вдруг Леня позволяет себе выступать, в общем-то, пародистом романтических постулатов такой Таганки. В том, что его приняли в театре, сказалось здоровье труппы, которая ощутила как необходимость вот эту ерническую краску...
Отношение к Таганке у Леонида бесконечно уважительное. Я бы сказал, что, может быть, самым главным романтиком из таганковцев оказался Леня. Когда настали дни перемены руководства театра и Анатолий Васильевич Эфрос пережил не лучший год с этим театром, как и театр с ним, то огромное количество любимовских романтиков проявили себя вполне разумными и прагматическими существами, которые попытались каким-то образом приспособиться к ситуации. Безумствовало очень мало народу. Самым главным романтичным безумцем был Леня, который на всех углах кричал о случившемся. Можно было подумать, что он внебрачный сын Любимова, а все остальные из детского дома. Леня очень болезненно воспринял случившееся...».
ТАГАНКА-75
(пародия на стихи А. Вознесенского)
Таганка, девочка,
Пижонка, дрянь!..
Что ты наделала,
Ты только глянь!..
О, Апокалипсис
Всея Москвы...
Толпа, оскалившись,
Крушит замки!..
Даешь билетики!..
А им в ответ:
Билетов нетути!
Физкульт-привет!
Такое скопление людей я видел только трижды в жизни: во время студенческих волнений в Гринвич-Виллидж, на фресках Сикейроса и в фильмах Бондарчука.
Лоллобриджидочка,
Чернявый бес,
Вы были в джинсиках,
А стали — без!..
Очкарик в свитере,
Второй Кювье,
О, как вам свистнули
По голове!..
Профессор с Запада,
Заморский гость,
Где ваши запонки,
А также трость?..
Знаменитости стояли в очереди особняком. Банионис кричал: «Я — Гойя!» Ему не верили. Все знали, что Гойя — Я.
Кассирша в ботиках
И в бигуди
Вопит: о Господи,
Не погуби!..
Ату, лабазники,
Ату, рвачи!
Как ваши блайзеры
Трещат в ночи!..
Пусть мир за стеночкой
Ревет в бреду!..
Сижу, застенчивый,
В шестом ряду.
«Я в театре очень мало работал за свою жизнь, —говорит Леонид, — не так много, как мне хотелось бы. Сказать, что у меня были какие-то необыкновенные успехи в театре, наверное, нет. В кино все-таки какие-то истории, типы, судьбы. Однако при всем при том я внутренне больше ощущаю себя театральным человеком, нежели человеком кино. И могу объяснить, почему так: потому, „то я пережил за этот дом что-то и переживаю“.
В театре у Леонида не было больших ролей. То, что он играл в театре, по его мнению, как бы «не принципиально». Роль Автора в спектакле «Что делать?», Неизвестный в спектакле «Дом на набережной», Горацио в «Гамлете», Мастер в «Мастере и Маргарите». Этот список можно продолжить, но в нем не найдется той роли, которая наиболее полно дала бы возможность раскрыться актеру, а его нервной, интеллектуальной, остросовременной натуре как-то обозначить себя, свое время, свое кредо. По мнению Любимова, Филатов не совсем раскрылся в театре. Причин, объясняющих это, много.
«После спектакля „Что делать?“ судьба как бы перестала быть ко мне милостивой,—вспоминает Леонид,—так получалось, что по тем или иным причинам я не мог играть очень интересные роли, которые мне предлагал Юрий Петрович». В «Преступлении и наказании» Леонид не сыграл Раскольникова, так как в это время у него совсем пропал голос и ему делали операцию на голосовых связках. Он не мог работать, хотя очень хотел сыграть Раскольникова. Вслед за этим— «Борис Годунов», роль Самозванца, а Леонид улетает в Колумбию на съемки «Избранных» к режиссеру С. Соловьеву. Играл роль Самозванца Валерий Золотухин, и притом замечательно. Приехать после съемок и сказать: «Дайте мне тоже поучаствовать» как-то неловко и некрасиво, и неизвестно, получилось бы, ведь спектакль уже сыгранный, сложный. От роли Мастера в спектакле «Мастер и Маргарита» Леонид поначалу отказался по принципиальным соображениям, так как считал, что Мастер — это как бы облако духовности, которое нельзя изобразить, или это может только человек, чья судьба как бы ложится на судьбу Мастера, то есть сам Любимов. Сейчас Леониду дали несколько ролей в новом спектакле Ю.Любимова «Маленькие трагедии». Две из них —Сальери и Барон. Зависть и Скупость — назвал их А.С.Пушкин.
Постараемся понять, почему же все-таки так много значит для артиста театр. Одна из причин, которая привлекла в свое время артиста к театру, — люди, которые окружали театр: Федор Абрамов, Борис Можаев, Андрей Вознесенский, Юрий Трифонов. «На разных этапах с театром были связаны разные люди, — говорит Леонид, — у меня с возрастом к ним совершенно разное отношение. Но благодарность моя юношеская все равно по отношению к ним остается, как к людям, которые меня многому научили в искусстве. Конечно, климат в театре не мог не стимулировать что-то писать. Поэтому артисты стали писать — В. Золотухин, А. Демидова, В. Смехов. Я не говорю сейчас о В. Высоцком — это явление автономное. Отчего мы все раскрылись? Театр как бы нас заставлял, вынуждал этим заниматься...». Леониду не важно, играет ли он главную роль или второстепенную, ключ к пониманию этого лежит в его натуре. Для него театр, спектакль — это событие жизни, ему интересно принимать в нем участие. Свои личные, актерские интересы уходят на второй план. Главное — это театр, его идея, в которую ты веришь, живет и развивается. Леониду Филатову свойственна удивительная преданность всему, чем он занимается, полная отдача своему делу. На репетициях он ловит каждое слово режиссера, пытаясь понять его концепцию. Он готов к эксперименту, к поиску. Удивительно молодое, открытое состояние души. Не надо понимать слова «интересно играть» как любовь только лишь к самому процессу. Нет. Для Филатова важен результат, но не столько его личный, сколько само произведение в целом. Отсюда особое понимание роли театра в его жизни, в его судьбе. Это как бы «его дело», которому он преданно служит вот уже двадцать лет. И, конечно же, в театре Леонид совершенствует мастерство, профессионализм; постоянная школа, тренинг.
«Я понял, насколько мне дорог театр, все накопления мои профессиональные связаны с этим домом. Копил я их здесь все, а тратил-то я их в кино. Здесь учился, как бы добирал что-то важное, и люди, которые окружали этот дом, воспитывали меня. А кино... как бы больше грабило. Театр — это где ты живешь, куда все свои болячки тащишь, где с живыми людьми общаешься, где можешь проверить себя, кто ты есть. И накопления все — театр. Театр воспитывает актера, а в кино некогда, пришел — перед тобой камера. Либо ты ас, либо ты — никто, с тобой возиться не будут».
Эти слова артиста перекликаются со словами Юрия Петровича Любимова, сказанными в интервью для журнала «Театр» еще в 1965 году.
«О каком актере мечтаю? О таком, который воспитывался бы у нас в театре. Вернее, я мечтаю, чтоб наш театр оказался способным всерьез воспитывать актеров»1. Как же воспитывается актер?
В статье «Скрипка Мастера» Вениамин Смехов говорит о всех тех ярлыках, которые долгие годы вешались на актеров театра и, конечно же, на сам театр: «Это не театр, а уличная банда», или: «Это не театр, а шесть хрипов — семь гитар» — «Я не отрицаю таланта Любимова, но он один, актеров нет!» — «Да они ему и не нужны!» — «Артелыцики-синеблузники»...2 Постепенно эти возгласы угасали, актеры Таганки прекрасно работали в кино, на телевидении, на радио; ведь «перед камерой ты — ас или ты — никто».
Однако, как, наверное, и в любом другом театре, на Таганке существовали конфликты между режиссером и актерами. Последние считали, что их свободу стесняют, мешают раскрываться их творческой индивидуальности. Из театра уходили: С. Любшин, А. Калягин... На эту тему хорошо сказал известный итальянский режиссер, ученик Б. Брехта Джордже Стрелер: «Актеры — это наши братья и наши враги, они с нами сотрудничают и в то же время нас саботируют... Они сторона именно саботирующая, но не противная. Точного слова не подберешь. Каковы же отношения между режиссером и актерами? Для меня это достаточно ясно: отношения между ними диалектические, но диалектика не исключает существования противоположных мнений, споров, противоречий. В конечном итоге усилия режиссера и актеров должны сводиться к некоему единству»1. Однако «последнюю ответственность» Стрелер оставляет за режиссером. Без этой ответственности, по его мнению, невозможен никакой театр, то есть режиссер, как говорит Брехт, «должен обладать способностью руководить и быть руководимым».
Долгое время этот конфликт театра переводили в какой-то личностный ряд, сводили к дурным характерам, однако, как это ни парадоксально, но именно этот конфликт дает энергию развитию театра. «Что спорить, — говорит Ю.Любимов, — лучше сыграть несколько вариантов сцен. В этом сила и тренинг хороший... Если актера не убеждает концепция режиссера, он вправе уйти, но и режиссер вправе попросить актера играть его концепцию все-таки... А иначе весь спектакль растащут... Тогда, поначалу, актерам казалось, что я суров, так как не даю им полной свободы, закрепощаю их рисунком, формой. Однако ведь держится театр, и актеры везде успешно работают, потому что понимают, что такое форма».
Так что же во многом определяет театр Любимова? Прежде всего — поиск формы, наиболее идеально передающей существо произведения. Она — во всем, в том числе и в актерской игре. Форма — не самоцель, форма — существование, способ познания. В отличие от кинематографа, телевидения и других видов искусства преимущество театра в его живом общении со зрителем. С появлением кинематографа театру предрекали смерть, но нет пока замены живому дыханию театра, особенно в наш век усложнившихся человеческих отношений, остро вставших вопросов коммуникабельности и одиночества. Говоря об общении в театре, мы подразумеваем под этим именно общение, контакт между зрителем и актерами. Для такого контакта актерская личность, индивидуальность особенно необходима в современном театре. Сегодня не интересно некое безликое действо, где актер — транслятор идей, заложенных в драматургии, и не более того. Поэтому, чтобы совместить идею, мысль своего героя со своим «я» и тысячью зрителей, нужен момент отстраненности в собственной роли, где ты и роль если и сливаются, то на миг наивысшего творческого откровения. К такому состоянию актера подводит режиссура, форма, рисунок роли, жесткий и четкий, овладев которым актер обретает особую свободу, возможность импровизировать. Найденная форма позволяет оптимально воплотить существо роли.
Театр на Таганке всегда отличало максимально активное участие зрителя, включение его в действие, иногда даже эпатаж. Главное — вывести зрителя из состояния безразличия, душевного сна, чтобы он наиболее остро ощутил время, свою сопричастность к проблемам дня, истории, чтобы конфликт прошедший стал его личным конфликтом, его болью. На эго направлена вся режиссура спектаклей, и личность актера обретает особое значение. На одной из репетиций «Маленьких трагедий» А.С.Пушкина Ю.П.Любимов, давая комментарии артисту, сравнивая актеров Запада и нашей страны, сказал: «Очень трудно достучаться (на Западе) до актера, задеть его за живое, но когда это удается, получается огромный результат, там даже больше, чем здесь... Здесь все-таки легче, актеры понимают, что необходимо, чтобы работала личность художника, а не только ремесло, хотя и очень высокое. В него входит и умение искренне плакать, и предельно правдиво жить, но все равно актер как бы закрыт, несмотря ни на что. Грубо говоря, школа представления, очень высокого, но представления. А в дополнение к Станиславскому не то, что он называл школой переживания, — »жизнью человеческого духа«. Это несколько высокопарная формулировка. Я бы сказал так: данные личности господина Артиста, без которой брехтовский театр вообще не может существовать. В нем же действует закон отчуждения, который позволяет актеру как бы отойти в сторону, но для того, чтобы отойти от своей личности, надо ее иметь, а то некуда отходить. Извините за парадоксы такие, но это так. Мне бы хотелось, чтобы это замечательное стихотворение А.С.Пушкина было от вашей личности прочитано...»
Форма, личность актера — это прежде всего эстетическая модель, концепция театра, конечно же имеющая свои исторические корни. Подобная модель невозможна без еще одного важного компонента, который дает свободу таланту, личности, — профессионализма. Профессионализм актера — максимальное владение собой, своими нервами, речью, телом, мимикой.
Все имеет взаимосвязь: личность — талант—профессионализм. Чем богаче «внутренняя речь», звучащая в сознании актера, тем точнее его жесты и тон речи. «Жест и тон—это синтаксис для деятелей театра» . Как важно правильно подобрать синтаксис, чтобы он был точно для твоей роли, твоего внутреннего состояния.
МГНОВЕНИЕ ТИШИНЫ
В сошедшей с ума вселенной,—
Как в кухне, среди корыт,—
Мы глохнем от диксилендов,
Парламентов и коррид.
Мы всё не желаем верить,
Что в мире истреблена
Угодная сердцу ересь
По имени Тишина.
Нас тянет в глухие скверы,—
Подальше от площадей,—
Очищенные от скверны
Машин и очередей.
Быть может, тишайший гравий,
Скамеечка и жасмин—
Последняя из гарантий
Спасти этот бедный мир...
Неужто, погрязши в дрязгах,
Мы более не вольны
Создать себе общий праздник—
Мгновение и пинаны?..
Коротенькое, как выстрел,
Безмолвное, как звезда,—
И сколько б забытых истин
Услышали мы тогда!..
И сколько б Наполеонов
Замешкалось крикнуть «или!»,
И сколько бы опаленных
Не рухнуло в ковыли...
И сколько бы пуль напрасных
Не вылетело из дул!..
И сколько бы Дам Прекрасных
Не выцвело в пошлых дур!..
И сколько бы наглых пешек
Узнало свои места!..
И сколько бы наших певчих
Сумело дожить до ста!..
Консилиумы напрасны.
Дискуссии не нужны.
Всего и делов-то, братцы.—
Мгновение тишины...
«— Леонид Алексеевич, у вас есть недостатки, которые мешают в работе?
— Да. У кого же их нет? Мешает и непоследовательность, и непостоянство в работе. Не умею сопротивляться обстоятельствам. При всей реактивности своего существования я очень мягкодушен. Почти не умею говорить «нет», из-за чего снялся во многих фильмах, которых вполне бы могло не быть в моей жизни. Пытаюсь быть потверже».
...Театр работает над «Маленькими трагедиями» А.С.Пушкина. К десяти часам утра Леонид приходит на репетиции, которые идут до трех часов, а вечером, в 18.00, опять необходимо быть в театре и готовиться к вечернему спектаклю. Режим более чем жесткий. Репетиции — не простое повторение текста. Всякий раз это проживание, интерпретация, варианты, смысловые нюансы, определяющие твою пластику, речь; споры с собой, с партнерами по роли, с режиссером, которые происходят не столько в словах (хотя и в них тоже, без этого не обойтись), сколько в твоих вариантах игры.
Декорации «Маленьких трагедий» в традиции театра — скромны и лаконичны. Задник новой сцены театра с зияющими черными проемами окон. Вдоль всей сцены—стол, покрытый черным сукном. Около каждого места за столом сделан потайной свет, освещающий лица актеров. Никакой костюмной шумихи. Все актеры в черных плащах... За столом Пира сходятся герои «Маленьких трагедий». Трагедия «Пир во время чумы» —драматургический центр спектакля. Стол Пира превращается то в могилу Командора, то в клавесин Моцарта, то в сундук с золотом Скупого рыцаря. За этим столом совершаются убийства, предательства, обман, за ним же пируют и ноют в разгул чумы и смерти. Как бы все действие спектакля происходит за столом. Это режиссерское решение несколько настораживает, кажется излишне статичным и несценичным. Любимов ищет варианты динамики, чтобы пушкинский текст мог читаться вольно, свободно, не был задушен скованностью артистов. Все сидящие за столом могут свободно передвигаться, так как кресла, на которых они сидят, с колесиками. Артисты движутся по сцене, усиливая интонации поэтического текста. «Езда» дается пока сложно, действия актеров и текст, который они произносят, а тем более мысли и душа еще не согласуются, что вызывает у них раздражение...
Ю.П.ЛЮБИМОВ: «Надо репетировать вольно, иначе задавит Пушкин. Поэтому я говорю: „Не надо шептать! Играть все это надо широко, не приучать себя, что постепенно я дойду до глубокой правды. Нет! Тут легче приходить к настоящей правде через форму, потому что форма дает широту. Формой я называю знаки препинания, цезуру, широту строфы. Нельзя обыденно говорить, вы же понимаете, это невозможно!“ Я думаю, можно Н.Эрдмана сыграть идеально, поняв его интонацию. Вот почему К. Станиславский все время просил его приходить в театр и читать пьесу, чтобы артисты мхатовские услышали, как он, создатель пьесы, чувствует ее. Потом Константин Сергеевич спрашивал артистов, поняли ли они, как надо играть эту пьесу... Поехали дальше...»
Любимов на репетиции сидит на своем обычном месте — в десятом ряду, за столиком с лампой. Когда ему что-то не нравится, он включает лампу и начинает говорить, объяснять, спорить, иногда идет к сцене и там продолжает разговор с актерами...
«Прошу вас медленно отъезжать в креслах, не надо резко. Тогда будет красивая сцена... Как бы прислушиваясь... Замедленно... Отъехали... послушайте, я слышу стук колес. „Чумная“ телега едет... Поворачивайтесь. Отъезжайте...». Актеры в напряженном молчании прослеживают со сцены глазами путь «чумной» телеги, которая подается только монотонным звуком — напоминание о смерти... В городе умирают, в городе — чума... Сцена не удается. Любимов недоволен. Движения в креслах у актеров пока порывистые, корявые, сбивающие их с текста, а не помогающие.
Юрий Петрович объясняет актеру Валерию Золотухину, как должны звучать слова А. С. Пушкина:
«Я вам на духу говорю, мы создали такую атмосферу, что „быть искренним невозможность физическая!“ Фи-зи-чес-ка-я! Понимаешь? Можно из презрения не лгать, но, как Свидригайлов говорил: „Я мало вру“. Понимаешь? Там его обвиняют, и он объясняет: „Я мало вру...“, то есть вру, вру, но минимум. Поэтому Пушкин говорит: „Не лгать можно, трудно, по можно“, но быть искренним —невозможность физическая... Мы создали такую атмосферу, что открыто жить нельзя — затопчут, заклюют. Все хитрят, все безобразничают... ведь вот в чем дело, тогда только это становится циничной точкой зрения твоего героя. Нельзя у нас, нельзя! Понимаешь?! Нет? Чтобы тебе было легче, ты можешь доехать на своем кресле почти до края сцены и сказать: „Невозможность фи-зи-чес-ка-я...“
Юрий Петрович пытается найти наиболее точное пластическое выражение для этих слов поэта, чтобы они стали внутренним движением артиста.
Ю.П.ЛЮБИМОВ: «И поймите, все-таки это отчаянный Пир. Как вам священник говорит: „Безбожный пир, безбожные безумцы!..“ Драматургически это основная интонация всего происходящего, ведь Пир все связывает...»
Каждая трагедия в спектакле имеет свой цвет. «Скупой рыцарь» — желтый цвет золота. «Каменный гость» — мертвенно-голубое освещение ночного кладбища, свет смерти... Почему вдруг сегодня, в своеобразный бум документализма, публицистики, вполне понятного и естественного интереса прежде всего к факту, к истории, Юрий Любимов, всегда такой чуткий к состоянию души и переживаниям общества, вдруг обращается к А.С.Пушкину, к его «Маленьким трагедиям», которые вроде бы далеки от нас сегодня? Но так ли далеки? Все маленькие трагедии объединяет разговор о вечной теме искусства — нравственности. Правда, это понятие долгое время излишне узко мыслилось в нашем обществе, синонимом ему было чуть ли не ханжество.
Когда у людей исчезает совесть, то становится возможным любое злодейство. Никита Сергеевич Хрущев в своих воспоминаниях хорошо писал о совести Сталина. «...Одной головой меньше, одной больше — какое это имеет значение для Сталина. Как с совестью быть? Совесть у Сталина? Его совесть? Он бы сам посмеялся. Это буржуазный пережиток, буржуазное понятие. Все оправдывается, что говорит Сталин, он говорит только лишь в интересах революции, интересах рабочего класса». Поэтому нравственность обретает особое, определяющее значение в моменты революционные для общества. Сегодня, как никогда, «Маленькие трагедии» Пушкина злободневны. Что стало с нашей нравственностью? Когда-то Федор Михайлович Достоевский описал картину падения общества, рассуждая о «Египетских ночах» А.С.Пушкина: «Пир; картина общества, под которым уже давно пошатнулось его основание. Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело, все бросается в телесный разврат и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, разряжает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает...»1.
Любимовская трактовка Пира не столь отчаянна и безысходна. В центре внимания прежде всего процесс падения, путь к безнравственности. Чума как следствие состояния общества. Любимову важны не столько картины апокалипсиса, сколько точные психологические нюансы в показе Злодейства. Поэтому все внимание к актеру. Филатов играет одни из самых сложных и интересных ролей маленьких трагедий — Сальери, Скупой рыцарь. Он показывает зло во всем его развитии, во всей его оправданности, а потому и глубине падения.
...Репетиция продолжается... За черным столом Пира — Сальери...
ФИЛАТОВ: «Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня...»
ЛЮБИМОВ: «Леонид, подожди. Обрати внимание, там не случайно точка стоит! Надо это понять... Это не важно, в те времена, в эти ли, а в те уж особенно — такое открытое отрицание всего! Поэтому и начинается большой монолог Сальери в подтверждение мысли, что вот моя жизнь вся, что является какой-то странный человек Моцарт и ломает ее. Почему? Я думаю, весь монолог Сальери — огромная подготовка к оправданию убийства. Как бы идеологическая подготовка, убеждение самого себя в правильности своего поступка и прямая апелляция к нашему разуму. По завету наших великих учителей монолог надо превратить в диалог. Подумай, как ты можешь превратить его в диалог с залом и собой. Начинает Сальери с предельного цинизма: „...Все говорят: нет правды на земле, но правды нет и выше...“ Для него это так же ясно, „как простая гамма“. Он и дальше начинает довольно энергично рассказывать весь свой путь.
Когда я ставил этот спектакль в Швеции, то помогал актеру, который играл Сальери, движению его мысли музыкой. Если хочешь послушать, можем послушать сейчас музыку... Теперь давай сначала... Музыка тебе будет помогать, но имей в виду железную логику своего героя, что ты — Сальери — прав. Моцарт должен исчезнуть...»
ФИЛАТОВ: «Да. Понятно...
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Родился я с любовию к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался — слезы
Невольные и сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыки, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны
Пылая, с легким дымом исчезали.
Что говорю? Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?..»
ЛЮБИМОВ: «Леня, ты должен как хирург великий все вскрывать. Сальери нам поверяет все свои тайны: я мальчиком любил музыку так, что плакал, когда играл орган в старинной нашей церкви, я не был сухим, вы думаете, что я сухарь, который ничего не чувствует, ничего не знает? Нет! Я доказываю всем своим огромным монологом, что...» ФИЛАТОВ: «Что здесь особый случай...» ЛЮБИМОВ: «Да, особый случай. Моцарт губит нам все, потому что все наши правила опровергает. Он для Сальери странное исключение и, по его мнению, не нужен искусству. Моцарт разрушает гармонию искусства, он разрушает труд, он разрушает школу, он все попирает, поэтому он должен быть убран!»
ФИЛАТОВ:
«Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я».
ЛЮБИМОВ: «Леня, мне кажется, что в этих словах —огромная зависть. Они как бы выдают Сальери. Он с такой завистью весь в музыке этой. Это один из самых мрачных моментов трагедии, когда мы слушаем гениальную музыку и видим зависть, ненависть человека».
ФИЛАТОВ:
«...Вот яд, последний дар моей Изоры.
Осьмнадцать лет ношу его с собой —
И часто жизнь казалась мне с тех пор
Несносной раной, и сидел я часто
С врагом беспечным за одной трапезой,
И никогда на шепот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хотя обиду чувствую глубоко,
Хоть мало жизнь люблю. Все медлил я.
Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь...»
ЛЮБИМОВ: «Подожди, Леня! Послушай меня. что я тебе предлагаю здесь сделать: я не умер ради музыки. Я не любил жизнь и часто ставил перед собой вопрос: „Что умирать?“ Как ты сейчас предлагаешь, то огромный кусок о смерти не нужен. Если понимать вульгарно, то что, мол, помирать, я себе найду что-нибудь поинтереснее. Тогда зачем у Пушкина целое рассуждение о смерти? И почему один человек, Моцарт, любит жизнь, а другой, Сальери, ее не любит? Ведь вот в чем трагедия. Кто самые страшные люди? Те, которые не любят жизнь. Им ничего не нужно. У одного пунктик — власть, у другого еще что-то, но жизнь как таковую они не любят, Сальери никогда не скажет как Моцарт: „Играл я со своим мальчишкой, вдруг кличут...“ Вот в этом Моцарт, он играл с мальчиком, вдруг кто-то вошел и предложил ему написать Реквием. Он, услышав, как скрипач чудно играет его произведение, засмеялся и приволок его к своему приятелю, чтобы тот тоже посмеялся, а Сальери рассердился и начал брюзжать... Вот тогда вопрос ты этот ставишь: „Подумаешь! Вы все здесь сидящие мне сделали открытие: „Нет правды на земле... Но правды нет и выше“. Для меня это ясно „как простая гамма“, то есть тогда есть цинизм и проявляется вся сухость книжного человека, теоретика Сальери... Леня, дальше не торопись, двоеточие ставь, то есть Сальери оттягивал смерть, ставил вопрос о смерти, не дорожил жизнью, поэтому он и убивает“.
ФИЛАТОВ:
«А!
Ты сочиняешь Реквием? Давно ли?»
ЛЮБИМОВ: «Леня, здесь надо усилить. Восклицание у Пушкина. Какое дьявольское совпадение: „Ты сочиняешь Реквием?! Давно ли?“ В таких случаях поражают какие-то вещи даже такого типа, как Сальери. Он вроде бы травит Моцарта, а тот Реквием сочиняет, поэтому „А!“... Восклицание ставит Пушкин».
Юрий Петрович не совсем доволен, как складывается сцена. Делает замечания актеру Ивану Бортнику, играющему Моцарта.
ЛЮБИМОВ: «Моцарту происходящее кажется странным. Он в состоянии предчувствия, без которого тяжело сыграть эту роль, а иначе весь его рассказ становится чушью: „Все ко мне кто-то приходит и меня не застает. Приходит, а меня все нет. На третий день он, наконец, зашел и заказал Реквием. Я сел сочинять“. Нет же такого у Пушкина».
«...Ты сочиняешь Реквием. А!» — в этом есть дьявольщина, вот ты только что ему яд бросил, а он тебе признается: «Стыдно мне, но у меня предчувствие». Помните, как Гамлет говорил, что у него, как у женщины, предчувствие, что что-то случится. А Горацио ответил: «Тогда откажись, принц», но он отвечает, что нет, зачем? Что предопределено, пусть будет как уж будет. Моцарт видит в происходящем странность. Все дело именно в его предощущении... Обычно поэты-провидцы предчувствуют какие-то вещи заранее. Вот как Моцарт предчувствовал свою смерть. Тогда вам будет все это легко играть, тогда строфы будут давать вольность жизни, то есть свободу мыслить в стихотворной форме, — это очень трудно. Нужно соблюдать строфу, по именно овладение ею дает свободу. Вот почему я говорю: учтите знаки препинания, тогда строфа становится воздушной, в ней много воздуха и свободы. И слово тогда звучит прекрасно. Мне несколько раз довелось слушать, как Пастернак читал свои стихи. Как он заводился, все время входил в какие-то свои ритмы. Он был совершенно свободен в стихотворении, летал как бы в пространстве. Иногда, сохраняя ритм, держал паузу несколько секунд, находясь в какой-то странной позе, куда его уносила поэтическая волна. Это есть и в «Годунове». Строфа идет вольно, широко, становится все могучее, особенно в такой стихии, как «Годунов». В «Маленьких трагедиях» тоже есть стихия огромная. Возьмите «Пир во время чумы»:
«Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы...»
Тогда есть мощь большая, можно достичь трагедии. ФИЛАТОВ: «Ты заснешь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Неправда...»
ЛЮБИМОВ: «Леня, вот посмотри, что мне кажется здесь интересным: „...Не ужель он прав и я не гений...“ И гвоздь в голове: гений и злодейство— две вещи несовместные. Ведь это же цитата, он Моцарта повторяет. Неправда!!! А Бонаротти!!! Он же был убийцей! Или это все сказка тупой, бессмысленной толпы — вот этой, сидящей перед тобой. „И не был убийцею создатель Ватикана“ — тогда трагедия.
ФИЛАТОВ: «Классно сделано!»
ЛЮБИМОВ: «Сыграешь! Ты понимаешь, сколько в этих словах Сальери пренебрежения ко всем людям».
Репетиция продолжается. Драматургическая композиция спектакля была создана Ю. П. Любимовым. В нее он включил стихи А. С. Пушкина, написанные в момент духовного кризиса поэта. Юрий Петрович дает комментарии к стихотворению:
«...Ты пророчишь, ты зовешь, жизнь, что ты хочешь от меня. Какова моя миссия?» Представляете, Александр Сергеевич перед смертью задает себе эти вопросы во время бессонницы. Говорят, в последнее время жизни на него было страшно смотреть. По описанию современников, у него поредели волосы, он стал желтый, желчный, злой — комок нервов. Вот, наверное, тогда он читал бы совершенно иначе, представляете, с его-то африканским темпераментом. Это, видимо, были бы какие-нибудь страшные вопросы: «Мне не спится, нет огня. Всюду мрак и сон докучный...», то есть жесткий стих и в нем все время вопрос: «Что же мне делать?», Вот в такую минуту раздражения Пушкин вызвал Дантеса на дуэль.
...Ведь самое страшное, что сейчас происходит,—это хамство и свинство, которым мы все сыты по горло. Поэтому сверхзадача нашего спектакля — призвать людей достойно себя вести, чтобы не было такой дикой зависти, такой дикой скупости, цинизма.
Юрий Петрович переходит к репетиции трагедии «Скупой рыцарь». Леонид играет старого барона.
ЛЮБИМОВ: «Леня, я тебе буду говорить — то или не то, чтобы нам с тобой вместе искать, как лучше играть. Новелла Скупого идет в золотой гамме, имей это в виду. Пойми, ведь я энергию вытаскиваю из вас. Текст прекрасный у тебя, когда ты говоришь, что обманул смерть. Можешь всю фразу говорить острее: мол, смерть меня в прихожей дожидалась, а я ее обманул и все живу, живу! Я и его переживу, своего наследника, у меня задача такая — его пережить, а то ведь он думает, что наследство получит. А, нет! Не получит!»
ФИЛАТОВ:
«...Сокровища растут. Читал я где-то,
Что царь однажды воинам своим
Велел снести земли по горсти в кучу,
И гордый холм возвысился — и царь
Мог с вышины с весельем озирать
И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли.
Так я, по горсти бедной принося
Привычну дань мою сюда в подвал,
Вознес мой холм...»
ЛЮБИМОВ: «Леня, делай все противоположное. Сейчас ты деланно играешь. Пойми: „Мой! Мой холм!“ Даже зачесалось у него что-то. Барон стал поправлять рубаху, он же в старческом маразме. Рубашку можешь задрать до голого тела. Ты будешь покупать самые крупные таланты „и добродетель и смиренный труд“.
ФИЛАТОВ:
«Мне все послушно.
Я же — ничему».
ЛЮБИМОВ: «Попробуй теперь все это сбросить и осениться грандиозностью своего замысла: „Я выше всех желаний...“ Я вам уже сказал, что я все могу. Леня, здесь брось характерность: „Я выше всех желаний!“ И с этих слов как бы интимное нам поведай. Как бы Сталин сказал:
«Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья...»
Впрямую не надо копировать, Леня, но ритм речи Сталина можно взять».
ФИЛАТОВ:
«...Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, впадаю в жар и трепет...»
ЛЮБИМОВ: «Леня, я бы искал эту дикую скупость в какой-то чувственности. Сыграть надо до идиотизма дошедшую жадность. Тут такой сделай трюк. Иван, получив от еврея деньги, засыпал их в карман, а ты у него незаметно их все вытащил. Это как бы ваши взаимоотношения. Леня, потом я бы все-таки искал эту дикую скупость в какой-то чувственности. Недаром Пушкин делает такие сладострастные ассоциации:
«Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой».
Понимаешь, так я жду момента сойти к верным сундукам. Это уже где-то за гранью. Это страсть, дошедшая до безумия...»
ФИЛАТОВ:
«Мне все послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья...»
ЛЮБИМОВ: «Леня, помни, почему Федор Михайлович так обожал эту фразу: „С меня довольно сего сознанья...“ Вот что превыше всего:
Что не подвластно мне? Как некий демон
Отселе править миром я могу...»
Однажды на одной из репетиций случилось ЧП. После перерыва актеры потихоньку собирались на сцене. Актриса Наталья Сайко пыталась до начала репетиции отработать свои движения в кресле, однако не рассчитала и ее кресло сильно наехало на стол Пира, который находился на самом краю сцены и, как оказалось, был не закреплен. И вот, пошатнувшись, стол, длиной во всю сцену, начал падать в зрительный зал. Медленно, как-то ирреально — посуда, цветы, листки бумаги с актерским текстом посыпались с черной скатерти. Было в этом падении что-то жуткое, почти мистическое, как будто условное время спектакля прорвалось в настоящее, стало реальностью. Эмоциональная встряска помогла актерам на этой репетиции найти точную тональность напряженной атмосферы на сцене, почти физического ощущения злого рока, Чумы, которая незримо присутствует, определяя судьбу твоего героя, пусть пока еще живого, но уже обреченного.
Роли в «Маленьких трагедиях» — это не первая встреча Филатова с Пушкиным. Еще на 4-м курсе Щукинского училища Леонид вместе с Василием Дыховичным и Александром Кайдановским сыграл спектакль о поэте. Для Леонида Пушкин всегда был как бы составной частью его представлений о поэзии, о русской культуре, языке, искусстве, творчестве. Леонид в пятнадцать лет знал наизусть почти всего поэта. «С годами для меня Пушкин, — говорит Филатов в одном из своих интервью, — становится все ближе, все понятнее. Каждый раз, перечитывая, удивляюсь, а как же я на это раньше внимания не обратил или почему понимал что-то совершенно по-иному. Благодаря театру я научился точнее, тоньше чувствовать пушкинское слово, я стал как бы осязать его поэзию. И, конечно, стараюсь не упускать хотя бы малейшую возможность соприкоснуться с творчеством Пушкина на сцене... Нет, с Пушкиным расставаться никак нельзя»1, Леонид сыграл Сильвио в «Выстреле», Швабрина в «Капитанской дочке» и даже самого Пушкина в спектакле Театра на Таганке «Товарищ, верь!». Для своей жены Нины Шацкой, актрисы театра, он написал поэтическую композицию «Воспоминание о Пушкине».
ДУЭЛЬ
Итак, оглашены
Условия дуэли,
И приговор судьбы
Вершится без помех...
А Пушкин — точно он
Забыл о страшном деле —
Рассеянно молчит
И щурится ни снег...
Куда ж они глядят,
Те жалкие разини,
Кому, по их словам,
Он был дороже всех,
Пока он тут стоит,
Один во всей России,
Рассеянно молчит
И щурится на снег...
Мучительнее нет
На свете наказанья,
Чем видеть эту смерть,
Как боль свою и грех...
Он и теперь стоит
У нас перед глазами,
Рассеянно молчит
И щурится на снег...
Пока еще он жив,
Пока еще он дышит —
Окликните его,
Пусть даже через век!..
Но — будто за стеклом —
Он окликов не слышит,
Рассеянно молчит
И щурится на снег...
Работа над «Маленькими трагедиями» продолжается в своеобразных показах для зрителей. Любимов, сидя в зрительном зале, фактически на премьере спектакля оставляет за собой право делать замечания актерам прямо в полном зрительном зале, предупреждая зрителя перед началом спектакля об этом своем праве: зритель как бы помогает определить наиболее слабые места, становясь соучастником репетиционного процесса...
Сегодня театр под руководством Юрия Любимова пытается планировать свою театральную жизнь на несколько лет вперед. «Тогда, — считает Юрий Любимов, — не будет никаких творческих простоев и актер сможет запланировать свое время: если он не занят в данный момент в театре, то может, если хочет, что-то делать „на стороне“...».
С театром на Таганке судьба его была очень не простой, она складывалась сложно и драматично, так как он человек, который активно принимает все ситуации близко к сердцу и не может оставаться в стороне. Он всегда в гуще событий, он не может не реагировать, на что-то промолчать, где-то приспособиться, это просто не в его натуре, не имеет к нему никакого отношения, это для него противоестественно. Поэтому он и не оставался равнодушным, когда Любимов ушел из театра, то есть Любимого ушли из театра и заменили его Эфросом. Он не был против Эфроса, он был против самой ситуации. Тогда он считал, что Любимого невозможно заменить, что это недопустимая ситуация, что это театр Любимого. И когда Любимов вернулся в театр, на родину, этому событию все радовались, весь коллектив театра. Любимов естественно вернулся как хозяин, как отец в свою семью, к своим детям, где он главный, где он руководит, где он говорит и определяет. Для него было естественно тогда то, что для нас совсем было неприемлемо, по тому времени. Он хотел ввести контрактную систему в театре, половину актеров сократить, потому что они не принимают участие в постановках, некоторых убрать по возрасту, других по тем или иным причинам, известным только ему, вывести всех из труппы, потому что это театр и всех он кормить не может. К театру он относился более широко и привольно, потому что заслуга нового театра принадлежит ему, он строился при нем, он и распоряжается им, как хочет, собирался сдать его в аренду. Это было разжигание слухов и какой-то очень нервной ситуации, опять же вызванной обстоятельствами времени, когда люди не знали, что их ждет в целом, полная неразбериха была в стране. Как актер, выброшенный из театра, будет жить вне театра? И что это за аренда такая? Все может измениться в театре, и здание театра кому-нибудь отдадут? Все впали в панику. Потому что тогда еще не было тех отношений, которые и сейчас складываются с большим трудом, тогда это вообще была дикость, новость, все было непонятно. И конечно Любимов не проявил, той душевной гибкости, тонкости, которая была необходима людям. Он повел себя очень эгоистично, что вообще свойственно его натуре, как мне кажется. Для него актеры, в какой то мере, человеческий материал, из которого он лепит нечто вечное и нетленное. И вот этот «материал» стать протестовать, стал доказывать, что он, и это тоже было признаком времени, имеет на что-то право, что здесь прошла вся их жизнь, и потом, естественно, часть актеров на склоне лет, уже больше не нужны нигде, остаются за бортом, они честно отдали все, что могли этому театру. И они были правы, могли говорить об этом, имели право голоса. Так возникло актерское содружество, которое возглавил Николай Губенко и часть театра перешла в этот актерский коллектив.
Как себя здесь повел Леня? Леня очень добрый человек, который всегда занимает активную позицию «обиженных». Вот ему и пожаловались «обиженные»: что здание театра отдадут! что люди будут выброшены на улицу! «ох и ах», все будет ужасно! И он как бы не слышал ничего другого, он не видел уже никаких нюансов и защита людей становится для него главным и определяет его дальнейшие поступки. Конечно, на этом некоторые люди сыграли, они воспользовались особенностью его натуры, а он бросился с открытым забралом, на защиту туда, где, может быть, и не требовалось такой активности, такой его бурной позиции. Он ушел из театра и, конечно, эта ситуация сильно сказалась на нем. Уход из театра, начало болезни, упадок в кино, выпадение сразу ото всюду, но все это произойдет позже.
Леонид Филатов, несмотря на свою болезнь, не перестает быть духовным лидером целого поколения. Леня — это не больной, убогенький, он и сейчас лидер, причем сильный, ясный, интересный. Та духовная оппозиция, которая вне конкретных благ, режимов, политики. Ернический дух был очень мощен на Таганке, шуты, говорящие правду, Леня не перестал быть таковым. Вся манера его шутовского стиха сказок — это протест, вызов обуржуазившемуся сразу, вдруг обществу. Леня никогда не может быть сытым и купленным, он много делает как бы во вред себе. К сожалению, иначе сложилась судьба главного оппозиционера страны — Юрия Любимова, его все-таки приручили, и театр потерял свою дерзость, свое существо. Уйдя с Таганки, Леня, чуть ли не единственный, кто спас ее в душе. Любимов, к сожалению, сам повел себя, как тот тоталитарный режим, против которого он боролся всю свою жизнь. Парадокс. Часто оппозиция, получив то, за что боролась, теряет себя, становится немного тем, с чем так рьяно не соглашалась. Филатов — вечный странник, для его оппозиции не настанет дня победы и нет пристанища. Этот странник и есть суть писатель, поэт, творец и, если нам плохо, он берет на себя наше страдание, и пока он творит — он только такой, и никаким другим он быть не может, иначе мы отречемся от него, забудем его, перестанем ему верить. Филатов один из тех немногих, которым стыдно быть счастливым, если кому-то рядом плохо. А плохо сегодня очень многим и Леня, несмотря на свое состояние, переживает за этих многих совершенно искренне. Филатов не может быть безразличным, не может быть неответственным и это его делает бесспорным духовным лидером. Какое большое количество статей, о нем, интервью с ним, и это о человеке, который практически не выходит из дома, (о действующем театре на Таганке пишут значительно меньше). Как их немного осталось действительно действующих, как важен бывает их отклик, их мнение, видимо потому, что оно выстрадано ими.
Когда Леня смотрел хронику обстрела, штурма Белого дома — Дома Правительства он очень сильно переживал, а через несколько дней — инфаркт почки. Когда тело болеет, как важно что бы оставалось такая здоровая и цельная душа, как у Филатова.
Как то раз в церкви, в ожидании службы, я узнала, что местный священник каждое утро молится за всех нас, может так и положено, но я не знала об этом, а когда узнала, то мне стало удивительно спокойно и ясно на душе и вместе с тем стыдно, что я иду только со своим. Так же, как Леонид Филатов оставляют нам шанс стыдиться, а значит надежду на духовную жизнь...
...Верю ли я Андрею Тарковскому? Верю. — Верю ли я Василию Шукшину? — Верю. Верю ли я Леониду Филатову? — Верю...
И как жалко, что сегодня при некоторых именах, кумирах моей юности, я говорю «Не верю»...
Филатов много играл «на стороне», пытаясь реализовать свои возможности, реализовать себя. Кино — вторая судьба артиста, определившая его популярность и давшая ему возможность ощутить диапазон актерского искусства.
Первой работой в кино Леонид Филатов считает фильм режиссера Константина Худякова «Иванцов, Петров, Сидоров,..». Бесспорно, с этой роли началось существование Леонида как киноактера. Однако до этого он много и успешно работал на телевидении, и как актер и как сценарист. Работа на телевидении началась давно, еще в 1969 году. Дипломный спектакль «Эдгар женится» Щукинского театрального училища был переведен для телевидения.
Затем, в 1974 году, роль Федерика Моро в телеспектакле по роману Г.Флобера «Воспитание чувств». Почти каждый год Леонид снимался на телевидении:
1976 — «Мартин Идеи», «Капитанская дочка».
1977 — «Любовь Яровая».
1979 — «Кошка на радиаторе», «Часы с кукушкой», «Осторожно, ремонт!»
1980 — многосерийный телефильм «Ярость». Для телевидения Леонид пишет сценарии «Часы с кукушкой», «Художники Шервудского леса», «Ярость», записывает поэтическую композицию поэм В. Маяковского «Хорошо» и «В.И.Ленин». О кино в то время, после неудачного дебюта в 1969 году в фильме «Город первой любви», Леонид даже перестал думать. Очень не понравился он себе на киноэкране: лицо некрасивое, фигура угловатая, движения какие-то неестественные. Позже, когда его пробовали на другие роли, от недовольства собой был внутренне скован: боялся не понравиться кинорежиссеру и в силу этого, естественно, не привлекал к себе внимания. От предложений в кино стал отказываться. Он нашел себе другую сферу экранного существования — телевидение, которое приучило его к работе перед камерой. Играя в телеспектаклях Леонид привыкал к своей личности на экране, к осознанию своего права на существование. Однако телевизионные работы нельзя считать только своеобразной адаптацией, тренингом перед телекамерой, недаром режиссер Карен Шахназаров признался, что узнал и запомнил Леонида именно по его телеработам. Наверное, есть этому объяснение. Почему Леонида привлекала работа на телевидении, которое, в свою очередь, тоже проявило к нему явный интерес? Чтобы ответить на этот вопрос, надо уделить несколько слов особенностям эстетики телеэкрана, которая во многом определяется тем, что телеэкран—это прежде всего домашний экран. На телевидении крупный план, который наиболее ярко и полно передает психологические нюансы роли и возможности актера, сильно отличается от крупного плана в кино. Он имеет другую логику общения со зрителем, иной тип контакта, отличный от кино и театра. Зритель как бы остается один на один с актером на продолжительное время, не говоря уже о некоторых сериалах, которые идут по телевидению чуть ли не целые месяцы. Конечно, особое значение обретает личность исполнителя. К тому же актеры часто присутствуют на телевидении как бы в ином качестве: в интервью, беседах, которые даются в антрактах телеспектакля или непосредственно после фильма, спектакля, концерта. Создается особый объем в восприятии зрителем актерской личности. Информация, полученная зрителем, как бы дополняет, достраивает портрет героя, который связывается не только с конкретными работами артиста, но и с его человеческими качествами, с его взглядом на мир, искусство, политику. Рождение героя экрана — процесс сложный, многомерный. Надо еще учесть, что телевидение — это поток информации, документальных очерков, фильмов и любой телефильм или спектакль, включенный в него, рождает определенный контекст, установку в восприятии зрителей на особую доверительность, достоверность показа. Для Леонида телевидение было хорошей школой. Он смог осуществить себя в разных качествах. Телевидение в какой-то степени помогло зрителям в многомерном восприятии его личности. Герой Филатова — импульсивный, обаятельный, с чувством юмора, тот тип современного героя, за которым больше угадывалось, нежели игралось. Это были первые штрихи к портрету современника, который получит свое развитие в последующих работах артиста.
* * *
В пятнадцать лет, продутый на ветру
Газетных и товарищеских мнений,
Я думал: «Окажись, что я не гений, —
Я с тот же миг от ужаса умру!..»
Садясь за стол, я чувствовал в себе
Святую, безоглядную отвагу,
И я марал чернилами бумагу,
Как будто побеждал ее в борьбе!
Когда судьба пробила тридцать семь
И брезжило бесславных тридцать восемь,
Мне чудилось: трагическая осень
Мне на чело накладывает тень.
Но, точно вызов в суд или в собес,
К стеклу прижался желтый лист осенний,
И я прочел на бланке: «Ты не гений!» —
Коротенькую весточку с небес.
Я выглянул в окошко: ну нельзя ж,
Чтоб в этот час, чтоб в этот миг ухода
Нисколько не испортилась погода,
Ничуть не перестроился пейзаж!
Все было прежним. Лужа на крыльце.
Привычный контур мусорного бака.
И у забора писала собака
С застенчивой улыбкой на лице.
Все так же тупо пялился в окно
Знакомый голубь, важный и жеманный...
И жизнь не перестала быть желанной
От страшного прозренья моего!
«— Ваше мнение о наиболее важном качестве современного актера?
— Сегодня человеку стало непросто справляться со всеми недостатками и соблазнами современной, насыщенной информацией жизни. Как трудно привыкнуть к бешеному ритму будней, быстрой смене впечатлений... Наверное, от актера, как от всякого человека, требуется теперь прежде всего быть неравнодушным к жизни, к людям... Во все времена ведь самым дорогим остается тепло человеческого общения. Однако для художника, для личности одного неравнодушия мало. Меня все больше и больше раздражают артисты, лишенные интеллектуальной базы. Мало прочитавшие, мало знающие, мало думающие, а только инстинктивно чувствующие, некий образ актера-ребенка. Такие актеры меня все меньше и меньше устраивают, я все чаще вижу на экране пустых людей, которые настолько никакие, что просто ничего не способны создать».
Восьмидесятые годы в жизни Леонида Филатова — это прежде всего интенсивная, порой изматывающая работа в кино. Только с 1981 по 1983 год он снялся в двенадцати картинах. После работы в фильме «Экипаж» Леонид пережил настоящий успех и попал в разряд популярных и любимых артистов. Однако актер не выбирает время своей наибольшей популярности. Для Филатова это были 80-е годы — годы застоя. Вполне возможно, что зрителя прежде всего притягивало в Леониде его отличие от особенностей времени — яркая индивидуальность артиста, всем своим существом разбивающая ложные модели жизни в фильмах, которые проходили перед нами нескончаемым потоком, чтобы потом получить название «фильмы периода застоя». «Женщины шутят всерьез», «Берега в тумане», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Исповедь его жены», «Загон», «Европейская история» — картины, которые, к сожалению, никак не определяют актерской личности Леонида Филатова. В 80-е годы сложился особый вид лакировочного фильма. В нем вроде бы есть мысль, образ, актуальные проблемы, но подаются они в таких ложных построениях, что нивелируются, необычайно ловко меняются акценты, уводя зрителя от сути происходящего. Фильмы 80-х порой становились удивительным гибридом фильмов 50-х и 60-х годов, поражающим своим умением примирить столь разные десятилетия. Зритель смотрел на экран, и то, что было для него важным, тревожащим, так до конца и не осмысливалось в фильме, а, наоборот, получало ложное решение. Режиссер, бросающийся в правду, вдруг резко останавливался, одумывался и исправлялся прямо на глазах. Однако в период застоя было сделано много талантливых работ. Существует парадоксальная закономерность: в самые застойные и страшные времена искусство давало необычайно яркие по своему языку и мысли художественные произведения, остающиеся на века. И в то же время при самых благоприятных условиях желание реализовать себя не давало ожидаемых результатов. Может быть, определенное сопротивление рождало толчок в развитии художественного языка, средств, которые помогают обойти преграды и во что бы то ни стало осуществиться. На наших глазах общество поддерживало ложь во всех сферах жизни. Мы доходили до того, что порой теряли самые простые ориентиры. И, как в том психологическом опыте, глядя на черное, говорили, что это белое, потому, что это сказали до тебя, и сказавших было большинство. Путь 80-х годов был нелегким: если в 70-е еще существовала какая-то инерция «оттепели», то в 80-е она почти исчезла. Нашу режиссуру оправдывало то, что она была поставлена в противоестественные условия. Приходилось или снимать по сценарию, который всем угодит, или отказываться от возможности работать... Так вынуждены были поступать Тарковский, Сокуров, Климов и многие другие. Не каждый мог себе это позволить, к тому же всегда была надежда: вот это поставлю, вот это сыграю, а уже потом сделаю свой фильм, настоящий, единственный. Искусство мстительно, оно мстит за отступничество. Поэтому, когда появилась возможность снимать, многие так и не смогли себя реализовать — уже нечего было сказать. Трагедия эта происходила на наших глазах. Филатову было одновременно и проще и сложнее. В кино он пришел уже сложившимся человеком, в тридцать два года. За ним был театр на Таганке, с его школой, с его традициями, принципами.
Сформировался Леонид в 60-е годы. Сложно было по тем же причинам, по которым и легко. В тридцать два года начинать в кино поздно, хочется успеть как можно больше, уходят годы, а с ними безвозвратно многие роли. Хотелось закрепить успех после фильма «Экипаж», доказать, что можешь играть и многое другое. Леонид стал разбрасываться, сниматься одновременно в нескольких фильмах. Фактически ему некогда было просто отдышаться от съемок, отойти от сделанного. Шесть лет работы без единого отпуска. Спасало то, что, снимаясь в «проходных» картинах, он одновременно работал в фильмах, которые определили его актерскую судьбу и принесли радость и удовлетворение: «Грачи», «Успех», «Избранные», «С вечера до полудня». Водоворот съемок спасал и от тяжелой потери — ухода из Театра на Таганке. После вынужденного отъезда Юрия Любимова атмосфера в театре резко изменилась, и уход из него был для Филатова гражданским актом, протестом против случившегося. В 1983 году Леонид вместе с Вениамином Смеховым, Виталием Шаповаловым уходит в театр «Современник», коллектив которого сделал все, чтобы артисты чувствовали себя необходимыми в нем. Все равно было потеряно что-то очень важное и необходимое, невосполнимое в жизни Леонида. Уходом из театра он противопоставил себя официальному мнению, мнению влиятельных чиновников, которые могли одобрить и запретить, а то и вовсе лишить работы. Звонки друзей раздавались редко. Время определяло и испытывало друзей и врагов. Время испытывало и самого Леонида. Тяжело, когда в твоей жизни может исчезнуть самое главное — возможность работать.
Как вспоминает режиссер театра «Современник» Галина Волчек, выбор Филатова показался ей вполне органичным, так как Театр на Таганке и «Современник» были близки друг другу прежде всего по их гражданской позиции. Лене было не так просто войти в новый для него театр, где выработался определенный код взаимопонимания, свой язык. «...Я высоко ценю Леонида, — говорит Галина Волчек, — как творческую личность и как артиста. Меня потрясала его выносливость, работоспособность, его рабочая мораль, если можно так сказать... Леня, работая в „Современнике“, много снимался в кино, но когда он пересекал границу театра, то репетировал буквально до седьмого пота, стараясь наверстать все, что пропустил за время съемок. Я очень высоко ценю отдачу актеров. Замечательно отношусь к его литературным работам, мне нравится его сказка и всегда правились его эссе, которые я слышала еще во время работы в „Современнике“. Его природа мне интересна — и актерская, и литературная, и, по-моему, он замечательно порядочный человек... Если бы Филатов остался в нашем театре, то быстро стал бы одним из ведущих артистов. Я вижу его возможность в очень разных ролях. Ему бы удались лирические роли, лирика не как окраска, а как исповедальность, когда человек не боится быть самим собой. Распределяя роли в новой пьесе, я всегда бы одним из первых увидела в ней Филатова. Очень сожалею, что Леня ушел из театра, но понимаю его. Как нельзя не понять...».
Филатов относится к артистам, которые не умеют халтурить и каждую, даже слабую роль играют с полной отдачей, тратя много физических и духовных сил па противодействие плохой драматургии. Ответить на вопрос, почему Леонид снимался в заведомо слабых картинах, однозначно невозможно, как и невозможно просто обвинить его во всеядности.
Он прекрасно понимал слабость и силу того или иного сценария. «Получается вот ведь какая вещь: читаешь плохой сценарий и понимаешь, что при всех самых хороших авторских намерениях он беспринципен. Беспринципен потому, что, лишенный художественности, дискредитирует прекрасные идеи. И если мы, актеры, принимаем участие в фильмах, которые ставятся по таким вот сценариям, то никакие высокие наши намерения не спасут запланированный брак от провала», — говорит он в одном из интервью тех лет. Однако Леонид пытался сделать все, что мог, и восполнить своей личностью все, чего не хватало в драматургии роли. «Чем меня поражают лучшие артисты?.. — говорила в одном из интервью журналу „Искусство кино“ актриса Вера Алентова —...Олег Борисов и Леонид Филатов или американцы Джек Николсон и Пол Ньюмен? Мы произносим реплики, а за ними только те мысли, которые выражены в этих словах. У них — активная молчаливая наполненность. А в ней много всего, чего нет в словах»1. Все старания Леонида, и он это понимал, не могли спасти многие картины от явного провала. Однако судьба картины и роли не всегда определяется сценарием. Бывают случаи более сложные, когда заведомо определить, что тебя ждет в фильме, не так-то просто. Леонид в то время не имел необходимого опыта работы в кино и не всегда учитывал манеру работы того или иного режиссера, что не менее важно, чем драматургия фильма. Иногда складывается и так: хороший сценарий, интересный режиссер, артист делает все, что может и умеет, а роль не состоялась, и этому есть множество причин. Так получилось у Филатова в фильме И.Авербаха «Голос». «Работа у Леонида шла тяжело, он приезжал после съемок опустошенный, смертельно уставший», —вспоминает режиссер Константин Худяков. В фильме «Голос» показан съемочный процесс кинокартины во всем многообразии профессии, судеб, конфликтов. Роль Леонида, играющего кинорежиссера, была во многом знакомой и не являлась для него безусловно сверхсложной. Он много раз вдыхал жизнь и в знаковые, драматургически не выписанные роли, и, наверное, роль режиссера в фильме «Успех» значительно сложнее, хотя бы уже потому, что она — центральная, организующая все пространство фильма. Однако с ней Филатов справляется блестяще. Так в чем же дело? Что произошло в случае с «Голосом»? Почему работа у интересного режиссера, с хорошим драматургическим материалом не принесла радости? Конечно, нельзя сказать, что роль совсем не удалась, учитывая индивидуальность Филатова, силу и яркость его дарования, а главное, его качество быть автором своей роли. Удивительно, насколько эта роль никакая, вроде бы все есть, но чего-то очень важного нет, этого чуть-чуть, которое и является всем. Этому есть объяснение, которое кроется в методе работы артиста. «...С ним нужно тщательно обговаривать не только роль, но и картину, — рассказывает режиссер К.Худяков, — должно быть очень четко, точно сформулировано, что я, режиссер, делаю, дана задача направления движения, толчок, все остальное он сделает сам, а степень его самостоятельности уже определит режиссер. Филатов играет современно, не оставляя за собой права размениваться па мелочи, нюансы, мелкие акцепты, он несется, как скорый поезд, от сцены к сцене. Так играют все большие артисты, которые сейчас существуют. Правда, они играли так и в прежние времена. Эта манера игры постоянно усугубляется и развивается одновременно с воспитанием зрителя. Наивно думать, что если мы научились снимать кино, то зритель не научился его смотреть. Меняется степень условности в игре, нужен более пунктирный язык. В этой степени условности актер должен очень точно играть задачу, как бы играя по прямой, отметая все мелкое, не главное. Филатов это делает замечательно.
Если режиссер будет подробно обговаривать с ним каждую мелочь, причем второстепенную, Леонид заскучает и уже не помчится к этой сцене, к тому единственному, правильному, действенному финалу, который нужен для нее. Если он отвлекается на мелочи, то происходит проигрыш в картине. Не там концентрируется энергия...».
Именно такое отвлечение произошло в картине Ильи Авербаха. Филатов играет настолько подробно, что ушел смысл. Его авторство было раздавлено подробностью, которая мешала создать интересный образ. Цель каждого эпизода не сложилась в цель картины. Леонид Филатов и Илья Авербах не совпали но способу художественного мышления, по методологии работы. Был достигнут очень незначительный эффект, и все это при изматывающих репетициях. Надо сказать, что Леонид не любит большое количество дублей, они растрачивают его силы. Он готов к съемке уже в первом дубле. Филатов — мастер крупных, цельных мазков. Такова его нервная, психическая организация, и только поняв это, можно достигнуть наибольшего художественного эффекта в работе с ним. В кино Филатов выстраивает роль, зная, в каком эпизоде он разовьет или усилит тот или иной момент своей роли. С годами, с приходящим опытом, актер учитывает техническую сторону кино, свои возможности работы на крупном и среднем планах; творческий стиль режиссера, его манеру монтировать фильм. Конечно, это не столько строго выстроенные просчитанные акции, сколько компонент мастерства, подсознательная подготовка. Однако все не предугадаешь, и некоторые монтажные решения режиссеров обедняют созданный тобой образ, порой лишая его внутренней логики. В кино определить конечный результат после прочтения сценария бывает очень сложно. Например, сниматься в фильме К.Ершова «Грачи» друзья Филатову не советовали, боясь, что за Леонидом закрепится амплуа уголовника. Однако Филатов соглашается на роль Виктора Грача, ставшую одной из его лучших работ. До фильма «Грачи» Леонид снимается еще в одном фильме К.Ершова — «Женщины шутят всерьез». Фильм стал явной неудачей и для актера и для режиссера. Работа в нем унесла много сил. Пришлось спасать и слабую драматургию и отсутствие профессионализма актрисы, снимавшейся в главной женской роли.
Казалось, после этого провала у Леонида были все основания не работать больше с Ершовым и отказаться от фильма «Грачи», но он пошел на риск, доверяя творческому потенциалу режиссера. И риск оказался оправданным.
СУЕТА СУЕТ
Все куда-то я бегу —
На душе темно и тошно,
У кого-то я в долгу,
У кого — не помню точно.
Все труднее я дышу,
Но дышу — не умираю,
Все к кому-то я спешу,
А к кому — и сам не знаю.
Ничего, что я один,
Ничего, что я напился,
Где-то я необходим,
Только адрес позабылся.
Ничего, что я, сопя,
Мчусь по замкнутому кругу —
Я придумал для себя,
Что спешу к больному другу.
Опрокинуться в стогу,
Увидать Кассиопею, —
Вероятно, не смогу,
Вероятно, не успею...
ИЗ БЕСЕДЫ С КИНОРЕЖИССЕРОМ КОНСТАНТИНОМ ХУДЯКОВЫМ
«Как я узнал Леонида Филатова? Я был знаком со всем курсом Щукинского училища, на котором он учился. Это были очень талантливые люди, и среди них Нина Русланова, Саша Кайдановский, Ваня Дыховичный, Боря Галкин. Многие сейчас преуспевают в режиссуре. В этой компании Леня был если не заводилой, то одним из главных персонажей. Я очень долго к нему присматривался, но в то время он не соответствовал тому материалу, к которому я обращался, то есть мои режиссерские задачи не требовали такого актера, как Филатов. Когда я начал работу над фильмом „Иванцов, Петров, Сидоров...«, мне понадобился актер на роль ученого, обладающий незаурядным умом, чтобы зритель поверил: за этим героем будущее советской науки. На Таганке я видел спектакль «Товарищ, верь!“, где роль А.С.Пушкина играл Л.Филатов. Лене в этом спектакле была уготована очень сложная миссия: он должен рассказать о мировоззрении поэта, о скрытом, глубинном, даже тайном порой Пушкине, который открывается для нас не сразу, а постигается на протяжении всей жизни. Жизнь Пушкина читается на разных уровнях, она может быть прочитана и как притча. И эту пушкинскую притчеобразность должен был играть Леня. Играл он замечательно, так что особой моей проницательности в том, что я в выборе актера остановился на Филатове, не вижу. Я просто знал возможности Леонида и предчувствовал, что настанет момент, когда он станет мне необходим. Я вырос среди людей науки, и мне казалось тогда, что я смогу рассказать о них.
...Саша Галибин, Леня Филатов, Михаил Глузский... До сих пор я вспоминаю нашу работу над картиной «Иванцов, Петров, Сидоров...». Все трое мне очень памятны. Я рад, что стал причастным к судьбе Филатова. Так случилось, что мы друг другу нужны и на этом держимся. С Леней у нас такой счастливый случай, когда вслед за одним фильмом мы начали делать второй, третий... На второй нашей картине («Кто заплатит за удачу?») худсовет «Мосфильма», так сопротивлявшийся Лениной кандидатуре на роль Петрова, наконец, признал, что Леонид Филатов — актер, который может играть все. За два года Филатов добился того, на что другим требуются десятилетия. Предложения поступали самые неожиданные, большинство которых проходило через меня. Судьба его складывалась удачно: за плечами был фильм «Экипаж». Я читал сценарии, которые ему предлагались, так как мы планировали очередную совместную работу и думали: успеет ли он сняться в том или ином фильме? Должен сказать, что советы я тогда давал плохие, единственный верный, что Леониду надо сниматься редко. Филатов — очень острый по своему рисунку, по своей физике. Пластика у него — остроугольная. Он может играть комедийные роли блистательно. Моя мечта — сделать картину, где бы он был острохарактерным и сметным. Леонида надо эксплуатировать редко. Он, на мой взгляд, звезда, не в том отвратительно буржуазном понимании, до которого мы никак не можем дойти. Мы говорим: Де Ниро, Де Ниро! А он, знаете, получает за участие в картине девять миллионов долларов! Дело в том, что он снимается редко, и это в индустрии американского кино, выпускающего на экраны тысячи фильмов. Картина с его участием — событие. Поэтому его появление на экране влечет зрителя, они приходят на него, они платят деньги. Может быть, вы думаете, что ему просто так платят такие деньги? Он их приносит, он их умножает в десятки, сотни раз. Филатов — актер, которому надо много платить за картину. Он должен иметь право на паузу. Ему надо заплатить столько, чтобы его года два не было видно на экране, а он тем временем мог бы работать в театре, выступать с концертами, писать книги, обдумывать с каким-то режиссером свою новую роль. Была бы какая-то подготовительная работа, и он появлялся бы на экране неожиданно редко и сильно. Вот такое у меня ощущение, и я считаю, что это был хороший совет. Например. Леонид дал мне прочитать сценарий «Голос», который собирался ставить режиссер Авербах. Я закричал: «Ура! Ура! Скорее езжай в Ленинград, потому что это очень интересно: во-первых — это про кино, про нас, во-вторых — это Авербах, замечательный, талантливый человек. Его картины мне очень нравятся...» Я советовал Лене вступить в этот альянс и предполагал замечательную картину. Но снимался он там мучительно. Из Ленинграда Леня приезжал как из-под пресса. Он был утомлен как никогда. Я не мог понять, что происходит. «Мы репетируем одну фразу пять часов, —говорил Леня. — Сценарий как бы весь соткан из воздуха и сделан как этюд... Такое нечто воздушно-эфемерное, что надо бы поймать в атмосфере... А вместо этого они пытались путем почти физических усилий разобрать каждую фразу-молекулу, зафиксировать ее и потом составить эти молекулы в том же порядке, в котором они дают формулу воздуха». Такой метод работы над ролью был неприемлем для Филатова. Второй мой неудачный совет был в том, что я был резко настроен против участия Лени в фильме «Грачи». Мне казалось, что это детективная история и Лене там делать нечего. Но я забыл одну важную вещь, что снимать фильм собирается режиссер К.Ершов. И если он брался за детективную историю, то всю ее перелопачивал, выбрасывая иногда почти весь детективный набор. Совсем другое заинтересовало покойного Костю Ершова в этом сценарии, то, что стало сутью фильма и привлекло Филатова. Режиссер и артист были близки по духу, и, мне кажется, это очень удачная картина и роль. Однако в фильме «Грачи», зная, что Леня — умный человек, немного сыграли в игру, кто глупее. В этой игре они отказали герою фильма Виктору Грачу в уме, который все равно прорывался. Там были ситуации удивительно мощные. Я вдруг увидел, что в этом получеловеке с его животной философией существуют мозги — желтые, прокуренные, пропитые, но в них бьется, пульсирует мысль. Она может быть прямая и коротка, как спичка, но она существует. Что, собственно, подвело Ершова и Филатова? Леня —интеллигент, умница — играет жлоба и убийцу. Они доказывали, что Леонид умеет это делать, и заигрались в доказательство. Зря испугались ума Леонида, он бы мог быть фигурой еще более зловещей, когда не физиология такова, а философия. Это было бы страшно...
Работу в фильме «Успех» я наглым образом считаю лучшей работой Леонида. Барон Б. К. в «Избранных» — тоже одна из лучших его ролей, но это талантливый рассказ про то, чем я не болен. В «Успехе» это не пересказ, а сама боль. Я могу отстраниться и сказать: «Да, это все было заложено в сценарии А.Б.Гребнева». Более благородного и мужественного человека я не видел. Он говорил: «Костя, так снимать эту сцену нельзя. Я написал ее совсем про другое». Я отвечал: «Анатолий Борисович, я уже снял». Он клал таблетку под язык и после просмотра говорил:
«Да, это лучше, чем я предполагал и написал». Такого автора я не видел. Я говорю об этом не потому, что я такой замечательный, все так хорошо делал. Я говорю про человека, у которого было мужество абстрагироваться от того, что он сочинил. Вот я сейчас пытаюсь быть таким, как Гребнев, когда говорю про Леню в фильме «Успех». Как будто не имею к его работе никакого отношения. Я пытаюсь смотреть со стороны. Понимаете, в Леониде есть способность даже не играть, не жить, не существовать, а находиться в условиях человека, которого он играет, исчерпывающе, до конца. Когда это не исполнение, а мука. Когда это не присутствие в чужой жизни, а мучительная, страшная жизнь чужой жизнью. Когда это становится болью, а не удовольствием по Станиславскому. Это как жевать стекло... В этом есть самосожжение... Когда твое подсознание уже проникло в эту роль, ты не хочешь так чувствовать, а тебя что-то ведет, тебе даже снится это. Твои сны потом становятся содержанием роли. В этом есть высокий пилотаж, и назвать это техникой — оскорбить, назвать это существом этого артиста — тоже его обидеть, потому что он не такой.
...Есть у Леонида одно качество, за которое ему можно простить все недостатки: как он играет на сцене, в кино— исчерпывающе, — так он и живет. Для него есть некая доминанта в жизни — дело, которым он занимается, и ничего другого не существует. У него нет никакого хобби, никакого отвлечения в жизни, он не умеет отдыхать, расслабляться, отвлекаться от дела, которым занимается. Никогда! Любая встреча с друзьями — как бы часть его дела, послесловие к проделанной работе или адажио к новой. У него все замешано на главном деле его жизни. Я придумал для себя такую велеречивую формулу. Если бы меня спросили: «Скажите, а правда, что работа является частью вашей жизни?», то я бы ответил: «Знаете, у меня такое ощущение, что жизнь является частью моей работы». Все время снимаю, все время монтирую, ищу сценарий, придумываю характеры, бесконечно читаю какую-то пьесу, какой-то роман, журнал и выискиваю в нем сведения о картинах, которые сняли или будут снимать. Я слушаю музыку и думаю, для какого фильма она была бы хороша, то есть я постоянно снимаю одно большое кино. Леня живет такой жизнью. Он находится в бесконечном процессе. Это его изнуряет, изматывает, заставляет жить надрывно, истерично. У него нет паузы, он весь «на ниточках». Посоветовать отдохнуть я ему не могу. Он находится в такой законченной структуре своей жизни, что попытка разрушить ее может быть чревата... Я так настаивал на том, чтобы он бросил курить, а теперь понимаю, что это было бы просто страшно. Он постоянно настроен на такое количество жестов, свершений, движений, что маленькие физические действия, как вынимание сигареты, вытаскивание спичек, прикуривание — это некая реализация его бесконечного потенциала энергии. Он же не докуривает ни одну сигарету. Я видел курильщиков, которые курят до конца с таким наслаждением, как пьют валерьянку кошки. У Филатова — это действие, он готов перемещаться влево, вправо, бежать, идти. Он всегда action, как американцы пишут на пластинках — в действии. Его нельзя рассматривать метафизически — от прикуривания до прикуривания. Его надо рассматривать в процессе. А если говорить серьезно, то его можно рассматривать в процессе не одной картины, а всех картин.
Он — чудовищный бессребреник. Я бывал за границей, где наши люди, как на войне, держат свои лиры, франки, марки... ничего подобного с Леней не происходит. Он мог бы стать богатым человеком во время пребывания в Колумбии: построить себе валютную кооперативную квартиру или купить машину. Ни черта! Он все потратил там. Замечательная компания: Саша Адабашьян, Сережа Соловьев, Паша Лебешев... Все было пущено на общение — посидеть и поболтать в кафе или в уютном ресторанчике, лишний раз позвонить в Москву, то есть эти деньги потрачены на то, чтобы жить. Так же у нас с ним было в Мюнхене, так же — в Югославии. Это такой человек. Безумная суета часто приводит к тому, что он перестает быть самим собой: может забыть поздравить с днем рождения, опоздать, не прийти туда, где его ждут. Для него пауза невозможна, он не умеет ее держать. Он звонит мне каждый день и спрашивает, когда мы начнем работать над «Игроком» Достоевского.
Филатов одарен с точки зрения литературы, одарен очень высоко, но не может себя в ней реализовать. Литератор — человек, который должен быть одинок. Талант схимничества. Это молчание, это монолог, изложенный на бумаге, это сомкнутые уста. Все вместе это против Лени, против его характера. Он не может отключиться от жизни, ему не хватает паузы. При большой одаренности (я говорю это не комплиментарно) он обречен не написать главного.
Леонид не испытывает нехватки предложений, но он должен играть что-то очень выборное. Он находится в славной поре, когда может выбирать режиссера, может выбирать, работать ему с ним или нет. Он так долго мечтал о роли Сирано, но отказался от нее, совершив Поступок. Актерская планида предполагает самовыражение, а душа — самосовершенствование. Как это сочетать?! Жить таким образом, чтобы при нашей работе на износ хватило бы времени для самоанализа, чтения книг, размышления о самих себе, о том, чем мы живем, чем живы; откуда брать время, силы, чтобы не превратиться в горлопанов... Чтобы у нас не было желания быстренько перенести на экран те книги, которые мы прочитываем по вечерам... Где тот внутренний турникет, который пропускает только то, что уже не может в тебе быть?
Почему я так сражаюсь, чтобы Филатов снимался в «Игроке» — совместной постановке СССР—ФРГ? Я видел, как Леню воспринимали в Америке, когда там демонстрировался фильм «Успех». Я стоял и десять минут принимал аплодисменты в громадном, по американским масштабам, зале, которые предназначались не только мне. Американцы были ошарашены картиной. Я не ожидал такого резонанса. После просмотра я выступал тридцать минут по телевидению, имел по пять, семь встреч в день, приходил в номер, ложился и не мог даже говори гь...
Бизнесмены боятся давать деньги под имена актеров, неизвестных в мире. Каким же образом сделать эго имя? Я рвусь и пытаюсь сотрудничать с кинематографистами ФРГ вот уже полгода. Для чего? Для того, чтобы вытащить Филатова на мировой экран и уже следующую картину сделать на другом уровне... Западные бизнесмены забывают, что их лучшие артисты начинены русской актерской школой«.
В тридцать два года, считая, что время для дебюта в кино уже упущено, Филатов категорически отказывается от роли ученого Петрова в фильме режиссера К. Худякова «Иванцов, Петров, Сидоров...». Филатов окончательно решает, что кинематограф не для него. Леонид не верил, что за ролью Петрова последуют приглашения режиссеров. Для того чтобы твоя работа в кино имела хоть какой-нибудь резонанс, надо сняться не менее «чем в десяти пулевых картинах». Однако уже через год, после роли Скворцова в фильме «Экипаж», Филатов будет иметь головокружительный успех, а пока, кроме режиссера Константина Худякова, мало кто верил в возможный успех Леонида на экране.
Грозный художественный совет киностудии «Мосфильм» посмотрел на Филатова, и, как в том детском стихотворении Эдуарда Успенского, посмотрел, посмотрел и решил не пускать. По мнению художественного совета, не такое лицо должно быть у ученого Петрова. Теперь уже трудно восстановить все сказанное тогда, но цвет волос Леонида пришлось слегка изменить, что, видимо, более соответствовало образу героя будущего фильма. Надо сказать, что режиссер К. Худяков проявил завидное мужество и терпение. С одной стороны, не слишком большое желание Леонида сниматься в фильме, с другой—худсовет, с третьей—логические заключения товарищей, считающих, что незачем рисковать с неизвестным актером, то есть Филатовым, когда так много других, талантливых и знаменитых. Тем более надо учесть, что и для Худякова этот фильм был дебютом на киностудии «Мосфильм», до этого он работал на телевидении. Почему же так настойчив был в своем решении режиссер?
«...Мне нужен был на роль молодого ученого умный человек и хороший профессиональный актер, — скажет он, — каким и был Леонид Филатов». К.Худяков знал Леонида Филатова еще со студенческих лет, видел все его работы в Щукинском училище, на телевидении, позднее — в Театре на Таганке, знал его пьесы и пародии. До фильма «Иванцов, Петров, Сидоров...» личность артиста не совпадала с тем, что делал тогда режиссер. Увидев Леонида Филатова в роли А.С.Пушкина в спектакле Театра на Таганке «Товарищ, верь!», Худяков определил для себя выбор актера на главную роль в фильме, который он собирался снимать.
Пушкина в спектакле Юрия Любимова одновременно играли несколько актеров. На долю Леонида выпала самая сложная часть — философия, мировоззрение поэта в зрелые годы. К.Худяков давно знал возможности артиста и решил, что именно сейчас, в роли Петрова, Леонид должен дебютировать в кино. Роль Пушкина, сыгранная Филатовым, убедила К.Худякова в точности выбора актера, поэтому он так отстаивал его на худсовете.
Дебют, начинавшийся сложно, состоялся. Филатов играет ученого Петрова, доктора наук. Существует традиционный набор обозначений научного процесса, кочующий из фильма в фильм. Показать научный процесс на экране, безусловно, сложно. Сильно влияние штампов, складывающихся десятилетиями. От обозначения титанов-одиночек, перешедших на сторону революции, —традиционный образ 30-х годов — до безымянного творчества научных коллективов 50-х годов. Зритель уже прошел через очки как признак интеллигентности и ума, пухлые папки на столах, обозначающие научный вклад героя, пепельницы с окурками — символ бессонных творческих ночей... Даже лучшие картины на эту тему, такие, как «9 дней одного года» М.Ромма, страдали определенной умозрительностью. В фильме «Иванцов, Петров, Сидоров...» творческий процесс как таковой на экране не воссоздан, но он постоянно живет в герое Филатова Петрове. Его ум — бесконечное состояние напряжения, нервность, обостренность восприятия, которая находится на грани взрыва. Филатову предстоит еще не раз играть ученых, а пока обозначилась тема самоотверженного, всецелого поглощения идеей: фанатизм, самосжигание, животворящее, уничтожающее желание состояться. Человек в бесконечном экстремальном состоянии выбора, осуществления себя. Практически все герои, сыгранные Леонидом позднее на экране, будут связаны с этим состоянием, будь то Виктор Грач из фильма К.Ершова «Грачи», тренер Ким из фильма К.Худякова «С вечера до полудня», Фетисов в фильме «Успех»... Такие разные герои!..
«Иванцов, Петров, Сидоров...» — фильм, не избежавший схематизма; в нем удивительно просто разрешается сложная проблема — место подвига в науке. Конфликтная ситуация фильма заключается в том, что герой Филатова отказывается от научной темы, которая не соответствует профилю института, к тому же лаборатория не в состоянии ее технически выполнить. Заведующий лабораторией Сидоров по этому поводу говорит Петрову: «Нехорошо говорите, Алексей Петрович: „наш“, „их“, „свое“, „не свое“ — все наше... Можем помочь —помогаем. Вот так...» «Эка у вас просто, удобно... можно сказать, комфортабельно. Нет условий — значит, подождем. А условия не спешат... а как мы, можно сказать, голыми руками атомную бомбу делали?» Так и рождается понятие научного подвига в мирное время, когда — «голыми руками». Назревает сложный и важный конфликт, связанный с психологией поколений, техническим развитием общества, морально-нравственным выбором. Мы привыкли к постоянному состоянию штурмовщины, обесцениванию самого ценного — человеческой жизни. В 30-е годы родилось ложное понятие героизма, которое подогревалось в сознании людей и неустанно культивировалось. У всех были просто будни — у нас всегда героические. Героизм был нужен нам для преодоления всех трудностей развития общества только за счет людей. Там, где может работать один экскаватор, у нас трудились сто человек с лопатами. Мы не хотели видеть реальности, так нам было проще. Слишком сложные условия жизни мы еще умудрялись поддерживать и поэтизировать. В фильме Сидоров — герой, он оперирует понятием «народ», которое всегда сочетается со словом «надо». Хорошо всем известная схема. Подвиг Сидорова осуществляется буквально — он взрывается вместе со своей установкой, сделанной, конечно же, в кратчайший срок. Кстати, Чернобыльская АЭС взорвалась, можно сказать, из-за того же ложно понятого героизма. Экспериментатор решил на день раньше, то есть досрочно, начать эксперимент и остался для работы на станции ночью. Последствия были трагичны. Что стоит за этим геройством Сидорова (артист Глузский) и необходимо ли оно? Если в фильме хотя бы наметился этот вопрос, возник бы иной уровень звучания. Герой Филатова Петров мог бы осуществиться с большей силой и убедительностью. После смерти Сидорова Петров подает заявление об уходе из института — это его протест против подобных методов работы, штурмовщины. Однако он довольно быстро изменит свое решение, верх одержит патетика, романтизация героизма в науке, которая оправдает происшедшее и снимет конфликтность проблемы, минутно осудив отступничество Петрова и утвердив зрителя еще раз в необходимости героизма трудовых будней. «Иванцов, Петров, Сидоров...». Удивительно обезличивающее многоточие в названии фильма. Создатели картины, видимо, хотели подчеркнуть, что таких ученых-героев много, и они, сами того не желая, свели уникальность личности со всеми ее метаниями и подвигами к нулю. Раз много, то всегда кто-то заменит, не Сидоров, так Петров... У героев и фамилии-то какие-то слишком распространенные, прямо с образца стенда правил заполнения квитанций. Вот уж поистине тяжкое наследие 30-х годов, когда уникальные способности человека приносились в общий котел безликих коллективов. Как точно назвал это явление критик Юрий Богомолов: «Коллективизация в интеллектуальной сфере». Однако не надо забывать, что фильм вышел на экран в 1979 году, в так называемые годы застоя. К тому же это был распространенный способ построения сценария, когда в ложных драматургических моделях истинные проблемы, конфликты времени как бы указывались, но не более того, тем самым они снимались, нивелировались, получая искаженное, порой диаметрально противоположное существующему в жизни разрешение. Многие режиссеры, актеры попадали в плен вроде бы актуальных сценариев. Не избежал этого и К.Худяков. Фильм не стал откровением актера и режиссера. Но он стал началом дружбы двух талантливых людей. «...Костя, —рассказывает Леонид, — человек со вкусом, литературно подкованный, интеллектуальный, очень тонкий, мягкий... При всей своей репутации актерского режиссера он никогда не мучает актеров бесконечными повторами, дублями, не кричит через всю съемочную площадку актеру свои замечания, не унижает его. Он подходит к актеру всегда индивидуально, тихонько шепчет на ухо свой комментарий или просьбу повторить сцену и отходит. И любой артист без всяких препирательств соглашается с его замечаниями. Никогда никто не спорит, потому что он подсказывает очень точно и ясно. Любую сцену Константин, прежде чем начать репетировать, наговаривает, показывает ее, но не по-актерски, а как бы со стороны...».
Следующей совместной и удачной работой режиссера и актера стал телефильм по пьесе В.Розова «С вечера до полудня», где Леонид сыграл роль Кима.
«Работать над фильмом было одно наслаждение, — вспоминает К.Худяков. — Съемочная группа опережала все графики работы. Не было проблем, сколько метров пленки в день снимать. Мы построили этот Дом, где жили герои, мы разобрали пьесу, как будто это была наша жизнь». «С вечера до полудня» — пьеса, которая, в отличие от других работ В.Розова, как-то не прозвучала на театральной сцене, а нашла свою судьбу на телеэкране. «Я очень хорошо отношусь к этой пьесе, — рассказывает К.Худяков. — Мне казалось очень интересным и нужным показать распад семьи. Я нарочно старался выбрать манеру такого подробного рассказа, как бы семейной хроники. О том, как хорошие люди испытывают страшное невезение. Вот такой не удар судьбы, а такое незамечание, когда судьба позволяет жить, существовать, но у тебя нет ничего подарочного в жизни, а если и выпадает несколько сюрпризов, то они все со знаком минус. Распад, который запрограммирован жизнью этих людей...».
Герой Филатова Ким, тренер, так и не достигший высот в спорте, вообще-то неудачник. От него ушла жена, оставив его вдвоем с сыном, который становится для него целью жизни. Больше всего на свете Ким не любит людей, которых называет «всадниками», — это те, кто, «оседлав коня, лупят во весь свой собственный карьер... и не видят, куда его лошадь ставит копыта. Куда и на кого». Герою Филатова приходится тоже делать выбор: удержаться в своей привязанности к сыну от возможности стать «всадником», распорядившись чужой судьбой. Ким отпускает сына к матери, хотя до этого решения проходит через многие испытания. Иногда он не может справиться с собой. Истерика, бунт против несправедливости жизни охватывает его. Кажется, вот именно сейчас он не выдержит и совершит опрометчивый поступок. Леонид не боится играть Кима «плохим», ему это позволяет делать крепкая драматургия В.Розова. Роль строится как бы на контрапункте действий героя и его внутреннего состояния, его отношения к жизни. Он может быть раздражительным, злым, несдержанным, истеричным, несправедливым в своих объяснениях, подозрениях, но за этим стоит человек добрый, незащищенный, любящий. В злобе он топчет портрет жены, но мы знаем, что он любит ее и ждет ее возвращения; обвиняет сына в том, что тот хочет уехать к матери, а в итоге сам принимает такое решение. Ким как бы весь состоит из противоречий. Он будет мучиться, бросаться из крайности в крайность, но, что важно, никогда не сделает зла ради своего благополучия и счастья: ему хватает любви к сыну и жене, чтобы в их судьбе не стать «всадником». Ким сыгран Леонидом на одном дыхании. Нервный, импульсивный, воспринимающий все очень обостренно, герой Филатова вместе с тем необычайно духовно сильный, цельный человек. Сочетание силы и ранимости, мужественности и душевной подвижности характерно для многих героев Филатова. Видимо, поэтому Константин Худяков увидел в нем героя Ф. Достоевского, пригласив работать над экранизацией романа «Игрок». К сожалению, замысел до сих пор не реализован.
В 1981 году режиссер и актер работают над фильмом «Кто заплатит за удачу?». Леонид пробовался сразу на две роли. На этот раз худсовет «Мосфильма» единодушно признал, что Филатов может играть буквально все и что ему очень удались пробы на положительную роль матроса. Однако в фильме Леонид сыграл роль шулера Федора, так как она больше соответствовала способности артиста чувствовать сочетание драматического и комического в образе героя. Режиссер Сергей Соловьев сказал о Филатове, что он удивительно соединяет в себе романтизм Кларка Гейбла и необычайный комизм Бестора Китона. Портрет Федора в фильме романтичен: нервный печальный взгляд из-под неизменно присутствующей в кадре широкополой шляпы, даже на дело спасения героини Федор идет в белом костюме. Есть романтический шарм и в «работе» Федора, ведь шулер — это особая каста деклассированных элементов, предполагающая ловкость и остроту ума.
Действия фильма развертываются в 1919 году, в небольшом крымском городке, занятом белогвардейцами. В нем встречаются три человека, разные по своему социальному происхождению и убеждениям: матрос, воюющий за идеалы революции, белый казак и карточный шулер Федор по кличке Фанера, Все трое объединились на время, чтобы спасти из белогвардейского плена террористку Антонину Чумак. Шулер и казак думают, что это их сестра, матрос — что возлюбленная. «Кто заплатит за удачу?» — фильм приключенческого жанра. Актеры и режиссер прямо-таки упивались ситуациями сюжета фильма, делали все легко, изящно, с юмором. Однако, как часто бывает, когда речь идет о времени революции и гражданской войны, многие застывают по стойке смирно и жанр приключенческий начинает пугать и «не соответствовать». На студии нашлись перестраховщики, приложившие все усилия к «спасению дела революции». Фильм был сильно порезан, изменен финал. От режиссера требовали более традиционных решений, конечно же, все это не могло не повлиять на художественную целостность картины, но, несмотря ни на что, фильм получился, и именно в жанре приключенческом. Легкомысленный жанр нисколько не помешал необычному взгляду, не характерному для нашего кинематографа, на события времен революции. Незатейливая история, лежащая в основе фильма, получила удивительно щемящее, человеческое звучание. Герои фильма борются не за абстрактные идеи, а за близкого им человека, взгляды которого для них не важны, прежде всего она сестра и возлюбленная, а уже потом «красная» или «белая». В своей борьбе герои объединяются, несмотря на различие во взглядах на мир и на жизнь. Для каждого из них абстракция «свобода, народ» приобретает конкретное человеческое содержание. Дальнейшая жизнь и борьба за идеи не имеют для них смысла без близкого им человека. Чем необычайно привлекателен фильм К.Худякова — утверждением ценности человеческой жизни в переломные моменты общества. Единицей исторического измерения становятся не идеи, а человек. Герой Филатова — единственный в фильме, кто живет как бы вне конкретного исторического времени, вне политической борьбы. Леонид так выстраивает роль, что в образе Федора романтический герой постоянно уживается с легкой пародией на «геройство», что окрашивает образ юмором и придает особое обаяние и неоднозначность. В похожей манере уже была сыграна роль летчика Скворцова в фильме «Экипаж» (об этой роли наш разговор пойдет несколько позже, хотя хронологически роль Скворцова предшествует работе над фильмом «Кто заплатит за удачу?»).
В первых кадрах фильма Федор изящен, ловок в своей карточной игре, но уже в следующий момент он явно не герой, каким показался в начале фильма. Облик романтического супермена тает на наших глазах. Федор не обладает особой физической силой, «коллеги» легко избивают его за предательство. Он никогда не стрелял, никого не преследовал, он жил себе в стороне от событий времени. В некоторых случаях его просто охватывает страх, но он преодолевает его, потому что его жизнь делается более осмысленной. Федор должен спасти сестру, вызволить ее из тюрьмы. При встрече с матросом он трусливо, обреченно констатирует: «Попал в историю. Ой как плохо. Ну ладно, ничего не попишешь». И первую свою «конфискацию» пролетки проводит, пугаясь своего поступка, неумело держа оружие. Однако с каждой минутой действия его становятся все уверенней, рискованней, самоотверженней. Внешний облик Федора, однозначный своей романтичностью, находится в контрапункте с внутренним образом героя. Лихость сочетается с растерянностью, грустью, с чувством обреченности, предопределенности судьбы. С образом Федора связано размышление об ответственности, о том, что время никого не оставляет в стороне. Не сегодня, так завтра оно пройдет по твоей судьбе или по судьбе твоих близких, определяя твой выбор. Федор не революционер, не коммунист, но он умирает как герой, выполняя чужой долг, ставший его собственным. Филатов удивительно просто играет в финале фильма, без излишней аффектации, имитации сознательного выбора героя революции. В своих действиях Федор спокоен и тверд. Он сделал свой выбор, потому что за этим выбором для него стояли простые человеческие чувства и привязанности, имеющие единственную ценность для него. Он как бы совершает свой шаг во имя их. Его жизнь и смерть обретают смысл, время, судьбу...
В лучших ролях Филатова утверждение героя существует одновременно с его развенчиванием, но это не есть уничтожение или отрицание, нет. Развенчание своих героев Леонид строит на иронии, юморе, пародии. Причем это не столько профессиональный прием, сколько мироощущение актера, та многомерность взгляда на мир, которая позволяет глубже проникать в существо образа, уходя от однозначности. Полифонизм роли, умение найти пропорции каждой краски, каждого голоса, наверное, и есть особый дар артиста, существо его таланта. К сожалению, очень немногие роли позволили хоть как-то реализоваться этому дару Филатова.
На 1981 год приходится еще несколько работ Леонида. Его стали снимать, приглашать, словом, заметили. Леонид снимается в фильме И. Фреза «Вам и не снилось». В чем-то эта работа была продолжением, вернее, вариацией на тему героя телеспектакля «Часы с кукушкой» и даже Игоря Скворцова из «Экипажа». Герой Филатова — тот распространенный тип современного человека, который уничтожает в себе всякое лирическое начало. «Это атавизм — следовать велению сердца», — считает он. Эмоциональная ущербность, глупость, обедняющая его человеческое общение и затрудняющая его. Для него «душа — это тоже комплекс». В итоге он отказывается от своей возлюбленной, потому что ее уровень духовного, эмоционального существования слишком высок для него. И опять Леонид в небольшой роли очень точно наметил всю гамму противоречий героя, который пытается себя преодолеть, но в силу ограниченности, закомплексованности ложными теориями не может это сделать.
Продолжается работа на телевидении. Режиссер Фоменко ставит телеспектакль «Выстрел» по повести А.С.Пушкина. Леонид играет Сильвио, а его противника барона — Олег Янковский.
Тысяча девятьсот восемьдесят первый год был необычайно насыщен событиями. Началась интенсивная, совершенно неожиданная и успешная работа в кино. Изменилась личная жизнь Леонида — актриса Театра на Таганке Нина Шацкая стала его женой. Однако это год —непростой для Театра на Таганке и, конечно же, для Филатова. Уже ушел из жизни В. Высоцкий. В связи с его смертью из репертуара театра сняли спектакли «Гамлет» и «Вишневый сад», так как никто не мог заменить Владимира Высоцкого в ролях Лопахина и Гамлета. В театре начинается работа над спектаклем «Владимир Высоцкий». С запретов на этот спектакль начнутся многие драматические ситуации, сыгравшие свою роковую роль в отъезде Юрия Любимова и в судьбе Леонида Филатова.
* * *
Переменив прописку и родство,
Он с ангелами топчет звездный гравий,
И все, что нам осталось от него, —
Полдюжины случайных фотографий.
Но что тут толковать, коль пробил час!
Слова отныне мало что решают,
И, сказанные десять тысяч раз,
Они друзей — увы! — не воскрешают.
Ужасный год!.. Кого теперь винить?
Погоду ли с ее дождем и градом?..
Жить можно врозь.
И даже не звонить,
Но в високосный быть с друзьями рядом.
ЗАПИСКА НА МОГИЛУ
Он замолчал. Теперь он ваш, потомки,
Как говорится, «дальше — тишина».
...У века завтра лопнут перепонки —
Настолько оглушительна она.
«— Кто из поэтов и писателей ближе вам по мироощущению, стилю, проблемам?
— Из современных советских — Ю. Трифонов, В. Распутин, Ф. Искандер, В. Астафьев, А. Битов. Одно из самых сильных потрясений последнего времени — Варлам Шаламов... В поэзии у меня много пристрастий, они достаточно путаны и непоследовательны. Если говорить только о современных советских поэтах, для меня не потерял своего очарования Евгений Евтушенко. В юности я читал его стихи взахлеб. Юношеская привязанность —Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина с ее вычуром речи, ажуром стиха. Из западных — У. Фолкнер и Г. Маркес. Ну а из классики — А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь».
В 1982 году Леонид Филатов женился на Нине Щацкой — актрисе театра на Таганке. А через пятнадцать лет перед тяжелейшей операцией Леонида сын Нины, Денис, ставший священником, венчал их дома, так как Леня был уже очень болен.
Из интервью с женой Леонида Филатова Ниной Шацкой (март 2000года)
Мне кажется, что наша встреча с Леней, это знакомство, встреча, связь — все это из области мистики. Вообще у меня ощущение такое, что мы с Леней были запрограммированы кем-то свыше. Вот почему — сейчас объясню: во-первых, до Театра на Таганке я Леню не знала. Я слышала его песни, которые у нас пел актер Шаповалов: «Просто так», «Едут пьяные цыгане», «Оранжевый кот» и т.д. Но что это написал Леня, вместе с Володей Качаном — я не знала. Леня пришел в театр 69-70 годах без меня, а я как раз была в декретном отпуске. Он уже год проработал. Придя в театр, я увидела молодых артистов и среди них я увидела Леню, Борю Галкина, там еще несколько артистов новых, и был Леня. Ой, я не буду лукавить — я отметила про себя: какой он подтянутый, очень легкий, стремительный, и с таким цепким, пронзительным глазом. Вот очевидно там в подкорке моей зацепился, его образ, но а я так вроде бы не обратила внимания тогда на него. Но звоночек был раньше. В доме отдыха, под старый новый год... или в крещенские вечера — мы гадали. А в этом гадании как раз на тарелке сжигается газета, бумага — да? Сожженная бумага, проецируется на стенку двумя свечками. И вот когда я крутила эту тарелку, то увидела человеческое лицо с рогами и с козлиной бородой. Потом я переворачивала... переворачивала тарелку и это все деформировалось во что-то, во что-то и превращалось в щенка. А щенок кончался как бы сцепленными руками. Уже потом позднее, моя приятельница расшифровала, когда мы уже жили с Леней вместе. Она говорит — Нина, этот козел — это же козерог, а Леня по гороскопу козерог. А по году он собака-щеночек, собака, — это Леня. А вот сцепленные руки, это и есть наша жизнь. Через какое-то время я прихожу в театр после декрета, и отношения наши были, такие — «здравствуйте — до свидания». Не больше. И только однажды Леня меня пригласил очень неожиданно — в кафушку. Не то у нас была репетиция... Я не помню. И был перерыв — в час... Я была смущена, но... согласилась. Отношений, в общем-то не было таких, чтобы меня пригласить. Пошли в кафе. И тут что-то Леня мне стал читать стихи какие-то свои — про любовь. Там много всяких стихов... Я насторожилась.... А я была девушка нравственная. Вот. Мне это не понравилось. И в результате я, значит, сказала, что, мол, я замужем — как в дурных фильмах. Я замужем, вы мне нравитесь, но не более. И все. И как отрезало. И год мы с ним абсолютно никак не общались. То есть опять только «здрасьте — до свидания», у меня были проблемы домашние. У Лени тоже свои какие-то дела. И вот через год вдруг мне снится сон — я его действительно, я его не помню. Я помню, что этот сон был связан с Леней. Я проснулась, как от толчка. Сейчас я вспоминаю эти ощущения, как будто что-то должно произойти. Что-то... и я чего-то не успеваю. Я недавно формулировала для себя — вот пред тобой ворота, высокие-высокие ворота и они закрываются. Ты по эту сторону и если ты не успеешь влететь в эти ворота, то что-то произойдет. Здесь беда. И ты должна успеть. И вот я с этим ощущением встала и побежала в театр. Успеть, только успеть, успеть-успеть-успеть. И Леня. Почему? Вот Леня, Леня. Что-то должно произойти. Я вбежала в театр, там была какая-то репетиция или даже показ начальству. я даже не помню. Какой спектакль или «Живой» или похоже «Статуя свободы». Я не знаю — главное — я влетела, вот такая вся дрожащая, встала в проходе, много здесь актеров в театре толкались. Я стою, смотрю на сцену, естественно, я ничего не вижу — и вдруг меня кто-то целует. Целует сзади. В шею. Я оборачиваюсь — Ленька. Тут вот и ворота... как будто вот закрылись — я успела. Успела. Ну тут бред начался какой-то. Какие-то бессвязные слова, какие-то совершенно — я знала, или он знал... Он тоже не должен был быть в театре. Ибо тоже какой-то был толчок. И потом полгода мы встречались там, где никого не было. Мы обнимались и подолгу стояли — многим говорю — как лошади. То есть почти не говоря ничего друг другу — а стояли... может быть — я люблю тебя. Это вот тот сон. Почему я думаю, что это не просто так. Думаю, не просто так и мой первый брак. Вот надо было пройти какую-то дорожку до того, чтобы понять, что такое Леня, что такое жизнь с Леней. Я впервые почувствовала себя женщиной, любимой женщиной. Это счастье. У меня даже такое ощущение, что у меня вообще ничего до Лени не было. Как будто всю жизнь был Леня. И, в общем-то, мы с ним уже знаем друг друга тридцать лет и вот до сих пор — я надеюсь, что у него тоже такое ощущение и что — счастье. Вот я без Лени просто не представляю жизни. Абсолютно. И когда меня спрашивают — откуда ты взяла силы, когда Леня болел Я думаю, когда перед тобой стоит вопрос жизни и смерти, когда... конечно, любой человек выбирает жизнь. А Леня для меня это жизнь, это воздух. Я без него не могу. Без каждодневных вставаний по утрам вместе, без говорильни бесконечной обо всем абсолютно... Я счастлива.
... Конечно, все познается в сравнении... Вот не могу не рассказать, что за мой предыдущий брак, я не имела... была обделена вниманием и никаких ни подарков, ничего я не имела за пятнадцать лет совместной жизни. Только Рубик-кубик — подарок по-моему на день рождения. А Леня, когда мы познакомились с ним уже снимался, он ездил... на гастроли ездил, на съемки — за границу, когда мы с сыном были совершенно раздеты, совсем плохие были, нищие. Когда Леня приехал первый раз и привез ворох всего — чемоданы всяких и милых женских штучек-дрючек, и просто одел — действительно, с головы до ног нас. Одел с сыном. И когда он вытаскивал каждую вещичку из чемоданов, и когда я примеряла эту каждую вещичку, вертелась перед зеркалом. Это было такое! Это было такое счастье. Я видела, как Леня на это реагировал и сын тоже. Как они улыбались. А я плакала. У меня просто случился шок. Истерика. Потому что я никогда не имела внимания. Я в стоптанных сапогах ходила, в какой-то... шапочке детской с ушками, с помпоном. Все таки я уже была в возрасте и на улице уже меня стали узнавать, как актрису театра на Таганке. И конечно, Ленина широта меня потрясла. Для меня это было богатство — такое богатство. Там какие то тряпки, какие-то плащи, пальто, кофты какие-то неимоверные... И вот это с каждым почти приездом. А второй случай — это когда мы с Леней не могли вместе справить мой день рождения. Леня уезжал на съемки, а я тоже откуда-то приезжала — не помню. И когда я вошла в комнату, в дом — я увидела всю комнату, все было осыпано розами. И опять же какие-то подарочки милые, какие-то духи, косметика... очень красиво все было. И много-много роз. Очень много. Ну, вот это тоже такое — потрясение. Я думаю — не каждому так — дарят, а Леня умел делать подарки и мог делать меня счастливой....
Я конечно не хотела бы об этом говорить, о болезни Лени, я хочу об этом забыть и чтобы Леня это забыл — все забыто. Все сейчас нормально, абсолютно нормально. А то, что было — это было. Не надо помнить — это очень плохо. Когда помнишь плохое. А было действительно тяжело, очень тяжело на протяжении уже многих лет... И когда у него отказали почки, весь организм был отравлен и Леня даже ночью не мог перевернуться с боку на бок и когда мне приходилось ставить часы на ночь на два часа, на четыре часа, на шесть — иначе если я не проснусь, то я могу потерять Леню, т.е. даже такое вот было, потому что давление злокачественное и может так подскочить. Масса была реанимаций — 5-6 раз у Лени. Было очень тяжело. Но мы выдержали. Леня очень мужественный человек и... Он молодец. Я поражаюсь его мужеству, терпению... Но братец ленивый. Очень ленивый. Вот сейчас он нормально бы бегал, ходил — он ленится, ленится. Не гуляет, не ходит. Мышцы ослаблены. А решение об операции — тут я настояла. Потому что Леня — он ходил на диализ и у него вначале было какое-то улучшение, небольшое улучшение, а потом все хуже, хуже и хуже. Я понимаю то, что лучше не будет. А врачи даже боялись делать операцию, потому что он совсем слабый. И я настояла. Я говорю — сделайте операцию. Я всю ответственность беру на себя. Никто не брал ответственность. Никто. Я говорю — я отвечаю, что все будет нормально. И тем более я чувствовала, я рыба по знаку зодиака, я интуит и я знала, что все будет нормально. Как бы плохо вот ни было. И вот сделали операцию. И все — слава Богу. Я сама действительно объездила семь церквей. Поставила везде свечки, помолилась и... А почему я объездила? Потому что когда я его привезла на операцию — там была часовенка у нас в центре — часовенка на первом этаже. И как раз в этот день она не работала. Быстро-быстро его повезли на операцию, а я быстро-быстро поехала поставить свечки, помолиться. Вот и дома сижу, жду у телефона результата операции. Понятно — мое состояние, наверное — да? Я пригласила подругу, потому что не могла быть одна. И вдруг звонок. Звонит Ярмольник. Говорит: Нина — все в порядке. Ой!.. Ой, это вообще не перескажешь. Ой! жуть! Но это было такое счастье! Я не могу говорить...
Конечно, театр мне пришлось оставить. Я не могла не бросить. Потому что я в другом случае могла просто Леню потерять. Сейчас это уже три года, три сезона. И я надеюсь вернуться, потому что я уже могу его оставить на три-четыре часа, может быть даже чуть-чуть побольше. Я уже спокойна. Очень надеюсь, что скоро вернусь в театр.
Из интервью с Дмитрием Золотухиным (март 2000 года)
— Когда пришел Леня, он заставил меня заниматься спортом, научил подтягиваться, отжиматься. Я отжимался больше всех. На мои 90 килограммов подтягивался 28 раз. Это самое яркое воспоминание...
Леня заставил меня читать книги. Причем главным основанием для чтения были как раз девочки, в которых я влюблялся. Он мне говорил, что я буду им неинтересен, если я буду мало чего-то знать, что говорит один-два вечера — и все. Он приходил каждый день, каждый вечер в мою комнату и мы с ним подолгу разговаривали обо всем: об искусстве, литературе, о религии. Я готовился стать режиссером, поступил даже во ВГИК, хотя не без его поддержки, проучился там два года и ушел. Почему же ушел? Я ушел из ВГИКа, потому что пришел в церковь. Хотя прямо эти два момента не связаны. Я не могу однозначно сказать, что именно из-за этих разговоров произошло — то, что я ушел из ВГИКа, скорее — вопреки все-таки ему. Эти разговоры были направлены на более глубокое осмысление действительности, художественной реальности, видимо, вообще искусства. А на меня они повлияли прежде всего бытийно. Я пришел в церковь..., но Леня не одобрил мой выбор. Да, по-моему до сих пор не одобряет.. Конечно, в качестве искушения очень хотелось бы снять фильм, но одно дело мое желание, а другое возможности. Это желание на уровне чего-то такого... ностальгического. Леня в меня вживил любовь к кинематографу. Я люблю кино. И это мне между прочим, в чем-то мешает... По совести возвратиться в кинематограф я бы не хотел, ну а, если так можно выразиться по чувственной ностальгии хотелось бы снять фильм. Леня для меня прежде всего не писатель, не актер. Он для меня родной человек, которым я привык гордиться... с тех еще пор, когда не понимал, что в общем-то гордиться кем-то, своими родителями — это в общем-то не... большая доблесть.... Леня сделал для меня в жизни то, что делает родной отец, на ноги меня поставил...
«Средний план — взрывается аппаратура,
Средний план — взрывается аппаратура,
Средний план — взрывается цветомузыка».
Этот отрывок из монтажных листов фильма «Экипаж» чем-то напоминает военные действия, однако эти «военные» события происходят на личном фронте. И производят должное впечатление на зрителя, давая ему насладиться «отомщением злодею». «Злодей» этот не кто иной, как летчик, инженер авиации Игорь Скворцов, которого играет Филатов.
В 1980 году режиссер Александр Митта приглашает Леонида Филатова сняться в фильме «Экипаж». Как говорится в таких случаях, на следующий день после завершения работы над этим фильмом Леонид проснулся известным. Его начали активно приглашать сниматься в кино, его стали заваливать письмами благодарные зрители. Вполне возможно, что известность пришла бы к артисту и без фильма «Экипаж», но судьбе было угодно так распорядиться. Почти случайно Леонид оказался на этой картине, из-за болезни Олега Даля, который начинал работать над ролью Скворцова. Случай, но в то же время есть в этом некая высшая закономерность: Леониду был нужен этот успех, который неоднозначно сказался на его судьбе.
Фильм А. Митты можно отнести к разряду «фильмов-катастроф», которые у нас в кинокультуре не имели ни своих традиций, ни просто опыта осуществления, так как долгое время подобная продукция Запада считалась крайне вредной нашему зрителю. Именно А. Митта, с его необычайной энергией, пониманием зрелищной силы кинематографа, мог осуществить такой замысел. Любой фильм надо судить по его законам. Митта справился со своей задачей: «катастрофа» была сделана по всем правилам игры: со взрывами, плачущими детьми, землетрясением, селями, взрывом нефтезавода и, конечно же, с подвигом. Но это не просто «фильм-катастрофа», в нем есть попытка киноромана — в первой серии мы как бы привыкаем к своим героям, их жизненным ситуациям. Каждая семейная пара, как и сами герои, — определенная модель типов людей, жизненных ситуаций, несколько упрощенная, без лишних психологических изысков, иногда утрированная. В этом моделировании не слабость, а сила картины, потому что это ее эстетический принцип. Вторая серия — предельно экстремальная ситуация, уводящая от однозначности в понимании героев и дающая им возможность реализовать свой личностный потенциал. Модель строится по принципу: «обычные люди, оказавшиеся героями», что зрителю всегда импонирует. К тому же наш зритель бесконечно устал от героя, раскрывающегося в бытовых условиях. А. Митта — мастер жанра мелодрамы, он точно улавливает ее и всегда усиливает в необходимых местах для достижения наибольшего эффекта. Российский зритель, как никакой другой, любит и ценит мелодраму, это подмечали еще классики литературы. Прекрасно об этом писал А.П.Чехов: «Наш зритель любит „пустить слезу“ и на ситуацию крайне искусственную обронить: „Как в жизни!“, хотя в жизни такое если и бывает, то только раз в сто лет, не чаще, а то и вообще не происходит». Однако секреты нашего восприятия и привязанностей пока мало изучены. Важно учитывать и национальный характер, и культурные принципы народа, а не только говорить о дурном вкусе и необразованности, это слишком просто. К тому же и образованные, и со вкусом ловятся на те же мелодрамы, только на порядок выше. Фильм «Экипаж» вызывает много раздумий, но одно бесспорно—колоссальный зрительский успех, львиная доля которого приходится на роль Леонида Филатова.
Его герой — Игорь, некий, по нашим понятиям, супермен, с квартирой, машиной, цветомузыкой, слайдами на потолке. В общем, у него есть весь комплект атрибутов, необходимый для независимости. Он — подтянутый, спортивный, достигающий своей неотразимости не столько супервнешностью, сколько необыкновенной подвижностью и обаянием. И, конечно же, наш герой — покоритель женских сердец. Как определит жена его товарища: «Кобель высшей марки. Сразу видно». Дальше этот тезис как бы имеет свое развитие. Нельзя сказать, что Леонидом Филатовым ничего не было сыграно на эту тему. После фильма «Экипаж», пожалуй, нет, но до него... В 1974 году на телевидении Владимир Смехов поставил спектакль «Федерик Моро» по роману Г. Флобера «Воспитание чувств». Сравнивать героя «Экипажа» с героем Флобера было бы неразумно, столь разные произведения, проблемы, художественные задачи, но Федерик Моро Филатова — обаятельный индивидуалист, аристократ, к тому же биография героя обильно полита женскими слезами: г-жа Арну, г-жа Домбрау, Луиза, Розанетта. В жизни Игоря Скворцова женщины существуют как бы по другому поводу, наш «злодей» значительно мельче. Его жизненное кредо элементарно. «Понимаешь, есть мужчины, которые однажды женятся и живут так до самой смерти. А есть другие: есть такие, которые никогда не женятся», —объясняет Игорь очередной «жертве». Филатов играет обаятельного индивидуалиста, но на этот раз он как бы его все время пародирует, иронизирует над ним. Актер сбивает со своего героя спесь, лоск великолепия. Помогает это осуществить сюжетный ход картины, ведь Скворцов делается жертвой собственной теории, и вся его независимость улетучивается, как воздух из шарика, прямо на наших глазах, стоило ему влюбиться. Перерождение и вновь завоевание своего объекта любви Филатову удается блистательно. Вспоминается французский фильм «Великолепный», где Жан-Поль Бельмондо играет некоего супермена; но это фильм-пародия, где драматургия — суть и плоть фильма — дает Бельмондо возможность поиздеваться над великолепием своего героя. В «Экипаже» Филатов смеется над своим героем как бы по собственной инициативе, сценарий не ставит перед ним такой задачи. Скворцову, однако, именно ирония помогает избавиться от однозначности как в своих героических поступках, так и в далеко не героических. Герой делается более естественным, многомерным, более привлекательным. Ведь Скворцов только бы тогда осуществился как супермен, когда бы он остался верен своей теории, никак бы не пострадал за нее. А так он несостоявшийся «сверхчеловек». Филатов очень точно улавливает комизм ситуации и импровизирует на эту тему. Однако одновременно Леонид подмечает в своем герое больше того, что нужно для фильма. В суетности Скворцова, в его дежурных разговорах по телефону, в его иногда холодном, жестком взгляде, где как-то неуютно и пусто, угадывается определенный социальный тип людей, определенное нравственное мировоззрение. Его нравственные понятия смещены, он искренне считает, что никогда никого не обманывал, потому что никому из своих возлюбленных никогда ничего не обещал. Если вспомнить Дон Жуана, что часто делается при упоминании Игоря Скворцова, то основание есть. В фильме комплекс героический, ведь Дон Жуан был не просто соблазнителем, но и героем, есть своеобразное возмездие и, конечно, нравственная ущербность. Игорь Скворцов в потенциале своем может совершить не только подвиг, но и совершенно обратный поступок.
Вспоминается ряд картин, где этот герой получил как бы иной уровень осмысления, свое развитие и продолжение: «Полеты во сне и наяву» (режиссер Г. Балаян), «В четверг и больше никогда» (режиссер А. Эфрос). Но это как бы то, что могло бы быть, а наш герой, как и требует того жанр, совершает подвиг: во время полета исправляет серьезные поломки в самолете с риском для жизни. К тому же Скворцов не осознает себя героем, расценивая свои действия как чисто профессиональные, необходимые в данный момент. В экстремальных условиях Скворцов необыкновенно мужествен, то есть храбр, благороден, находчив. И это еще один момент, которого так не хватает зрителю и героям на экране. Своеобразная романтика геройства — и, конечно же, юный зритель первым отдал свое сердце Скворцову. После этой роли о Филатове заговорили как о герое с отрицательным обаянием; что означает этот термин, понять трудно. Одно ясно, что на современном экране мы вряд ли уже увидим положительного героя в традиционном его понимании. Скворцов — наш современник, он и не плохой и не хороший, вернее, он и то и другое, и, наверное, именно это и делает его столь правдоподобным. В фильме как бы не тот уровень столкновения плохого и хорошего. Плохое легко прощается. А в «Полетах во сне и наяву» плохое уже осмысливается как конфликт больного времени, как трагедия поколения. Наверное, сегодня нам интересно осознавать своего героя сопричастным истории, видеть корни того или иного явления в конкретном историческом времени.
Работа над ролью Скворцова была непростой, так как А. Митта не относится к актерским режиссерам. «Саша Митта — он конструктивист, — рассказывает Леонид, — и художник, и график, и карикатурист. Он — человек, рисующий себе картину. И у него мышление такое: он придумывает конструкцию. В конструкции должен быть заложен целый ряд параметров, необходимых для того, чтобы картина имела успех. Должен быть жесткий, внятный сюжет, который содержит в себе обязательно элементы юмора, неожиданности. Каждый виток картины должен быть уже круче, чем предыдущий, как бы движение по спирали, потому что иначе картина не выдерживает, она не „полетит“ у него... Саша может нравиться или не нравиться, но он человек четкой программы, которую почти всегда выполняет. Бывали у него срывы, когда он путал адреса картин, но он всегда свою жилу разрабатывает. С Сашей работать очень любопытно. Я знаю, что артисты иногда жалуются и стонут, как с Сашей трудно, он как бы такой непредсказуемый... Да, действительно, поначалу, когда снимаешь с ним первую картину, трудно понять его устремления. Да, действительно, он как бы не очень обращает внимание на артистов, а просто требует от них отдачи. Он считает, и он тоже прав по-своему, что артист, приходящий в кино, прочитавший сценарий и имеющий примерно один разговор с режиссером, должен играть любую роль, как кошка, куда ее ни кинь, упадет на все четыре лапы. Ему как бы уже дальше не надо ничего рассказывать. Что я должен еще говорить артисту? Здесь подмигните, а здесь сделайте вот так? Не надо ничего. Я просто говорю тебе: „Вот план такой крупности“, а дальше — играй. Но если актер не делает, вот тут, конечно, начинаются нервы, потому что он как бы не актерский режиссер, он режиссер, собственно, своего кинематографа, который он выстраивает. Ему нужны профессионалы. Он должен снимать быстро, чтобы быстрее увидеть то, что он сконструировал, и чтобы все компоненты в общем отвечали тому, что он придумал. Поэтому и артисты должны отвечать. Он тебя выбрал, он тебе как бы объяснил, что от тебя требуется, он как бы в тебе это увидел, он как бы говорит: вот в этой роли, мне кажется, у тебя есть такие качества, все. Дальше думай, соображай сам... Приходи готовым.
В первой картине мне было тяжело. И даже ссорились на «Экипаже». Во второй картине, «Шаг», — ни разу. Мы жили душа в душу, хотя снимали очень долго и мучительно, картина трудная...«.
...Часто успех актеру приносят роли, которые не раскрывают возможности артиста, индивидуальность личности. Драматизм судьбы многих актеров как раз и заключается в том, что роли, принесшие успех на долгие годы, а иногда и навсегда, определяют амплуа актера. Режиссер и зрители эксплуатируют раз и навсегда проверенный «на успех» тип героя. Роль Скворцова не соответствовала человеческой сущности Леонида, в жизни он — антипод своего героя, к тому же по своей актерской одаренности, возможностям Филатов глубже и интереснее предложенной ему роли, которая, конечно же, не могла стать выразителем личности артиста. Однако популярность Леонида стала жить вне зависимости от фильма. Он стал существовать как миф, персонаж, пытаясь всеми силами избавиться от отождествления себя со своим героем, доказать в своем творчестве, что может играть, думать, говорить и на другие темы, проблемы времени. Ему помогло то, что успех «Экипажа» принес много самых неожиданных предложений сниматься, и роли, сыгранные вслед за ролью Скворцова, показали диапазон его возможностей. Филатову повезло и в том, что в его жизни был и есть режиссер К. Худяков, который знал и ценил личность Филатова, продолжая с ним работать из фильма в фильм. Более широко обнародовался в это время и литературный дар артиста. Через многочисленные выступления с чтением своих стихов, пародий Леонид завоевывает думающего зрителя.
Однако почему Филатов имел такой головокружительный успех? Только ли из-за удачной роли, как бы запрограммированной на него? Почему он привлек к себе внимание зрителей и режиссуры? Ведь мы знаем многих актеров, которые, сыграв одну роль, больше не появлялись на экране или очень быстро переставали привлекать к себе внимание зрителя и режиссуры, терялись, а потом и вовсе исчезали с экрана. Разгадка заключается прежде всего в том, что самая главная черта Леонида, за которую его выбрало время, — предельная естественность и достоверность в игре. Собственно, смена типа героя происходила на экранах всего мира. Например, Бельмондо так объяснял причину своего успеха:
«В начале карьеры я считал, что уродлив. Теперь я вижу, что ошибся. Моя рожа пришлась по вкусу. В 1960 году эра Валентине, Тайрона Пауэра и Кери Гранта закончилась. Я пришел со своим перебитым носом, моей раскованностью, в куртке, с естественной речью (не то, что в книгах). И это было то, чего требовало время, которое было концом мечтательной буржуазии». В 70-е годы во Франции критики даже заговорили о так называемой «новой естественности». Филатов мог бы повторить сказанное французским актером. Во внешности Леонида не было ничего такого, что могло бы определить его суперменом или романтическим героем. Однако в Филатове произошло счастливое сочетание внешнего выражения современности и того внутреннего темперамента, который определяет всю психофизиологическую особенность актера, его умение не «быть», а «жить» в роли. Мимика, энергия движения, жестикуляция, совершенно не театральная речь, отсутствие каких-либо примет актерского труда — все это было внешним выражением определенного типа современника, того героя, который появился на наших экранах еще в 60-е годы. Эта особенность его таланта, человеческого его существа определила успех Леонида на долгие годы. «На мой взгляд, Филатов являет собой тип нового артиста с идеальным союзом интеллекта и эмоциональности, —скажет Георгий Жженов, партнер Леонида по картине „Экипаж“. — Неуспокоенность души — характерное качество актера. Ему, по-моему, противопоказаны образы „решенных“, застывших героев. История кино знает примеры такого высокого актерского накала, когда исполнитель сам выстраивал, сочинял свою роль, а затем одушевлял ее, наполняя огромной жизненной силой. Леонид Филатов соединяет в себе эти две ипостаси: анализ и эмоциональную силу. Он никогда не играет отстраненно своего героя, это ни в коем случае не „прочтение“ образа, не „показ“. Жженов подметил важную особенность артиста, которая с годами развивалась все больше: герои Филатова никогда не „решены“ изначально, даже если это очень знакомые роли. Леонид умеет сыграть их в процессе, во всех нюансах, отдавая им часть себя. Иногда логика существования героя, его бытия, которой Леонид старается не изменить, уводит в целом от концепции фильма. Так, пожалуй, получилось в фильме Э. Рязанова „Забытая мелодия для флейты“. Герой Филатова оказался богаче, живее, а главное, сложнее той заданности, которая должна была разоблачить его чиновничью душу. Но не будем забегать вперед. Успех „Экипажа“, как говорится, не опьянил Леонида. Если бы, по его мнению, он пришел раньше, то, возможно, было бы упоение, а в тридцать лет, имея уже какой-то жизненный опыт, актерскую биографию, Леонид только почувствовал, что стал выразителем вкусов той части публики, которая не была ему духовно близкой. Это пугало, огорчало и увеличивало желание реализоваться как-то иначе.
* * *
Давай поглядим друг на друга в упор,
Довольно вранья.
Я — твой соглядатай, я — твой прокурор,
Я — память твоя,
Ты долго петлял в привокзальной толпе,
Запутывал след,
Но вот мы с тобою в отдельном купе,
Свидетелей нет.
Судьба мне послала бродить за тобой
До самых седин.
Но вот мы и встретились, мой дорогой,
Один на один.
Мы оба стареем: ты желт, как лимон,
Я лыс, как Сократ.
Забудь про милицию и телефон,
Забудь про стоп-кран.
Не вздумай с подножки на полном ходу
Нырнуть в темноту.
Мы едем с тобою не в Караганду
И не в Воркуту.
Чужие плывут за окном города,
Чужие огни.
Наш поезд отныне идет в Никуда,
И мы в нем одни.
...Как жутко встречать за бутылкой винца
Синюшный рассвет
И знать, что дороге не будет конца
Три тысячи лет...
«— Были ли у вас провалы и триумфы?
— Провалов было много. Оглушительных — два... Конечно, искусство — всегда риск. И когда этот риск заканчивается неудачей, обидно, но не страшно. А когда ты идешь сниматься в заведомо плохой фильм из соображений, далеких от искусства, тогда винить можно только себя. Именно такими были мои две неудачи. Нужно четко уяснить, на что ты имеешь право, а на что — нет, — такой вывод извлек я из горького, но необходимого урока, преподанного жизнью. Триумфов не было...».
В 1983 году К. Ершов снимает фильм «Грачи», в котором Леонид Филатов играет одну из главных ролей —Виктора Грача.
...Старый, заброшенный дом семьи Грачей... Чувство удивительного запустения, тоски вызывают эти «развалины семьи». Именно сюда приезжает судья, чтобы понять, как и почему произошло страшное преступление.
История, рассказанная в фильме, построена на документальных фактах, описанных в судебном очерке журналистки Ольги Ильинской. Перед нами не традиционный детектив с погонями и преследованиями, хотя и они присутствуют в нем, а попытка понять, как и почему люди становятся преступниками.
Двор дома Грачей. Дерутся мальчишки. Один из них жестоко избивает мальчишку с другого двора, объясняя младшему брату Александру: «Он наше хотел украсть». Виктор рос, как говорится, с кулаками. Они его утверждали, давали свободу в общении со сверстниками. Неизвестно, как бы все сложилось, если бы не было в жизни этих людей случайной встречи с уголовником Осадчим. О детской мечте стать летчиком напоминает разве лишь блатная песня «Мама, я летчика люблю». Ее он будет петь после убийства Виктором владельца «Жигулей». Зритель не видит на экране самого убийства, а переживает свершившееся непосредственно глазами самого невинного в этой истории человека — Александра.
В семье Грачей нет крепких родственных связей. Отец ушел, старший брат Андрей не поддерживает с семьей никаких отношений, мать — убогая, ограниченная... Семья Грачей, как дерево без ветвей, тех самых ветвей родства, они обрублены жизнью, сознанием, воспитанием. На суде Виктор Грач не может назвать имя деда. Убогая, страшная, бездуховная жизнь. Виктор сам воспитывает и себя и брата. Перед нами не столько история преступления, сколько история распада семьи, уродливой трансформации нравственных понятий и ценностей.
Виктор Филатова — сильная, независимая личность, которая утверждается, переступая через нравственный барьер.
Это сложная, противоречивая натура. Верность своих идей он проверяет на брате. Вот почему еще ему так нужна эта душа. Он берет брата на убийство, чтобы не только закалить его, как он говорит на суде, но и больше почувствовать свою правоту. Филатов очень точно передает гамму чувств Виктора к брату. Здесь и раздражение на Александра при убийстве, моральное насилие над личностью, душевной организацией брата, и беззаветная любовь к нему, нежная и заботливая. За Александра Виктор пойдет на все.
Убийство Виктор совершает нервно, суетливо. Он вообще крайне экзальтирован, импульсивен. Для сверхличности ему не хватает элементарного хладнокровия. Интересна пластика роли, созданная артистом. Жесты героя нервны, даже как-то по-особому изящны. В суетности Виктора есть что-то мелкое и жалостливое, разоблачающее ту идею, на которую замахнулся герой. В игре Леонида существует момент, компрометирующий теорию его героя. Виктор Филатова живет бесконечным внутренним напряжением, монологом о правильном выборе в жизни. Вся его суетность говорит о том, что он сомневается где-то очень тайно и почти неосознанно, просто в силу того, что еще не все человеческое в нем потеряно. Его внутренние сомнения удовлетворяются, когда Александр ведет себя по-хамски, напористо, как бы подтверждая своим поведением незатейливую философию брата, которая заключается в коротком слове — «бери».
Герои Филатова всегда умные люди. Виктор Грач тоже умен, но это его как бы природное качество, не тронутое ни воспитанием, ни образованием. Ум его не обрел никакую форму, он существует в своем стихийном, первобытном проявлении.
Леонид находит очень точные интонации для речи героя. В своих учениях он то краток и четок, то истеричен. Речь его—быстрая и нервная. Есть в фильме сцена, построенная полностью на импровизации Леонида на одной фразе: «А ты Эдика Хачатурова знаешь?» В ней нет прямой угрозы, всего лишь вопрос. Леонид начинает говорить фразу почти спокойно, доводя себя до искусственной злобы и ненависти к обидчику.
Каскад преступлений, происходящих в фильме, ничего не дал героям, поставленная ими цель достигнута не была: кассу взять не удалось, одно преступление лишь порождало другое, как цепная реакция. На суде Виктор мечется, врет, хамит, все время что-то выкрикивает, задает вопросы судьям, бесконечно оправдывается, боится за брата и за себя, до последнего борется с обстоятельствами, его цель — выжить любым способом. Меньше всего Виктор думает о своем преступлении, в отличие от Александра, который не может даже чисто физически перенести весь ужас происшедшего. Любовь к брату позволяет герою остаться где-то в самой своей глубине человеком, пусть страшным, озлобленным, с изуродованным сознанием, но все-таки способным на человеческие чувства. Дважды в фильме герои вспоминают сцену из далекого детства: Витя несет на руках Шуру, мать кричит вдогонку: «Смотри не урони!» И хотя можно обвинить режиссера в излишней прямолинейности метафоры, Виктор все-таки «роняет» брата, не уберегает, а, наоборот, обрекает его на муки. Лиризм, какая-то удивительная поэтичность этих сцен говорят об искренней связи людей, которые в итоге теряют друг друга и самих себя. Во многих рецензиях критика отмечала слишком мягкую манеру повествования в этом фильме. Однако мне кажется, что именно она обогатила фильм. Все человеческие нормы жизни вроде бы сохраняются. Яркое солнечное лето. Краски природы —сочные, чистые. Семья обедает, мирно, тихо. На столе большой спелый арбуз. Так же несколько дней назад Осадчий предлагал съесть арбуз, который лежал рядом с убитым в багажнике машины, и, нисколько не колеблясь, съел его, наслаждаясь полнотой жизни. За этим вроде бы сохранением жизненных норм ощущаешь всю безнравственность существования этих людей, чудовищность их сочетания с природой, жизнью, их человеческими привязанностями.
Если бы К. Ершов пошел по другому пути — излишней аффектации, натурализма, он бы достиг шока у зрителя, но не глубины размышления о чудовищности преступления.
Много важных проблем поднимает фильм. Тема ответственности самых близких и родных людей, которые черствы и глухи, потому что бесконечно бедны духовно, нравственно примитивны и ущербны. Это и тема виновности как бы невинного Александра, это и проблема выбора жизненной философии.
Работать Леониду с Константином Ершовым было интересно: «Я просто благодарен судьбе, что она меня с Костей свела, потому что это уникальный человек. У него было много друзей, которые его нежно любили. Он был рыцарь дружбы и искусства. После одной из картин, которую Константин делал на Центральном телевидении (фильм, к сожалению, так и не вышел на экраны), он заболел. Мы ездили в Киев, навещали его. Вроде бы все прошло. Через год Ершов приезжает в Москву, приходит ко мне за неделю до своей смерти, и мы с ним оговариваем новый сценарий — „Обвиняется свадьба“. Я собирался играть роль тамады. Образ не однозначный. Человек с большими претензиями, хотевший якобы даже заняться искусством, а в сущности прохвост, который выгодно использовал себя и был тамадой не только на свадьбах, но и на похоронах. И вдруг Костя через неделю умирает... Меня уговаривали все равно сняться в этом фильме, но я понимал, что фильм может быть только таким, каким чувствовал и понимал его Костя. Он одним своим прикосновением превращал банальные вещи в небанальные. В том, что он делал, была какая-то нежность, гармония. Я отказался от этого фильма без него...»
В жизни любого актера большую роль играет встреча с режиссером, совпадение творческих поисков, человеческих критериев. Леониду везло: он работал с интересными людьми, талантливыми режиссерами, с некоторыми из них его связала дружба.
О Ершове он вспоминал с какой-то особенной нежностью: «Это был очень тихий, интеллигентный человек, казалось бы, совсем не соответствующий энергичному образу современного режиссера». Трагически оборвалась жизнь человека, наиболее ярко проявившего себя в своих последних работах. Оборвалась дружба, обещавшая много новых открытий.
* * *
О, не лети так, жизнь!..
Слегка замедли шаг.
Другие вон живут,
Неспешны и подробны,
А я живу, мосты,
Вокзалы, ипподромы
Промахивая так,
Что только свист в ушах!..
О, не лети так, жизнь!..
Мне сорок с лишним лет.
Позволь перекурить
Хотя б вон с тем пьянчужкой,
Не мне, так хоть ему
Немного посочувствуй —
Ведь у него, поди,
И курева-то нет!..
О, не лети так, жизнь!..
Мне важен и пустяк.
Вот город, вот театр,
Дай прочитать афишу,
И пусть я никогда
Спектакля не увижу,
Зато я буду знать,
Что был такой спектакль!..
О, не лети так, жизнь!..
Я от ветров рябой.
Позволь мне этот мир
Как следует запомнить,
А если повезет,
То даже и заполнить
Хоть чьи-нибудь глаза
Хоть сколь-нибудь собой!..
О, не лети так, жизнь!..
На миг, но задержись!..
Уж лучше ты меня
Калечь, пытай и мучай,
Пусть будет все: болезнь,
Тюрьма, несчастный случай —
Я все перенесу,
Но не лети так, жизнь!..
«— Ваш мальчишеский кумир в кино?
— Чарли Чаплин.
— Изменились ли привязанности в юности?
— В юности я был киноман. Увлекался польской волной — Мунк, Кавалерович, Вайда; 3. Цибульский, Л. Виницкая, Б. Брыльская... Тогда мы мало что знали, мало что видели. Во времена Хрущева нам как бы приоткрыли мировой экран... Потом что-либо увидеть стало значительно сложнее».
В 1983 году Филатов начинает сниматься в фильме Сергея Соловьева «Избранные». Приглашение работать в фильме для Леонида было неожиданным и произошло как бы заочно. «С Сережей, — вспоминает Леонид, — до работы над фильмом мы были мало знакомы. Мелькали мимо друг друга на „Мосфильме“. Я очень любил кино С.Соловьева, но считал, что я ему не нужен, так как его фильмы строятся совсем по другим законам. К тому времени я уже наработал как бы собственный имидж. Мне нужно было что-то такое реактивное играть. Я еще плохо понимал, что можно просто остановиться и, думая, долго смотреть на какой-нибудь предмет. Это, оказывается, тоже может быть моментом кино...».
Филатову позвонили из Госкино и попросили срочно начать оформление в Колумбию, где его уже ждал Сергей Соловьев. Леониду дали роман Микельсена, который он смог прочитать только в самолете и составить хоть какое-то представление о будущем герое — немецком бароне Б.К. Однако, как оказалось, это были очень приблизительные прикидки роли, так как С.Соловьев совершенно перекроил роман, создав, правда вместе с автором, как бы вариацию на тему романа.
ИЗ БЕСЕДЫ С КИНОРЕЖИССЕРОМ СЕРГЕЕМ СОЛОВЬЕВЫМ
«...Как я работал с Леонидом? Честно могу сказать, что никаких принципов работы с актером у меня нет. Важно, чтобы встретился человек моей группы крови, тогда все пойдет хорошо... Я к Лене во всех его проявлениях, включая и литературную работу, отношусь хорошо. О Филатове нельзя сказать: вот эта его роль — удачная, а вот эта — нет. Он настолько личность, что такой подход невозможен... К сожалению, славу Филатову принесли роли, которые никак не раскрыли его возможностей... Для меня Леонид—актер только начинающийся. Ему идет возраст. Так, в свое время необыкновенно шел возраст Вячеславу Тихонову, когда он вошел в пору роли Штирлица. Я считаю, что у Леонида все еще впереди, даже по возрасту. Мечтаю поставить пьесу Чехова „Иванов“ в театре с Филатовым в главной роли, но никогда этого не делал раньше, потому что не было Иванова. Может быть, это была бы самая главная роль Леонида, если бы все удалось...
Леша Герман сказал как-то очень точно, что для него люди делятся на две категории: одни осуществили себя на 680 процентов, хотя там уже давно и осуществлять-то нечего, а процентовка осуществления все идет и идет, другие —на 0,001 процента. Конечно, это не оценочная категория, а категория как бы судьбы, везения, обстоятельств... У Лени процент осуществления себя в кино, в театре очень мал, в то время как многие из его поколения выработали эти 680 процентов... Поэтому я всегда держу его в голове, но, к сожалению, режиссер — профессия зависимая, так как он живет в атмосфере порой даже непонятных ему закономерностей, где режиссерское своеволие — полная химера. Почему нужно делать так, ты не знаешь, но чувствуешь, что именно так. Когда начинаешь своевольничать, что-то ломать, то абсолютно уродуешь, искажаешь самое главное в своей работе. Если бы моя воля, я Леонида снял бы уже десять раз.
У Филатова есть звездная аура... На мой взгляд, он звезда «китчменная». Свою звездность Леонид несколько раз на дню растаптывает: с утра он ходит как птица Феникс, а потом делает все, чтобы быть не звездой, а перейти чуть ли не в охранники Театра на Таганке. Сама по себе внешность у Леонида благодатная. У него прекрасное сочетание романтического сердцееда Кларка Гейбла и комика Бестора Китона. Редко встречающееся романтико-комическое сочетание. Если говорить о чистоте этого свойства, то ничего такого Леонидом еще сыграно не было... Самое драгоценное у Филатова — необычайный спектр его составляющих. Более несовместимых, взаимоисключающих, кошмарно-китчевых соединений я в своей жизни не видел, прибавьте к этому ко всему необычайную искренность... Вот так посмотришь со стороны — может быть, это самый главный советский китчмен, которого я видел. Иногда как током бьет от того, что он «вытворяет», — в каких картинах снимается... Однако за всем этим стоит колоссального обаяния и красоты человеческая жизнь... Самое бессмысленное дело Лене что-нибудь советовать или в чем-то его поправлять. Знаете, как иногда говорят: вот попался бы он в хорошие руки и отшлифовали бы этот алмаз. Никуда он не попадается, шлифовка его бессмысленна. Брильянт он или не брильянт? Кто его знает, будешь шлифовать, а там—булыжник, но как брильянт-булыжник, через черточку, Леня мне ценен... Любой бы актер на месте Леонида давно бы спрятал все невыгодные черты, а все выгодные отработал. Актеры к этому возрасту уже становятся совершеннейшими продувными бестиями, даже порой и не поймешь, кто он такой, настолько все сделано. Леня —человек бесконечно искренний, незащищенный... Актеры театра, кино подрабатывают на разного рода концертах, причем другие «халтурят» в миллион раз больше, чем Леня, но это все предмет дикой тайны, даже по радио ухитряются говорить не своими голосами. Как же так вдруг: Я — и Буратино! Леня никогда не скрывается. Все говорят: «Как так?» От искренности, понимаете, и нежелания прикидываться кем-то другим, нежели он есть... Как и все советские актеры, он абсолютно одинокий волк, и, кстати, более неприспособленный волк, чем большинство других, более наивный, открытый, незащищенный. От этого его «халтуры» были видны всем... У нас у всех все-таки тяжелая жизнь; если возникает желание судить человека, то нужно это делать по лучшему, что у него есть, а не по худшему. На каждого из нас можно «сшить» дело, омерзительное общественное дело, раздуть которое ничего не стоит. И суть не в том, что мы такие плохие, а в том, что мы жили в таких условиях, что это уже испытание всех человеческих возможностей... Или надо отказаться вообще от жизни... Единственное суждение, которое имеет смысл в нашей жизни, — брать тебя по лучшему, что у тебя было, а не выискивать недостатки. Тем более что Леня — редкий человек, худшего у него мало...
Я очень уважительно отношусь к режиссеру К.Худякову. Он как бы открыл Леню и соблюдает обряд верности по отношению к нему. В жизни актера чрезвычайно важно иметь такого режиссера. Мне очень нравится роль Леонида в фильме «Успех», но эта роль по отношению к Лене как бы его парадный портрет: так, если бы состоялась встреча поклонников Филатова с ним, то можно было бы торжественно сказать: «Вот он такой!» В этой работе есть некая академичность. Как демонстрация Лениных возможностей, взятая в идеальном аспекте...
В ближайшее время, если будем живы, хотелось бы поработать вместе... Может быть, это будет Иванов...».
Продолжение разговора с Сергеем Соловьевым через 10 лет:
История забавная и на самом деле сложная и хитроумная, потому что сниматься в фильме «Избранные» должен был Саша Кайдановский. У него прошли пробы в Москве замечательные и всем он очень понравился... Кроме всего прочего — у меня был очень забавный соавтор — автор романа «Избранные», — Президент Республики Колумбия Альфонсо Лопес Микельсен. Оказывается, когда-то А.Л.Микельсен попросил Леонида Ильича Брежнева, во-первых, почитать роман, а во-вторых, на основе этого романа помочь создать колумбийскую кинематографию, потому что А.Л.Микельсен не только любил пописывать, но и еще страшно обожал кино. А кино в Колумбии не было, т.е. был кинофонд и было много денег довольно в Колумбии, так что существовало национальное кино, а как такового кинопроизводства не было. И вообще вся эта афера — она носила такой невероятный межконтинентальный политический характер: значит, вместе с созданием фильма «Избранные» мы создавали колумбийскую кинематографию и как бы все это находилось на личном контроле и при личном участии двух столь могущественных президентов. Про одного рассказывать не надо, сколь он был могуществен, а второй тоже был страшно могуществен, потому что на самом деле мы в Колумбии действительно могли делать все, что хотели. И делали все, что хотели. Там невероятные какие-то дела были. Самолеты взлетали не в том направлении, в котором они должны были взлетать и как бы отважные колумбийские ассы говорили, что сделать этого конечно нельзя, но постоку-поскоку, значит, Альфонсо Лопес Микельсен приказал, — они это сделают. И так вся картина снималась. Так вот соавтор мой, посмотрев пробы Кайдановского, пришел в восторг и сказал: «Вот-вот, именно вот такого Б.К., я и хотел». А в это время одновременно с соавтором моим эти пробы смотрели в КГБ на Лубянке. И они тоже смотрели внимательно и говорили: «Вот-вот-вот, именно этого хрен мы и разрешим. Вот этого-то именно и не будет никогда ни за какие коврижки», потому что уж более ненадежного создателя колумбийской кинематографии, чем Кайдановский — и представить себе нельзя. А я не мог участвовать в диалоге никак, потому что я в это время уже был в Колумбии, пока обсуждались фотопробы Кайдановского в комитете госбезопасности. И потом мне прислали какой-то шифрованный ответ (там же участвовали во всем этом деле какие-то международные чекисты и все время как бы с лупой разбирались шифровки разные). И в шифровке было написано, что забудь про Кайдановского, он тяжко болен. Я там стал звонить Сизову, он говорил — ни в коем случае не говори открытым текстом, что К. страшно болен. Короче говоря, через много-много таинственных ходов КГБ я узнал об окончательном решении, в котором даже принимал участие Андропов, который сказал — «Не-не-не...», потому что одновременно тогда запретили Саше сниматься и у меня в картине, и у Андрея Тарковского, который тоже его пригласил в «Ностальгию». А в «Ностальгии» уже нашелся Олег Янковский, который заменил совершенно негодящегося к международной деятельности Кайдановского, а мне сказали — в трехдневный срок — ищите своего Янковского. И я погрузился просто в пучину маразма, в бездну маразма, потому что во-первых — как бы голова была уже устроена на тот план, что это должен быть Кайдановский, а во-вторых я значит стоял перед такой задачей — как же мне сейчас изобрести такого актера, который одновременно понравится мне и Андропову? Это была уже какая-то сверх непосильная задача, да еще и решалась она на койке в Колумбии при большой температуре воздуха. Суток двое я провел в таком горячечном бреду и, наконец, я вспомнил Леню Филатова, с которым был едва знаком. Я его встретил как-то в театре на Таганке. А в театре на Таганке у меня было много приятелей хороших друзей — и Коля Губенко, и Володя Высоцкий, как бы вроде в одно время учились в институте, мы друг дружку знали и я к ним любил ходить и не только на спектакли, а вот так просто — болтаться по фойе театра. И в одно из болтаний они меня познакомили — не помню кто — то ли Коля, то ли Володя, — познакомили с очень изящным, худеньким и совершенно, как мне показалось — не для Таганки сделанным молодым человеком с усами. А почему не для Таганки сделанным — они там все конечно были такие не то ломом, не то топором рубленные — как бы Любимову очень нравилась такая обработка человеческого материала. А этот был ручной работы, совершенно это было видно невооруженным глазом, абсолютно ручной работы, шестнадцатый век, секрет утерян и вообще он походил на Бестера Китона, на Феррера: что-то такое необыкновенно изящное, с усами, интеллигентное и совершенно не нахальное, которое как бы этому театру совершенно не соответствовало. Только усы у Дыховичного были, может, по усам он туда и попал, потому что все остальное как бы совсем не совпадало с «любимовскими» вкусами. И мне он очень понравился. Чем понравился? Вот именно таким абсолютным несовпадением и непопаданием, потому что я, как животное общественное, ну как бы в лад всем качал головой и говорил, что театр на Таганке это совершенно гениальное явление, а по сути-то мне не нравилось многое — ни «Маяковский», ни «Пушкин»... Я понимал, что это общественно нужное дело, честно-полезное дело, но на самом-то деле я почему-то все время, глядя на все любимовские спектакли, вспоминал, как мы в школе пирамиды делали: кто-то ложился на пол, кто-то кому-то вставал на голову, сверху кто-то на голове стоял на плечах, а на башку ставил звездочку и что-то такое читали. Вот эта стилистика у меня не вызывала особого восторга. И я как раз и подумал — вот у Любимова может быть в голове что-то сейчас изменилось, если он таких актеров берет, то может быть период пирамид закончится и начнется новый период. Леня бледный, умный, интеллигентный и — вообще явление для Таганки дикое. Леню трудно представить себе на таганковской пирамиде, да? Где они друг друга все на плечах держат, вот одновременно распятые и одновременно физкультурники и что-то одновременно против советской власти и одновременно очень здоровое и физкультурное я думаю — как он туда втемяшится, впишется, повиснет — не ясно, к тому же не очень-то он туда втемяшился, вписался и повис, как мне кажется, хотя человек таганковский, удивительно таганковский, но вот если есть, как говорят — «таганковский» тон, то Леня был прекраснейший «таганковский» обертон. Он дополнял Таганку той тонкостью, тем душевным изяществом, тем складом вообще старого русского интеллигента. Вот такой странник на Таганке был Леня Филатов.
У меня какое-то очень доброжелательное отношение к знакомству с ним было (а нужно учесть, что несмотря на то, что мы с Леней по-моему ровесники или он меня чуть младше, но как бы по тем временам я был очень сильно старше — он был недавний выпускник Щукинского училища, а я уже вроде как такой мастодонт, такой битый жизнью и Таганкой). И через некоторое время я услышал Ленины пародии — жутко смешные пародии и какие-то обрывки стихов. И тогда я понял, что как бы Леня адаптируется к театру на Таганке, поскольку это уже не походило на пирамиды, но тем не менее было задорным, несло в себе полезный общественный пафос и в то же время выдавало в человеке яркую поэтическую одаренность, такую одаренность которая к пирамидам не имела никакого отношения. И вот все это вместе мне как бы в башку затемяшилось, по-моему, на исходе первых суток раздумий и я бросился к моим родным чекистам, к передатчику передавать в Москву шифровку, что может быть Филатова попробуем на роль. Правда, руки-ноги у меня холодели, поскоку я думал — а если не попаду опять во вкус Андропова. Потому что, во-первых, Таганка и вряд ли там уж особо благонадежные все, вот. А во-вторых, с другой стороны кто же кроме профессиональных осведомителей так сказать знает что-то на самом деле. Тем не менее, значит, вот я закончил сеанс связи с Центром, и через два дня из Центра радистка «Кэт» передала мне шифровку, что Филатов выезжает. И тут на меня напал ужас совершеннейший, потому что с одной стороны конечно странно, что ряды резидентуры так безболезненно пополнялись нужными людьми, а с другой стороны — а если я ошибся? Если воспоминания о том, что я видел в фойе на Таганке окажутся не такими радужными и прелестными, как на самом деле. И я с чувством ужаса ехал в аэропорт, потому что как бы у меня два раза в жизни было отсутствие радости победы: первый раз когда я совершенно нехотя утвердил на роль пионерки Таню Друбич в силу какого-то общественного сопротивления вкусу генерального директора и в тот момент, когда я его сломал — у меня радость ушла просто совсем, потому что я снимать ее не хотел, абсолютно. И вот здесь у меня тоже радости от победы не было, когда я ехал в аэропорт — было чувство ужасного страха и я думал — куда же я его девать-то буду, если не понравится. Как его назад-то депортировать? Я уже обдумывал варианты как я, значит, по своим чекистским каналам объявлю его больным или там психически неустойчивым и в каком-нибудь ящике отправлю назад в случае чего. Но когда Леня прошел через таможню, мы сразу уехали на съемку, причем уехали на съемку эротической сцены, в которой снималась такая звезда Латинской Америки как Ампара Грисалес и Леня... В аэропорту Леня спросил — а какую сцену (у него уже был сценарий в тайнике, где-то там в Москве бросили в урну сценарий) он его, значит прочитал и спрашивает: — Какую сцену снимаем? Я говорю: — Вот эту сцену. Да? — сказал Леня. «Мне нужно будет обязательно... ну, минимум 150 граммов выпить, вот — и пойдем тогда». Мы с ним выпили так 250 и пошли. И вот уже в первый же день я почувствовал, во-первых, — ясное такое, профессиональное понимание, что я нашел идеального совершенно просто исполнителя для этой — в общем хитроумной роли Б.К. Второе — что я встретил совершенно обворожительного человека по обаянию абсолютной наивности. Вообще в принципе, это один из самых по-детски наивных людей, которых я видел в своей жизни. Очень странная у Лени организация, потому что будучи действительно, абсолютно наивным человеком, он очень умен, по-настоящему умен. Я бы даже сказал — мудр. И это редчайший в моей жизни случай, когда я видел, как настоящая мудрость человеческая, зрелость, я бы даже сказал — сознание, лишенное иллюзий — уживаются с такой детской открытостью и детской наивностью в отношении к миру. И работа с ним была огромным удовольствием. Она положила начало — я не могу сказать, что мы с Леней часто видимся, что я каждую секунду звоню по телефону Лене и говорю, как там, получше или похуже — ничего этого нету, но я могу сказать честно, что в подсознании моем я помню его всегда и это одно из самых, что ли, наиболее надежных и светлых моих воспоминаний.
Как мне кажется, одна из главных проблем Лени, внутренних проблем, на которых он держится, на которых он существует, на которых он стал Филатовым, которого мы знаем, это проблема честности и откровенности его взаимоотношений с людьми. Он мне озвучил двух актеров. Отца из фильма «Чужая белая и рябой», которого играл выдающийся литовский артист, но с очень большим литовским акцентом, и Леня мне его перевел на русский язык, причем сделал это с потрясающим, с блистательным самоограничением. Он делал только то, что делал выдающийся литовец. А вторая вещь, которую он мне тоже помог сделать — Отто Зандер играл в «Трех сестрах» Вершинина. И играл тоже на своем немецком языке, с которого нужно было потом сделать русского чеховского Вершинина, а не Вершинина Штайна, которого привык играть Зандер. И вот Леня, стоял перед экраном, не мог не сказать, он говорит, слушай, какой бред он все-таки несет. Кто? Да Зандер. И стал чеховский монолог пересказывать. Вот посмотри, что он мелет, ты только послушай, что он несет... Это уже на озвучании картины — ну, мог бы промолчать... Не мог. Ему противно было произносить то, что написал Антон Павлович Чехов. И вот, несмотря на то, что все ... вокруг — ах, ох, как же — то, что в нашей душе всегда было, а он как бы... проартикулировал. Леня говорит — не было никогда этого в моей душе, чушь это собачья. Ложь и фальшь. И не может он этого не сказать. Он должен это сказать. То же самое и с самом Зандером — как же он плохо играет! Давай его хоть поправим, что-нибудь подвинтим... А Зандер где-то получил за роль Вершинина премию «лучший Вершинин» всех стран и народов! Леня говорит: «Так в Пензе у нас не играют». Зачем это ему — конечно не затем, чтобы унизить Зандера, он не мог этого не сказать, потому что у него возник живой контакт с материалом. Он не мог фальшиво играть, прикидываться, что ему все это очень нравится, он переламывал себя из дружбы ко мне. Никому никогда в жизни не стал бы делать эту работу — но, переламывая себя, он не хотел быть фальшивым и нечестным по отношению ко мне и по отношению к работе, которую делал.
«Чайка» мой спектакль в театре на Таганке — это очень смешная история. Она, пожалуй, еще смешнее, чем чекистская история... Уезжая в Израиль, Любимов, с которым мы были в очень добрых и хороших отношениях сказал — «Вот, хорошо бы поставить в театре что-нибудь не таганковское». Я сказал — вот я бы с удовольствием поставил совсем не таганковское что-нибудь. Он говорит — а ставьте, что хотите, не таганковское... Знаете, Юрий Петрович, я хотел бы поставить что-то такое с пыльными кулисами, чтобы на тряпках изображена была луна. Да? Ну, что ж — давайте, попробуйте, что-нибудь поставьте... и уехал в Израиль. И Коля Губенко, с которым я очень давно дружу, у меня в театре были два таких близких человека — Коля Губенко и ... Леня — значит, я им сказал — давайте, с пыльными тряпками что-нибудь с луной. Они говорят — ты что — в своем уме: какая луна, какие тряпки, что ты мелешь? Я говорю — ну, мне Любимов сказал. Они говорят: — Ну ладно ты, дурака-то валять — ни в коем случае. Если ты не хочешь вляпаться в какую-нибудь историю, которую будешь расхлебывать двадцать лет, в общем беги отсюда, что ты — шутишь. А Любимов еще звонил из Израиля Давиду Боровскому — вы там тряпки мусолите, нет? Тот говорит — нет, он куда-то исчез. Потому что они меня просто выгнали. И меня долго там не было, а потом вдруг Коля звонит: — Мол, все теперь. Я от Коли узнал собственно то, что Любимов предатель, отступник, а мы настоящие борцы за чистые души актеров. Он всех актеров хотел переделать в акции, а мы ему не дали, не на тех нарвался, мы из него из самого акцию сделаем... Что-то совершенно невиданное. А все это невиданное закончилось тем, что вот теперь пришла пора тряпки мусолить, потому что у нас здание целое большое стоит и денег никаких. Вообще. Леня обещал пьесу написать, над которой он сейчас работает, я в будущем тоже что-то там поставлю, вот — народу много, народ интересный. Все получают зарплату, никто ничего не делает. Поэтому делай что хочешь: тряпки — тряпки, луна — луна, что хочешь. Я сказал: — Давайте будем делать «Чайку». Тогда... тут же по телефону распределил роли, сказал Коле, что Коля — ты будешь играть Тригорина. Он говорит: я буду играть все, что ты скажешь. Если скажешь, что я буду играть Нину Заречную — буду играть Нину Заречную, потому что делать нам совершенно нечего. Я говорю, нет, Нину Заречную ты не будешь, ты будешь играть Тригорина. На что Коля секунду подумал и сказал: я буду играть Тригорина, но один я играть не буду. Потому что у меня очень много времени занимает общественно-политическая деятельность и я не могу ...угробить вообще судьбу России размышлениями Тригорина. Поэтому нужно найти второго. Я говорю — да там есть второй... Этот самый — Филатов. А он говорит, а он похож на Тригорина. Я говорю — дико похож. Он говорит, значит, по-твоему — и я похож на Тригорина, и он похож на Тригорина? Я говорю: да, вы дико похожи оба на Тригорина. Патологически оба похожи. Вот, ...после чего мы начали с Давидом Боровским сочинять декорацию пруда. А мы еще начали с Давидом, потому что еще Давиду как бы поручил мои тряпки Любимов. В общем, с Давидом Боровским мы стали все это сочинять... Давид — один из самых очаровательнийших людей, превосходных, талантливых людей, которых я видел в жизни. Но когда я ему сказал про тряпки и про луну — у него я видел, как просто образовалось на лице тошнотворная гримаса. Он сказал: — Да, но понимаете, надеюсь, не в прямом смысле про тряпки и про луну? Как? — В прямом, в прямом — я говорю — еще хотел бы бассейн построить, чтобы там была вода. Он говорит: — В каком смысле вода? Я говорю: — Ну вода в смысле... Он говорит: — Вы имеете в виду — мокрую воду? Я говорю: — Да, я имею в виду мокрую. Он говорит: — Нет, вы понимаете, в чем дело, это театр. Я говорю: — Да, я понимаю, что театр. «Но в театре, — он говорит: — Знаете — намек, когда бросишь какой-то намек, а он и хлюпает, как вода. Я говорю: — Не-не-не, я не хочу намек, а вот просто воды налить. Он говорит: — Воды налить во-первых сложно, потому что может пол рухнуть, вот, а во-вторых — стоит ли. Я говорю: — Стоит, стоит. Короче говоря, через три месяца работы над макетом с Боровским мы превратились в люто ненавидящих друг друга людей, т.е. человечески мы до сих пор близки, Давид и я попали в какой-то клинч. И Давид делал один макет прекраснее другого в своей стилистике, например, макет в стиле развалин Колизея, свечи, развернутые стулья к этому Колизею. Я говорю — что, почему Колизей-то? Я говорю — нет, там тряпки, луна. Он говорит, да нет, это знаете — такой плач по Таганке. Я говорю — да на хрена мне плакать по Таганке, меня совершенно другое интересует. Тогда он делает другой макет, еще лучше — они действительно были все замечательные. В общем, мы уже пришли к тому, что уже боялись вдвоем в мастерской быть — действительно просто боялись — или я бы его пырнул ножом, или он бы меня мастехином — ясно, что этим бы кончилось. И стали брать третьим Леню Филатова. Потому что его Давид очень любил, знал, что Леня меня очень любит, а я Леню люблю. И как бы Леня попал в эту совершенную хреновину, с этой вечной папиросой своей, с сигаретой и с прекрасным отношением ко мне, к нему, с пониманием того, что все равно тряпки вешать надо, потому что надо артистам зарплату платить, но тряпок вешать не надо, потому что это противоречит всем основам так сказать театра на Таганке и Давида. Я стал работать с Александром Тимофеевичем Борисовым, с которым мы сделали все тряпки и налили бассейн. В бассейн поставили лодку. Леня стал репетировать в паре с Губенкой, причем, репетируя, он произносил слова Тригорина с чувством живейшего омерзения на лице. И я не мог понять — что происходит. Я говорю — а что это происходит? Он говорит, ну ты слышишь вообще, что он говорит? Я говорю — кто? Тригорин! Я говорю — да. Он говорит — ну это же какая гадость вообще все это. Что он мелет все про какие-то звезды, про какие-то — в человеке все должно быть прекрасно: душа, одежда, обувь, значит, что-то говорит — ну такая пошлятина — ну, его прямо воротило от омерзения к великому русскому писателю. Я говорю: — Лень, ну ты как-то сдерживайся, потому что дело-то еще общественно-полезное — зарплату все получаем. Он говорит: — Только потому я в этой лодке и сижу. И там же в свое время произошла вот эта история, Леня встал и двумя руками собственную ногу вынимать в озеро из лодки. Я не мог понять — из омерзения это делается, или какая-то красочка к образу. Я говорю: — Лень, Тригорин не такой старый человек — Тригорину 44 года. И вот, когда ты двумя руками ногу вытаскиваешь из лодки, я говорю — это слишком. Он говорит: — Да при чем здесь Тригорин — у меня нога не вылезает просто... Оказывается, с этого момента он и почувствовал болезнь. Вдруг, ни с того, ни с сего, и это произошло у меня на репетиции, на „Чайке“. Начался драматический период. Тогда, когда мы виделись, а виделись мы не часто, потому что оказалось, были такие люди, которые действительно ежечасно приносили настоящую пользу рядом с Леней. Леня меня поражал своим необыкновенным благородством и достоинством в болезни, потому что Арнштам говорил, что любой человек — проявляется всегда в болезни. Вот какой он в болезни — видно сразу, в какой степени он — трус, в какой степени — верующий, в какой степени он эгоист. Леня человек великого благородства, просто безупречного человеческого благородства, что подтвердила эта болезнь, что меня еще и еще раз удивило. Несчастье нашего кино в том, что угробили, убили, изничтожили очень слабую рядом с американской, но все же существовавшую в советском кинематографе систему звезд. Я как-то разговаривал с американским продюсером, который сказал мне замечательную вещь. Он говорит: американский народ может смотреть все, что угодно из любой эпохи, с любыми героями — Калигула, Наполеон — наплевать кто. Главное, чтобы Наполеон и Калигула были американскими артистами, которых американский народ любит, знает и за них переживает. Тогда они будут переживать за Калигулу, за Наполеона, за кого угодно. Нам чужие Калигулы, чужие Наполеоны и чужие Пушкины не нужны. Логика гениальная и очень правильная, очень правильная. Мы забываем о том герое изящного фильма с атмосферой, с прекрасным движением камеры, с... — все равно народ не будет смотреть и переживать ни за что, изображаемое на экране, если там не участвуют любимые им, родные для них люди. Вот таким любимым для них, родным человеком стал Леонид Филатов. Так он, преодолевая себя, сыграл каких-то людей, которые лично его вряд ли так уж интересовали, но он их сыграл, потому что он понимал, что он осуществляет некую высшую миссию артистов кино — он становится кинематографической звездой, он становится родственником зрителю, он становится тем человеком, за которого они будут долгие десятилетия переживать, страдать, верить — самое главное — верить, потому что без веры... экранный лучик абсолютно никому не нужен.
А что касается звездности. Леня пришел в кино, в котором звездный небосклон еще составляли великое сияние звезд — Крючков, Баталов, Самойлова, Андреева, Ладынина, Леонов, то есть действительно выдающееся система звезд, которая просто неразумно, нерачительно использовалась, что было одной из колоссальных глупостей системы. Кстати, Сталин это понимал. У Сталина было понимание необходимости кинематографической звездности актеров. А когда пришел Леня в кино, это как бы считалось старомодным: — Вот хорошо бы снимать человека из толпы, которого никто не знает, без 24 зубов, не выговаривает 64 буквы — вот это хорошо, потому что он такой же, как в трамвае, хотя этот трамвай на самом деле никого не интересует, всем хватает трамваев в обыкновенной жизни. Когда в кино попадаешь и опять трамвай — сходишь с ума, просто. И вот Леня пришел и на этом уже угасающем звездном небосклоне зажглась исключительно яркая звезда, потому что Леня при всей своей изысканной интеллигентности, я бы даже сказал при элитно-интеллигентном складе души и складе человеческом — он очень демократичен, как тип человеческий, т.е. очень многим людям хотелось бы, как они себе представляли бы вот такое невиданное счастье, вот какого-то романа с Леней, да? Правильно его Митта нашел как фатального героя-любовника... потому что он как раз такой демократический массовый, масскультовый герой-любовник нес в себе те черты, которых так не хватало в жизни миллионам женщин и девушек, которые имели дело в большинстве своем с мордастыми жлобами, от которых вечно пахнет перегаром.
Филатов — это одна из самых что ли — удачливых актерских судеб, скажем, моего поколения. Одна из блистательных судеб, потому что Леня — настоящая советская кинематографическая звезда в прошлом... в настоящем. Ну как — вряд ли найдется человек, который не знает, кто такой Филатов, да?.. И при этом при всем я... утверждаю что актерская судьба Лени осуществилась на какой-то маленький процент. Почему? Потому что в каждом человеке заложено некое количество жизненной энергии... и жизнь дана для того, чтобы это количество энергии истратить, отдать, передать. Я смею надеяться, что я довольно хорошо знаю Леню. Я смею надеяться, что я довольно хорошо понимаю его колоссальный артистический потенциал. И если взять те роли, которые он сыграл, скажем, тот же Б.К., Чичерин или, роли его в картинах Саши Митты — это все замечательно сделанные работы, превосходно, первоклассно сделанные работы, но это работы, в которых как бы использован и задействован очень маленький процент его огромной человеческой личности. Почему так случается не только с ним, но вообще с нашим поколением? Очень уж конечно уродливые общественные условия, в которых мы живем, очень уж придурочная, прямо скажем, страна, которая не понимает все-таки, что нефть и алюминий, в общем, судьбу страны не решают, а историческую судьбу страны решает в общем то, насколько сильно будет использован энергетический потенциал человека, человеческой личности.
В Лене, как в по-настоящему хорошем человеке — в нем все-таки живет остаток одной иллюзии: он думает, что своим личным участием в том или ином как бы общественном совершенствовании, да? — он может способствовать тому, что это общественное совершенствование — произойдет. На самом деле это я например, знаю — идиотическая иллюзия... Любое общественное совершенствование — всегда гадость. Вот всегда гадость, вот как там — совершенствование нашего общества от социализма к бандитизму, да? Это все тоже общественное совершенствование и вот мне очень смешно и грустно думать про то, что и я как-то тоже в какие-то моменты — да, нам нужно всем, возьмемся за ноги, друзья и там так сказать — чтоб не пропасть. Потом брались за ноги и пропадали еще больше, нежели бы не брались за ноги, а сидели бы и читали Льва Николаевича Толстого и Библию, да?. Поэтому все, что у Лени связано с Таганкой — это говорит о том, как долго в нем жила вот эта очень светлая и чистая иллюзия того, что общественное совершенствование возможно, если ты в нем принимаешь мощное энергетическое личное участие. И если ты в этом абсолютно бескорыстен, бескомпромиссен и идешь до конца. Он был бескорыстен, бескомпромиссен, шел до конца и всегда оказывалось так, что он таскает из огня каштаны для кого-то. Леня почти лишен иллюзий, возможно, последняя иллюзия, которая от него уходила, это иллюзия того, что постсоциалистическое общество — неважно, где оно существует: в театре или в Кремле — подлежит какому-то совершенствованию. Никакому совершенствованию оно не подлежит.
Избранные — колумбийское общество крупных магнатов, королей кофе и табака, спокойно и сыто живущих в то время, когда в мире бушует трагедия — 1944 год. Вторая мировая война бесчеловечностью и жестокостью происходящего перевернула сознание людей. Это время не оставило в стороне никого, даже грядущие поколения. Не один, не два, не сотни, а миллионы людей жили в условиях экстремальных, в условиях выбора, проверки морально-нравственного кодекса, созданного человечеством. История преподнесла потрясение, которое стало неисчерпаемым источником, второй Библией, ситуацией нравственного выбора, ответственности человечества за все содеянное. Мы до сих пор живем в плену у этого времени, еще порой не осознавая, какой силы получили урок вседозволенности и насколько он не пройдет для нас бесследно. Жить в то время и остаться вне его было невозможным, и поэтому С.Соловьев определяет для себя главным нравственный выбор героя. В романе главный герой барон Б.К., довольно легко раздобыв визу на выезд, эмигрировал в Америку. Совсем иначе решает отъезд героя С. Соловьев — обостряя ситуацию, чтобы спасти свою жизнь, Б.К. должен эмигрировать, а для этого он совершает вроде формальную сделку, ставит подпись на бумаге, удостоверяющей, что он тайный агент нацистов. Фаустовская тема: спасая жизнь, теряешь душу.
Роль Б. К. — одна из лучших ролей Л. Филатова. Герой Леонида — это всегда драма. Актер умеет удивительно точно улавливать динамику ее развития: кульминацию, спад. Находить нюансы речи, пластики, мимики. Так же произошло и с образом Б.К. Перед нами драма человека, который не только преступил заветную черту человеческой нравственности, но и несет всю тяжесть вины за содеянное. Пока Б.К. в фашистской Германии, он честен, умен, независим в суждениях. Находясь в изоляции своего особняка, он существует как бы над происходящим, рьяно осуждает фашизм. Нечто героическое, стальное есть в герое Филатова, и только изредка появляется излишняя экзальтация в речах, и только вскользь задумываешься, что отвага ученого попугая, который выкрикивает ругательства в адрес нацистов, — это еще не поступок против нацистов, а мелкий эпатаж, почти мальчишество. Все это осмыслится позже, а пока Филатов играет сильного и, безусловно, привлекательного человека, чей лихой протест, бунт в одиночестве нам очень симпатичен. Вот он разбивает приемник, из которого несутся нацистские речи, виртуозно стреляет по мишеням — как он ненавидит врага! В прекрасных интерьерах его особняка находится и прекрасная женщина, которая дополняет комплекс его героического и независимого начала. Богатый немец в нацистской Германии, учившийся в Сорбонне, приверженец философии, литературы, науки, бунтует против нацистов, уничтоживших все это в Германии, опозоривших страну. В данном случае его прежде всего коробит позор нации, а уже потом все остальное. Подписавший бумаги герой Филатова впервые растерян, он морщится от яркой вспышки фотоаппарата, как-то пытается отстраниться, спрятаться от происходящего. Былая независимость вдруг куда-то улетучилась.
И вот долгожданная Колумбия... Все удивительно красиво, ярко, и Б.К. погружается в жизнь, конкретную своей буржуазностью. Он не понимает всей ее прелести и притягательности, заключающейся в полноте и ясности бытия. В этой стране он еще больше ощущает себя немцем, эмигрировавшим из фашистской Германии. Филатов виртуозно играет угловатое великолепие героя. В этом потерянном аристократе, во всем его облике есть что-то шутовское и комичное. Его по-немецки безукоризненно белый костюм мешковат и нелеп... С чем связана растерянность, это внезапное исчезновение геройского бунта благородного немца? Как только герой покидает великолепие особняка, укрывающего его от коллизий времени, он попадает в реальное время, которое требует от него конкретных решений, выбора. Собственно, все действия Б.К. — это попытка бегства от реального времени. То он укрывается в бункере-особняке, то эмигрирует в Колумбию, но в Колумбии он опять пытается устраниться и поселиться где-то на берегу моря в тишине и покое с любимой женщиной. Каждый раз очередная попытка бегства удается за счет внутренней потери, нравственного падения героя. Эмигрируя, герой подписывает нацистский документ. В Колумбии, спасаясь от черных списков, отдает Мюллеру свою возлюбленную, чтобы только не замарать своего честного имени. Наконец, идет на убийство, так как может всплыть его подпись на нацистских бумагах. Но нужных бумаг в портфеле убитого нет, и они опять где-то существуют, грозя появиться в любой момент. Предательство возлюбленной не спасает от черных списков, как и эмиграция не сохраняет жизнь... Кажущаяся удача оборачивается горькой иронией.
Б.К. не только в плену своего времени, но и своего воспитания, своей родины, с ней он имеет более глубокую связь, нежели предполагает. Обучение в Сорбонне... Взрыв экзистенциализма в Германии между двумя мировыми войнами... Размышления о выборе, о времени... Вся жизнь Б.К. теоретизирована, она состоит из определенных моделей, конструкций, с высоты которых он падает в пропасть реального времени, где уже должен не говорить, а поступать. Совершив чудовищный поступок — отдав на поругание свою возлюбленную Ольгу, — он еще с большим упоением начинает размышлять о жизни и природе. Чем сильнее его падение, тем высокопарнее его суждения, которые проявляются как защитная реакция его души. Герой Филатова все время живет в двух измерениях. Он пренебрегает реальной жизнью, живя в мире теорий, философствований. Крушение идей, теорий, концепций, пренебрегающих ценностью человеческой жизни, — через это прошла Германия, принеся трагедию человечеству, через подобное падение проходит и Б.К.
Маленький Габриэль, сын его бывшей возлюбленной, убивает Б.К. с такой же жестокостью и ненавистью, которой когда-то обучал его барон. «Чтобы попасть, надо очень ненавидеть!» Вспоминается начало фильма, когда Б.К., стреляя по мишеням, олицетворяющим фашистов, говорит себе те же слова, и теперь ситуация повторяется как фарс. Габриэль мстит за надругательство над прирученностью, за обесценивание человеческих судеб, чувств... «Я же тебе говорил, никогда не целься в живое», — успевает сказать барон Габриэлю. Однако, совершив предательство, духовно, нравственно Б.К. погибает, и физическая смерть его звучит как приговор времени. Судьба нации слилась с судьбой своего сына. Подтверждается еще раз давно известная истина—все мы дети своего времени, все мы дети своего народа и не можем не отвечать за то, что так или иначе творим, даже если не участвуем, живя в стороне, на обочине времени...
В создании образа Б. К. Леониду пригодился его ернический дар, в некоторых эпизодах Леонид доходит почти до гротеска. Любовная сцена с Мерседес соединила в себе и иронию над героем, и элементы пародии на подобные сцены, но, не переставая быть любовной. Очень ценное качество артиста: он не боится быть смешным. В образе Б.К. удивительно сочетается умение быть великолепным и комичным одновременно, чем достигается еще большая свобода образа, естественность, обаяние. По мнению Сергея Соловьева, романтическое и комическое в Леониде по чистоте своего сочетания еще никак не реализованы в кинематографе. Все-таки в образе Б.К. это сочетание произошло и помогло развитию внутренней драмы героя.
В каждой роли Леонида есть своя внутренняя логика, которая определяется не только драматургией роли. Она рождается мировоззрением, мироощущением артиста. Например, роль Федора в фильме К. Худякова «Кто заплатит за удачу?» и роль барона Б.К. при сходной ситуации в фильмах: попытка героев находиться в стороне от коллизий времени разрешается по-разному. В одном случае герой осуществляет себя как личность, обретая судьбу, время; в другом — нравственное падение уничтожает его. Разные герои, разные фильмы, разные жанры, но свои роли Леонид выстраивает по закону драмы. Страдания, внутренние противоречия героев артист проживает во всех нюансах, во всем возможном многообразии. К нравственному совершенствованию или падению героя он никогда не идет однозначно, восхваляя или осуждая его. Фильм «Избранные» часто ругали за эстетство, чрезмерную выстроенность, за то, что перед нами чужая жизнь, другая страна и все, что происходит на экране, не трогает нас. Можно в оправдание призвать всю мировую культуру, которая имеет слабое отношение к нашей жизни, многие великие произведения литературы, живописи, в которых упиваешься красотой построения, стиля не меньше, чем мыслью. Соловьев так видит мир, красоту человека, природы... В фильме возник контрапункт между красотой жизни и безнравственными поступками барона Б.К. В этой «не нашей жизни» режиссер нашел наши проблемы, наши конфликты, которые в традициях русской литературы. Недаром С. Соловьев сильно изменил роман, снял фильм о том, чем он сам болен. Состоялся серьезный, современный разговор-размышление о духовности, о расхождении идеалов и поступков, о нравственном падении общества. Герой Леонида современен, но не костюмом, а существом своих противоречий. Он интересен нам сегодня, когда мы задумываемся над драмой целых поколений нашего общества, о расхождении проповедующихся идеалов и совершающихся поступков и еще о многом другом...
Работать над ролью Леониду было трудно. Месяц съемок в Колумбии он назвал «адской пахотой». В кратчайшие сроки надо было полностью снять фильм. Съемочная группа так уставала, что к концу дня кричащая экзотика Колумбии становилась для всех унылой и безразличной. А слова друзей, уверявших Леонида, что он едет в райский уголок почти на отдых, воспринимались как издевательство. Из газет Леонид знал, что в Колумбии «постреливают», но дома об этом особенно не задумывался. Он прочувствовал ситуацию только тогда, когда съемки пришлось отложить из-за свиста пуль на съемочной площадке. Это было, как говорится, последней каплей, уничтожившей светлый образ экзотического курорта. Конечно же, помимо изнуряющих съемок, были и другие сложности. Картина — многоязычная. То, что говорит партнер по роли, актер узнает из примерного перевода. Когда не слышишь речь на родном языке, то отвечаешь не на нюансы интонации, которые очень важны при игре, а на довольно-таки огрубленную фразу, которая тебе не понятна даже по своей интонации. Приходилось приноравливаться, обретать опыт работы в многоязычном фильме. «К тому же, — вспоминает Леонид, — очень трудно играть богатого человека, богатого, значит, свободного, не имея этого в природе... Сразу вспоминается М. Жванецкий... Потом уже, задним числом анализируя фильм (ведь я отсмотрел массу картин из зарубежной жизни и снялся в не меньшем количестве), я понял, насколько картина С. Соловьева заставляет себя уважать по своему классу. К ней можно относиться по-разному, но в ней нет нашей жалкой попытки: на три рубля снять, а думать, что на миллион. В ней нет потуги...». Однако главным испытанием для Леонида на фильме была режиссерская манера работы Сергея Соловьева. «Сережа фантазирует тут же, на съемочной площадке, и совершенно непредсказуемо, — рассказывает Леонид. — Он выстраивает, выстраивает кадр, а потом вдруг быстро что-то меняет и дает новый текст. Нужно абсолютное доверие, потому что он снимает кино, и он еще будет десять тысяч раз все менять. Другой текст тебе вложит и перестроит сцену, снятую про одно, как бы совершенно про другое. Найдет способ, как это подать и без насилия, без потуги перекроить, потому что он всецело человек кинематографического мышления. Одновременно, снимая, он уже монтирует, понимая, что это целлулоид, что это пленка, что он складывает из тысячи кадров мозаику. У Сережи вольность в работе, он совершенно не закрепощен... Несмотря на все сложности, мне было комфортно все равно, потому что было очень интересно работать... Кино — это все же другое искусство, нежели театральное, и требует совершенно других приемов. Поэтому такая вольность, которая была для меня в „Избранных“, как бы естественна для кино. Если снимают театральную сцену, я знаю, что мне будет очень сложно, но я понимаю ее движение, развитие. У Соловьева то, что сейчас снимают, — это капелька в общем море, которая займет свое место, маленький камушек. И моей задачей становится биологическая необходимость упраздниться до уровня этого камушка и понимать ровно столько, сколько сейчас нужно понимать. Придерживаясь какой-то линии, но зная, что картина Сережей может быть смонтирована и задом наперед и как угодно, я должен как бы самоупраздниться, слушать его, пытаться выполнить то, что сейчас необходимо. Мне не нужно вникать в его замыслы. Есть другие режиссеры, и там уже по-другому».
ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЛ ГОВОРИТЬ
...А началом явился испуг
От нечаянно хрустнувшей ветки...
И дремучий немыслимый звук
Шевельнулся тогда в Человеке...
Человек начинал говорить!..
И, не в силах бороться с искусом,
Обнаружил великую прыть
В овладении этим искусством.
Он придумывал тысячи тем,
Упиваясь минутным реваншем.
Говори-и-ть! — А о чем и зачем —
Человеку казалось не важным.
Он смолкал по ночам, но и тут —
Что ни утро, — в поту просыпаясь,
Он пугался безмолвных минут
И ничем не заполненных пауз.
Но однажды случилась беда...
Он влюбился и смолк в восхищенье...
И к нему снизошла немота
И свершила обряд очищенья...
Он притих и разгладил чело,
И до боли прочувствовал снова
То мгновение, после чего
Станет страшно за первое слово.
«— Творческие люди иногда как бы прозревают в своих снах, находят ответы на то, как играть роль, как писать роман, как снимать фильм. А вам снятся творческие сны?
— Да. Только это всегда такие странные трансформации, такое сочетание знакомого и незнакомого, обыденного и фантастического, что никакое, даже приблизительное перенесение в реальную жизнь невозможно».
УСПЕХ «УСПЕХА», ИЛИ САМАЯ ТРУДНАЯ РОЛЬ
Следующей совместной работой Леонида с режиссером К. Худяковым стал фильм «Успех», название которого для Леонида в какой-то мере символично. Если после роли Игоря Скворцова в фильме «Экипаж» Филатов пережил прежде всего зрительский успех, к нему пришло общественное признание, то роль Фетисова принесла не только зрительский успех, но и внутреннее удовлетворение от максимальной реализации своих возможностей. Фетисов стал лучшей работой Леонида в кино. Эта роль вошла в его жизнь, когда он наиболее был готов к ней: накопился опыт работы в кино с разными по своей творческой индивидуальности режиссерами; с годами пришла и большая свобода «игры перед камерой» (было время, когда Филатов утверждал право даже на существование своей внешности на экране); сыграны роли, которые раскрыли Леонида в широком диапазоне его актерских возможностей: от Виктора Грача до барона Б.К.
Режиссер С. Соловьев сказал о Леониде, что для его творчества нет понятия «удачные» или «неудачные» роли, настолько Леонид личность. Говоря о личности, мы прежде всего говорим о том мироощущении артиста, которое сильно и ярко выражается в моменте творчества, от этого зависит глубина звучания роли, ее возможный подтекст. Однако чтобы иметь возможность максимально реализовать себя, надо не только иметь то, что ты хочешь сказать, но и уметь средствами искусства передать свои мысли и чувства. Чем сильнее твое мастерство, чем выше твой профессионализм, тем полнее, ярче и свободнее ты можешь говорить со зрителем. Важно найти гармонию своего существования в искусстве, что определяет твою творческую зрелость. Профессионализм не должен подменять личность, иначе родится очередной штамп, личность не исключает мастерства, иначе исчезнет момент творчества. Герой Филатова—режиссер Фетисов, тот тип человека, к которому принадлежит и сам Леонид. Для него, как сказал К. Худяков, «не работа — часть жизни, а жизнь — часть работы». Фильм «Успех» — это не столько рассказ о жизни и проблемах актера, театра, сколько размышления о тех сложных душевных нравственных противоречиях, в которых находится художник в процессе творчества. В XX веке формулы «искусство для искусства», «искусство для себя» уже не срабатывают, тем более в таком зависимом виде творчества, как режиссура. Важно не только создать, но и донести созданное до зрителя, получить отклик, понимание, признание.
Фетисов приезжает в периферийный театр, чтобы осуществить постановку пьесы А.П.Чехова «Чайка». В первых эпизодах фильма герой Филатова совершенно не располагает к себе. Неужели этот хмурый, замкнутый человек будет ставить в театре гениальный, как он сам считает, спектакль? Постепенно начинаешь замечать за ершистостью и замкнутостью героя внутреннюю собранность, необычную, максимальную напряженность его существа, сосредоточенность на чем-то очень важном и главном. Фетисов постоянно живет своим будущим спектаклем, поэтому в актерах театра он прежде всего видит героев пьесы. Его задачей становится вывести актеров из душевного покоя и безразличия, разбудить в них творческие силы. Ему это необходимо, иначе спектакль не получится, чудо искусства не состоится. Отдавая всего себя спектаклю, он требует этой максимальной отдачи и от актеров. Не чувствуя отклика, Фетисов идет на провокации: влюбляет в себя актрису — исполнительницу роли Нины Заречной; отстраняет от роли Олега Зуева, играющего Треплева, не прощая ему того, что тот не может целиком посвятить себя работе над ролью; перед примадонной театра, отказавшейся играть роль Аркадиной, он готов стоять на коленях, от нее зависит судьба спектакля, да и Аркадина она хорошая... Все поведение Фетисова говорит о том, что он вполне земной человек, довольно-таки деловой, жесткий, умеет интриговать, приспосабливаться, провоцировать. Поступки Фетисова противоречивы, они далеко не однозначны. Он нарушает законы нравственности. Можно ли ему это простить или его нужно осудить за это? Ответить на этот вопрос невозможно, потому что это тот редкий случай, когда существуют две правды. Прежде всего Фетисов талантлив, он живет бескомпромиссно, подчиняясь только одной правде —правде искусства, остальное для него — суета, не имеющая никакого значения. Леонид не боится играть Фетисова плохим. В сценах провокации артистов он даже неприятен: жесток, холоден... и вдруг — совершенно преображается, когда говорит о «Чайке», о Чехове, о людях! Два разных измерения — жизнь и искусство! Каждое из них имеет свои законы. Что более безнравственно: отказать актеру в роли, с которой тот не в состоянии справиться, зная, что отказ причинит ему боль и мучения, или оставить его играть, сохранив приятельские отношения? Дважды эта дилемма возникает перед Фетисовым. Один раз она кончается трагически для артиста Павла Платонова: сердечный приступ приводит к смерти. Кто виноват? Виновато искусство, если оно истинно; если режиссер талантлив, он уже неподвластен себе, он руководствуется неким высшим законом творчества, где невозможны компромиссы. Как непросто складываются отношения актеров и режиссера... В основе их всегда какая-то мера конфликтности, преодоления друг друга. Ведь режиссеру надо убедить, зажечь, отдать часть своей творческой энергии актерам, а актерам — уметь ее воспринять. Оскорбленный Олег Зуев бросает как бы разоблачительное обвинение Фетисову: «Чем же я тебя не устраиваю, а? Тем, что живу своей жизнью, а не твоей? У меня друзья, у тебя их нет и не будет! Тебе нужны единомышленники в искусстве, ты — художник! Купи себе холст и краски, но нет, тебе нужны живые люди, которых ты бы выдавливал, как тюбики, на свои полотна! Посмотри на себя, на кого ты похож. Ни радости, ни любви человеческой. Художник с лицом убийцы!» Пылкий монолог Зуева совсем не трогает Фетисова, он слушает его холодно и спокойно, рассматривая возникшее в Олеге возмущение как проявление неких актерских качеств, позволяющих сыграть Треплева. Фетисов согласен на примирение, так как, по его мнению, задел нерв в актере. Зуев в ответ лишь бросает листки с ролью. Вот где он по-настоящему причиняет боль Фетисову, и тот первый бьет Зуева совершенно безжалостно.
Фетисов — не только лучшая роль Леонида, но и самая трудная. Симулировать талант на экране так же, как и ум, невозможно, им надо обладать. Сложность роли в том, что очень тяжело передать неуловимый процесс творчества. Это постоянное внутреннее напряжение, как болезнь, которая уносит силы и от которой нет лекарств. Играть этот процесс невозможно, им надо жить. Леонид много импровизировал, менял текст роли, что было логично при столь сложной задаче. Сценарист А. Гребнев впервые дал согласие на сохранение актерской «отсебятины», настолько это было органично и интересно сделано Филатовым. Импровизировать всегда трудно. Человек в импровизации себя выдает, сразу выясняется его потенциал, его возможности. Как мыслит? Чем живет? «Импровизировать словами — совершенно особое искусство, — говорит Леонид, — начинаешь говорить, а построение фразы тебя выдает. Моментально видно, что ты как бы не импровизируешь, а просто мыслишь словами, и больше ничего — это не импровизация. А настоящая импровизация — она всегда неожиданно высокая. Она действительно может быть при каких-то данностях кино, когда ты уже отрепетировал мизансцену, но совершенно неожиданно в кадре увидел себя совсем иначе, вышел на те же самые мизансцены, но сыграл при этом как бы нечто другое. То есть, может быть, то же самое, но совершенно иными средствами».
Импровизация — одно из важнейших качеств любого художника. Это тот момент, когда все твои накопления мобилизуются и ты уже как бы себе не принадлежишь, тебя ведет твой образ, твоя тема и, что очень важно, ты обретаешь особую свободу в средствах выражения.
Основа фильма — постоянные репетиции, то есть творческий процесс. Актера надо было отпустить как бы на свободу, чтобы уловить момент рождения вдохновения. Прекрасно это состояние описал поэт В. Шаламов: «В написании стихов необходимо усилие, прыжок на какую-то высшую ступень, и пока она не достигнута, стихи не пишутся — существует лишь версификация. Необходимо нервное сосредоточение, отключение от всего на свете, свободный ход слов. Это состояние и есть способность принимать художественное решение. Не поиски — в творческом процессе никаких поисков нет. Есть лишь отражение всего бесконечного, что проходит сквозь мозг. Остается выбрать (записывать). Но это не выбор в настоящем смысле слова, а лишь подобие выбора — эмоциональное мгновенное решение. Состояние это называется иначе вдохновением и предполагает наличие тайны, чуда, озарения, превосходящего силы автора. Но это не религиозное состояние. Это совсем другое чувство — чувство победы, радости, находки, завершения работы, подавление одного и высвобождение другого в одно и то же время». Филатову, играя Фетисова, приходилось быть в этом сложном состоянии сосредоточения, чтобы получился живой процесс творчества.
И вот — премьера. То, ради чего последнее время жил Фетисов, свершилось, родилось и уже как бы не принадлежит ему. Миссия режиссера закончилась, и состояние, в котором он жил, передалось актерам. Нина Заречная проходит мимо него, она вся в своей роли, ей уже не нужна влюбленность в режиссера, которая когда-то помогла играть. Фетисов как бы становится самим собой. Гипноз творчества, который руководил им, давал смелость в принятии решений, уходит. Сейчас на сцене решается его судьба...
Успех! А что за ним? Комфортная жизнь, покой, какие-то блага и звания? Нет. За успехом Фетисова, как и Филатова, прежде всего возможность новой работы, а значит — жить этим особым состоянием, которое зовется творчеством.
КОМПРОМИСС
Я себя проверяю на крепость:
Компромиссы — какая напасть!
Я себя осаждаю, как крепость,
И никак не решаюсь напасть.
Не решаюсь. Боюсь. Проверяю.
Вычисляю, тревожно сопя,
Сколько пороху и провианту
Заготовил я против себя.
Но однажды из страшных орудий
Я пальну по себе самому,
Но однажды, слепой и орущий,
Задохнусь в непроглядном дыму...
И пойму, что солдаты побиты,
И узнаю, что проигран бой,
И умру от сознанья победы
Над неверным самим же собой...
«— Леонид Алексеевич, не собираетесь ли вы попробовать свои силы в режиссуре, как это сделали многие актеры?
— Почему актеры бегут в режиссуру?.. Потому что это более независимый способ существования в искусстве, более авторский.
Конечно, таких прецедентов, что люди удачно уходили из первой своей профессии, очень мало. Я могу назвать несколько имен — Никиту Михалкова, Николая Губенко. Их ждал успех, пусть неровный, но режиссура не стала ошибкой в жизни этих людей... У других судьба сложилась иначе, в большинстве своем не совсем удачно...
Я всегда считал, ведя отсчет от высоких мировых и отечественных авторитетов, что режиссурой должны заниматься люди, предназначенные для этой профессии Господом Богом. К таким людям я себя не причислял...
Процент талантливых режиссеров для такой страны, как наша, очень невелик. Большое количество режиссеров-дилетантов. Особенно сейчас, при появлении и расцвете кооперативного кино. Режиссерами порой становятся совершенно случайные люди, не обладающие ни вкусом, ни профессионализмом. И я отважился попробовать свои силы, тем более что мне предложили поставить фильм. Я написал сценарий «Сукины дети» и решил искусить свои шанс до конца — осуществить постановку сценария о тех людях, о той профессии, о представителях того племени, которое я лучше всего знаю.
Это картина об актерах».
В 1984 году Леонид начинает сниматься в двухсерийном фильме режиссера А. Зархи «Чичерин», где играет наркома иностранных дел, человека блестящего ума, энциклопедических знаний, дворянина, отказавшегося от своего состояния в пользу революции. Это была первая портретная и возрастная роль артиста, который до этого играл в основном своих современников.
В фильме показаны только четыре года из жизни Г.В.Чичерина (1918-1922 гг.) — переломное время в судьбе молодой республики: подписание Брест-Литовского мира, налаживание дипломатических отношений со странами Запада, победа советской делегации на Генуэзской конференции.
Приступая к работе над ролью, Леониду необходимо было почувствовать и умело соединить степень подлинности и возможных интерпретаций образа, нельзя было перейти определенную историческую достоверность, которую к тому же очень сложно определить.
Картина была снята в традиционной манере историко-биографического фильма со всеми присущими ему и отработанными десятилетиями штампами. Жизнь Чичерина подается по образу и подобию наших великих вождей: вот Чичерин общается с простыми людьми, вот «вождь и дети», а вот он вступает в спор с товарищем Казаковым, который явно не чувствует политического момента. Леониду необходимо было преодолеть стереотипы умиления простотой и скромностью своего героя, и ему это удалось.
«С каждый днем я все больше открываю для себя этого поразительного человека, растет актерская и гражданская ответственность за будущий образ», — скажет Леонид на съемках фильма1. Играть Чичерина было сложно еще и потому, что боязнь допустить излишнюю вольность трактовки образа могла сковать актера, лишить его необходимой свободы в игре. Однако Александр Григорьевич Зархи дал Леониду ту необходимую свободу, которая позволила уйти от академичности, иллюстративности сюжетных ходов сценария и ощутить конфликтность образа Чичерина, человека и политика, как драму. Человек и политик борются в нем, когда он приказывает военному эксперту, генералу Скобину, ехать на подписание Брестского договора, а тот отказывается, так как немцы уничтожили всю его семью. «Вы поедете, — говорит Чичерин, — вы поедете! Я... Я вам... Я вам приказываю! Простите меня... Простите».
Образ Чичерина организует все пространство картины. Пронзительная вера этого человека в идеи революции, в господство мира, всеобщего разоружения не может не захватывать своим благородством и искренностью. Роль получилась удивительно лиричной, в образе Чичерина Леонидом уловлена тень донкихотства, та наивность Веры и Добра, которая редко одерживает быструю победу.
«Ради революции!» — эти слова мы так часто слышали. Может, ради них оборвалась жизнь и самого Чичерина в 1936 году...
Подписание Брестского мира — одна из кульминаций фильма. Это было драматическое событие для страны, и отношение к нему было далеко не однозначным. Чичерину необходимо было сохранить самообладание, мужество, чтобы поставить свою подпись под договором, согласно которому Германии отходила Польша, Прибалтика, часть Белоруссии, Закавказья и 6 млрд. марок контрибуции. Как Чичерин относится к этому акту Советской страны? В разговоре с иностранной журналисткой мисс Адаме на ее вопрос: «Ради чего? Неужели об этом вы мечтали, когда ехали в Россию...» Чичерин ответил: «Революция — это настоящее. Моцарт, его современная гармония — это будущее. Оно прекрасно! Я вижу его... Ради этого... Да, да... Я слабый человек, я мечтал о дороге, усыпанной цветами. Но сегодня... Ленин тысячу раз прав: сегодня во имя революции пришлось ползать в грязи. Другой дороги, к сожалению, нет. Так сложилась история...
— Я понимаю, — тихо сказала мисс Адаме, — как вы страдаете...
— Нет! Нет! Я счастлив! Брестский мир—это выход в будущее. Мы сохранили нашу революцию. Это победа! Великая победа!.. Я сумел победить свое «Я». Только не война»1. Рассужения о необходимости пережить тяжелое сегодня ради светлого завтра нас мало умиляют. Сегодня мы многое переоцениваем в нашей истории, пытаемся уйти от деформации общества, но не всегда задумываемся об ее корнях, которые уходят глубоко в нашу историю и требуют своего осмысления. Одна из причин деформации — великие идеи становились самоценными, а не средствами достижения социальной справедливости и человеческого счастья. «Утопия, которой мы подчинили свою жизнь, — пишет Ю. Шрейдер в своей статье „Сознание и его имитация“, — выглядела вполне разумной. Соблазнительно было бы считать, что несоответствие великой идеи и ее чудовищных воплощений в жизнь есть плод неизбежных практических ошибок, нехватки честных и умелых кадров и т. п. Между тем не хватило нам не „разумности“, но способности ясно осознавать происходящее. Речь идет об особом, специфичном для человека духовном феномене —способности активного выхода навстречу действительности. Сознание — это то, что существует совместно со знанием, сверяет его с реальностью. Исходное латинское слово „conscientia“ имеет аналогичную начальную частицу con, переводимую как предлог „с“ или „со“. Но это латинское слово одновременно означает совесть как осознание смысла собственных действий и вытекающую отсюда нравственную ответственность за них.
Теоретическая мысль способна увидеть неразумие и несправедливость происходящего и предложить многообещающие модели преобразования общества. Если эта мысль не считается с реальностью, неподконтрольна совести, то она в состоянии создать самые чудовищные утопии»1.
При работе над фильмом у Леонида возникали непредвиденные трудности, о них вспоминал звукооператор фильма Юрий Рабинович. Чичерин в совершенстве владел многими иностранными языками. Леонид же, как и большинство советских людей, по-настоящему не знал ни одного иностранного языка. Однако благодаря своей памяти и свободному существованию в роли блестяще прочитал речи Чичерина на Генуэзской конференции на итальянском, английском и французском языках. Другим страшным испытанием было исполнение песенки «Веселого птицелова» Моцарта, которую в фильме Чичерин пел детям. Песня Лене никак не давалась, у него плохой музыкальный слух, а здесь к тому же нужно было петь Моцарта — любимого композитора Чичерина. Репетировал Леонид долго и напряженно, и когда звукорежиссер Юрий Рабинович подошел к нему и дотронулся до его свитера, то даже не сразу понял, в чем дело: было ощущение что Леонид вылез из воды — свитер можно было просто выжимать.
На XXV международном кинофестивале в Карловых Варах Леонид Филатов получил приз за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Чичерин».
АНОНИМЩИКАМ
Пошла охота, знать, и на меня —
Все чаще анонимки получаю...
Я всем вам, братцы, оптом отвечаю,
Хотя и знаю ваши имена.
Какой опоены вы беленой,
Какой нуждой и страстью вы гонимы,
Сидящие в засаде анонимы,
Стократно рассекреченные мной?..
С какой «великой» целью вы в ладу,
Когда часами спорите в запале,
Попали вы в меня иль не попали,
И если — да, когда ж я упаду?..
Но если даже я и упаду
И расколюсь на ржавые запчасти,
То чье я обеспечу этим счастье
И чью я унесу с собой беду?..
Вот снова пуля сорвала листву
И пискнула над ухом, точно зуммер.
А я живу. Хвораю, но не умер.
Чуть реже улыбаюсь, но живу.
Но — чтобы вы утешились вполне
И от трудов чуток передохнули —
Спешу вам доложить, что ваши пули—
От первой до вчерашней — все во мне.
Не то чтоб вы вложили мало сил,
Не то чтоб в ваших пулях мало яда,—
Нет, в этом смысле все идет как надо,
Но есть помеха — мать, жена и сын.
Разбуженные вашею пальбой,
Они стоят бессонно за плечами,
Три ангела, три страха, три печали,
Готовые закрыть меня собой.
Я по врагам из пушек не луплю,
Не проявляюсь даже в укоризне,
Поскольку берегу остаток жизни
Для них троих — для тех, кого люблю.
И ненависти к вам я не таю ,—
Хоть вы о ней изрядно порадели! —
Вы не злодеи, вы — жрецы идеи,
Нисколько не похожей на мою.
А кто из нас был кролик, кто — питон,
Кто жил попыткой веры, кто — тщетою, —
Все выяснится там, за той чертою,
Где все мы, братцы, встретимся потом...
«— А какую почту вы получаете?
— Очень разнообразную. Бывают письма теплые, умные, добрые. А бывают капризные, требовательные, сердитые. Многие пишущие любят поучать, осуждать. Как правило, это люди невежественные. Оскорбляя других, они как бы утверждают себя. Мне жалко таких людей. Они даже не понимают, какой это ужас, грех ни за что оскорбить незнакомого человека только лишь потому, что его мнение не совпадает с твоим».
Встреча Леонида Филатова с Эльдаром Рязановым произошла в 1987 году. На «Мосфильме» снималась комедия «Забытая мелодия для флейты», в которой главную роль — чиновника Филимонова — Эльдар Александрович предложил сыграть Леониду. «С Рязановым, — вспоминает Леонид, — у меня складывались просто замечательные отношения. Я к нему и пошел по любви. Когда он пригласил меня сниматься, я был еще на другой картине, но, как говорится, все на свете бросив, помчался читать сценарий и тут же определил: хочу работать, делать картину. И сразу пошла работа. Мы репетировали сцену, вернее, оговаривали ее и снимали на монитор, потом обсуждали, что удалось, а что нет. Эльдар Александрович — человек распахнутый, когда смотрит материал, он как бы советуется: „...Плана нет... Давай, давай, чуть общее... А вот здесь можно такую? Можно, давай сделаем... Хотя нет, черт! А ну-ка еще раз сделаем... Нет, ничего, может быть...“ Он открыт для любых предложений, хотя все равно в результате тихонько-тихонько прибирает картину к своим параметрам, к тому, как он понимает и как он любит. Поэтому ощущение вольности у артистов может быть иллюзорным. Я вижу, как он потом монтирует.
Артист все равно в жестком графике его работы, и все сыграют то, что ему нужно. Работать с ним безумно легко и весело. С ним не устаешь от рабочего дня....
Фильм снимался, когда в стране забрезжил рассвет перестройки. «Дорогие» каждому кадры из времен застоя прямо-таки захватывали нас в фильме...
Утренний час пик. Затор машин. Замерли переполненные троллейбусы и автобусы. И хотя все газетные заголовки призывают нас к работе с ускорением, жизнь на дороге замерла. Все ждут. Вот он, долгожданный «Зил» с важной персоной, а может быть, и без нее. Движение возобновилось, ускорение началось...
Образ чиновничества заявлен с первых же кадров. А обличительная песенка о чиновниках «Мы, как в танках, в своих кабинетах», звучащая на титрах, — бальзам для каждой измученной бюрократией души зрителя.
«...Мы, как в танках, в своих кабинетах.
Мы сгораем, когда разрешаем,
И поэтому все запрещаем.
Нет прочнее бумажной постройки,
Не страшны ей ветра перестройки.
Мы бойцы, мы службисты, солдаты
Колоссальнейшего аппарата,
Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть мы, и будем...».
С момента выхода фильма «Карнавальная ночь» облик бюрократа Огурцова сильно изменился, стал менее веселить нас, это уже не малограмотный «злодей», а умный, образованный человек, который, в отличие от своего предшественника, прекрасно ведает что творит. Именно такого чиновника новой формации и предстояло сыграть Леониду. Леня, как ему казалось, ничего подобного до сих пор еще не играл и не совсем понимал, почему Эльдар Александрович увидел в нем образ бюрократа-чиновника. Однако режиссер и актер нашли общий язык в ненависти к этому племени, но в чем-то обличение этого явления сорвалось, вернее, прошло не совсем так, как всем хотелось. В одной из рецензий на фильм в «Советском экране» критик Нина Агишева писала, что не верит в искреннюю любовь героя, для нее это все равно что Иудушка Головлев влюбился! А вот в фильме «Гараж», пишет она, «героями были мы с вами, рядовые, так сказать, граждане эпохи застоя, которые изливали душу дома на кухне, на собраниях молчали...» Самое, наверное, страшное и еще не осознанное должным образом на нашем экране — тип тех людей, которые молчат на собраниях, а иногда и говорят, но не то, что думают, а то, что надо говорить, и при малейшем появлении у них власти, а порой даже и без нее, они все те же Филимоновы. В фильме Э.Рязанова самодеятельный театр, где играет героиня фильма Лида, ставит модернизированную версию «Ревизора» Гоголя. Критики усматривали в этом выборе Эльдара Александровича тайный намек на сложившуюся на Руси преемственность чиновничества. В этом великом произведении И.В.Гоголя есть фраза, которую очень хочется вспомнить, когда смотришь фильм: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» Да, в этом фильме во многом над собой, потому что Филимонов Филатова —прежде всего тип психологии, сложившейся в нашем обществе! Думаем одно, говорим другое, а поступаем уже вообще непредсказуемо. Филимонов как явление значительно шире понятия чиновничества. Это образ существования целых поколений, живущих в конфликте между официальными установками общества и истинными живыми явлениями в нем. Филимонов — не просто чиновник, а чиновник от искусства, как бы повелитель талантов, а главное, он проводник тех идеологических установок, которые существуют в обществе. И если, например, направление авангарда признано вредным, то он его запретит. Поэтому и народ, что самое страшное, признает авангард вредным, а критики вообще лучше всяких бульдозеров «сметут» с лица земли выставку вольных художников в Битце. Однако после разноса, как знать, давайте пофантазируем, может быть, дома будут наслаждаться альбомами Фалька и Малевича, вывезенными из дальних стран. Опять она — эта «кухонная» свобода! Замкнутый круг, по которому вслед за Филимоновым бежим мы все. Двойное состояние души, в котором так долго пребывало наше общество, породившее особое состояние вечной лжи и потери нравственных критериев. Молчание— тоже вид соглашательства, иногда более страшный, чем действие. Все мы, больные вирусом лжи, пытаемся найти его источник где-то на стороне и с криками «распни!» бросаемся судить и карать, не чувствуя симптомов болезни у себя.
Э. Рязанов и Л. Филатов ограничили себя рамками показа бюрократии чиновничества, но рамки лопнули, и мы увидели нечто большее — состояние больной души нашего общества. Так хотели мы осудить Филимонова, а он возьми и ускользни, показал нам нос и сказал: «Сами такие!»
Вспомним фильмы «Полеты во сне и наяву» режиссера Балаяна, «В четверг и больше никогда» режиссера А. Эфроса. Что же там? Вы скажете: «Там же совсем другое». На мой взгляд — все тот же серьезный разговор, но в другом жанре, на другом материале. Филимонов в какой-то мере продолжает портретную галерею и даже выигрывает в отличие от своих братьев из названных фильмов. Он еще делает попытку любить. Иногда в мечтах, иногда в действительности совершает поступки... Отчаянная борьба за сохранение хоть какого-то движения души, истинных ценностей и радостей.
ИЗ БЕСЕДЫ С КИНОРЕЖИССЕРОМ ЭЛЬДАРОМ РЯЗАНОВЫМ
«...Леонид Филатов кажется мне в каждой роли невероятно естественным. Ощущение, что этот человек не играет, а он и есть такой. Как он этого добивается? Причем роли самые разные. Например, в фильме „Грачи“—такой неистовый, темпераментный уголовник, сыгранный просто с бешеной страстью, или у нас во „Флейте“ — степенный, с достоинством чиновник, делающий карьеру. Леня, кроме Чичерина, где он делался „портретный“, не меняет своего лица, то есть это жан-габеновская традиция. Жан Габен играл своей внешностью, но персонажи были разные. Это и каменщик, и миллионер, и полицейский, и преступник. Леня Филатов принадлежит к этому направлению артистов. Чичерин — исключение, которое только подтверждает правило. Во всех остальных ролях он снимается практически без какого бы то ни было грима. Значит, первое качество, которое меня в нем покоряет, — это необыкновенная натуральность. Этого очень трудно добиться, можно только в одной роли, которая совпадает с твоим психофизиологическим устройством. Он же играет такие разные, противоположные роли: еще можно, например, вспомнить „Успех“, где он прекрасно сыграл режиссера. И, наконец, немец, аристократ барон Б.К. в фильме Соловьева...
Во всех ролях из самых разных времен, национальностей и социальных слоев Леонид необыкновенно достоверен, и это главное. Филатов — одно из редких исключений среди актеров, когда ум и талант присутствуют одновременно. Обычно актеру все равно что играть, лишь бы роль была хорошая. У Филатова же необыкновенно развито гражданское самосознание, то, что он актер Таганки, то, что он воспитывался в любимовском коллективе, — все это наложило отпечаток на его индивидуальность. Я ругал его за две-три роли, когда он поддавался уступкам и играл людей с другой идеологической группой крови. Кстати, Костя Худяков тоже ругал его за это. Однако не они определяют его сущность, которая прежде всего в неистовой гражданской позиции и в любви к справедливости. Филатов олицетворяет для меня актера перестройки. Человек, который никогда не занимался общественной деятельностью, как и я, кстати, сейчас становится секретарем Союза кинематографистов, потому что Родина в опасности и ей надо помогать. И Филатов взялся за не свойственную ему роль. В нем существует гражданский темперамент независимо от того, занимает ли он должность или нет. Я это хорошо знаю по работе над «Флейтой», где Леня в первую очередь согласился играть потому, что им владела та же ненависть, что и мной, к племени бюрократов, которые довели нашу страну до ручки. Это они, люди без стыда и совести, могли ради должности, ради выгод, ради каких-то собственных карьер и набивания карманов продать все и по большому счету и по всем частностям и отдельностям. Вот эта ненависть объединила нас в этой работе. Как ни странно, в первую очередь нами управляла не художественная, а идеологическая и политическая задача, потому что мы искали портретное сходство, привычки, манеру поведения, потому что мы оба наблюдали много, очень много. Он и я, каждый из нас, натерпелся и настрадался и находился по кабинетам. Мы видели этих равнодушных, якобы интеллигентных держиморд. Вот почему в эту роль Филатов вкладывал не только чисто актерское мастерство, но еще и свою идеологическую страсть. Надо сказать, чем мне дорог и близок Леня в этой роли. У него не видно ненависти к моему персонажу, которая мешает объективным результатам. Возьмем, например, у А.И.Солженицына «В круге первом» главу о Сталине. Она художественно слабее всего остального, потому что ненависть так захлестывала автора, что это было в ущерб художественности. В Филатове было прекрасно то, что эта ненависть, которую я точно знаю и ощущаю, это омерзение к своему персонажу нигде не были видны. Он играл человека со своими убеждениями, со своей прямотой. Он влез в шкуру этого человека и как бы не осуждал его. Хотя на самом деле, конечно, он его осуждал, высмеивал и издевался над ним. Это качество не очень часто встречается в актерах. Потому что актеры, как правило, все-таки люди аполитичные. В данном случае я говорю это в хорошем смысле. Для них важна роль, лицедейство, и это естественно, это в натуре артиста, и в этом ничего плохого нет. Однако иной раз артист ради хорошей роли может пойти в какую-то подлую вещь. Гражданское чувство всегда сопутствует Леониду. Например, факт ухода из эфросовской Таганки. Можно по-разному относиться к Эфросу, к Любимову, можно допустить любую точку зрения в этом вопросе, но поведение Филатова говорит о его принципиальности. Он не побоялся поставить на карту свою судьбу. Вот мы подбираемся к самому главному, к тому, что Филатов — это личность. Слово это затрепанное, очень часто употребляющееся, и тем не менее Филатова не спутаешь никогда и ни с кем; это одновременно хорошо и вроде бы плохо. Тем не менее хорошо, потому что примат филатовской личности во всем очень важен. Я не могу не упомянуть еще об одном качестве: он просто замечательный поэт. Я давно знал его очаровательные, острые пародии на Евтушенко, на Рождественского, причем эти пародии он исполняет мастерски, обезьяний талант — он им владеет абсолютно, но редко им пользуется, хотя я убежден, что Филатов, если ему предложить роль Панталоне в «Принцессе Турандот», справится с ней замечательно. Просто ему таких ролей не выпадало ни в кино, ни в театре. Я думаю, что Филатову было бы интересно попробовать себя в каком-нибудь фарсе, гротеске, какие-то совершенно невероятные пластические вещи, потому что он зажат, он снимается в основном в современных картинах. В костюмных фильмах я его совершенно не помню. Мне кажется, ему интересно бы было сыграть, например, «Сам у себя под стражей» Кальдеропа. В таких вещах может открыться совершенно неведомый нам Филатов. В театре он явно не раскрыт, и думаю, что и в кино в нем видят социального героя. Надо попробовать его и в характерных ролях и в ролях простаков. Думаю, что там он может сказать свое филатовское слово, не похожее ни на кого другого. Потому что главным образом эксплуатируются его физические данные, такие его качества, как естественность, натуральность, правдивость. Необходима попытка вывести его за рамки того, что называется у нас перевоплощением (в данном случае я не имею в виду даже грим), но просто вывести за пределы, я бы сказал, ползучего реализма. Он играет в этих пределах очень разные роли. Я называл уже: «Грачи», «Чичерин», «Успех». Но думаю, что впереди может быть прыжок совершенно неожиданный, просто-напросто пока нет режиссера, который бы осмелился увидеть его таким образом и предложить ему что-то хулигански непривычное.
У нас зрители очень любят актеров, которые доставляют им радость. Они пишут им письма, они их обожают. Писать для каких-то актеров сценарии—это возможно и нужно. У нас есть целая плеяда актеров, для которых надо писать. Но это не очень принято, потому что актеры у нас находятся в очень унизительном положении. Актеры наши мало получают. Я не говорю о любимчиках, которых у нас не очень много и которые имеют право что-то выбирать, от чего-то отказываться. Актер наш —существо очень нежное, ранимое, тонкое. Его надо обязательно любить. Режиссерам надо создавать все условия, чтобы актер чувствовал себя совершенно спокойным, раскованным, чтобы не была зажата ни одна клеточка, что очень важно для актера. Импровизация в кадре возможна только тогда, когда актер совершенно раскрепощен, когда он знает, что его в группе обожают, любят, что он желанен. Это важно. Я актеров люблю и стараюсь им создать такие условия. У меня бывают случаи, когда я ошибаюсь в актере и натыкаюсь на циника, которому все равно. Второй раз я просто его никогда не снимаю и с ним никогда не встречаюсь больше. Если вижу, что актер работает, любит свое дело и отдает все свои силы, я стараюсь ему возместить всеми возможными способами, включая и материальные. Потому что самое важное и самое тонкое, самое большое оружие режиссера — это артист. Режиссер — там есть все: литература, пластика, музыка, но все равно мы доносим трепет сердца через глаза артиста.
У нас было единомыслие. Не было разногласий, споров, ссор. Мне нравилось, как он работает: человек очень точный, дисциплинированный. Леня удивительно техничен. Например, при озвучивании он просто снайпер новенно попадает в свою речь. Замечательно озвучивает. Леня пластичен, развит физически. Однажды на моей картине вдруг встал на голову. Я даже не пытался ему это предложить, потому что не знал, сможет ли он такое осуществить. Леня очень внутренне артистичен. В нем все: и любовь к поэзии, и умение сочинять стихи. Я считаю, что «Сказка про Федота» — крупное литературное произведение, единственное в таком жанре за все семьдесят лет. Я о таком просто не могу не сказать, и написана она крупным поэтом...
Мне очень хотелось бы использовать Леню так, чтобы он был контрапунктом к роли, а не брать его как иллюстратора к ней. Помню, я пригласил его на роль в фильме «О бедном гусаре замолвите слово». Мне нужен был добродушный дурак. Пришел Филатов и очень понравился, но я сказал: «Нет». Потому что это не совпадает никак. Это был тонкий, нервный, в чем-то изломанный, очень современный человек, а мне нужен был костюмный простак, то, что сыграл Садальский. Он в этой роли очень попадал. Простая наивность—это то, что я тогда еще в Лене не увидел. У него прекрасное чувство юмора. В нем много иронии, он по-доброму подтрунивал над актерами, партнерами по роли. Вообще, у нас в группе была такая ироническая атмосфера, мы все друг над другом подсмеивались, подтрунивали, постоянно шутили...
МОТИВ АТИЛЛЫ ЙОЖЕФА
Когда душа
Во мраке мечется, шурша,
Как обезумевшая крыса,—
Ищи в тот миг
Любви спасительный тайник,
Где от себя возможно скрыться.
В огне любви
Сгорят злосчастия твои,
Все, что свербило и болело,
Но в том огне
С проклятой болью наравне,
Имей в виду, сгорит и тело.
И если ты
Платить не хочешь горькой мзды
И от любви бежишь в испуге —
Тогда живи,
Как жалкий зверь, что акт любви
Легко справляет без подруги.
Пусть ты сожжен,
И все ж — хоть мать пытай ножом! —
Покой души в любви и вере.
Но та, к кому
Я шел сквозь холод, грязь и тьму,
Передо мной закрыла двери,
И боль во мне
Звенит цикадой в тишине,
И я глушу ее подушкой,—
Так сирота
С гримасой плача возле рта
Бренчит дурацкой погремушкой.
О, есть ли путь,
Чтоб можно было как-нибудь
Избавить душу от смятенья?..
Я без стыда
Казнил бы тех, чья красота
Для окружающих смертельна!..
Мне ль, дикарю,
Носить пристойности кору,
Что именуется культурой?..
Я не хочу
Задаром жечь любви свечу
Перед божественною дурой!..
Дитя и мать
Вдвоем обязаны орать—
Всегда двоим при родах больно!
Во тьме дворов,
Рожая нищих и воров,
Вы, женщины, орите: больно!
В чаду пивных,
Стирая кровь с ножей хмельных,
Вы, мужики, орите: больно!
И вы, самцы,
Уныло тиская соски
Постылых баб, орите: больно!
И вы, скопцы,
Под утро вешаясь с тоски
На галстуках, орите: больно!
Ты, племя рыб,
С крючком в губе ори навзрыд
Во все немое горло: больно!
Моя же боль
Сильней означенной любой,
Ее одной на всех довольно.
И тот из вас,
Кто ощутит ее хоть раз,
Узнает, что такое «больно»!
Ты, майский жук,
Что прянул точно под каблук,
Всем малым тельцем хрустни: больно!
Ты, добрый пес,
Что угодил под паровоз,
Кровавой пастью взвизгни: больно!
Пусть адский хор,
Растущий, как лавина с гор,
Ворвется грозно и разбойно
К ней в дом — и там,
Бродя за нею по пятам,
Орет ей в уши: очень больно!
И пусть она,
Разбита и оглушена,
Поймет среди орущей бойни,
Что не любви
Пришел просить я, весь в крови,
А лишь спасения от боли...
«— Леонид Алексеевич, что значит музыка в вашей жизни?
— Я человек немузыкальный. Совершенно лишен слуха, видимо, поэтому все время что-то напеваю. С самой ранней юности я имел отношение к песенному творчеству. На мои стихи еще в театральном училище друзья писали песни. Потом я попил в театр, где очень любят и ценят музыку. Однако музыка — мощный компонент не только любого зрелища, но и индивидуального творчества. Люблю писать стихи под музыку, правда, не всегда это удается, но музыка очень вдохновляет. Стараюсь развить свой слух... В фильме, который я сейчас снимаю, будет много музыки — в него войдут произведения Гайдна, Вивальди, Скарлатти...».
«ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ» В ПАРИЖЕ
1992 год. Это было непростое время, время перестройки и осознали мы это значительно позже, как верны слова восточных мудрецов «не дай вам бог жить во времена великих перемен». Время очень сложное, напряженное, все живут в ожидании чего-то необычного, какой то свободы, но какой? Каких то изменений, но каких? Никто конкретно ответа не знал.
Лене, свойственно все воспринимать близко к сердцу. Он человек очень гражданственный, поэтому все новости, вести, которые тогда появились, он слушал , сидя на ковре, поджав под себя ноги и непрерывно глядя на экран: то Литва, то Тбилиси... Все замирали вокруг, когда он смотрел новости, политические передачи, потом все увиденное очень бурно обсуждалось, на таком нерве, так активно; и эти дискуссии становились частью нашей жизни. Такое открытое диссиденство, протест против всего старого и поддержка всего нового, а что это за собой несет, никто не знал. Всем хотелось изменений, но каждый представлял эти изменения по-своему, поэтому пришли к тому, что радость ожидания сменилась разочарованием и апатией в обществе. Старое разрушилось, а новое создавалось очень медленно и не так как хотелось. Кинематограф находился в запустении все эти 10 лет. Развалены все структуры, производственные и творческие. Люди разбегались, кто торговал всем на свете, кто становился челноком, кто чем был занят... Что бы создать фильм нужны были немыслимые усилия: и к доставанию средств, и к организации процесса съемок. Доходило до анекдота инвесторы могли дать шампанское и сказать продайте это шампанское, а на эти деньги снимите фильм, потому что в качестве спонсорской поддержки, мы можем дать только товар, а не деньги. Такой же анекдотичный случай был на нашей студии, когда к нам, пришел режиссер Евгений Матвеев, тогда он искал средства на свой фильм «Любить по-русски» и колхоз «Белая дача», где он был почетным колхозником, предложил ему покупать огурцы дешевле в колхозе, а затем продавать дороже в Москве, а на вырученные деньги снимать кино. И люди серьезно за это брались, потому что не знали, как выходить из сложившейся ситуации. Потихоньку у нас стала появляться такая профессия, как продюсер, которая до сих пор достаточно загадочна: Кто такой продюсер? Что он должен делать? Откуда должен брать деньги?
И именно в это тяжелое время перестройки, Лене пришлось стать режиссером и начать снимать свой второй фильм «Любовные похождения Толика Парамонова». Сценарий им был написан по собственной пьесе «Свобода или смерть», эта повесть посвящена диссиденту, который в России писательствует и считает себя таким истинным борцом за свободу, добивается отъезда на Запад. События происходят в 80-е годы, во время правления Черненко. Герой добивается отъезда во Францию непростым путем, он предает своих товарищей, сдает их КГБ, говоря что они делают подпольный журнал, уезжает. Там, в Париже, он волею судьбы понимает, что его литераторство, никому не нужно. Это ничтожество возомнило себя великим литератором и великим борцом. На западе он опять в борьбе, теперь уже примыкает к коммунистам из Латинской Америки, так как он не бороться не может и практически погибает на коммунистической тусовке-демонстрации, глупо, неожиданно для самого себя, выстрелив во французского полицейского, за что и был расстрелян на месте.
Казалось бы, такая странная судьба, демократа-коммуниста. По тем временам, когда картина задумывалась, герой был необычайно актуален, потому что тогда происходила сильная трансформация общества, которую понять умом было очень тяжело. Когда я смотрю трансляцию Рождества из Кафедрального собора и вижу со свечами людей, которые раньше были на митингах, были членами КПСС и страшными атеистами, для меня становится загадкой их поведение. Загадкой в том смысле, что я не знаю когда они были искренними? И это страшный момент, когда ты не знаешь когда человек был искренен, что собственно и рождает недоверие в обществе. Что интересно когда подозреваешь этих людей и думаешь когда они были искренними, сейчас или тогда, вдруг понимаешь, что они могли быть искренними и тогда, и сейчас, это определенное состояние их души и характера. Они верят своему лицемерию. Леня это очень хорошо уловил в своем герое. Это был трагифарс, вернее попытка создания трагифарса, что само по себе тяжело, потому что трагедию в чистом виде, в наше время создать невозможно и с фарсом такие же большие сложности. Необходимо, какое то удивительное сочетание времени и места для того, что бы что то создать в этом жанре, и именно тогда такое было время, время самого трагифарса и фильм удивительно бы прозвучал, выйдя на экраны. Судьба фильма была очень непростая, съемки начинались, потом опять замораживались, потом Леня пускался в поиски денежных средств, и тогда я киновед и кинокритик, которая только писала и читала, как и многие другие в то время, стала приобретать новую профессию — продюсера. Мы обивали пороги, искали средства и средства были найдены.
Президент банка, который финансировал картину, обожал искусство и всячески поддерживал его. Правда, иногда деньги задерживались, поэтому время от времени приходилось навещать банкира, деликатно напоминая о сроках. Встречи эти были незабываемые. Президент, очень обаятельный кавказский человек, обожал пение и часто исполнял нам свой любимый репертуар. Однажды, мы с директором фильма и бухгалтером тоже запели на три голоса «Тбилисо», чем привели его в восторг и деньги были незамедлительно перечислены.
Нам надо было снимать в Париже, потому что по сценарию герой отбывает туда. Съемки в Париже по тем временам чудовищно дорого и сложно. Денег, как всегда мало. Минимум надо отправить туда съемочную группу, максимум снять фильм. К сожалению, мы были сильно ограничены в средствах и активно искали спонсоров. Даже писали в Аэрофлот— мол, помогите переправить съемочную группу в Париж. Аэроначальники нам ответили не без юмора: против любовных похождений Парамонова на территории Франции, не возражаем, но помочь не можем.
По сценарию в Париже была съемка демонстрации коммунистов, причем эти коммунисты были не простые, а латиноамериканцы, нам нужно было человек 200-300, которые шли на манифестацию с горящим сердцем и взором. В Париже сделали круглые глаза и сказали, что они уже не видели лет сто подобных сборищ, да еще со смертельным исходом. Когда мы подсчитали во что обходится массовка, поняли, что нужен колоссальный штат людей, что бы за каждую группу 5-6 статистов отвечал человек. На каждого человека должна оформляться страховка и мы должны были с ним возиться как с супергероем. Средства нам это не позволяли. Леня говорит: «Мне нужна правда жизни на экране и если у нас не будет этой ключевой сцены, то не будет и фильма, поэтому идите и ищите именно латинамериканцев. Никаких армян, грузин, как замены на экране быть не должно». Мы совершенно расстроенные с директором фильма Маей Кантор отправились на поиски, этих «коммунистически настроенных» латиноамериканцев, понимая, что у нас нет средств, пригласить их через французскую фирму. В одном джазовом кафе, где, мы снимали несколько эпизодов с участием нашего героя, мы увидели прекрасно играющего на скрипке румынского цыгана, а внешне вылитого латиноамериканца, который, находился в Париже со своим табором, и цыгане с радостью согласились сниматься в фильме. Мы их очень просили, что бы они не проговорились, что они не латиноамериканцы, на вопрос какой они нации, должны были молчать. И вот табор прибыл на съемки демонстрации. Мы сами все загримировались и нарядились что бы присоединится к этому коллективу и выглядеть, как можно массовей, но демонстрация все равно получилась очень жиденькой, но и очень правдоподобной. Во Франции, как правило, это небольшие группы людей которые несут плакаты и транспаранты. У нас так и получилось. Леня сказал: «Теперь я вижу правду жизни на экране. Латиноамериканцы, очень убедительны». Потом кто то в группе нас предал, сказал Лене, что это были цыгане. Леня очень обиделся, но другого выхода из этой ситуации у нас тогда не было.
Была еще сцена. В которой Толик встречается в кафе со своей возлюбленной. Туда же забредают его соотечественники, молодые люди, которые оторвались от своей группы и, пугливо озираясь, ходят «куда не положено» нам снова понадобились статисты, и мы нашли несколько русских с выразительными лицами. А в этом же кафе сидела пара французов-провинциалов, которая проводила в Париже медовый месяц. Молодой муж выглядел вполне по-русски и согласился сняться бесплатно, потому что мы пообещали прокат во Франции. Он даже не играл — просто стоял среди «комсомольцев» с серьезным выражением лица.
По сюжету Толик должен заговорить с ребятами, а они ему рассказывают о переменах на Родине: умер Андропов, пришел Черненко... Тогда Толик бросает: «Передайте вашему Черненко...» — и посылает все политбюро далеко и надолго. Мы, «комсомольцы», долго бежали от психа из кафе, а Филатов вслед нам громко пел: «комсомольцы, добровольцы...» Сцена великолепная, но ни как нам не давалась — на всех нападал гомерический хохот, дубли портили один за другим. И только этот молодожен оставался невозмутимым, потому что вообще не понимал, что происходит. Когда же посмотрели отснятый материал, оказалось, что именно его недоуменная физиономия выглядит наиболее убедительно.
Наши люди устроены так, что всегда сравнивают себя с жителями Запада. Вот и наша съемочная группа, проходя мимо витрин французских магазинов, решила, а чем мы хуже Голивуда. Вот в Голливуде, вот там, так и мы хотим что бы нам платили больше. Однако командировочные 30 долларов, больше мы платить не могли. Я всех предупредила не устраивает эта сумма, можете оставаться в Москве. В Москве с этим условием все были согласны и молчали. Когда прибыли во Францию с людьми творилось что-то невообразимое, просто лучше латиноамериканцев боролись за свои права. Все это осложняло работу. Но и это мы преодолели.
Наше кино не имеет такого проката в стране который может вернуть хотя бы часть тех затрат которые сегодня идут на съемку картины. Такая ситуация была и в 1993 году когда мы снимали «Толика Парамонова» в Париже.
Конечно, когда я вывозила на съемки в Париж около 30 человек, по тем временам это была крутая поездка и очень сложная. Дерганое финансирование которое не давало нормально работать. Много происходило накладок: смешных и грустных. Вся съемочная группа уехала в Париж, а Французкое посольство не дало визы трем главным героям процесса, Л. Филатову, оператору Н. Немоляеву и актеру Н. Губенко, играющему одну из главных ролей. Вы можете себе представить наш шок, время идет, мы сидим в Париже, а те люди, без которых мы не можем снять ни метра, остались в Москве. Пришлось задействовать массу людей, что бы к нам быстрее прибыли задержанные. Мы «отомстили» посольству тем, что они вынуждены были выйти на работу в воскресный день, чтобы выдать визы, а для посольских людей работа в воскресенье, все равно, что конец света. Когда Леня приехал в Париж, французы ко мне прибежали и сказали: «Это и есть ваш режиссер. Это тот, кто и будет снимать кино». Я говорю: «Да. А что собственно за переполох. Чем он вам не нравится?» «Но у него какой то странный вид, он что пьет или что с ним происходит?»
И тогда я впервые обратила внимание, конечно, я видела, что Леня изменился, но не придавала этому значения, сваливала на усталость. А здесь я впервые обратила внимание, что движения у Лени замедленные, ватные, как бы нарушена координация. Тогда уже проявились первые признаки болезни. Леня себя очень плохо чувствовал на съемках фильма. Роль, которую он играл, требовала необыкновенной энергетики, которая вообще присуща Лене. Он всегда был как один нерв, как один мускул. Весь настроенный на движение, постоянное напряжение. Он стремительно двигался, говорил, у него особенная дикция, его никто не мог дублировать, это было безумно сложно. Его речь как бы интонационно бежит впереди него. Роль Толика была трагифарсовая, комедийная, необычная для Лени. Потому что все герои Лени так или иначе были такими советскими супергероями. В этом фильме Толик — пародия на героя. Определенный имидж: стрижка бобриком, очечки кругленькие, облик полуподлеца и полугероя. Для Лени артиста, этот образ необычен. Тем более роль предполагала много сложных комедийных сцен, поэтому одновременно быть актером, режиссером и сценаристом было безумно тяжело — это нагрузка ему была непосильна, что становилось очевидно. У меня не было опыта работы с Леней на съемках, в основном мы беседовали, когда я писала книгу, ездила с ним на съемки к другим режиссерам, ходила на репетиции в театр, беседовала с людьми, с которыми он работал. Здесь я впервые столкнулся с тем, что Леня отпустил ситуацию на съемках, оператор был предоставлен сам себе. Леня как будто очень устал и такая была усталость, что возникало чувство, что он ко всему безразличен.
В это временя Леня себя чувствовал уже плохо. Его долго везде изучали, в разных клиниках, больницах, ставили разные страшные диагнозы, один из них злокачественная гипертония реактивного типа. Леня не поддавался, болезнь существовала параллельно, он старался жить, не обращая на нее внимание. Съемки продолжались...
Когда мы сняли в Париже все, что нам нужно, финансирующий нас банк, вообще имевший больше отношение к сельскому хозяйству, чем к кино, где даже не понимали, как нас надо финансировать, не доплатил некую сумму французам. Мы сидели каждый день на факсах, переговаривались с этим банком, где нас заверили: деньги почти отгружены, ждите! Но французы верят не факсам, а чекам. В аэропорту, перед самой посадкой, они забрали в залог нашу съемочную технику и отснятую пленку. Я поспешила в Москву выколачивать долг, а в Париже оставила нашего директора, тоже без денег. Она тогда говорила, что хорошо поняла, что такое безработный в Париже. Когда ходишь с пустыми руками мимо шикарных витрин «Шанелей», «Диоров», ешь одну булочку раз в три дня и экономишь на транспорте, ожидая каких то средств из Москвы. Это был первый опыт, тех капиталистических отношений, которые мы хлебнули позже. В итоге, когда директор отбывала назад с дорогущей техникой в Москву, от радости, в эйфории свободы, она забывает негатив картины в аэропорту Франции. Весь ужас был в том, что во Франции полицейские опасаясь терроризма, с такими находками поступают просто: расстреливают на месте из пулемета-робота. Но нам необыкновенно, просто фантастически повезло. Несмотря на то, что коробки с пленкой выглядят, как мины, полицейские все-таки открыли их и убедились, что бомбы нет. Хотя при этом неминуемо должны были засветить негатив. Оператор упаковал пленку, так надежно, что она не засветилась! Так что ее удалось быстро вернуть в Москву. Сейчас это вспоминается с юмором. А тогда мне казалось, что надо ложиться и умирать.
Нашей работе все время чинились какие-то препятствия, на нас лежала тяжелая печать невезения, которую мы все время преодолевали, как в мелочах, так и в состоянии здоровья Лени, которое в Москве совсем ухудшилось. И уже наступил момент, когда Леня совсем разболелся, и мы зарезервировали картину в ожидании, что он выздоровеет, с надеждой что это произойдет, что Леня поправится, что картину мы доснимем, потому что впереди оставались самые сложные сцены для Лени-актера. Без этих ключевых сцен, хотя у нас было снято много материала, и мы стали уже отбирать и вчерне монтировать его, было ясно, что без этих сцен картину невозможно будет показать на экране.
Это было время, когда в жизни Лени, начался непростой этап борьбы за выживание. Ясно, что Леня стал тяжело болеть. Он был очень стойкий в борьбе с болезнью, ему ампутировали обе почки, и он год прожил без них. Другой, психологически поддался бы этой ситуации. Ее очень тяжело преодолеть и, прежде всего, физически. Через день он являлся на аппарат искусственной почки, потому что кровь должна очищаться, так как лишний глоток воды может привести к самым непредсказуемым последствиям, начнутся реактивные отеки или в области ног, или в области легких. Около шести, семи реанимаций пережил Леня — говорила его жена Нина Щацкая. Это была чудовищная нагрузка на семью Филатовых. Нина ухаживала за Леней, всегда и везде была с ним. Вместе с ним лежала в больнице, ночами Леню надо было переворачивать с бока на бок, потому что если это не сделать, не поменять ему позу, то к утру Лени может и не быть. Ситуация была экстремальная, вся семья жила в состоянии постоянного риска. Конечно, это тяжело и психологически и физически, но Леня вел себя необыкновенно стойко. В этот момент он писал очень смешную сказку «Любовь к трем апельсинам», начал работать над «Декамероном» и, даже готовясь к операции, диктовал Нине текст сказки.
Повлияла ли болезнь на Леню? Безусловно, он очень изменился. Его необыкновенная энергетика, не ушла, просто раньше он был настроен на внешне активное общение, а сейчас его энергия ушла вглубь души и дает ему внутренние силы для писания. Больше всего он сегодня ценит очень простые и ясные вещи в жизни: солнце, небо, тепло, уют, близких людей, все что первостепенно, то к чему человек приходит или в определенном возрасте или в определенном моменте своей жизни, ситуации которая, как правило, открывает ему глаза на основную ценность человеческого бытия, жизни. Для Лени сейчас произошло такое открытие, и он отошел от всей ненужной суеты и сейчас вся его энергия погружена в ценность жизни каждого дня.
...Леня человек с большим юмором и юмор помогал ему всегда. У него юмор философского склада на все житейские ситуации и это то состояние, в котором ему приятно находится. Он любит новые анекдоты, смешные случаи, парадоксальные вещи. Всегда предвкушает встречу с друзьями, которые придут к нему, и они на кухне будут пить чай, кофе, курить и рассказывать анекдоты, байки. Все это ему очень нравится, он любит этим жить, делится тем, что сделал, написал и смотреть какая на это реакция. Он любит общение, но как вы понимаете, оно бывает разным. Леня, стал избегать случайных людей, суетные разговоры, уносящие у него много сил, к которым раньше был очень терпим. Сразу чувствуешь, как он закрывается внутренне, начинает заниматься своими делами...
...Он любит кино ...У него удивительное отношение к кинематографу. Он любит его как зритель, наивный и простодушный, и как специалист, который знает все изнутри, как-то все очень «ведчески» какие это года, какие это картины, какие сцены... Он удивительно в себе совмещает разную любовь к кино, поэтому он до бесконечности может смотреть детективы, триллеры и находить для себя массу зрительской радости. Леня очень любит читать детективы, такая страсть для него — детективы, он обожает все детективы, что там будет и как. С таким напряжением смотрит и читает. В этот момент ничего не должно обсуждаться, вся жизнь должна затихать. Смеяться над какими-то ситуациями, происходящими в этих детективах нельзя, потому что здесь все главное и серьезное. Он уже зритель и наслаждается этой картиной, поэтому обсмеянию нюансы не подлежат. Я, всегда удивлялась, как Леня со своей эрудицией, со своим интеллектом может смотреть какой-нибудь детективный сериал и так в него погружаться. Это удивительная черта его натуры, сочетание простодушности, детскости и интеллекта... Он широко одаренный, творческий человек и это проявляется во всем, что он делает. Чем просто интересуется.
Сейчас Леня много пишет. Кино для него тема закрытая и перешедшая в другую область, пока это только создание телепередачи «Что бы помнили». Леню очень поразила в свое время фраза, которую Высоцкий написал в своей анкете, во времена каких то социологических исследований. Высоцкого спросили: «И что же главное остается для вас в жизни?» Он сказал: «Чтобы помнили, когда меня не будет». Это так важно, когда из жизни уходит так много талантливых людей и потихоньку они нами забываются. Иногда мы смотрим фильм и не осознаем, что тот, кто снимался в фильме, уже давно не с нами, но великая магия кино в том, что люди остаются и молодыми, и любимыми, и веселыми на экране. Этот трагизм ситуации очень хорошо почувствовал Леня, когда создавал цикл передач. Конечно, самые первые передачи были с большой отдачей, они делались на каком то внутреннем подъеме. Леня загорелся идеей, отдавая ей много сил. Сейчас его участие не столько определяет, сколько направляет передачу. Я помню, как он смотрел свою передачу об актере Юрии Каморном, трагически погибшем и плакал...
Особенность Лени еще и в том, что люди, которые вокруг него, в какой то мере живут им. Он настолько большое дерево... Мне запомнился такой случай. К Лене пришел его друг-артист Володя Качан и говорит, что выпустили какую-то юморную энциклопедию и там написано так: Качан — друг Леонида Филатова, актер. И Качана потрясло то, что ему дали характеристику в первую очередь, как друга Л. Филатова,. А потом уже актера. Володя на самом деле большой друг Лени и очень морально, психологически поддерживал семью Филатовых, когда Леня болел.
Лене повезло с друзьями. Они не отказались от него во время болезни, казалось бы, больной человек — покой, больницы, капризы, какая тут дружба, иной раз и близкие сбегают и устают, но Леню миновала сия участь, а его друзья и близкие прошли одно из самых страшных испытаний — долгой болезнью ближнего.
Леонид Ярмольник появился в жизни Леонида так близко совершенно неожиданно. Они знались по театру, но не более того, Леня Ярмольник принадлежал как бы к другому, молодому поколению театра, однако одним из первых на помощь Филатову пришел именно он и стал по праву, уже если не ангелом-хранителем, то другом-хранителем Лениной жизни.
Леня с Ниной отдыхали в одном из подмосковных домов отдыха, веря, что отдых вернет силы Лене, но когда местный врач посмотрел результаты анализов Леонида, то вызвал к себе Ярмольника (именно он устроил Филатова полечиться в Доме отдыха) и попросил забрать Леонида прямо сейчас, так как, судя по результатам анализов Лене, оставалось жить считанные часы. Что в таких случаях можно сказать... Когда случается беда, большое счастье, если есть люди, которые могут тебе помочь. Ярмольник погрузил Леню в такси и повез в медицинский Центр к профессору Шумакову.
С тех пор он постоянно помогает Филатову. Два года стоял Леня в очереди на донорскую почку и именно Ярмольник добился, чтобы ее быстрее выделили Леониду, именно он организовал диализ — очищение крови для Лени, добился закупки необходимой новой аппаратуры. Заботился он о Филатове даже в мелочах, зная как он любит смотреть телевизор, установил у него антенну «НТВ+» и еще много других знаков внимания. Видимо, возраст для дружбы не так уж и важен, видимо, два Леонида одной группы крови, общих духовных устремлений и, Леонид Ярмольник — хороший, добрый человек. Забыли мы, что можно быть просто хорошим человеком и уметь сострадать и помогать ближнему своему.
Я помню, когда мы с Леонидом собирали деньги на картину, на него напала икота, которая не отпускала его несколько дней ни днем, ни ночью. Что мы только ни делали: били по спине, пили воду, задерживали дыхание по разным рецептам, всех стран и народов, ни что не помогало. Пришли мы в серьезный банк на переговоры, где он не перестовал икать, все вокруг сделали знающие лица и сказали мне потом: «Пить надо меньше». И это было очень обидно, потому что Леня вообще не пил в этот период и был далек от этой мысли. Тогда, борясь с икотой, мы смеялись, позже мы узнали, что икота означала, что он перенес инсульт на ногах. Видимо это тоже повлияло на его речь, общее состояние, потому что эта чехарда с почками приводила к тому, что он переносил микроинсульты на ногах, сам того не зная.
Во всех поездках , когда ездил на съемки в другие страны, а тогда было очень сложно все купить, представлялось целой эпопеей и сапоги, и пальто — попытки приобретения были равны полету в космос. Леня всегда все вез из командировок, своей жене Нине Щацкой, он старался максимально доставить ей какую-то радость, какие то счастливые минуты в жизни. Лене значительнее приятнее доставить радость ближнему, чем себе. Такой вот человек, сам очень неприхотливый, но желающий своим близким людям, к которым он очень привязан, которых он очень любит сделать хоть какой-нибудь пустячок, но приятный. Я помню, он своему сыну Денису готовил сюрприз на день рождение, тот очень любил «Баунти» и Леня закупил какое-то грандиозное количество, большой ящик этого «Баунти», что бы обрушить эту сладкую массу на него и произвести впечатление на парня этим «райским наслаждением».
Сегодня, когда я иду к Лене, мне все время говорят: — Если пойдете к Филатову передайте ... или возьмите нас с собой... Казалось бы, сейчас, Леня, уже не в центре событий, он не снимается в кино. Не то его физическое состояние, однако число поклонниц не уменьшается, как говорил Михаил Жванецкий: «Вот такой он секс-символ в нашей стране» Его внутреннее начало, его человеческая стойкость, она притягательна по-прежнему для большинства людей. Он не перестает быть интересным.
Когда мы снимали сцену из фильма «Любовные похождения Толика Парамонова», где наш герой должен обливаясь, горючими слезами, пить водку на могиле Бунина на русском кладбище неподалеку от Парижа. А нас несколько раз предупредили: это мемориал, здесь водку пить нельзя! Да и по сценарию кладбищенские служащие должны были, увидев пьющего русского, прогнать его. Ну, думаю, найдем статистов прямо на месте. Пробежались по кладбищу, и точно: идет по аллее пожилой человек, на лицо — копия покойного актера Жана Габена. Мне даже как-то не по себе стало. Но отбросила суеверие и попросила подыграть в эпизоде. Умоляла. Чуть ли на коленях не стояла. Вы, говорю, второй Жан Габен. Он об этом великом актере слыхом не слыхивал. В общем, все зря. Стала искать дальше и нашла польских эмигрантов, которые работали могильщиками. Те и вовсе перепугались: а вдруг их узнают на экране и вышлют из страны! Пришлось уламывать водителя-француза. Сыграл не хуже профессионала. Сцена фарсовая в духе героя Толика Парамонова. Пока мы снимали, нашу съемочную машину ограбили, разбили стекла и вытащили все, что можно было украсть у нашего французского директора картины. Украли все бумаги, документы, банковские карточки и среди них была моя книжечка о Леониде Филатове, которую подарила директору, на русском языке. Известно, что в районе кладбища живет очень много русских эмигрантов, русских семей, которые стараются поддерживать традиции русского языка. Почему-то внутренне я была уверенна, что все найдут и вернут. Говорила директору, что все будет в порядке, что бы он, не расстраивался, что все найдется. Искренне в это верила. Он мне говорит, что такого не может быть, что чудес не бывает. Потом выясняется, что все нашлось, полиция вернула ему все бумаги, которые бросили грабители; все было возвращено, кроме книжечки о Леониде Филатове. Я про себя подумала и улыбнулась, может быть это знак какой-то и что-то в этом есть, если русские в Париже могут заинтересоваться нашим русским актером Леонидом Филатовым.
Десять лет спустя...
(Продолжение разговора 31.01.2000)
Послушай, какое замечательное стихотворение «День поздней любви»
Мы зорче и мягче,
старее в осенних любовных объятьях.
Глаза наши видят острее.
Тогда нам пора закрывать их.
Ну, ладно, поговорим лучше о жизни... Так начинается наша беседа с Леней:
...Относительно моей повести «Свобода или смерть...» то, видишь ли, есть формула хорошая, давнишняя. С которой как бы можно спорить, но не нужно. «Свобода — есть осознанная необходимость». Это то, чего русский народ не может никак впустить себе в мозги. Хотя как бы среди прочего — мог бы... Если бы эта формула была как бы воспринята хоть немножко — многих бы гадостей не было сегодня. Но, к сожалению, в сценарии и в картине имеется в виду как бы другая свобода. Свобода дикаря. Вот свобода, не хватает свободы, хочу самовыражаться. Мне не дают. Я приехал на Запад, а там не ждут. Дают — пожалуйста, только никому это не интересно... Поэтому самовыражаться можно всем. Но как бы требовать за это внимания могут далеко не все. Ни при каком режиме...
...Вот мы говорили о герое нашей несостоявшейся картины, о Толике Парамонове. Этот тип, который сегодня — победил. Этот тип, который как бы ничтожество, но активное, амбициозное. Активность в жизни хороша, но неосознание того, что ты ничтожен... Вот сегодня включи телевизор — нельзя сказать сплошные ничтожества, так не бывает, но много. Много. Причем все наглецы... Все звезды, как будто в России, не было ни Карамзина, ни Пушкина, никого. Не хочу называть сегодняшние имена, фамилии. Не хочу быть агрессивным... Это время пройдет. Это время ложных богов, а значит и ложных личностей...
...Вероятно любая жизнь, нам кажется, предполагает импровизацию. Как бы на скрижалях, на небесах все поставлено, но есть какая-то импровизация, зависящая от человека... Думаю, в жизни моей было всего понемножку. Во-первых я как бы не верю, что можно желать — чего-то такого что еще в жизни не было. В любой жизни, конечно, чего-то не хватает. Не помню — какой-то умник, но талантливый человек сказал. По-моему, чуть ли не Михаил Жванецкий: «Я уже никогда не сыграю Гамлета..., мне уже никогда не будет семь лет...» Ну и так далее. То есть таких можно вещей насобирать много. Но в принципе я сторонник того, что как бы грех сетовать — кому бы то ни было даже, человеку которому многое выпало. Грех роптать. Как говорится: «У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать». В общем надо благодарно принимать все. Смысл такой у жизни, простой...
...Замечательно, когда ты можешь заниматься как бы тем, что любишь, и тебе за это платят, т.е. ты можешь еще жить на это. Не думаю, чтобы это была главная драма, когда не можешь заниматься этим вообще, но не драма, когда ты не можешь за это получать, скажем, в полной мере или как тебе кажется — в полной. Человек честолюбивый всегда предполагает, что в своей профессии он будет если не первым, то где-то рядом — вторым, третьим, десятым. А когда он две тысячи пятьсот тридцать четвертый... — он должен понимать, если он не полный дурак, — ну не совсем, видимо, то выбрал себе в жизни, что следует. И я имею в виду только это, когда говорю, что не рожден артистом. Это как бы не от избытка скромности, а от простого понимания, что есть лучшие. Но и такое понимание тоже необходимо. Прежде всего нормально, чтобы не умереть дураком полным в обольщении, что ты из себя что-то вроде представляешь особенное. А такие есть у нас, мои коллеги сегодняшние — в большом количестве... Я имею в виду особо яркую фигуру, которую не назову. Яркую в своей глупости, амбициозности, а не в профессии, но не назову...
...Нельзя требовать от общества, чтобы оно как бы оценивало что-то или не оценивало. Понимаешь, во-первых — а судьи кто?, а во-вторых — кому надо — тот оценил. Я вполне доволен... И вот как бы от кого мне надо услыхать оценку... Я услышал. А остальные меня мало интересует...
...Нельзя сказать, что все, что я делаю в жизни или делал — имеет какую-то ценность и для меня. Нет, конечно, очень много чепухи. Но чепуха или нет — становится понятным только спустя годы. А в тот момент, когда ты что-то делаешь, какое-то отправление, какое-то... в искусстве или там не знаю... тебе кажется — это серьезно. Это как бы должно быть услышано, увидено. Но потом, проходит время, и ты сам понимаешь, что это не должно быть увидено. И хорошо, что не заметили. И хорошо, что никто не видел... Прошло время, поглядел на материал фильма моего последнего «Любовные похождения Толика Парамонова», отснятый — и думаю: слава Богу, что этот материал никто не увидел. Потому что работа работе рознь. А эту работу я делал уже больной. Делал некачественно, кое-что пропустил, очень много чего как бы не уследил. То есть получается, все что Бог ни делает, все к лучшему.
...В то время — а как же? Любой нормальный человек моего возраста хоть раз, хоть как-то рикошетом, но конечно столкнулся с КГБ. Я был на Лубянке. Меня ...вызывали по поводу какого-то человека, которого я знал. Который вздумал там удрать куда-то на корабле, на каком-то. И долго допрашивали меня... вот хочу ли я за рубеж, здесь, мол, плохо жить? Не говорил ли чего похожего... Им чего-то надо было, а чего им надо — я понять не мог. Какое... петушиное слово они хотели от меня услышать?
...Не по причине какого-то патриотического чувства, а я слишком завязан с культурой и с этим языком. Я понимал, я имел несчастье однажды по-английски рассказывать русские анекдоты в Марселе в доме тамошнего режиссера Марешаля. И была большая компания и я долго и мучительно рассказывал какой-то анекдот и когда понял в конце, что нюансы я не могу передать по-английски — знание английского не позволяет и потом нельзя какие-то вещи ни на одном языке, кроме русского передать. Я понял, что если такое случится ...второй раз я просто сойду с ума, взорвусь. Бывать за границей я любил, но очень коротко, потому что тоска, отсутствие аудитории, отсутствие людей, с которыми мне было бы интересно разговаривать на разные темы. Две недели — это уже невыносимо. Даже в очень неплохой стране.
...Были люди, в моей жизни которые конечно оказали — я так думаю — влияние большее или меньшее — уж я не знаю на меня. Ну, конечно, Владимир Высоцкий в первую очередь. Он один, пожалуй, он один. Ну, Давид Боровский ...А Володя прямым учителем не был, он никогда ничего не преподавал, не внедрял. Как бы такое наблюдение со стороны. По тем временам он мне казался сильно старше меня... Сказать, что мы были друзьями — нет. Это было бы неправда. Друзьями мы не были. Была разница в возрасте. Как бы в театре это очень заметно. Семьдесять лет в театре — это очень большой срок. Особенно первое время, когда приходишь новичком. То есть тебя так — полувидят... Я вообще занимался другим делом. Я пришел в театр, меня тут же позвали в кино через короткое время и моя работа и мое честолюбие лежало уже в русле кино. А в театре меня мало что занимало. Сказать правду. Позже, когда появилась какая-то работа, ну когда появилась любовь, которая тоже связана с Таганкой — конечно появились какие-то нитки, которые меня связывали уже с этим домом. Я понял, что это дом для моей жизни неслучайный. Но это позднее гораздо было... Я почему не назвал Любимова? — ну, он как бы учитель абсолютный вообще, что же тут говорить. Любимов — это был такой заспанный лев. В ту пору он был еще сам молодой человек — я ничего не понимал, потому что он мне казался уже пожилой, ему было чуть за сорок. Такой совершенно царственный, еще не весь седой, но седеющий... Он фактурно подавлял меня первое время... Он большой во всех отношениях, а я субтильный, узкоплечий. Он красивый — я как бы наоборот. Было много чего-то такого, на что я всегда смотрел с большим любопытством, и с большим уважением...
...В театральном училище имени Щукина, в моей Альма-матер, конечно, у меня были люди, которые меня как бы определили во многом, на многие годы вперед. Это мои учителя в первую очередь. Конечно, Владимир Абрамович Этуш, мой драгоценный просто учитель. Я и поступил благодаря ему и, вообще, стал артистом, я думаю... Это Альберт Григорьевич Буров, которого все звали за спиной «Алик» и студенты, и учителя, все... Он был молодой, обаятельный человек, который тоже принял участие в моей судьбе очень сильное. Достаточно сказать, что он просто организовал показ в Театре на Таганке, первый показ, но в который Любимов взял только меня. А спустя год в театр уже пришли мои однокурсники: Боря Галкин, Ванька Дыховичный... Стас Холмогоров, Володя Матюхин — но эти позднее уже. Буров очень суетился за кулисами — я знаю, по поводу меня. Разговоры с Любимовым, всякие аттестации меня. Тогда казалось, в училище вообще — то, что я сочиняю стишки — это как бы ну, невероятный дар. Хотя ну кто не писал! Все писали. Не писали только ленивые... Ну, а меня как-то особо преподносили в этом плане... Учителя в первую очередь, хотя и курс был непростой. На курсе были и Нина Русланова, и Ваня Дыховичный, Володя Качан, Боря Галкин, Саша Кайдановский.
...На каком-то этапе, когда я стал киноманом, мне дико нравился Делон. Мне казалось — вот если бы я был как Делон. у меня было бы все, полный порядок. Делон как бы заслуживает кроме того, внимания, но вот сказать, что это как бы ориентир или кумир — конечно нет. Ничего похожего не было.
...Думаю, человек с годами все-таки начинает думать иначе... смотреть на жизнь иначе. Я, например, с годами больше успокаиваюсь. Я становлюсь великодушнее, хотя как бы былая злость нет-нет да и дает себя знать. Но это как бы уже такие рецидивы. А в основном, конечно, спокойнее гораздо. Переживаю многие вещи спокойно. Не равнодушнее, но так... Вот там, где в юности было бы потрясение — сейчас его не будет точно. Конечно, и болезнь сыграла свою роль в моем сознании.
...Понимаешь, у меня как бы долгое время возникало часто ощущение собственной правоты. Но как правило длилось оно очень недолго... Но, как-то жизнь вносила коррективы даже не в мою правоту, а в то, что вот — прав, прав — ну и что? А в отношении к миру то какая она твоя правота? Вот, скажем, ушел я от Эфроса, бомбил его, критикой своей, а Эфрос — раз — и умер. Вот вся твоя правота. Она как бы осталась правотой как бы при живом Эфросе, но Эфрос-то уже не живой. И что означает твоя правота, сколько она весит? И имела ли она смысл в виду такого мощного аргумента, как смерть? То есть абсолютной правоты такой — того или иного человека — я думаю, ее и не бывает. Чьей-то абсолютной правоты. ...Те экстремальные попытки доказать свою сиюсекундную правоту — тоже эти соблазны потихоньку у меня исчезли с годами. ...Хотя Станислава Говорухина я вижу иногда в телевизоре — я понимаю, что он говорит, и зачастую соглашаюсь. Вот я уже на той стороне, вот я уже там, вот я уже и флаг — повесил, водрузил, как говорится. Ну и что? А что поменяется в пейзаже?.. Я как бы согласен с человеком на том берегу уже, который как бы это же утверждает — и все-то он победил, он пробился, он проплыл — но смысл? Я смысл имею в виду не прагматический такой сиюсекундный, а как бы с забегом вперед... Но должен сказать помимо прямого полезного смысла я очень разделяю движение тех или иных людей, как реакцию на несправедливость... как такая рефлексия чести. Это тоже немаловажно... рефлексировать на тему чести и благородства.
...Задуман я был как поступочник... Случились всякие помехи, которые мешают мне активно существовать в жизни. Но я думаю, что я человек — созидатель, но такой визуальный, на то, что я делаю, я должен иметь отзвук, лучше сейчас. А когда говорят — вот потом, после смерти... не надо после смерти ничего уже. Сейчас хочу... Хорошо или нет... Занятно или нет.
...Мы же все путаем в юности. То есть освоение Москвы — не будем говорить — завоевание, потому что приехав только в Москву я понял, какой же это здоровый мир. Какой же гигантский город Москва. Я никогда не только в таких городах не был, но я вообще как бы — про Землю не думал, что она такая большая Москва, конечно, подавляет в первую секунду и в первые дни. Видимо, у провинциалов есть такое нахальство... от незнания масштаба, даже непонимания ими. Как провинциалам — им надо пробиваться. Такие грезы вперед конечно есть — вот я когда-нибудь буду знаменитым. А чем жить каждый день? Для меня это была первая влюбленность в училище, в уже знаменитую артистку, хотя студентку, которая длилась несколько лет. Мне казалось это любовь. Но вот прошли годы и вот сейчас, когда я об этом думаю — может это и была попытка завоевания Москвы. Она казалась в те годы сильной принадлежностью Москвы. И, вообще... и кино, и все вместе... здесь все сошлось.
...Тогда, правда, кино меня в упор не видело. Вернее я ходил, как все на пробы. Я тогда не понимал, что эти пробы — сутолока просто. У дверей тебя никто не видит и с тобой всерьез никто не говорит. Проходят вереницы, и их никто не запоминает ни по именам, ни в лицо, но аккуратно ездил. Когда лет 27 стало — я перестал ездить. Я тогда понял, не сложилось. Что делать — и без кино люди живут. Но как бы сказать, что я как бы оставил мысли о кино вообще — наверное, не правда. Так, греза оставалась...
...Еще в школе в Ашхабаде я не пропускал ни одного фильма, который выходил на экран. Венгерское, польское, «Новости дня» и науч.-поп. — я смотрел все. И вот я поступил в театральное училище имени Щукина и стал актером, меня позвали в театр... на Таганке. Я уже играю. А в кино не зовут. Но я продолжал усердно ходить в кино в Москве. Я прорывался в Дом кино на закрытые просмотры... дружил и дружу с Владимиром Владимировичем Дмитриевым — это наш киновед, ученый... работает в Госфильмофонде, в Белых столбах. И он меня пригрел вниманием, позволял смотреть самое разное кино. ...И когда мне было уже чуть за тридцать, меня позвал в свою первую картину на Мосфильме Костя Худяков, называлась она «Иванцов, Петров, Сидоров». Фильм этот, по счастью, увидел Саша Митта, с которым мы были знакомы, но не работали никогда вместе и даже особенно не общались, а почему-то он меня позвал в картину «Экипаж». Так началась карьера киношная. Хотя я в ту пору еще не до конца верил, что вот сейчас начнется работа, сейчас начнется кино, хотя Саша Митта сам сказал — ты будешь знаменит. Завтра же... Посыпались всякие сценарии, звонки, приглашения, но как-то все очень быстро... Все это стало обыденным, обычным. ...Кто-то правильно сказал — сбывшаяся мечта перестает быть мечтой, той недостаточностью, за которой все время следует идти, к чему надо стремиться.
...Наверное, потому что те двигатели, которые как бы мной руководили на том или другом этапе жизни верные, наверное, ушел бы опять от Эфроса, — конечно, ушел бы, но я ощущал свою правоту, и мне было там противно. Но — другой вопрос — как бы это я сделал? Я бы это уже сделал без шума и без желания соучастия других. Я бы ушел тихонько, притворив дверь и сильно не обращая на себя внимания. Вот это точно. И массу вещей я сделал бы также... Я сделал бы также, но все тише и скромнее раз в сто.
...Распалась Таганка — лучше, если бы не распалась. Потому что касается меня — я все равно в театре не работал. Я ушел. Рано ли поздно. При болезни ли без болезни. К сегодняшнему дню я, так или иначе, был бы уже не в театре. Так советская власть, как понимаешь, ни при чем. А то, что были какие-то перипетии, связанные с Эфросом, всегда были порядочные поступки и малопорядочные. И при советской власти, и без нее. Без нее просто их стало больше. Не благодаря советской власти — как бы она порядочнее была, просто люди в целом были неправильно воспитаны, но все-таки читали много книжек, скажем так. И меньше слушали Алену Апину.
...Если принять по поводу Моцарта и Сальери такую знаковую систему — не добро и зло, как принято говорить, е6сли отбросить эту как бы сплетню, которая, кстати, сказать, не имеет подтверждения в истории, но поддержанная Пушкиным, что Сальери злодей, завистник, бездарь, неумеха. Это неправда... честный, труженик, но... не хватал звезд с неба. Моцарт гений... духа. Гений. Это уже Промысел Божий. Трудом не всего можно добиться... хотя труд, конечно, много значит можно и гениальность проиграть, если не трудиться. Так вот применительно к Моцарту и Сальери — я, конечно, хотел бы быть Моцартом, хотел быть гениальным человеком. Но — так у меня не получилось. Мне вообще в жизни мало, что давалось легко. Все давалось с трудом... какая-то часть Сальери есть и во мне.
...Я людей-то не травил. И завистником, честно говоря, не был, по счастью никогда. Потому что я не могу назвать человека, которому бы я завидовал. Хоть сколько-нибудь. Во-первых, я рано понял, что чувство неплодотворное — зависть. Оно как бы разрушает тебя самого, ничего тебе не добавляет. А во-вторых, просто не было такого объекта, которому я хотел бы завидовать. А что касается продукции, которую я выдавал всю свою жизнь, было по-разному: что-то давалось легко, что-то очень трудно. То есть я наверное и Моцарт, и Сальери в каком-то процентном замесе. А самого процентного расклада — не знаю...
...Наверное, любой человек, когда проглядывает — чего бы еще — я этого не сделал. Если записывать всю жизнь — выясняется — что ничего не сделал из того, что человек как бы определил для себя. Любой человек. Но когда счеты в жизни... Кому можно предъявить счет? Глупо догонять вчерашний день. Конечно, много плохого могло бы не быть. Мог бы быть и менее агрессивным, поумнее бы. Удачливее? — Не могу сказать, грех жаловаться, все-таки мне много везло...
...Нет, это уже правда, железно, без всякого кокетства. Опять же... к себе, тут нет никаких формул для всех. Ну, вот я и сейчас для себя уже не вижу смысла в профессии актера. Я все равно сегодня занимался бы чем-нибудь другим. Чем-нибудь, наверное, рядом, чем-нибудь в искусстве, но не в профессии актера. Все-таки эта профессия, где многое зависит от количества физических сил, от здоровья... То есть любая профессия, и писательская, требует здоровья. Любое творчество, но актерство мне кажется, что в актерстве как бы — это такая топка: кидаешь, кидаешь, кидаешь и ... никакого ответа.
Слово «звездность» оставьте себе, потому что я не понимаю и не понимал никогда... и сегодня звезд этих не мерено... Девицы внимание проявляли ко мне некоторое время. Не будем обольщаться. Девицы, в основном воспитанницы ПТУ. Ну не важно. Все равно женского пола. Проявляли, да. Но это как бы заслуга кино, а не моя... У нас народ смешной, все путают. Воспринимают все впрямую. Вот и девочки предполагали, видно, что я только гляну — и только держись. Девочки были молоденькие, надо сказать, совсем молоденькие — лет шестнадцать, но это был период короткий, и мне хватило ума сообразить, что это имеет малое ко мне отношение. Примерно это выглядит так — а ты любил, когда тебе под елочку в детстве подарочек кладут? — Да, приятно, любил...
...Может такая связь и есть. ...Вообще у артистов есть такая байка наоборотная. Что когда много играешь смерть свою на сцене или в кино, в особенности в кино, потому что фиксация, то тебя — все беды минуют. Пятнадцать-то уж точно раз умирал в картинах. На экране я умирал. Когда стреляли, убивали, резали. А если играть классику? Шекспира, скажем? Сама профессия предполагает — тут ничего не поделаешь. Есть люди, которым не везет. ...не касаясь, скажем — каких-то имен в драматургии, в театре. Которые как-то проехали мимо смертей. Но это бывает редко. А театр, когда подумаешь... Но, вот «Свобода или смерть». Расстрелял себя на улицах города Парижа. Уже будучи сильно больным. Этого не следовало делать, мне кажется. А моя мама фильм «Забытую мелодию для флейты», последнюю часть, смотреть не может — выключает телевизор. Где я помираю, реанимация... «Не могу и все... Плачу и не могу, мне плохо», — говорит.
...Проблема не только русских артистов, вообще, но русских прежде всего, видимо, во-первых, нет того, западного уровня благополучия... Скажем, человек отдыхает во всем мире, иначе чем в России где ничего кроме водки не придумано. А усталость... А количество получаемых денег, заработанных и насыщенный трудом день и скитания по гостиницам не высшего качества — все предполагает... и что... не спится. Каким образом отдыхать? Человек даже не пьющий: сначала полстаканчика, полстаканчика... вот и... какое-то время... он не понимает... любой здоровый человек, даже предупрежденный, не понимает, что это не может длиться вечно. Но, год так продержитесь, даже сил уже остается в три раза меньше. Человек устает, а уже привычка. Так что очень многие артисты наши спивались и это не секрет. Это трагедия как бы наша, искусства нашего актерского вообще. И на Западе пьют очень сильно. Кто пьет, кто колется. Человек, все время изображающий другого, чужие эмоции, чужие страсти — он стареет быстрее, чем люди других профессий. Это эмоциональное полустрессовое состояние — оно диктует свои условия. Я не оправдываю артистов, хотя уверен, что в Росси пьет все общество. Инженеры пьют не меньше актеров. Но артисты — люди на виду. Артисты выпивают, — значит пьяницы. Все они, пьяницы. Что не совсем так. Но спорить с этим — неохота, потому, что подтверждение обратному тоже есть.
...Я не очень имею право рассуждать на эти темы... церкви, поскольку имею о ней самые общие, самые литературные общекультурные сведения. Я считаю, что роптать на жизнь — это роптать на Бога. А роптать на Бога — это грех всегда. Как бы жизнь включает и такие моменты как болезнь и смерть. Нельзя, потому что как бы мы вот рассуждаем так по-людски: ну бандиты ходят, убийцы, сколько людей убили, а живут. Но мы же не знаем, какой Бог. И что это за субстанция. Счеты могут быть самые разные. И почему Бог щадит, как бы оставляя на земле убийцу — откуда мы знаем, что Он щадит? Мы не знаем. Потом как бы это долгий такой разговор. Про небеса и как бы это все я включаю в сферу своего жизненного внимания. Не только православный человек, повторяю, я про это мало знаю... на эту тему рассуждать, но... думаю, что жизнь идет справедливо по отношению ко всем. Вопрос социальный-не социальный — это да, вопрос это уже земной. ... Какие-то магистральные вещи они как бы уже назначены, как бы грех... да, и грех, и глупо говорить, а что же мне-то — представляете — сколько людей тогда будет на планете — мне за что? А кто ты такой — хочется спросить. Правильно тебе. И тебе. А ты чем лучше? Задавал себе вопрос? Не задавал, оказывается, нет, он считал, что он приличнее, он хорошо живет. А покопаться в памяти — каждый найдет — за что. Так не надо вопить — за что?! Подумай — и поймешь — за что...
...Не очень удобно, но как бы из приобретений — наверное терпимость. Терпимость.
...Достоверно знаю я, что «инженером» я себя не ощущаю, не ощущал и не буду ощущать никогда. А конструирует — опять же Господь. Никакие инженеры человеческих душ ничего не конструируют.
...Я понимаю, что живем в стране с таким культурным контекстом, где и Пушкин, и Тютчев, и Блок, и Пастернак — и еще иметь намерение кого-то просветить в своем художественном творчестве... Я делаю это, потому что мне это как бы занятно, заполняет мою жизнь. А других претензий нет...
...Мои реакции на сегодняшние новаторства весьма консервативны. Не думаю, чтобы я имел отношение к староверству. Все-таки староверы — это люди определенным образом воспитанные. Это к генетике как бы никакого отношения не имеет. Видимо в роду у меня были люди и такие, довольно нетерпимые, довольно жесткие, и вспыльчивые. Бабушка, моя покойная, уж точно была такой. Надо хорошо знать свои генеалогии, а я знаю плохо.
...Я про это плохо понимаю, плохо понимаю. Я только знаю, что многие наш национальный путь визуально видят так: босыми, по траве, с хоругвями, по росе куда-нибудь... В крайних выражениях я не сторонник ни тех, ни других. Не сторонник Аксакова, не сторонник Чаадаева. Я назвал две фигуры, которые определяют эти крайние точки. Мне противны как бы такие славянофилы с кусками борща в бороде, которые непременно босиком по пашне, понимаешь, не симпатичны. И такие западники, которые говорят, что новое поколение выбирает пепси-колу. Это тоже мне отвратительно.
...Я думаю, человек, какой бы он ни был — не может стоять в какой-либо позиции по поводу смерти. Это смерть может стоять в определенной позиции по поводу человека. Тут надо говорить не о смерти, ибо мертвым еще ни разу не был. Полумертвым был, но мертвым — никогда. Поэтому мне трудно говорить... Надо говорить о Боге. То есть бессмертна ли душа, есть ли какая-то жизнь после смерти, если грубо, или нет? Уверен, что есть. Есть, конечно. Ну как бы весь пейзаж за окном, без Бога. Такого представить себе нельзя.
...Бог есть, загробная жизнь. Люди безграмотные даже, дремучие, допускающие над собой существование Бога, наличие Бога — они все верят в бессмертие души... Я верил, но... на разных этапах как бы с разной степенью допущения. А сейчас верю абсолютно. и не верю... наоборот даже, не верю, что эта стажировка грязная на пятачке здесь — это есть жизнь? Это все? Да как же так? Так не может быть просто. Это как бы репетиция. Это жизнью всей быть не может. Черновик. Другой вопрос, что лучше бы черновики тоже писать почище. Без клякс...
...Двадцать лет уже прошло, со дня смерти Володи Высоцкого. А было как вчера. Само сообщение о смерти Володи, оно не оглушило меня, потому что я... не поверил. Много ходило слухов, ...что Володя повесился, порезал вены, в общем — умер... все ерунда, даже на эту тему ходили шутки, что когда про артиста говорят, что он умер, это вроде к добру — долго будет жить. Поэтому и в этот раз как-то отнесся спокойно. Только когда увидел его в гробу... Мы друзьями не были и как бы близкими людьми не были, но... меня, в общем, оглоушило, как всех, видимо это тот случай, когда человека начинаешь ощущать по-настоящему только в виду его отсутствия. Похороны проявили, что такое был Володя для страны. Похороны. Для всех, не побоюсь сказать, думаю, даже для жены Марины и для родителей. Было понятно — талантливый, знаменитый, но как бы истинных масштабов никто не понимал. Только смерть это проявила. Передача — «чтобы помнили» — простой толчок. Как-то вот началось перестроечное время, и хором загалдели молодые люди, не знающие своей истории, что было в прошлом, имеется в виду в советском, — это все плохо. И как бы это не дало мне покоя. Ну, как это все? А Платонов, а Булгаков? А Пастернак? Дай Бог, в сегодняшнее, в несоветское время того, хотя бы одного, хотя бы вполовину этих масштабов талант — нет. Как можно говорить — это была, в общем, ужасная жизнь, а эта вроде — хорошая. Жизнь — такая мощная вещь, что ее нельзя делить на режимы. Как сказал Кушнер, «времена не выбирают, в них живут и умирают...». И тогда было солнышко и красивые женщины, была любовь... Люди жили, страдали, умирали. Я понимал, я не обольщался ни секунды, что получасовая передача может заставить не забыть этих людей. Нет, ерунда. Но хоть что-то, хоть для семьи, для близких, для родных... родные же пишут письма: спасибо Вам, что вот страна, наконец, вспомнила. Люди наивные... думают, что страна вспомнила. Они же не могут предположить, что это пятеро сумасшедших, которые делают передачу. Надо сказать, что я давно уж не работаю в полной мере над «Чтобы помнили». Работают уже другие люди. У меня группа. Я долгое время работал с редактором Людмилой Гордиенко. Замечательно работал. Фактически со времени моей болезни она все взяла на себя. Хлопоты творческие и административные, все. И сейчас работает новый редактор Елена Тимошина, тоже замечательно работает. Оператор, осветители, звукооператоры — такие толковые, очень сердечные, совестливые люди. Так что передача уже не на мне. Я как бы родоначальник, но продолжают уже другие. Да и вообще такую задачу ставить — это не в силах одного человека в принципе, не в силах одной человеческой жизни — нельзя эту тему объять. Об ушедших. Ибо они уходят каждый день: и сегодня, и будут уходить завтра. Так будет еще долго, так будет всегда. Эта передача, к несчастью, вечна...
...Профессия актера греховна, потому что... нельзя имитировать мысли и чувства — греховно, ибо человек вольно или невольно... чем лучше он их изображает, тем он как бы оскверняется больше себя. Ну а хорошая мысль, а благородная, а сыграть Христа? Это как? В смысле греха? А как быть с такой постановкой вопроса, что театр начался с религиозных мистерий. Так что это вопрос, мне кажется, непростой. Тем более церковь на сегодняшний день относится крайне умеренно к людям моей профессии. Уже умеренно...
...Щукинское училище и то, чему нас учили с набором наших грамот, типа характерный, профнавыки и так далее — это как раз больше школа представления, больше, но не значит, что исключающе — по Станиславскому, как бы школа переживания. Наоборот, это как бы некий синтез... но другой вопрос, что мы были больше ориентированы на некую яркость... на сцене, такую — очевидность, такую — безусловность. От нас требовали этого — внятности...
...Съемки моего фильма были в Париже. В разные годы для меня Париж был... разный. Первый приезд был такой... Все знаешь по книжкам. Лувр!, Ах, Лувр... помимо того, что музей — это еще дворец королей. Резиденция их. ...Смотровая площадка Эйфелевая башня. Палас де Шайо — это там, где был театр ТНП, где играл Жерар Филипп. Куда ни кинь, где ни встань, обязательно с чем-то связано. Ярче был для меня второй приезд. Париж ведь небольшой город, если пригороды все исключить, так вообще ерунда, а не город, по территории. Его легко исходить пешком. И когда я уже с улицы Виктора Гюго, где был мой отель, бежал на площадь звезды искать Шанз Элизе. Это было в сумерках уже — не могу найти и все. Бегал, бегал и думал, а где же эта сверкающая улица — все серенько, и главное — языка не знаю. Кидаюсь я к какому-то господину: не знаю на каком языке — месье, у... э... Шанз Элизе. Он понял как бы чего мне надо — и только он руку протянул — зажглись огни — Елисейские поля. Удивительно красивый город.
...Это ведь меняются взгляды на жизнь у того, у кого они в соответствии с чем-то, а у меня никогда, не было такого. Всегда я был воспитан на чем воспитан. Я с флагами не ходил, в партии не состоял. Какая мне разница? Ну, сменили флаги и все. Говорят другое. А я и того никогда не говорил. Того, как бы прежнего. Так же как на меня должно повлиять.
Началось новое столетие! Каким оно будет наше будущее?... Связь времен существует не только в истории, но и в сегодняшнем дне — прошлое и будущее всегда с нами рядом. Поколение шестидесятников... Оно живет в широком диапазоне времени: от наивного «Синего троллейбуса» 60-х — юности поколения — до тяжелого рока современной молодежи. Сегодня в обществе наступила «оттепель», но почему-то нет пока того подъема в искусстве, который дали золотые 60-е годы. Лавинообразный процесс деградации, падения нравов, вкусов достиг своей кризисной точки, потому что мы выпали из времени, потеряли связь с прошлым, не думаем о будущем... найти свое время, как это сделали шестидесятники, — для этого нужно задать себе вопрос: « В чем смысл жизни? Зачем мы живем?» В последнее время кинематограф мало задумывается над этими вопросами. Долгие годы застоя научили жить в покое, граничащим с небытием, и сейчас трудно поднять планку для прыжка, так как она давно лежит на земле. С покоем пришла нетребовательность. Нам проще описать кризис, смаковать до шока наше падение, чем задумываться о смысле жизни. «Мы можем стать бездуховными, мы почти ими и являемся, — говорил А. Тарковский — но художник, рассказывающий о духовном кризисе, сам должен быть духовным... художник должен быть голосом народа и выражает его внутреннее духовное состояние при помощи языка, которым владеет, передает чувства, мысли, надежды безгласного в эстетическом смысле народа. Иначе я не могу объяснить тот феномен, что нынешнее духовное состояние общества очень сильно влияет на художника. Исходя из всего этого, думаю, что есть только один путь — хорош ли, плох ли он, но альтернативы нет: художник должен служить своему таланту и пытаться объяснить самому себе, для чего он живет. И определять какие то духовные и нравственные, жизненно важные идеалы, которые помогут ему и его народу развиться».
Творческие возможности Леонида Филатова были мало реализованы. Это точка зрения почти всех, кто работал с ним, и в этом есть своя драма. Пора зрелости... Многие роли, о которых он мечтал, уже не состоятся... Быстро промелькнул перед нами отрезок человеческой жизни: «Успех», «Избранные», «Грачи». «Сукины дети»... Это не просто название фильмов, это время жизни: поиск, труд, душа, талант... Как сложится дальнейшая судьба? Подводить итоги рано, говорить о главной теме творчества — это свести все многообразие его жизни и таланта, к сухой формуле, все равно, что ответить на вопрос: зачем ты живешь? Ведь ответить на этот вопрос можно только всей своей жизнью, постоянно находясь в процессе, поиске. Уйдет вопрос — исчезнет смысл творчества. Какая работа будет у Лени следующей? Это могут быть стихи, сценарии, новые пьесы.
«— Ваше жизненное кредо?
— Я живу быстро. Мучительно переживаю, когда впустую тратятся минуты, годы, жизнь. Ненавижу глупость. От нее все пороки. Малодушие безнравственно. Хочется многое успеть в жизни, в творчестве. Только бы хватило времени».
ГОРОД ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
«Мосфильм», 1970 г.
Автор сценария — С. Нагорный.
Постановщик — М. Захариас.
Главный оператор — П. Лебешев.
В фильме снимались: Е. Алекина, Б. Галкин, М. Ван-дова, О. Остроумова, С. Садальский, Л. Филатов, А. Ха-лецкий и др.
ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДОРОВ...
«Мосфильм», 1978 г.
Авторы сценария — Е. Григорьев, О. Никич.
Режиссер-постановщик — К. Худяков.
Оператор-постановщик — В. Боганов.
В ролях: М. Глузский, Л. Филатов (Петров), А. Гали-бин и др.
ЭКИПАЖ
«Мосфильм», 1979 г.
Авторы сценария — Ю. Дунский, В. Фрид, А. Митта (при участии Б. Уриновского)
Постановка А. Митты
Оператор-постановщик — В. Шувалов
В ролях: Л. Филатов (Скворцов), Г. Жженов, А. Яков-лева, А. Васильев и др.
КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?
«Мосфильм», 1980 г.
Автор сценария — П. Чухрай.
Режиссер-постановщик — К. Худяков.
Оператор-постановщик — В. Шувалов.
В ролях: В. Соломин, В. Бочкарев, Л. Филатов (Федор), П. Данилова, А. Филиппенко и др.
ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ
Студия им. Довженко, 1981 г.
Сценарий и постановка К. Ершова.
Оператор-постановщик — Н. Кульчицкий.
В ролях: Л. Филатов (Борис), И. Мельник, О. Матешко, Е. Стерлик и др.
ГОЛОС
«Ленфильм», 1982 г.
Автор сценария — Н. Рязанцева.
Режиссер-постановщик — И. Авербах.
Оператор-постановщик — И. Долинин.
В ролях; Н. Сайко, Л. Филатов (Режиссер), Г. Кала-тозишвили, Е. Пикишихина.
ГРАЧИ
Студия им. Довженко, 1982 г.
Сценарий Р Фаталиева (при участии К. Ершова)
Постановка К. Ершова.
Оператор-постановщик — А. Янковский.
В ролях: А. Петренко, Л. Филатов (Виктор Грач), Гаврилюк, В Шаповалов Ю. Гребенщиков, И. Бу-нина и др.
ИЗБРАННЫЕ
«Мосфильм», павильон ЛТДА», «Продуксьонес Касабланка ЛТДА» (Колумбия), при В/О «Совинфильм» »(СССР) и «Фосине» (Колумбия) 1982 г.,
2 серии.
По мотивам одноименною романа Альфонсо Микельсена
Сценарий С. Соловьева (при участии А. Микельсена)
Постановка С. Соловьева
Главный оператор — П. Лебешев
В ролях: Л. Филатов (Б.К.), Т. Друбич, А. Грисалес и др.
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ
Студия им. Довженко и «Мосфильм», 1982 г.
Авторы сценария П. Загребельный, М. Вепринский, Г. Кохан.
Постановка Г. Кохана
Оператор-постановщик — Ф. Гилевич.
В ролях: Ю. Муравицкий, П. Вельяминов, Л. Смо-родина, Степанков, Л. Филатов (Твердислав) и др.
ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Студия им. Горького, 1983 г.
Авторы сцен — О. и А. Лавровы.
Режиссер-постановщик — С. Пучинян.
Операторы-постановщики — Г. Тутунов, А. Коваль-чук.
В ролях: К. Лавров, Л. Филатов (Степан Слепнев), Е.Проклова и др.
УСПЕХ
«Мосфильм», 1984 г.
Автор сценария — А. Гребнев.
Режиссер-постановщик — К. Худяков.
Оператор-постановщик — В. Пиганов.
В ролях: Л. Филатов (Фетисов), Л. Фрейндлих, А.Збруев, Л. Дуров, Л. Удовиченко и др.
СОУЧАСТНИКИ
Студия им. Горького, 1984 г.
Авторы сценария — Туманян, А. Шпеер.
Режиссер-постановщик И. Туманян.
Оператор-постановщик—В. Гинзбург.
В ролях: Л. Филатов (Хлебников), Сергей Колтаков, Наталья Вилькина и др.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
«Мосфильм», 1984 г.
Сценарий Н. Леонова (при участии И. Гостева)
Режиссер-постановщик — И. Гостев.
Оператор-постановщик—А. Иванов.
В ролях: Л. Филатов (Хайнц Ренке), А. Арен, П. Бут-кевич, Б. Баташов, Л. Ярмольник и др.
ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ
«Мосфильм», 1987 г.
Авторы сценария — Э. Брагинский, Э. Рязанов.
Режиссер-постановщик — Э. Рязанов.
Оператор—В. Алисов.
В ролях: Т. Догилева, Л. Филатов (Филимонов), И.Купченко и др.
ЗАГОН
«Мосфильм» (СССР)—«Ганемфильм» (Сирия), при участии В/О «Совинфильм», 1988 г.
Авторы сценария: В. Днепров, И. Беляев, И. Гостев (при участии Римоан Бутроса).
Режиссер — И. Гостев.
Оператор — А. Иванов (при участии Римоана Бутро-са, Самира Джабара).
В ролях: Г. Шаполовска, Л. Филатов (Крафт), Ассад Фудда, Талхан Хамда и др.
ГОРОД ЗЕРО
«Мосфильм», 1988 г.
Авторы сценария—А. Бородянский, К. Шахназаров
Режиссер—К. Шахназаров
Оператор—Н. Немоляев
В ролях: Л. Филатов (Варакин), О. Басилашвили, В.Меньшов, А. Джигарханян и др.
СУКИНЫ ДЕТИ
«Мосфильм» и «Фора-фильм», 1991 г.
Автор сценария — Л. Филатов (при участии И. Шевцова).
Режиссер-постановщик — Л. Филатов.
Оператор-постановщик — П. Лебешев.
В ролях: В. Ильин, Л. Удовиченко, А. Абдулов, Л.Филатов, Н. Шацкая, Е. Евстигнеев и др.
Евгений Евтушенко
Мне говорил портовый грузчик Джо,
Подпольный лидер левого движенья:
«Я плохо понимайт по-русски, Женья,
Но знаю, что Таганка—хорошо!»
Потягивая свой аперитив,
Мне говорил знакомый мафиозо:
«Таганка, Женя, это грандиозно!
Мадонна, мне бы этот коллектив!..»
Душою ощущая ход времен,
Забитая испанская крестьянка
Сказала мне по-русски: «О, Таганка!
Проклятый Франко, если бы не он...»
Звезда стриптиза, рыжая Эдит,
Сказала, деловито сняв рейтузы:
«Ты знаешь, Женя, наши профсоюзы
Считают, что Таганка победит!..»
О том же, сохраняя должный пыл,
Мне говорили косвенно и прямо—
Рабиндранат Тагор и далай-лама,
И шахиншах... фамилию забыл...
Поскольку это шло от естества,
И делалось, отнюдь не для блезира,—
Спасибо вам, простые люди мира,
За ваши безыскусные слова!
Меня пытал главарь одной из хунт,
Он бил меня под дых и улыбался:
«Ну что, таганский выкормыш, попался?
А ну положь блокнот и стань во фрунт!..»
Таганка, ты подумай, каково
Мне в сорок лет играть со смертью в прятки!.
Но я смолчал. Я сдюжил. Все в порядке.
Они про вас не знают НИ-ЧЕ-ГО!
Роберт Рождественский
Может, это прозвучит
Резко,
Может, это прозвучит
Дерзко,
Но в театр я хожу
Редко,
А Таганку не люблю
С детства.
Вспоминается такой
Казус,
Вспоминается такой
Случай:
Подхожу я как-то раз
К кассе,
Эдак скромно, как простой
Слуцкий.
Говорю, преодолев
Робость,—
А народищу кругом—
Пропасть! —
Мол, поскольку это я,
Роберт,
То нельзя ли получить
Пропуск?..
А кассир у них точь-в-точь
Робот,
Смотрит так, что прямо дрожь
Сводит:
«Ну и что с того, что ты —
Роберт?
Тут до черта вас таких
Ходит!»
Вот же, думаю себе,
Дурни!—
А в толпе уже глухой
Ропот! —
Да сейчас любой олень
В тундре
Объяснит вам, кто такой
Роберт!
В мире нет еще такой
Стройки,
В мире нет еще такой
Плавки,
Чтоб я ей не посвятил
Строчки,
Чтоб я ей не уделил
Главки!
Можно Лермонтова знать
Плохо,
Можно Фета пролистать
Вкратце,
Можно вовсе не читать
Блока,
Но... всему же есть предел,
Братцы!
...Но меня, чтоб я не стал
Драться,
Проводили до дверей
Группой...
Я Таганку не люблю,
Братцы.
Нехороший там народ,
Грубый.
Белла Ахмадулина
О, вряд ли кто-нибудь предполагал,
Что я, бродя в окрестностях Таганки,
Однажды с праздным видом чужестранки
Рискну войти в тот сирый балаган!..
Надменно и взыскующе шурша
Программкой предстоящего миракля,
Я села. Все затихло. И обмякла
Моя высокомерная душа...
...Как заново рожденная на свет,
Я шла к дверям. И тут явился некто,
Чей лоб, на редкость чуждый интеллекта,
Являл намек, что он — искусствовед.
Он закричал: «Должно быть, это сон!»
(Когда б мы с ним вот так столкнулись лбами
Не здесь, а раздевалке N-ской бани,
Он, верно, был бы меньше потрясен.)
Он продолжал: «В Москве полным-полно
И даже свыше нужного, пожалуй!
Иных театров. Есть Большой Малый.
Есть МХАТ. Качели. Шашки. Домино».
Я улыбнулась: «Вам не по плечу
Представить жизнь вне покера и дерби,
А мне, мой друг, за собственные деньги
Угодно видеть все, что я хочу...»
Он пригрозил: «От взрослых до детей
Любой поклонник данного театра
Закончит век в приемной психиатра,
Страдая от навязчивых идей!..»
Я рассмеялась: «Уж скорее вы—
Находка для Канатчиковой дачи,
А впрочем, я желаю вам удачи,
Которой вы не стоите, увы!..»
...Я шла домой, бедное чело
Точила мысль, похожая на ранку:
Сойти с ума! Примчаться на Таганку!
Пробиться в зал, где шумно светло!..
Во тьме кулис, ликуя скорбя,
Узреть простых чудес чередованье!
Прийти в восторг! Прийти в негодованье!
Прийти домой! И там прийти в себя.
Расул Гамзатов
У нас в ауле есть такой обычай:
Мужчина—что поделаешь, Восток!—
Приходит дом избранницы с добычей,
Способной вызвать в девушке восторг.
И если горец сватает горянку,
Он знает, свадьбе попросту не быть,
Покамест он билеты на Таганку
Для милой не сумеет раздобыть.
Для этого нужны — коварство кобры,
Злость барса и выносливость коня,
А все это, к моей великой скорби,
Из всех мужчин есть только у меня.
Печально, но под крышами аула
Не родился еще такой орел,
Который бы без помощи Расула
Билеты на Таганку приобрел.
Мне вывернули душу наизнанку,
Когда я раз приехал в Дагестан:
«Расул, достань билеты на Таганку!
Ты можешь все! Пожалуйста, достань!»
И, обращаясь к целому аулу,
Я простонал, согнувшийся в дугу:
«Хотите турпоездку в Гонолулу?
Пожалуйста! А это — не могу».
Сергей Михалков
ТАГАНКА И ФИТИЛЬ
(басня)
Один Фитиль, гуляя спозаранку,
Увидел у метро какую-то Таганку
и говорит: «Сестра,
Куда как ты остра,
Занозиста не в меру!
Слыхал, опять прихлопнули премьеру?
Вот я... Могу воткнуть свечу
Кому хочу.
Однако же молчу!..
«А ты? — Фитиль Таганку поучает,—
Худа, бледна,
Всегда в загоне и всегда одна...»
Таганка слушает и головой качает,
Потом тихонько отвечает:
«Фитиль, Фитиль пошел ты на...»
Мораль сей басни такова:
Таганка не всегда права.
Нельзя, когда стоишь с лауреатом,
Браниться матом.
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ МУЛЬТФИЛЬМОВ «НУ, ПОГОДИ!»
Давид Самойлов
Мне захотелось выпить и поесть.
Я заглянул в кафе. Меня знобило.
Внесли графин. В графине что-то было.
И подумал: «В этом что-то есть!»
Я сел за столик. Рядышком, в углу,
Сидели Волк и Заяц. Их беседа
Была занятной. На правах соседа
Я наблюдал их странную игру.
Вначале Заяц плюнул Волку в суп.
Затем смахнул под стол его цыпленка.
Он сделал это столь умно и тонко,
Что Волк подумал: «Ба, да он не глуп!»
Тщедушный Заяц был ничтожно мал
В сравненье с Волком, истинным гигантом,
Зато превосходил его талантом,
И Волк прекрасно это понимал.
Подумав, Заяц вылил Волку в торт
Остатки недопитого глинтвейна.
Он сделал это столь интеллигентно,
Что Волк подумал: «Эк воспитан, черт!»
Противники заспорили всерьез.
Столкнулись глыбы двух мировоззрений.
Добро и Зло. Посредственность и Гений.
Дантес и Пушкин. Мускус и навоз.
Тут Заяц вдруг нанес врагу прямой
Удар, вложив в него всю силу духа.
Удар пришелся Волку прямо в ухо,
И Волк подумал: «Амба, боже мой!»
Отважный Заяц знал в ударах толк,
Он понимал, что глупо ждать ответа.
Легко представить, что ему на это
Ответил бы духовно нищий Волк.
Меж тем внесли горячую фасоль,
Душистый плов спешил за ней вдогонку.
Я битый час вертел в руках солонку,
И вдруг меня пронзило: «В этом—соль!»
Белла Ахмадулина
Который день—и явно, и во сне—
Меня томит нежданная забота:
Я поняла, что появилось что—то
Неизлечимо заячье во мне.
Среди не тонко чувствующих масс
Меня одну гневила и бесила
И гнусная безнравственность бензина,
И пошлая разнузданность пластмасс.
Комфорт, что прежде мной был так ценим,
Мне опостылел, ибо я открыла:
Неискренность мочалки, подлость мыла
И унитаза явственный цинизм.
Поскольку зов природы мне не чужд
И я питаю ненависть к эрзацам—
Меня влечет—подобно вольным зайцам
Направить бег колен в лесную глушь.
Какой восторг, — попав в дремучий лес,
Свободный от бетона и дюраля,—
Вершить — при виде волка — удиранья
Пленительный и горестный процесс!
Бежать, и быть все время впереди,
И размышлять над суетной судьбою,
И временами слышать за собою:
Ну-о, наивность просьбы!—погоди
— Возможно ль?—удивится кое-кто.
— Ах, полно! — усмехнусь я на расспросы. —
Ужели же глаза мои раскосы
Без всяческого повода на то?
О, эта блажь меня не в первый раз
Тревожит, и, не знай своей беды я,
Я до сих пор винила бы Батыя
За дерзкую раскосость этих глаз!..
От автора:
— Какая чепуха, увы и ах!
Зевнет Читатель, в корень не вникая.
— Да, чепуха, Читатель. Но какая
Премилая! И главное, в стихах.
Андрей Вознесенский
Травят зайца...
Веками травят.
Травят в Африке
и в Австралии.
Во Флориде
и в Арканзасе.
Травят зайца!..
Травят зайца!..
Несет цианистым!..
Кто посмел
Быть инициатором,?..
Проклинаю того мерзавца!
Травят зайца!..
Заяц был юн и неопытен. Он выскочил на поляну, ослепительно белый, как трусики св. Инессы. Гони, Косой!..
Блещет фикса.
Хрустит манишка.
Волк страшен,
как анатомичка,
Кто рискнул бы
с таким связаться?..
Травят зайца!..
Морфинист,
доходяга, циник,
Грудь в наколках
и лапы в цыпках.
Вот он, срам твой,
цивилизация!
Травят зайца!..
Волку было под сорок. Он был безнадежно сер, как макинтош лондонского клерка. Атас, Косой!..
Травят зайца!..
Да как старательно!
Травят в прессе,
в кино, по радио.
В баснях, в пьесах,
в экранизациях —
Травят зайца!..
Травят зайца!..
Смотреть противно!
Травят бомбами
и тротилом.
Безработицей
и инфляцией
Травят зайца!..
Вспоминаю свой фотопортрет на страницах парижского «Фигаро». Самодовольная физиономия в заячьем малахае. Прости, Косой!..
Р.S. Он, усталый, лежал в снегу.
Полуангел. Полурагу.
Юлия Друнина
Прошлой ночью снились мне ученья
Энского стрелкового полка,
Но на середине—вот мученье—
Мне пришлось проснуться от звонка.
Я—девчонка фронтовой закваски,
Мне на крем и пудру наплевать.
Как спала — с гранатою и в каске,—
Так и побежала открывать.
У меня на штатских нюх отменный,
Враз определяю, что к чему.
Вижу, хлопец. Вижу, не военный.
Вижу, Заяц, судя по всему.
Без сапог, без каски, без одежи,
Кровь на лбу совсем еще свежа...
— Сзади—полк?—спросила я без дрожи.
— Сзади — Волк! — ответил он, дрожа.
На себя от страха непохожий,
Заяц был измучен и продрог.
Я ему на коврике в прихожей
Разложила легкий костерок.
Что до Волка—быть ему в уроне,
Слишком он нахален, этот Волк.
Не скажу — в стихах, но в обороне
Я еще покамест знаю толк.
Зря я, что ли, бегала все лето
С просьбами и жалобами, чтоб
Выбить разрешенье Моссовета
Перестроить кухню под окоп?..
Волк, конечно храбр и бесшабашен,
Только как он, глупый, не поймет,
Что в родном окопе мне не страшен
Собранный им за ночь миномет!..
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ СКАЗКИ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО «МУХА-ЦОКОТУХА»
Булат Окуджава
Ах, бывают всякие
в жизни карамболи
Дивные события,
странные дела
На обычной улице,
а не в чистом поле
Муха — представляете? —
денежку нашла!..
Что случилось с Мухою,
резвой хохотушкой?..
Муха — не поверите!—
сделалась иной!
Не вульгарной Мухою,
а пикантной Мушкой
Над прелестным ротиком
Е. Карамзиной.
Ах, как это весело,
ах, как это глупо,
Ах, какое счастье,
ах, какой кошмар!
Возле — представляете? —
Аглицкого Клуба
Заприметил барышню
Доблестный Комар!
Был он смел до одури
и красив до жути,
В звании поручика
и в расцвете сил,
И к тому же в юности
был замечен в смуте:
Графа Аракчеева
лично укусил.
Ах, какой любовию
встреча увенчалась,
Ах, того не выразить
кистью и пером!
Муха — представляете? — тут же обвенчалась
С ихним благородием
оным Комаром!
Праздновали во среду,
накануне пасхи.
Сколько было сказано
спичей и острот!
Целый вечер кушали
рыбу по-гишпански,
Целый вечер спорили,
прав ли Дидерот!..
Ах, какие славные
прежде были пьянки—
Вист и философия,
нега и азарт!..
...Было это в Питере.
В доме на Фонтанке.
В щелке под обоями.
Много лет назад.
Борис Слуцкий
Мухи имеют совесть.
Дико, но это так.
Вот вам простая повесть,
Грубая, как наждак.
У одного главбуха,
Ползая на столе,
Некая дура муха—
Бац—и нашла сто рэ.
Твердая, как зубило,
Строгая, как пила,
Муха так поступила:
Муха их не взяла.
Вот она чешет брюхо,
Вот она ест бульон.
Муха. Простая Муха.
Муха, каких мильён.
Кланяюсь Мухе в пояс
И отдаю в набор
Эту простую повесть,
Честную, как топор.
Юрий Левитанский
Вот начало фильма. Дождь
идет
Муха вдоль по улице идет.
Крупный план. Усталый
профиль Мухи.
Ей за тридцать. Она не
в духе.
В том, как она курит и
острит,
Чувствуется скепсис и гастрит.
Дальше в фильме вот что
происходит:
Муха в луже денежку
находит.
Магазин. Изделья из фаянса.
Еле слышный запах
декаданса.
За прилавком—грустный
продавец.
Неврастеник. Умница. Вдовец.
В том, как он берет у вас
червонец,
Чувствуется Чехов и
Чюрленис.
Посмотрев предложенный
товар,
Муха выбирает самовар.
Продолженье фильма в том
же духе.
Муха дома. Мы в гостях у
Мухи.
Том Хемингуэя. Бюст
Вольтера.
Сиротливый привкус
адюльтера.
Тонкая французская игра:
Муха в ожиданье Комара.
Он приходит.—Он снимает
плащ.
Он провинциален и ледащ.
В том, как он стыдится
сантиментов,
Чувствуется бремя алиментов.
Тихо. Он молчит. Она молчит.
Самовар тем более молчит.
Он вздыхает. Муха понимает.
И из шкафа чашки вынимает.
Пьют без разговоров. Молча
пьют.
Общий план. Всеобщий неуют.
За окном, в мерцанье сонных
луж,
Чувствуется острый Клод
Лелюш.