Книга: Срединная Англия
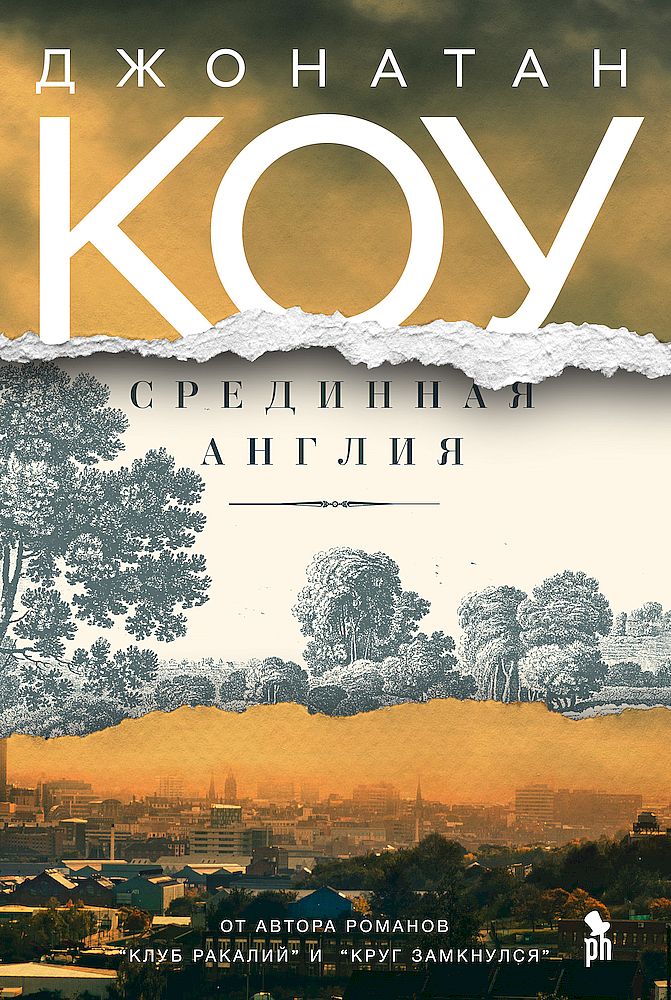
Срединная Англия
Jonathan Coe
Middle England
Copyright © 2018 by Jonathan Coe
All rights reserved
Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.
Книга издана с любезного согласия автора и при содействии литературного агентства PEAKE ASSOCIATES
Перевод этой книги выполнен с учетом переводческих решений, принятых в изданиях романов Джонатана Коу «Клуб Ракалий» (М.: Фантом Пресс, 2008, пер. Сергея Ильина) и «Круг замкнулся» (М.: Фантом Пресс, 2009, пер. Елены Полецкой).
© Шаши Мартынова, перевод, 2018
© Андрей Бондаренко, оформление, 2018
© «Фантом Пресс», издание, 2019
* * *
Дженин, Матильде и Мэделин
В последние десятилетия века «британское» как самоопределение предполагает нечто новое… Оно теперь вмещает в себя новоприбывших из-за рубежа и людей вроде меня, которым эта вместительность и рыхлость видится притягательной. Возник гражданский национализм, что двигался вперед, мягко петляя, словно древняя река, чья опасная мощь иссякла гораздо выше по течению.
Апрель 2010-го
Похороны завершились. Поминки начали выдыхаться. Бенджамин решил, что пора уходить.
— Пап? — проговорил он. — Поеду-ка я.
— Хорошо, — отозвался Колин. — Я с тобой.
Они направились к двери и ухитрились сбежать безо всяких прощаний. На деревенской улице было безлюдно, тихо на позднем солнце.
— Нельзя вот так уходить, — сказал Бенджамин, обернувшись и с сомнением глянув на паб.
— Почему? Я поговорил со всеми, с кем хотел. Давай, веди к машине.
Бенджамин позволил отцу взять себя за предплечье. Так отец крепче держался на ногах. С невыразимой медлительностью они зашаркали по улице к стоянке при пабе.
— Не хочу домой, — сказал Колин. — Не могу все это без нее. Вези меня к себе.
— Конечно, — проговорил Бенджамин, хотя сердце у него ёкнуло. Грёза, какую он себе обещал, — одиночество, созерцание, стакан холодного сидра за старым кованым столом, бормотание реки, бурлившей своим вечным путем, — исчезла, вихрем умчала в вечернее небо. Да и пусть. Сегодня у него долг перед отцом. — На ночь останешься?
— Да, останусь, — ответил Колин, но «спасибо» не сказал. Последнее время благодарил он редко.
* * *
Машин было много, и к Бенджамину домой они добирались почти полтора часа. Ехали через самую сердцевину Средней Англии, более-менее вдоль реки Северн, мимо городков Бриджнорт, Эвли, Куотт, Мач-Уэнлок и Крессидж, спокойная незапоминающаяся поездка, где знаки препинания — лишь автозаправки, пабы и садоводческие магазины, а коричневые указатели на достопримечательности манят скучающих путников к более удаленным искушениям — к заповедникам дикой природы, домам Национального треста[2] и дендрариям. Въезд в любой населенный пункт отмечался не только табличкой с названием, но и мерцающим напоминанием скорости, с которой Бенджамин ехал, и советом ее сбавить.
— Кошмар какой-то — эти ловушки для лихачей, согласен? — сказал Колин. — Мерзавцам только дай снять с тебя денег, на каждом шагу.
— По-моему, эти штуки все же предотвращают аварии, — сказал Бенджамин.
Отец скептически хмыкнул.
Бенджамин включил приемник, настроенный, как обычно, на «Радио Три». Повезло: медленная часть фортепианного трио Форе[3]. Меланхолический, непритязательный силуэт мелодии не только показался уместным аккомпанементом воспоминаниям о матери, какими полнились сегодня его мысли (и, предположительно, мысли Колина), но и словно бы повторял в звуке мягкие изгибы дороги и даже приглушенную зелень пейзажа, в котором музыка вела их. То, что она была узнаваемо французской, не имело значения: ощущалась общность, единый дух. Бенджамину в такой музыке было совершенно как дома.
— Уверни этот тарарам, а? — сказал Колин. — Новости, что ли, нельзя послушать?
Бенджамин дождался, пока доиграют последние тридцать или сорок секунд той части, после чего переключился на «Радио Четыре». Шла программа «После полудня», и Бенджамин с отцом мгновенно погрузились в привычный мир гладиаторских боев интервьюера и политика. Через неделю всеобщие выборы. Колин будет голосовать за консерваторов, как на всех британских выборах с 1950 года, а Бенджамин, как обычно, не мог определиться — помимо того, что решил не голосовать вообще. Что бы ни услышали они по радио в ближайшие семь дней — разницы никакой. Сегодняшняя главная новость, судя по всему, сводилась к тому, что премьер-министра Гордона Брауна[4], борющегося за переизбрание, поймали на том, что он ляпнул о какой-то потенциальной стороннице как о «скажем так, фанатичке», и пресса выжимала из этого все возможное.
— Премьер-министр показал свой звериный оскал, — злорадно говорил парламентарий-консерватор. — Любой человек, выражающий закономерное беспокойство, — попросту фанатик, по его мнению. Вот почему у нас в этой стране не может быть серьезной дискуссии об иммиграции.
— Но разве господин Кэмерон, ваш собственный лидер, не в той же мере обеспокоен…
Не извиняясь, Бенджамин выключил радио. Некоторое время они ехали молча.
— Политиков она не выносила на дух, — проговорил Колин, выводя подземную нить неких размышлений на поверхность, и не было нужды пояснять, кто эта «она». Говорил он негромко, в голосе лишь сожаление и подавленные чувства. — Считала, что все они одинаковая дрянь. Все на руку нечисты до единого. Мухлюют со своими расходами, не показывают барышей, прячут по полудюжине делишек на стороне…
Бенджамин кивал, а сам вспоминал, что как раз Колин, а не его покойная жена места себе не находил из-за продажности политиков. На такую тему, одну из немногих, этот обычно немногословный человек делался общительным; может, пусть бы и сейчас было так — лишь бы не расстраивался от мыслей болезненнее. Но этому Бенджамин противился. Сегодня они прощались с его матерью, и он не желал осквернять это святое таинство очередной отцовой тирадой.
— Мне всегда нравилось в маме, впрочем, — сказал Бенджамин, чтобы увести разговор в сторону, — что она никогда не говорила об этом озлобленно. В смысле, даже если что-то осуждала, она не сердилась, а, что ли… огорчалась.
— Да, нежная она была душа, — согласился Колин. — Одна из лучших. — Большего не произнес, но через несколько секунд достал из кармана брюк на вид грязный носовой платок и вытер им глаза, медленно, тщательно.
— Непривычно тебе будет, — сказал Бенджамин, — одному. Но, знаю, ты справишься. Уверен в этом.
Колин уставился в пустоту.
— Пятьдесят пять лет мы были вместе…
— Понимаю, пап. Тяжко. Но Лоис будет рядом, часто. И я тоже недалеко. Не очень далеко.
Ехали дальше.
* * *
Бенджамин жил на перестроенной мельнице у реки Северн, на задворках деревни к северо-востоку от Шрусбери. Подъехать к дому можно было по однорядной дороге, затененной деревьями, живые изгороди густо разрослись по обеим сторонам. Бенджамин перебрался в это до нелепого удаленное и уединенное место в начале года, приобретение дома удалось благодаря продаже трехкомнатной квартиры в Белсайз-Парке, остались средства и на то, чтобы поддерживать скромный образ жизни еще несколько лет. Для холостяка дом слишком велик, но когда Бенджамин его покупал, одинок он не был. В доме имелось четыре спальни, две гостиные, столовая, просторная открытая кухня, оборудованная плитой «Ага»[5], и кабинет, где обширные окна со свинцовыми переплетами смотрели на реку. Пока Бенджамин был здесь чрезвычайно счастлив и тем самым развеивал прежние подозрения друзей и родни, что это его решение — ужасная ошибка.
В доме было полно коварных углов и крутых узких лестниц. Совершенно неподходящее место для его восьмидесятидвухлетнего отца. Тем не менее Бенджамин с некоторым трудом сумел вывести его из машины, вверх по лестнице в гостиную, еще выше — пусть и короче, но с хитрым поворотом вправо — на кухню, через заднюю дверь, а затем вниз по металлической лесенке на террасу. Нашел отцу подушку, налил из банки светлого пива и уже собрался усесться и завести какую-нибудь натужную беседу у воды, как услыхал, что к парадной двери подкатил автомобиль.
— Кого черт принес?
Колин, ничего не услышав, глянул на сына растерянно.
Бенджамин вскочил и поспешил в гостиную. Открыл окно, выглянул во дворик и увидел перед дверью в дом Лоис и ее дочку Софи — того и гляди постучат.
— Вы что тут делаете? — спросил он.
— Мы тебе уже час названиваем, — сказала сестра. — Ты зачем свой чертов телефон выключил?
— Я его выключил, потому что не хотел, чтобы он зазвонил посреди похорон, — ответил Бенджамин.
— Мы все за тебя изволновались.
— Ну и зря. Я в порядке.
— Чего ты вот так сбежал?
— Захотелось уже убраться.
— Где отец?
— Здесь, со мной.
— Сказал бы нам, что ли.
— Не подумал.
— Попрощался хоть с кем-то?
— Нет.
— Даже с Дугом?
— Нет.
— Он аж из Лондона приехал.
— Напишу ему СМС.
Лоис вздохнула. Брат иногда бесил ее.
— Ну так что, ты нас впусти и чаю налей, по крайней мере.
— Ладно.
Он провел их через дом на террасу к Колину, а сам остался на кухне заварить чай и налить Софи белого вина. Вынес напитки на подносе, ступая по лестнице осторожно, и заморгал, когда вечернее солнце ударило в глаза.
— Приятно тут, Бен, — сказала Лоис.
— Небось отлично для твоего писательства, — сказала Софи. — Я бы тут часами сидела, слушала реку и работала.
— Я тебе говорил, — сказал Бенджамин, — можешь приезжать когда вздумается. Доделаешь свою диссертацию — оглянуться не успеешь.
Софи улыбнулась.
— Уже. Закончила на прошлой неделе.
— Ух ты. Поздравляю.
— Она так и не поняла, что ты в этом месте нашел, — проговорил Колин. — И я не понимаю до сих пор. Дыра.
Бенджамин впитал это замечание и не счел его достойным ответа — даже если бы ему удалось такой ответ измыслить.
— Ну что ж, — сказал он и наконец уселся с усталым тихим вздохом удовлетворения. Только собрался отхлебнуть чаю, как услышал, что к дому опять подъехала машина. — Да что ж за черт…
Он вновь глянул в окно гостиной вниз, на двор, и на сей раз увидел там машину Дуга; сам же Дуг доставал ноутбук в чехле с заднего сиденья, выставив зад в открытую дверцу. Затем выпрямился, и Бенджамин обнаружил, что из такого положения открывается вид на то, чего он прежде не замечал, — Дугову плешь. У Дуга на макушке ширилась откровенная лысина. От этого у Бенджамина случился приступ злорадного, сопернического удовлетворения. Тут Дуг увидел его и закричал:
— Почему у тебя мобильник выключен?
Не ответив, Бенджамин спустился открыть входную дверь.
— Привет, — сказал он. — Лоис и Софи только что приехали.
— Ты чего уехал, не попрощавшись?
— Как в завязке «Хоббита». Нежданные гости[6].
Дуг легонько отпихнул его.
— Ладно, Бильбо, — сказал он. — Ты меня впустить собираешься?
Взбежал по лестнице, бросив Бенджамина изумляться, и двинулся прямиком в кухню. В этом доме Дуг был всего раз, но, казалось, запомнил, что тут где. Когда Бенджамин его нагнал, Дуг уже достал из чехла ноутбук, устроился за кухонным столом и жал на клавиши.
— Какой у тебя пароль от вай-фая? — спросил он.
— Не знаю. Надо глянуть на роутере.
— Давай тогда побыстрее, а? — Бенджамин удалился в гостиную с этой задачей, Дуг крикнул ему в спину: — Тост удался, кстати.
— Спасибо.
— Ну, не тост, а надгробная речь — или как оно там называется. Много у кого на глаза слезы навернулись, да.
— Ну, в этом и был смысл, наверное.
— Даже Пола, кажется, тронуло.
Бенджамин переписывал пароль, но при упоминании имени брата замер. Через мгновение медленно вернулся в кухню и положил клочок бумаги рядом с ноутбуком Дуга.
— Хватило же ему наглости заявиться сегодня.
— Похороны его матери, Бен. У него есть право присутствовать.
Бенджамин промолчал, взял полотенце и принялся протирать чашки.
— Ты с ним поговорил? — спросил Дуг.
— Я не разговариваю с ним уже шесть лет. С чего сейчас начинать?
— Ну, он все равно уже улетел. Обратно в Токио. Рейс из Хитроу в…
Бенджамин развернулся кругом. Лицо у него порозовело.
— Дуг, мне насрать. Не хочу о нем слышать, ладно?
— Хорошо. Как скажешь. — Пристыженный Дуг вернулся к клавиатуре.
— Кстати, спасибо, что сегодня приехал, — проговорил Бенджамин в попытке примирения. — Я ценю, правда. Отца это очень тронуло.
— Паршивый ты день для этого выбрал, — пробурчал Дуг, не отрывая взгляда от экрана. — Месяц я таскался за Гордоном и его разъездной кампанией. Что произошло в это время? Бля, да всё. Сегодня пошел черт по бочкам, а меня там даже близко нет. Застрял в крематории где-то в Реддиче… — Пальцы цокали, он, казалось, не сознавал резкости собственных слов. — А теперь подавай им тысячу слов к семи вечера, а известно мне лишь то, что я слышал в машине по радио.
Бенджамин бестолково поболтался миг-другой за плечом у Дуга, а затем сказал:
— Ладно, ты тут занимайся.
Ответа не последовало, и Бенджамин направился прочь, но не успел дойти до террасы, как Дуг сказал, не отвлекаясь от своего дела:
— Ничего, если я на ночь останусь?
Оторопев от вопроса, Бенджамин помедлил, а затем кивнул.
— Само собой.
* * *
Никто из гостей, сидевших на террасе в тот вечер, и не узнал бы, поскольку Бенджамин нипочем бы не поделился с ними правдой, но он приобрел этот дом, чтобы воплотить некую фантазию. Много лет назад, в мае 1979-го, в канун, как и сейчас, судьбоносных всеобщих выборов в Британии, Бенджамин сидел в пабе под названием «Виноградная лоза» на Пэрэдайз-плейс в Бирмингеме и грезил о будущем. Воображал, что Сисили Бойд, девушка, в которую он влюблен, останется его возлюбленной и десятилетия спустя, и когда они поженятся и подберутся к своим шестидесяти, а дети покинут отчий дом, они вдвоем поселятся на перестроенной мельнице в Шропшире, где Бенджамин будет сочинять музыку, а Сисили — писать стихи, вечерами же они станут устраивать великолепные обеды для всех друзей. Такие ужины будем закатывать, что люди их на всю жизнь запомнят, говорил он себе. Такие вечера переживут люди в нашем доме, что этими воспоминаниями станут дорожить. Конечно, все сложилось не совсем так. С того дня он не видел Сисили много лет. Но наконец они вновь нашли друг друга и вместе прожили в Лондоне несколько лет, оказавшихся… ну, несчастными, если честно, потому что Сисили очень хворала и жить с ней было мучительно, и тут, в отчаянной попытке осуществить ту грёзу, в болезненном усилии оживить прошлое воплощением былого видения будущего, Бенджамин предложил продать их квартиру, на часть вырученных денег купить этот дом, а на оставшиеся отправить Сисили на полгода в Западную Австралию, где, по слухам, жил врач, разработавший дорогое, но чудодейственное средство от рассеянного склероза. И вот через три месяца, когда дом уже был куплен и Бенджамин начал его обустраивать и ремонтировать, Сисили прислала из Австралии электронное письмо с новостями — хорошей и плохой: хорошая состояла в том, что ее состояние и впрямь улучшилось необычайно, а плохая — что она влюбилась в того врача и в Англию не вернется. Бенджамин же, к своему великому изумлению, налил себе здоровенный стакан виски, выпил, хохотал минут двадцать как псих-самоубийца, после чего продолжил красить защитную рейку вдоль стены и с тех пор о Сисили не очень-то и думал. Вот так и получилось, что он теперь жил в громадном перестроенном здании мельницы в Шропшире сам по себе, в свои пятьдесят, и сознавал, к своему молчаливому изумлению, что никогда прежде не был так счастлив.
Тому, что Лоис и Софи были в тот вечер рядом, Бенджамин порадовался, пусть сестра и бросилась искать его из злости. Он понимал, что отцовы капризы — всего лишь маска для его меланхолии, и в меланхолию отец станет погружаться с каждым часом все глубже. Бенджамин мог полагаться на Лоис и Софи в том, что благодаря им удастся держать равновесие — равновесие между горем от ухода Шейлы (всего через полтора месяца после диагностирования рака печени) и попытками повспоминать из жизни семьи что-нибудь повеселее: истории редких, но незабываемых званых обедов, в 1970-е устраивавшихся с бухты-барахты, с едой, напитками и нарядами, какие сейчас в голове не укладывались; неудачный отпуск в Северном Уэльсе — тоскливое блеяние овец в полях и дождь, барабанивший без передышки по крыше трейлера; более авантюрный отпуск в 1980-е — поездка Колина и Шейлы в Данию, в гости к старым друзьям, вместе с младенцем Софи, обожаемой единственной внучкой. Софи говорила о бабушкиной доброте, о том, как бабушка всегда помнила, что́ ты больше всего любишь из ее стряпни, всегда тобой интересовалась, помнила, как зовут твоих друзей, и задавала правильные вопросы о них, — и такой она была вплоть до самого конца, но тут у Колина опять сделался потерянный и несчастный вид, а потому Бенджамин хлопнул в ладоши и сказал:
— Так, кто хочет пасты? — И отправился в кухню варить пенне (непременно пенне, поскольку ни с чем, что нужно накручивать на вилку, отец не справлялся), подогрел самодельную аррабьяту (времени упражняться в готовке ему в те дни хватало), а когда вынес еду на террасу — вечер как раз сделался прохладнее, и солнце начало садиться, — попытался уговорить отца на приличную порцию, больше полплошки хотя бы, но выгреб чуть-чуть, поскольку Колин сказал, что ему много, однако подсыпал обратно, когда показалось, что слишком мало, а затем спросил: — Теперь годится? — И попробовал поднять настроение, добавив: — Ни пенне больше, ни пенне меньше. — Шутку эту он счел особенно подходящей, раз один из любимых отцовых писателей — Джеффри Арчер[7], но Колин, кажется, не уловил юмора, и тут Дуг добавил, что единственное число от «пенне» будет как-то по-другому, а? — «пенна» или что-то в этом роде, — и все, в общем, насмарку, ужинали в итоге молча, слушали реку, как та скользит мимо, свист ветра в деревьях и причмокивание Колина, управлявшегося с пастой.
— Я его уложу, — прошептала Лоис около девяти, после того как отец принял два виски и уже клевал носом в кресле. Ей на это потребовалось полчаса, Дуг же тем временем вернулся в кухню отсмотреть, какие правки внес в статью его редактор, а Бенджамин потолковал с Софи о ее диссертации, посвященной живописному изображению европейских писателей с чернокожими предками в XIX веке, — в этой теме Бенджамин разбирался так себе.
Когда вернулась Лоис, вид у нее был мрачный.
— Он совсем расклеился, — проговорила она. — Легко с ним теперь не будет.
— А чего ты от него сегодня ожидала? — спросил Бенджамин. — Чтобы он колесом ходил?
— Да понятно все. Но они прожили вместе пятьдесят пять лет, Бен. Он сам для себя все это время ничего не делал. За полвека ни разу еду себе не приготовил.
Бенджамин понимал, что́ у нее на уме. Что он как мужчина уж наверняка найдет способ увернуться от задачи ухаживать за их отцом.
— Я буду его навещать, — с нажимом произнес он, — дважды в неделю, а то и чаще, может. Буду ему готовить. Возить его по магазинам.
— Обнадеживает. Спасибо. Я тоже постараюсь, как сумею.
— Ну вот видишь. Как-нибудь справимся. Конечно… — продолжая эту фразу, он отдавал себе отчет, что ступает по тонкому льду, — легче было б, если бы ты оставалась в Бирмингеме подольше.
Лоис промолчала.
— С мужем, — добавил он для полной ясности.
Лоис раздраженно отхлебнула холодного кофе.
— Работа у меня в Йорке, ты помнишь, да?
— Конечно. Значит, ты могла бы приезжать каждые выходные. А не… сколько там, раз в трое-четверо выходных?
— Мы с Крисом жили так много лет, и нас это очень устраивает. Правда, Соф?
Ее дочь, вместо того чтобы встать на материну сторону, произнесла лишь:
— По-моему, это странно.
— Мило. Вот спасибо. Не всем парам нравится жить друг у дружки за пазухой. Я что-то не замечала, как ты со своим нынешним парнем рвешься съехаться.
— Потому что мы расстались.
— Что? Когда?
— Три дня назад. — Софи встала. — Давай, мам, нам уже пора домой. Тебе, может, и не хочется, а я бы поболтала с папой перед сном. По дороге все тебе расскажу.
Бенджамин вышел вместе с ними во двор, поцеловал сестру и надолго обнял племянницу.
— Отличные новости про диссертацию, — сказал он. — А вот про парня не очень.
— Переживу, — отозвалась Софи с вялой улыбкой.
— Давай ключи, — сказала Лоис. — Ты три стакана вина выпила.
— Нет, не пила я, — возразила Софи, но ключи тем не менее вернула.
— Ты все равно слишком быстро водишь, — заметила Лоис. — На пути сюда это нам видеокамера скорости мигала, совершенно точно.
— Да вряд ли, мам, просто блик на чьем-то ветровом.
— Как бы то ни было. — Лоис повернулась к брату. — Думаю, мама бы нами гордилась. Прекрасная получилась речь. Красиво у тебя со словами выходит.
— Мне положено. Я их достаточно понаписал.
Она еще раз его поцеловала.
— Ну, я считаю, ты лучший непубликуемый писатель в стране. Несравненный.
Еще одно объятие, они хлопнули дверцами, и, пока автомобиль осторожно сдавал задом вдоль подъездной аллеи, Бенджамин махал свету фар.
* * *
Было все еще довольно тепло, в самый раз, чтобы окно в гостиной оставить открытым. Бенджамину очень нравилось, когда погода позволяла, сидеть в одиночестве, иногда впотьмах, слушать звуки ночи, клич ушастой совы, вой хищной лисы, а над всем этим бормотание — вневременное, неумолчное — реки Северн (тут она была еще новичком в Англии, перебравшись через границу с Уэльсом всего в нескольких милях выше по течению). Сегодня, впрочем, все было иначе: компанию Бенджамину составлял Дуг, хотя ни тот ни другой завязывать беседу не торопились. Дружили они почти сорок лет и мало чего не знали друг о друге. Бенджамину, по крайней мере, хватало просто сидеть по разные стороны от камина со стаканами «Лафройга», и пусть бы чувства, взбаламученные днем, постепенно оседали и утихали в молчании.
И все же в конце концов именно он нарушил тишину.
— Доволен статьей? — спросил он.
Ответ Дуга оказался неожиданно небрежным.
— Да сойдет, мне кажется, — проговорил он. — Я последнее время чувствую себя жуликом, по чести сказать. — У Бенджамина сделался удивленный вид, и Дуг тогда выпрямился и взялся объяснять: — Я искренне считаю, что мы на перепутье, понимаешь? Лейбористам конец. Прям так я и думаю. Люди сейчас ужас как обозлены, и никто не понимает, что с этим делать. В последние несколько дней я это слышал в предвыборной гонке у Гордона. Люди видят этих ребят из Сити, которые практически раздавили экономику два года назад, без всяких последствий, никто из них не загремел в тюрьму, а теперь опять стригут купоны, нам же, всем остальным, полагается затягивать пояса. Зарплаты заморожены. У людей нет гарантий занятости, нет пенсионных планов, им не по карману съездить в отпуск всей семьей или автомобиль починить. Несколько лет назад они себя считали зажиточными. А теперь — бедняками.
Дуг все больше оживлялся. Бенджамин знал, до чего Дугу нравится вот так разговаривать, он даже теперь, двадцать пять лет проработав журналистом, ни от чего так не заводился, как от болтовни о британской политике. Бенджамин не понимал этого воодушевления, но знал, как ему подыграть.
— А я думал, что все ненавидят как раз тори, — прилежно проговорил он, — из-за того скандала с растратами. С требованиями ипотеки на второй дом и всяким подобным…
— Народ обе партии в этом винит. И это хуже всего. Все стали такими циниками. «Да все они хороши…» Вот потому-то оно все время было на грани — до сегодняшнего дня.
— Думаешь, что-то изменится? Просто ошибка. Застали врасплох.
— Нынче многого и не надо. Вот такое все взрывоопасное.
— Значит, самое время для таких, как ты. Столько всего, о чем можно писать.
— Да, но я… оторван от всего этого, понимаешь? От озлобленности этой, от тягот. Не чувствую я их. Я всего лишь зритель. Сижу в этом чертовом… коконе. Живу в доме в Челси, он стоит миллионы. Семья моей жены владеет половиной ближних графств[8]. Я понятия не имею, о чем толкую. И это видно по тому, что я пишу. Еще б не видно было.
— Как у вас с Франческой дела, кстати? — спросил Бенджамин; он когда-то завидовал Дугу из-за его богатой красивой жены, а теперь уже не завидовал никому и ни в чем.
— Вообще-то довольно паршиво, — сказал Дуг, угрюмо вперяясь в пространство. — Последнее время по разным спальням. Классно, что у нас их так много.
— А что дети про это думают? Заметили?
— Что замечает Рэнулф, сказать трудно. Меня-то — уж точно нет. По уши в «Майнкрафте», некогда с отцом поговорить. А Корри…
Бенджамин не впервые обращал внимание, что Дуг никогда не называет дочь ее полным именем — Кориандр. Дуг это имя (выбор жены) терпеть не мог даже сильнее, чем невезучая двенадцатилетняя носительница имени. И сама она никогда и ни в какую не откликалась ни на что, кроме Корри. Употребление ее полного имени обычно приводило к стеклянному взгляду и молчанию, словно обращались к какому-то незримому постороннему.
— Ну, — продолжил Дуг, — возможно, все еще есть надежда. У меня такое чувство, что она начинает ненавидеть меня, Фран и все, что мы собой олицетворяем, а это было бы прекрасно. Я изо всех сил это поддерживаю. — Подлив себе виски, он добавил: — Пару недель назад я свозил ее на старый Лонгбриджский завод. Рассказал о дедушке и о том, чем он тут занимался. Попробовал объяснить, что такое «цеховой староста». Сурово это, доложу я тебе, — пытаться втолковать девочке из частной школы в Челси политику профсоюзов 1970-х. И боже ты мой, почти ничего от старого места не осталось.
— Знаю, — сказал Бенджамин. — Мы с отцом иногда ездим глянуть.
От мысли о том, что много лет назад их отцы были по разные стороны великого водораздела в британской промышленности, оба улыбнулись, каждый погрузился в свои воспоминания, и Дуга они привели к вопросу:
— А ты как? Выглядишь хорошо, должен сказать. Жизнь внутри картины Джона Констебла[9], очевидно, тебе на пользу.
— Ну, это мы еще поглядим. Пока рановато судить.
— Но вся эта история с Сисили… ты действительно справляешься?
— Конечно. Более чем. — Он подался вперед. — Дуг, я на тридцать с лишним лет увяз в романтической одержимости. А теперь ее больше нет. Я свободен. Можешь себе представить, до чего это хорошо?
— Разумеется, однако что ты собираешься с этой свободой делать? Не сидеть же тебе тут весь день за готовкой соуса к пасте и сочинением стихов про коров?
— Не знаю… За отцом предстоит усиленно приглядывать. Видимо, на мою долю придется немало.
— Тебе скоро наскучит кататься в Реднэл и обратно.
— Что ж… может, он сюда переберется.
— Ты бы действительно этого хотел? — спросил Дуг, а когда Бенджамин не ответил, обратил внимание, что стакан у друга вновь опустел, с трудом встал и сказал: — По-моему, пора укладываться. Завтра старт спозаранку, к девяти надо быть в Лондоне.
— Ладно, Дуг. Знаешь, куда идти, да? Думаю, я еще посижу. Пусть оно как-то… уляжется, понимаешь.
— Понимаю. Тяжко это, когда кто-то из родителей помирает. Потом даже хуже делается, чем сейчас. — Положил Бенджамину руку на плечо и прочувствованно выговорил: — Спокойной ночи, дружище. Ты сегодня был молодцом.
— Спасибо, — сказал Бенджамин. Ненадолго сжал Дугу руку, хотя добавить вот это «дружище» у него не получилось. Никогда не получалось.
Оставшись в гостиной в одиночестве, он налил себе еще выпить и перебрался на широкий деревянный подоконник в эркере. Открыл окно пошире, дал прохладному воздуху обнять себя. Колесо мельницы уже много десятилетий не работало, и река, непобеспокоенная, неукрощенная, текла мимо ровно, без бурления и суеты, в постоянной ряби благодушного настроения. Взошла луна, и Бенджамин видел, как мечутся на фоне лучистого серого неба летучие мыши. Размышления, которые он весь день пытался отогнать — о действительности материной смерти, о муках ее последних недель, — сдерживать больше не получалось.
На ум пришла музыка, и Бенджамин знал, что ее надо послушать. Песня. Он подошел к полке, где в переносную колонку был воткнут его айпод, вынул машинку и принялся перелистывать список исполнителей. Кажется, последними он слушал «Экс-ти-си». Прокрутил Уилсона Пикетта, Вона Уильямса, «Ван-дер-Грааф Дженерейтор», Стравинского, Стива Суоллоу, «Стили Дэн», «Стэкридж» и «Софт Машин»[10] и наконец нашел то, что искал, — Шёрли Коллинз, фолк-певицу из Сассекса, чьи записи Бенджамин начал собирать еще в 1980-е. Ему нравилась вся ее музыка, но была одна песня, которая в последние несколько недель приобрела для него особое значение. Бенджамин выбрал ее, нажал на «плей» и, добравшись до эркера, сев и уставившись на залитую луной реку, услышал, как сильный, суровый голос Коллинз, без аккомпанемента, напитанный отзвуками, струится из колонок и наполняет комнату едва ли не самой жуткой и печальной английской народной песней из всех когда-либо сочиненных.
Старой Англии след уж простыл,
Сотни фунтов, прощайте навек,
Если б кончился мир, пока молод я был,
Своих горестей я бы избег.
Бенджамин закрыл глаза и отхлебнул из стакана. Ну и денек выдался — на воспоминания, воссоединения, трудные разговоры. На похороны приехала его бывшая жена Эмили с двумя маленькими детьми и мужем Эндрю. Из Японии примчался брат Пол, с которым Бенджамин прервал дипломатические отношения — даже взглядами встретиться с ним не смог себя заставить, ни во время траурной речи, ни потом на поминках. Явились дяди и тети, забытые друзья и дальние родственники. Был и Филип Чейз, самый преданный друг по школе «Кинг-Уильямс», — и неожиданный Дуг, и даже электронная открытка от Сисили из Австралии прилетела, а это гораздо больше того, что от нее ожидал Бенджамин. Но самое главное, приехала и стояла с ним рядом Лоис, — Лоис, чья приверженность брату была безгранична, чьи глаза тускнели от печали всякий раз, когда ей казалось, что на нее никто не смотрит, Лоис, чей двадцативосьмилетний брак оставался для Бенджамина загадкой, чей муж, опекавший ее весь день, удостаивался хорошо если случайного взгляда…
Было время, бренди и ром
Я пивал, каких мало кто пьет,
Нынче рад родниковой воде,
Что из города в город течет.
Мелодия вела Бенджамина назад, назад в последние две недели жизни его матери, когда она уже не могла говорить, когда сидела, обложенная подушками, в старой спальне, а он оставался с ней часы напролет, поначалу разговаривая, пытаясь поддержать монолог, но постепенно осознал, что эта задача ему не по силам, а потому решил собрать музыкальный плейлист и ставил его на воспроизведение в случайном порядке, и за все время, что осталось им вместе, — весь остаток ее жизни — Бенджамин разговаривал с ней лишь иногда, а в основном сидел на краю кровати, держал ее за руку, и они слушали Равеля и Вона Уильямса, Финзи[11] и Баха, самую успокаивающую музыку, какая только шла ему на ум, он так хотел, чтобы все завершилось для нее нотой красоты, в плейлисте было более пятисот композиций, и вот эта не всплывала долго, едва ли не до последнего дня…
Бывало, я ел добрый хлеб,
Добрый хлеб из доброй муки,
Нынче черствой да затхлой корке я рад,
Рад, что есть хоть такие куски.
Лоис с отцом тоже были в доме, но им, в отличие от него, не хватало стойкости, они вплывали и уплывали, им приходилось занимать себя внизу, заваривать чай, готовить обед, а Бенджамина праздность никогда не тяготила, ему вполне годилось просто сидеть, годилось это и матери, им обоим годилось смотреть в окно на небо, которое в тот день — он запомнил — было глубочайшего, тягчайшего серого цвета, небо снижалось, давило, может, типично для того угрюмого апреля, а может, подумалось Бенджамину, все дело в облаке вулканического пепла, что влеклось через Европу из Исландии, попало во все газетные заголовки и устроило кавардак в расписаниях полетов по всему континенту, и как раз когда он созерцал это небо, его сверхъестественную утреннюю тьму, алгоритм айпода случайно выхватил песню Шёрли Коллинз и принялся излагать эту скорбную историю древних невзгод…
Бывало, на доброй постели,
На пуху, доводилось мне спать,
Нынче я рад и чистой соломе,
Не на хладной земле бы лежать.
Сейчас уже обращая внимание на слова, Бенджамин предположил, что песня, должно быть, века из XVIII или из начала XIX, это голос несчастного заключенного, который ждет перевода в другую тюрьму, но ассоциации, какие возникли у Бенджамина сегодня в уме, не имели ничего общего с ветхими стенами узилища или с тюфяками, где возятся крысы; он думал о том, что Дуг наговорил ему об озлобленности, с которой столкнулся в последние несколько недель, пока шла предвыборная кампания Гордона Брауна, об ощущении ползучей несправедливости, возмущения финансовыми и политическими властными кругами, что ободрали народ и вышли сухими из воды, о безмолвной ярости среднего класса, уже успевшего привыкнуть к удобствам и процветанию, а теперь все это ускользало из рук: «Несколько лет назад они себя считали зажиточными. А теперь — бедняками»…
Бывало, катался в коляске,
Прислуга со мною всегда,
Нынче в темнице, в крепкой темнице,
Не знаю, деваться куда.
…И все же удавалось извлечь из этих слов такое значение, подразумевать сказ об утрате — утрате привилегий, какая отзвучивала сквозь столетия, но в действительности все, что было в этой песне прекрасного, все, что проникало сейчас в Бенджамина и брало за сердце, происходило из мелодии, из порядка нот, который казался таким правдивым, царственным и, что ли… неизбежным, — мелодия того сорта, какую, стоит только ее услышать, ощущаешь, будто знал всю жизнь, и в этом, предположил он, должно быть, и состояла причина, что как раз когда песня в то утро подобралась к концу, как раз когда Шёрли Коллинз повторяла первую строфу этим своим таинственно английским голосом с богатым выговором, голосом, что пронизывал слова, как солнечный свет — воды винноцветной реки, как раз когда повторилась первая строфа, произошло нечто причудливое: мать Бенджамина издала звук, первый звук за много дней, все считали, что голосовые связки у нее отключились, но нет, она пыталась что-то сказать — во всяком случае, Бенджамину так чудилось миг-другой, — но затем он осознал, что это не слова, не речь, что голос слишком высокий, тембр слишком разный, хоть и безнадежно не попадавший в ноты записи, тем не менее мама пыталась петь, что-то в мелодии задело какое-то далекое воспоминание, вытягивало из глубин ее умирающего тела наружу — или пробовало вытянуть — некий первобытный, инстинктивный отклик, и когда финальная строфа завершилась, у Бенджамина по спине бегали мурашки — от этого другого голоса, невероятно тонкого, невероятно слабого, наверняка принадлежавшего матери (хотя он не мог вспомнить, что хоть раз слышал, как она поет, за всю их прожитую вместе жизнь), но, казалось тогда, порожденного неким бестелесным присутствием в комнате, неким ангелом или призраком, предвещавшим невещественную суть, которой его мать того и гляди станет…
Старой Англии след уж простыл,
Сотни фунтов, прощайте навек,
Если б кончился мир, пока молод я был,
Своих горестей я бы избег.
* * *
Песня доиграла. На гостиную пала тишина, снаружи над рекой висела тьма.
Бенджамин плакал, поначалу беззвучно, а затем с краткими, надсадными, судорожными всхлипами, что сотрясали все его тело, от них болели ребра и в мучительных судорогах сводило нечасто применяемые мышцы мясистого живота.
Когда припадок закончился, Бенджамин, все еще сидя на подоконнике, попытался собрать волю в кулак и приготовиться ко сну.
Не следует ли заглянуть к отцу? Наверняка же виски и эмоциональная буря этого дня усыпили его хорошенько. И все-таки Бенджамин знал, что отец последнее время спит плохо — месяцы, если не годы, — и началось это задолго до болезни жены. Казалось, отец живет в постоянном подавленном гневе, который не дает ему покоя ни ночью ни днем. То, что он сказал Бенджамину о видеорегистраторах скорости — «Мерзавцам только дай снять с тебя денег, на каждом шагу», — очень характерно. Назвать «этих мерзавцев» Колин, вероятно, не смог бы, но чуял их высокомерное присутствие, как они помыкают всеми, и остро злился. Как и говорил Дуг: «Народ ожесточается, не на шутку ожесточается», пусть он и не в силах объяснить, за что или на кого именно.
Потянувшись закрыть окно, Бенджамин еще разок глянул на реку. Мерещится ему это или же река сегодня действительно чуть поднялась и бежит чуть быстрее? Когда он купил этот дом, многие спрашивали, учел ли он риск разлива, и Бенджамин надменно отметал такие вопросы, однако зерна сомнений они посеяли. Ему нравилось считать реку своим другом, добродушным напарником, чье поведение он понимал, в чьем обществе ему было легко. Не обманывал ли он себя? Положим, река оставит свои покойные и разумные привычки, — допустим, она тоже сделается сердитой без всяких простых или предсказуемых причин. Какие очертания примет этот гнев?
Октябрь 2010-го
За годы Софи претерпела множество романтических разочарований. Первые серьезные отношения — с сыном Филипа Чейза Патриком — не пережили университета. На магистерском курсе в Бристоле она познакомилась с Соаном, человеком, которого сочла родственной душой, красивым студентом со шри-ланкийскими корнями, с факультета английской литературы. Но он оказался геем. Следом возник Джейсон, который, как и она, учился в аспирантуре в Кортоулде[12]. Но он ей изменял со своим научным руководителем, а его преемник, Бернард, был так поглощен собственной диссертацией по записным книжкам Сислея, что Софи по-тихому прервала отношения, а он даже не заметил. Ну их, умников этих, постановила Софи. Если соберется искать кого-то еще (никакой особой спешки не было), попробует раскинуть сети за пределами академического мира.
Тем временем ей улыбнулась удача: в конце весеннего семестра ей написала коллега из Бирмингемского университета, предложила подать заявку на двухлетнюю стажировку у них. Софи подала; стипендию получила; в августе 2010-го собрала у себя в крошечной студии в Мазуэлл-Хилл пожитки и двинулась с ними по трассе М40 обратно в город, где родилась. А поскольку ничего лучшего не подвернулось, она пока съехалась с отцом.
Кристофер Поттер жил в то время на зеленой улице в Холл-Грин, улица эта ответвлялась по диагонали от Стрэтфорд-роуд, но казалась очень удаленной от ее беспрерывных автомобильных потоков на север и юг. Дом был сдвоенным, и родители собирались жить в нем вместе, но на деле Кристофер жил в нем один. Много лет дом у семьи был в Йорке, где Лоис работала библиотекарем при университете, а Кристофер держал частную юридическую практику — специализировался на исках о личном ущербе. Весной 2008-го, пока их единственная дочь жила в Лондоне, а здоровье матери Кристофера и обоих родителей Лоис портилось, он предложил жене переехать вместе обратно в Бирмингем. Лоис согласилась — вроде бы с благодарностью. Кристофер поискал и нашел способ перевестись в контору в Средней Англии. Они продали дом и купили вот этот, новый. И тут, в последнюю минуту, Лоис сделала поразительное заявление: не хочет она уходить со своей работы, не убеждена, что ее родителям она нужна под боком, и ей невыносима сама мысль о возвращении в город, где более тридцати лет назад ее жизнь слетела с рельсов из-за личной трагедии, которая мучает ее до сих пор. Лоис останется в Йорке, и отныне они будут видеться по выходным.
Кристофер принял такое положение дел со всем доступным ему добродушием, положившись на то (а оно ни разу не проговаривалось вслух), что это временно. Но счастлив он не был, жить в одиночку ему не нравилось, и он пришел в восторг, когда Софи сообщила ему о своей новой работе и спросила, можно ли ей у него пожить.
Самой Софи возвращаться в дом к отцу показалось странным и неловким. Ей исполнилось двадцать семь, и обитание с одним из родителей в ее жизненные планы не входило. Она быстро полюбила многолюдный, несколько самодовольный космополитизм Лондона и пока сомневалась, что обретет подобное ему в Бирмингеме. Кристофер был приветлив, с ним легко получалось разговаривать, но атмосфера в доме оставалась гнетуще тихой. Софи быстро начала хвататься за любую возможность слинять, пусть даже на день-другой, а если выпадала поездка в Лондон, она радовалась вдвойне.
И вот в четверг, 21 октября, она покинула студгородок прямо в три пополудни. Настроение было хорошее: ее семинар по русским романтикам пользовался успехом. Среди студентов она уже сделалась любимицей. В студгородок она, по своему обыкновению, приехала на машине. Дед Колин, у которого зрения водить машину уже не хватало, недавно преподнес Софи подарок — свою хворую «тойоту-ярис». (Давно миновали деньки, когда он из патриотических соображений покупал все британское.) Софи забронировала себе место на лондонский поезд ближе к вечеру и, чтобы сберечь деньги, выбрала маршрут помедленнее и подешевле, через Чилтернз, до вокзала Марилебон. Первым делом ей предстояло доехать до вокзала Солихалл и оставить там машину. Софи воображала тихое неспешное движение по автостраде — с удовольствием от езды через город, где, в отличие от столицы, ориентироваться было одинаково просто и на личном, и на общественном транспорте. Однако на пробки она не закладывалась и примерно через полчаса заволновалась, что опоздает на поезд. Взбираясь по Стритзбрук-роуд, она резко выжала газ, и машина дала тридцать семь миль в час. На этом участке пределом было тридцать, и, когда Софи проезжала мимо, ей поморгал видеорегистратор скорости.
* * *
Сходя с поезда на Марилебон, Софи поняла, что у нее до рандеву с Соаном есть время прогуляться. Она пересекла Марилебон-роуд к Глостер-плейс и побрела полупустыми переулками мимо высоких кремовых георгианских домов, пока не выбралась на Марилебон-Хай-стрит. Здесь было поживее, и Софи приходилось вилять и петлять в толпе ранневечерних пешеходов. Прислушиваясь к разнообразным языкам улицы, она вспомнила об одном случае несколько лет назад, когда и Бенджамин еще жил в Лондоне. Колин с Шейлой приехали его проведать, и Софи пошла ужинать с дядей и стариками в одно итальянское заведение на Пиккадилли. «Кажется, я ни слова по-английски не услышал, пока мы сюда шли», — сказал Колин, и Софи осознала, что жаловался он как раз на то, что ей в этом городе больше всего нравилось. Этим вечером она уже уловила французскую, итальянскую, немецкую, польскую, бенгальскую речь и урду — и еще несколько других, которые не смогла определить. Ее не беспокоило, что она не понимает половину того, что люди произносят, — Вавилон голосов усиливал ощущение благодушной путаницы, которое ей так нравилось, и все это в единстве с общим шумом города, с калейдоскопом огней светофоров, фар, стоп-сигналов, уличных фонарей и магазинных витрин, с осознанием, что, пока люди снуют по улицам, ненадолго пересекаются миллионы их отдельных, непостижимых жизней. Софи упивалась этими размышлениями, даже ускоряя шаг, поглядывая на часы на экране телефона и понимая, что к университетскому зданию она подойдет с опозданием в пару минут.
Соан уже ждал ее за столиком в баре «Робсон Фишер», сумрачном анклаве, куда хаживали в основном аспиранты и преподаватели. Перед Соаном стояло два бокала просекко. Он пододвинул один Софи.
— Мама родная, — произнес он. — Вид у тебя бледный и больной. Должно быть, ужасный северный климат.
— Бирмингем не на севере, — сказала она и поцеловала его в щеку.
— Пей давай все равно, — сказал он. — Сколько ты уже такого не принимала?
Софи сделала долгий глоток.
— Там, где я живу, такое дают, к твоему сведению. Завезли году в… 2006-м, кажется. Звезды уже здесь?
— Не знаю. Если и да, то в Зеленой комнате.
— А тебе к ним не надо?
— Позже. Спешить некуда.
Соан позвал Софи — для моральной поддержки в том числе — поприсутствовать на публичной дискуссии между двумя маститыми романистами, англичанином и французом, которую Соан должен был вести. Лайонел Хэмпшир, англичанин, был в некотором роде знаменитостью — по крайней мере, в литературных кругах. Двадцатью годами ранее он опубликовал роман, за который получил Букеровскую премию, и заработал себе на нем репутацию, — «Сумерки выдр», щуплый томик, заключавший в себе в основном мемуары и отчасти вымысел и более-менее сумевший запечатлеть дух своего времени. И пусть ничто из написанного им далее не достигло такого же успеха (последнюю работу, причудливый экскурс в феминистскую научную фантастику под названием «Фаллопия», литературная пресса недавно разнесла в пух и прах), его это, похоже, попусту не тревожило: почтения, каким был окружен давний призер, хватало, чтобы его прибыльная карьера оставалась на плаву, а сам он держался как человек, чьи лавры уверенно обеспечивали ему на чем почивать.
Писатель-француз по имени Филипп Альдебер, напротив, был величиной неизвестной.
— Кто он такой? — спросила Софи.
— Ой, не волнуйся, я начитал, — сказал Соан. — Там у себя большая звезда, судя по всему. «При-Гонкур», «При-Фемина». Написал двенадцать романов, однако лишь парочка издана здесь — сама знаешь этих британцев: не ценят они, когда на землю Диккенса и Шекспира заявляется Джонни Иноземец и учит их, как это делается.
— Нервничаешь как ведущий? — поинтересовалась Софи.
Событие организовывали совместно факультеты французской и английской словесности. Соан ныне был самым молодым сотрудником второго, пока простой лектор, но вообще-то, раз он уже писал для «Нью стейтсмен» и «Ти-эл-эс»[13], его сочли подходящим для такой встречи, предназначенной и для широкой публики, и для педагогов, и для студентов.
— Немножко, — признался он и поднял бокал. — У меня это уже третий.
— Не очень понимаю название, — сказала Софи, глядя на листовку, лежавшую между ними на столе. Она гласила, что тема сегодняшней дискуссии — «Беллетризация жизни. Жизнь как беллетристика». — Что это означает?
— А мне откуда знать? У тебя два писателя, у которых ничего общего, кроме грандиозного мнения о самих себе. Надо же было как-то это назвать. Оба пишут художественную прозу. Оба пишут о «жизни» — ну или о своей версии ее, так или иначе. Не очень понимаю, можно ли вообще промахнуться с таким вот названием.
— Видимо, нет…
— Слушай, к девяти все закончится, и я на девять тридцать забронировал столик. Строго на нас двоих.
— Тебе разве не полагается ужинать со всеми остальными?
— Придумаю отговорку. Я с тобой хочу побыть. Сто лет не виделись. И ты такая бледная!
* * *
Лекционный зал набился почти под завязку: публики набралось под двести человек. Судя по всему, несколько студентов все же явились, но терпеливые, предвкушающие лица вокруг Софи были в основном пятидесятилетние или старше. Со своего места в верхних рядах она глядела на сцену поверх моря седых шевелюр и лысин.
На сцене расположились четверо выступающих — Соан, двое знаменитых писателей и лектор с французского факультета, приглашенный, чтобы переводить ответы мсье Альдебера на английский для собравшихся и нашептывать ему перевод на французский вопросов, задаваемых Соаном. Ведущий и переводчик казались встревоженными, писатели же выжидательно улыбались публике. После нескончаемых вступительных слов ректора поединок начался.
То ли из-за отрывочности, обусловленной участием переводчика, то ли из-за очевидного нервного напряжения у Соана дискуссия началась не гладко. Вопросы, адресованные писателям, были длинными и путаными, а ответы получались в виде речей, а не задушевного и свободного разговора, на какой рассчитывал Соан. Примерно через пятнадцать минут, во время последнего монолога Лайонела Хэмпшира, в котором он уверенно обобщал различия в отношениях к литературе у французов и британцев, Соан укрылся за своими заметками и, судя по всему, ожесточенно их просматривал. Через несколько секунд Софи почувствовала, что у нее завибрировал телефон, и осознала, что Соан на самом деле набирал ей СМС.
Помоги у меня кончились вопросы что дальше?
Она глянула влево и вправо, но люди на соседних сиденьях, кажется, не заметили, от кого пришло сообщение, — да и вообще что оно пришло. Подумав, она отправила ответ:
Спроси ФА согласен ли он что французы относятся к книгам серьезнее.
Отклик Соана — эмотикон с поднятым большим пальцем — прилетел очень быстро, а через несколько секунд, когда выступление Лайонела Хэмпшира наконец замедлилось и утихло, все услышали, как Соан обращается к месье Альдеберу:
— Интересно, как бы вы ответили на это? Не очередной ли это типично британский стереотип о французах — что, с нашей точки зрения, у вас больше уважения к писателям, чем у нас?
После того как перевод нашептали ему на ухо, мсье Альдебер помолчал, сжал губы и, казалось, глубоко задумался.
— Les stéréotypes peuvent nous apprendre beaucoup de choses, — ответил он наконец.
— Стереотипы бывают очень осмысленными, — перевел переводчик.
— Qu’est-ce qu’un stéréotype, après tout, si ce n’est une rem àarque profonde dont la vérité essentielle s’est émoussée à force de reépétition?
— Что такое стереотип, в конце концов, если не глубинное наблюдение, сущностная истина которого потускнела от повторений?
— Si les Français vénèrent la littérature davantage que les Britanniques, c’est peut-être seulement le reflet de leur snobisme viscéral qui place l’art élitiste au-dessus de formes plus populaires.
— Если французы чтят литературу больше британцев, возможно, это лишь отражение их сущностного снобизма, который ставит элитистское искусство над жанрами более популярными.
— Les Français sont des gens intolérants, toujours prêts à critiquer les autres. Contrairement aux Britanniques, me semble-t-il.
— Французы — народ нетерпимый, судящий. В отличие от британцев, как мне кажется.
— Почему вы так считаете? — спросил Соан.
— Qu’est-ce qui vous fait dire ça? — прошептал переводчик.
— Eh bien, observons le monde politique. Chez nous, le Front National est soutenu par environ 25 pour cent des Français.
— Ну, взглянем на мир политики. Наш Национальный фронт располагает поддержкой двадцати пяти процентов французов.
— En France, quand on regarde les Britanniques, on est frappé de constater que contrairement à d’autres pays européens, vous êtes épargnés par ce phénomène, le phénomène du parti populaire d’extrême droite.
— Мы во Франции смотрим на британцев, и нас впечатляет, что, в отличие от большинства других европейских стран, у вас нет этого явления — широко популярной партии крайних правых.
— Vous avez le UKIP, bien sûr, mais d’après ce que je comprends, c’est un parti qui cible un seul problème et qui n’est pas pris au sérieux en tant que force politique.
— У вас есть ПНСК[14], разумеется, но, насколько я понимаю, это партия одной задачи и ее как политическую силу не воспринимают всерьез.
Соан ожидал, что Альдебер разовьет мысль и дальше, а когда этого не случилось, обратился к Лайонелу Хэмпширу и в некотором отчаянии спросил его:
— Не желаете ли прокомментировать?
— Ну, — произнес маститый писатель, — как правило, я воздерживаюсь от подобных широких обобщений о национальных чертах. Но, думаю, Филипп, возможно, тут не очень-то промахнулся. Я не безрассудный патриот. Отнюдь. Но есть что-то в английском характере, что меня восхищает, и Филипп в этом прав — в смысле нашей любви к умеренности. Нашей неумеренной любви к умеренности, если угодно. (Эта изысканная фраза плюхнулась в почтительную тишину зала и запустила зыбь смеха.) Мы — нация политически прагматичная. Крайности слева и справа нам не нравятся. И к тому же мы по сути своей терпимы. Поэтому мультикультурный эксперимент в Британии в общем и целом складывается удачно — с одним-двумя мелкими огрехами. Я бы в этом смысле не взял на себя смелость сравнивать нас с Францией, конечно, однако, несомненно, если рассуждать с личных позиций, вот чем я восхищаюсь в британцах больше всего: нашей умеренностью и нашей терпимостью.
— Сплошная самодовольная херня, — проговорил Соан. Но, к сожалению, не со сцены.
* * *
— Ты так считаешь? — спросила Софи.
Они сидели в ресторане «Гилберт Скотт» на вокзале Сент-Панкрас и проводили посмертное вскрытие дискуссии. Ресторан они выбрали дорогой, однако решили, что, раз уж встречаться теперь будут редко, каждая такая встреча пусть будет особой. Софи заказала ризотто с зеленым горошком, а Соан решил поэкспериментировать с пирогом с креветками и кроликом, который оказался вкуснейшим.
— Эти люди не знают, о чем говорят, — продолжил он. — Эта так называемая терпимость… Каждый день сталкиваешься с людьми, которые нисколько не терпимы, будь то сотрудники магазинов или обычные прохожие на улице. Может, ничего агрессивного они и не говорят, но видно по их глазам и вообще по тому, как они себя ведут с тобой. И им хочется что-нибудь сказать. О да, им хочется применить к тебе какое-нибудь запретное слово или же просто сказать тебе, чтоб съебывал обратно в свою страну — где бы она, по их разумению, ни была, — но им нельзя. Они знают, что это непозволительно. А потому ненавидят не только тебя, они ненавидят еще и их — кем бы те ни были, — этих безликих людей, что сидят где-то над ними и осуждают их, предписывают, что можно, а что нельзя произносить вслух.
Софи не знала, что тут сказать. Ни разу прежде не слышала она, чтобы Соан рассуждал на эту тему так откровенно и так ожесточенно.
— В Бирмингеме, — неуверенно начала она, — люди вроде бы ладят… Не знаю, много народу из разных стран, и…
— Тебе это так и будет казаться, — проговорил Соан. Но этого ужина он ждал и хотел, чтобы настроение оставалось приятным, а потому сменил тему — достал свой айфон, нашел в фейсбуке какой-то фотоснимок и протянул телефон ей. — Кстати — что скажешь?
Софи уставилась на лицо молодого человека восковой бледности, каменно глазевшего в объектив из-за неопрятного рабочего стола.
— Кто это?
— Один мой аспирант.
— И что?
— Одинокий.
Софи ошарашенно вперилась в Соана.
— Ну ты же ищешь себе кого-нибудь?
— Да не очень, — сказала она. — Да и вообще, тут и говорить не о чем. У него вид, как у анорексичного Гарри Поттера.
— Чарующе, — отозвался Соан и вытащил из гугл-картинок другое фото. — Ну хорошо, а вот этот?
Софи вновь посмотрела на экран телефона и прищурилась: разочарованное лицо среднего возраста.
— Кто это?
— Из моих коллег.
Она пригляделась.
— Потасканный чуток, не?
— Я не знаю, сколько ему. Знаю, что уже девятнадцать лет пишет диссертацию и все никак не закончит.
Софи присмотрелась еще пристальнее.
— Это перхоть?
— Возможно, просто пыль на экране. Ну слушай, я с этим парнем в одном кабинете сидел весь прошлый год. Он хороший. Да, есть некоторые… трудности с личной гигиеной, но…
Софи вернула телефон.
— Спасибо, не надо. Никаких больше академиков. Хватит с меня очков-аквариумов и сутулых плеч. Мой следующий парень будет жеребцом.
Соан недоверчиво рассмеялся.
— Жеребцом?
— Высоким смуглым красавцем. С нормальной работой.
— Ты где такого найти собираешься — там, наверху?
— «Там, наверху»? — переспросила Софи, весело сверкая глазами.
— Это же наверху, так?
— Да тебе все «наверху». Все, что к северу от Клэпэма.
— Значит, мой взгляд на мир лондоноцентричен. Ничего не могу с этим поделать. Я тут родился, это мой город и единственное место, где я собираюсь жить. Бристоль был временным помутнением.
— Приезжай ко мне в гости в Бирмингем. Это разует тебе глаза.
— Хорошо, приеду. Но ты мне скажи, какие там мужчины.
— Такие же, как везде, конечно.
— Правда? Я думал, мужчины в Средней Англии помельче.
— Помельче? С чего ты это взял?
— Думал, так Толкин выдумал хоббитов. — Софи разразилась добродушным, но насмешливым хохотом, и Соан загнал себя в угол еще глубже: — Нет, ну серьезно: разве большинство в наше время не считает, что «Властелин колец» — это на самом деле про Бирмингем?
— Связь, очевидно, просматривается. В том месте, которое вроде как вдохновило Толкина, есть музей, на той же улице, где я живу.
— Мельница Сюр-Лох, — невозмутимо произнес Соан.
— Сэрхол, — поправила Софи. — Слушай, приезжай да сам глянь. Это милый город, вот правда.
— Конечно, милый. Земля беспредельной романтики и половых возможностей. В следующий раз приедешь сюда, я вас обоих приглашу на ужин. И тебя, и твоего парня-хоббита.
С этими словами он налил им по последнему бокалу вина, и они провозгласили тост: за Средиземье, за Срединную Англию.
Дуг получил электронное письмо из пресс-службы на Даунинг-стрит, в котором оглашалась прорва новых назначений, и взялся гуглить. Взгляд задержался на фамилии заместителя помощника начальника отдела связей с общественностью нового коалиционного правительства: Найджел Айвз. Был у них в школе мальчик по фамилии Айвз. Тимоти Айвз. И пусть фамилия не редкая, далекие воспоминания она пробудила. Бенджамин как-то раз сказал ему в минуту слабости, несколько лет назад, что принял от Тимоти Айвза запрос на дружбу в фейсбуке и обнаружил, что у Тимоти, среди прочего, есть сын… Не Найджел ли? И это тоже могло оказаться совпадением. Но в любом случае Дуг написал Найджелу, и Найджел ему ответил, и когда они встретились поболтать — не под запись — в кафе рядом со станцией «Темпл», Найджел первым делом сказал:
— Кажется, вы учились в школе с моим отцом.
— С Тимоти? В «Кинг-Уильямс» в Бирмингеме, в семидесятые?
— Точно. Он вас боялся до ужаса.
— Правда? — проговорил Дуг.
— Был уверен, что вы его презираете.
— Правда? — повторил Дуг и вспомнил, что так оно в самом деле и выходило. Тимоти Айвз был мелким недоростком, и старшие мальчишки в школе — особенно Хардинг — безжалостно его травили, постоянно отправляя на посылки и вымогая разные услуги. — Как он поживает? Чем занимается?
— Стал довольно успешным проктологом.
— Да что вы говорите.
— Уверен, что вы геморроем не страдаете, Дуглас, но если вдруг так, отец мог бы облегчить вам муки.
— Я несомненно буду иметь это в виду.
— Но, осмелюсь предположить, вы пришли поговорить не о своем геморрое.
— У меня его нет, и я о нем не говорил.
— Действительно.
— Нет, я пришел, потому что хотел обсудить возможность наших с вами… задушевных и взаимовыгодных отношений. Если тори и либерал-демократы способны сформировать коалицию — и найти способы работать вместе, то… кто знает? Может, сумеем и мы.
— Разумеется. Вы говорите о духе эпохи, Дуг. Полный отрыв от старой двухпартийной системы. Никаких больше мелочных противостояний. Исключительно общий язык и сотрудничество. Очень вдохновляющее время для начала политической жизни.
Дуг оглядел Найджела и задумался, сколько тому может быть лет. По виду — только что из университета. Щеки бледно-розовые, и, казалось, брить их отродясь не надо было. Темные костюм и галстук с иголочки, но непримечательные, как и расчесанные на косой пробор волосы. Выражение лица пресное, голос постоянно воодушевленный, но при этом непроницаемый. Начало третьего десятка, никак не больше.
— Так все же как там на самом деле все складывается сейчас — в Доме десять? — спросил Дуг. — У вас там две очень разные партии, с очень разными программами. Вряд ли это надолго, верно?
Найджел улыбнулся.
— Дэйв, Ник[15] и команда уважают вас как комментатора, Дуглас, но мы знаем, что ваша задача — искать узкие места. Здесь вы их не найдете. У Дэйва и Ника, естественно, имеются разногласия. Но в конечном счете они же обычные ребята, которым хочется делать дело.
— Обычные ребята?
— Именно.
— Обычные ребята, которые по чистой случайности посещали невероятно дорогие частные школы, прежде чем вскарабкаться по намасленному шесту политики.
— Именно. Видите, сколько у них общего? Не великолепно ли было наблюдать за ними в тот первый их совместный день в Саду роз?[16] Как они резвились на камеры, смеялись…
— То есть никакого идеологического разделения нет?
Найджел чуть нахмурился.
— Ну, Дэйв учился в Итоне, а Ник — в Вестминстере. Это довольно серьезное различие, я отдаю себе в этом отчет. — Впрочем, лицо у него быстро посветлело. — Но вот честно, Дуглас… можно мне теперь называть вас Дугом?
— Конечно, отчего же нет?
— Вот честно, Дуг, слыхали бы вы, какой у них был отжиг за министерским столом.
— Слыхал бы я… что, простите?
— Как они отжигали. Отжиг.
— Отжигали?
— Шутили, смеялись, подкалывали. Поверьте, я слышал много такого, особенно в универе, и тут отжиг прям топовый.
— Давайте-ка проясним: вы говорите о… дискуссиях кабинета министров?
— Абсолютно так.
— То есть несколько дней назад тысячи молодых людей вышли на улицы Лондона в знак протеста против колоссального повышения стоимости учебы, которое Ник Клегг обещал не поддерживать, а теперь поддерживает, а тем временем новый министр финансов объявляет о повальных сокращениях расходов на общественные нужды, и вы мне говорите, что за всем этим… отжиг?
Найджел замялся. Кажется, забеспокоился, как будет воспринята его следующая реплика.
— Дуг, не поймите неправильно, однако это поколенческое. Речь о разрыве между поколениями. Вы, ваши друзья, мой отец воспитаны определенным образом. Вы привыкли к антагонистической разновидности партийной политики. Но Британия ушла вперед. Старая система рухнула. Шестое мая нам это доказало[17]. Шестого мая Британии предложили выбрать новое направление, и люди сказали громко, единодушно, решительно — и сказали яснее некуда. Они сказали: «Мы не знаем». — В ответ на растерянное молчание Дуга Найджел приятно улыбнулся. — «Мы не знаем», — повторил он, пожимая плечами и разводя руки. — Два года назад мир пережил чудовищный финансовый кризис, и никто не понимает, как с ним разбираться. Никто не знает, куда дальше. Я называю это радикальной нерешительностью, этот новый дух нашего времени. И Ник с Дэйвом идеально его воплощают.
Дуг в ответ механически кивал, но сам не мог решить, шутит Найджел или нет. Это ощущение в ближайшие несколько лет сделается все привычнее.
Декабрь 2010-го
Письмо из полиции Уэст-Мёрсии плюхнулось на коврик у двери Софи утром в конце октября. Видеокамеры засекли ее автомобиль на Стритзбрук-роуд, когда она ехала тридцать семь миль в час при тридцатимильном ограничении скорости. Ей предлагалось на выбор либо получить себе три штрафных балла, либо заплатить сто фунтов за курсы сознательного отношения к скорости. Софи, естественно, выбрала второе.
Ей назначили на два часа дня в безликом конторском квартале на Колмор-роу в начале декабря. Она приехала, ее проводили в приемную на девятом этаже, оснащенную двумя торговыми автоматами с газировкой и шоколадными батончиками, и где вдоль стен квадратом стояло два десятка стульев. Когда Софи явилась, почти все стулья уже были заняты. Занимали их мужчины и женщины всех возрастов, всех оттенков кожи. Велись ехидные приглушенные разговоры полушутя. По духу это место напомнило Софи школу: мальчики и девочки, которых поймали на мелком хулиганстве, ждут своей кары перед кабинетом директора. Софи решила не присаживаться, а подобраться к прокопченному окну и поглядеть на город, на торговые центры и небоскребы, на старые ряды террасных домов вдали и, еще дальше, на бетонную путаницу многоуровневой развязки — все сплошь серое и размазанное в чахлом послеполуденном свете.
— Так, внимание всем, — прозвучал у нее за спиной молодой энергичный мужской голос. — Будьте любезны, идите за мной, пожалуйста, займем свои места и начнем.
Говорившего Софи не увидела. Двинулась за вереницей людей, побредшей в соседнюю комнату; там все было обустроено как в школьном классе — парты, скамейки за ними, экран для презентаций в «ПауэрПойнте». Дневное освещение под потолком свирепо и безрадостно. Перед партами спиной к вошедшим стоял высокий, хорошо сложенный мужчина и перекладывал на столе какие-то бумажки. Обернулся.
— Добрый день всем, — сказал он. — Меня зовут Иэн, я ваш методист на сегодняшнем занятии. А это моя коллега Нахид.
Дверь в дальнем углу открылась, вошла очень яркая женщина — едва ли не такая же высокая, как Иэн, вероятно, за тридцатник, но кучерявые волосы до плеч уже тронуты сединой — и двинулась между рядами парт. На ходу она чуть клонилась назад, несла себя с уверенностью и раздавала улыбки-приветы сидевшим по обе стороны от нее. Улыбки эти были вызывающими и дерзкими. Софи она сразу понравилась, подумалось, что кишка у женщины должна быть ой не тонка: стоять вот так в классе, набитом почти одними мужиками — в основном белыми мужиками, — и отчитывать их за водительские ошибки.
На деле с ее ожиданиями не совпал ни тот ни другой инструктор. Иэну, вовсе не пожилому педагогу, потрясающему перстом — как раз такого педагога Софи без особой нежности воображала себе, — было тридцать с чем-то или под сорок, сложен он был как регбист, лицо радушное, открытое, с тонкими чертами и маняще длинные ресницы. Вот это особенно притягивало внимание Софи, хотя ей вновь удалось сосредоточиться, когда он начал опрашивать всех в классе об их прегрешениях по скорости и предлагать по очереди сказать что-нибудь в свою защиту, если получится. Он выслушивал каждый ответ с полной серьезностью и вниманием, а вот у Нахид улыбка с уст не сходила почти совсем, а из взгляда почти не исчезало веселье.
Ответы сами по себе получались интересные. Софи слушала говоривших, таких разных по возрасту, общественному классу, полу и национальности, у всех такие разные рассказы, но осознавала, что все они объединены общей чертой: глубинным и всепроникающим ощущением несправедливости. Превышали ли эти люди скорость, чтобы успеть на важную встречу, или (в одном случае) чтобы довезти хворого родственника до больницы, или (в другом) потому что купили китайской еды на вынос и хотели добраться домой прежде, чем она остынет, или, может, просто пришли к личному выводу, что ограничение скорости в этом месте неразумно, и решили им пренебречь, — все они бурлили праведным негодованием, чувствовали, что их выделили среди всех, выбрали злые незримые силы — силы, упивающиеся собственной властью и неотвратимо желающие укреплять ее, усложняя жизнь простым гражданам, которых поймали за безобидными занятиями их повседневной жизни. В классе от этого чувства было душно. Люди считали себя жертвами.
Софи категорически не хотела иметь к этому никакого отношения. Вышло так, что до ее рассказа очередь дошла последней, и Софи решила, как бы ни сложилось, говорить поперек общего хора.
Через несколько секунд Иэн обратил на нее внимание — Нахид, стоявшая впереди, лукавым, проницательным взглядом тоже предложила Софи поделиться своей историей с инструкторами и собратьями-негодниками.
— Да, в общем, рассказывать нечего, — произнесла она. — Ехала в зоне ограничения до тридцати миль в час. Согласно уведомлению, которое мне прислали, я делала тридцать семь миль в час. Вот и все.
— И почему же вы превышали скорость, как думаете? — спросил Иэн. — Есть ли какая-то конкретная причина?
Софи чуть замялась. Так легко было бы выкрутиться простым объяснением: думала, что может опоздать на поезд. До чего же скучно, а? Не готова она была строить из себя невинную. И, кроме того, ей хотелось как-то произвести впечатление на Иэна.
— Думаю, Хаксли выразил это лучше всех, — сказала она, собравшись с духом.
Иэн растерялся.
— Кто?..
— Олдос Хаксли, — пояснила Софи. — Романист и философ. Он написал «О дивный новый мир»[18].
Иэн по-прежнему не выказывал признаков узнавания этого имени.
— Хорошо. И как же он выразился?
— Он выразился так: ближе всего к новому наркотику — наркотик скорости. «Скорость, как я понимаю, обеспечивает по-настоящему современное удовольствие».
Нахид и Иэн, которые до сего момента производили впечатление людей, слыхавших, надо думать, что угодно, пока ведут эти курсы, коротко переглянулись. В их взгляде был вопрос: кто из них двоих будет разбираться с этим неожиданным выступлением? Софи поразилась быстроте взаимопонимания между Иэном и Нахид, бессловесной легкости, с какой соглашение было достигнуто.
Иэн подошел поближе и присел на край ее парты.
— То есть скорость для вас — как наркотик, да? — спросил он, улыбаясь. Она кивнула и улыбнулась в ответ. Казалось, они оба понимают, что она говорит не всерьез. — И вы ехали тридцать семь миль в час? — Она вновь кивнула. Улыбка у Иэна была совершенно обезоруживающей. — Ну, не то чтоб вы героином закинулись, верно? Это было б все равно что ехать… восемьдесят, так? — Она не ответила, он продолжил: — Тридцать-то семь при ограничении в тридцать? В наркоманских понятиях это вроде как… уф, не знаю, две ложки кофе на чашку вместо одной.
Класс хором разразился смешками.
— Думаю, мой коллега пытается сказать, — вступила Нахид, — что цитата милая, но вы, вероятно, просто пытаетесь пустить нам пыль в глаза. Скорее всего, вы просто немножко торопились — успеть на поезд или что-нибудь в этом роде.
Софи все еще упивалась последними мгновениями веселого, одобрительного взгляда Иэна и по-настоящему расслышала лишь конец этого замечания. Впрочем, она успела уловить в голосе Нахид тихую властность — как и во всем, что Нахид говорила, пока шло занятие. Ее знания и навыки вызывали уважение, хотя некоторые мужчины в классе злились, что их на заданную тему поучает женщина — женщина-азиатка, — и злость эта была осязаемой. Рядом с Софи сидел багроволицый мужчина средних лет в деловом костюме, со взъерошенными седыми волосами и видом неизбывного, едва скрываемого презрения. Звали его Дереком, поймали его на езде пятьдесят три мили в час на участке с сорокамильным ограничением, потому что «я тот участок дороги знаю как свои пять пальцев», и враждебность к Нахид уже, кажется, распространилась и на Софи — за то, что она отвергла его неуклюжие попытки заговорщицкого юмора.
Посреди занятия, уже ближе к вечеру, объявили перерыв — освежиться, Иэн и Нахид компанию им не составили, ушли куда-то к себе, после чего собравшихся разделили на две группы для просмотра видеозаписей множества различных сценариев автовождения, чтобы разобраться, в чем их опасность. Софи и Дерек оказались в одной группе, руководила ею Нахид.
— Так, хорошенько вглядитесь в этот участок пригородной улицы, — сказала она, ставя запись на паузу и указкой обращая внимание зрителей на отдельные детали. — Посмотрите на эти знаки, посмотрите на возможные помехи и опасности. Скажите, какое тут ограничение скорости и с какой скоростью, по-вашему, тут безопасно ехать в заданных условиях.
Посовещавшись, группа Софи правильно определила ограничение скорости — тридцать миль в час (хотя многие высказывали дикие — и ошибочные — предположения), но когда Софи заметила, что разумно было бы вести машину на двадцати милях в час, Дерек оказался непреклонен: тридцать миль в час — совершенно приемлемо.
— Нет, я так не считаю, — отозвалась Нахид. — Ваша соседка права в данном случае.
— Это ваше мнение, — сказал Дерек.
— Да, мое, и все имеют право на свое мнение, хотя это не означает, что все мнения одинаково ценны. Чем вы, напомните, занимаетесь по работе, сэр?
— Менеджер розничных продаж. В основном спортивный инвентарь.
— Хорошо. Значит, в том, что касается спортинвентаря, ваше мнение ценнее моего. Но вероятно, если речь о безопасности на дороге…
— Я вожу машину сорок лет, — перебил он, — и ни разу не попал в аварию. С чего мне выслушивать поучения такой, как вы?
Краткая пауза, оторопь — Нахид осознала удар, нанесенный этими тремя словами, но так стремительно, что едва заметишь, и ответила совершенно уравновешенно:
— Видите вот этот знак? Разумеется, видите — и знаете, что он означает: где-то на этой улице школа. Вход в школу видите? Нет, потому что вот этот фургон, оставленный на правой стороне, будет заслонять вам вид, пока вы с ним не поравняетесь. Немала вероятность, что из-за фургона, не замечая вас, выбежит маленькая девочка. От вашей скорости в двадцать миль в час она сильно пострадает. Тридцать миль в час, возможно, убьют ее. Но если проедете по этому отрезку улицы на скорости в тридцать миль в час, вы, наверное, и впрямь укоротите себе время в пути секунд на пять. Вот вам и уравнение. Эти две вещи нужно взвесить относительно друг дружки. Пять секунд вашей жизни — и вся чья-то еще жизнь. Пять секунд — целая жизнь. — Она примолкла, глаза все еще блестели, намек на улыбку по-прежнему виднелся в уголках рта. — Трудное ли это решение? По-моему, нет. А по-вашему, пожалуй, да.
Улыбка у нее теперь сделалась вызовом, оружием, направленным прямиком на Дерека. Он уставился на Нахид, но ничего не сказал.
Когда занятия завершились, Софи оказалась с ним в одном лифте. Он сухо кивнул ей, затем отвел взгляд, и мгновение ей думалось, что они доедут молча до самого первого этажа. Но Дерек сказал:
— Ну что, четыре часа моей чертовой жизни я уже никогда не верну.
Софи тщательно взвесила свой ответ:
— Все же лучше, чем получить штрафные на права, согласны?
— Не знаю, — отозвался Дерек. — Думаю, лучше так в следующий раз — вместо того чтобы выслушивать нотации этой самодовольной с…
Софи поначалу не ответила. Просто полегчало от того, что он умолк, не договорив того слова. И лишь когда они вышла на студеный воздух Колмор-роу, где стайки конторских служащих пробирались к станциям и автобусным остановкам, к беспрестанным приливам и отливам дорожного движения, к вечернему небу, черному, как в полночь, она сказала:
— Уверена, что парень сказал бы в точности то же самое. — И добавила имя — Иэн, непонятно зачем. Действительно излишне.
Путь домой для Дерека, где бы этот дом ни находился, был в противоположную от Софи сторону. Но прощальный выстрел он для нее приберег.
— Знаете, что это было? — произнес он. — То, что мы наблюдали сегодня вечером? — И не успела она заговорить, как он ответил на свой вопрос сам: — Новый фашизм. — Вскинул руку в прощальном жесте и добавил: — Добро пожаловать в Британию-2010. Пока!
— Безопасной дороги, — ответила Софи, и они отвернулись друг от друга, двинулись каждый своим путем.
* * *
Софи прошла всего несколько ярдов и сразу нырнула в ближайший «Старбакс», решив, что ведро кофе с обилием молока — в точности то, что ей необходимо, прежде чем принять мытарства очередного вечера в обществе отца.
С мокко в руке она поискала себе место и увидела за столиком у окна одинокую Нахид. Софи потянулась было к ней, но затем, не желая навязываться, выбрала свободный столик рядом. Однако Нахид ее заметила, махнула рукой и кивнула, и все это Софи решила истолковать как приглашение.
— Привет, — произнесла Нахид, пока Софи устраивалась напротив. — Думала, вы уже на трассе, жмете девяносто пять миль в час по внешней полосе, для кайфа.
Софи рассмеялась и сказала:
— А я думала, вам нужно что-нибудь покрепче кофе после такого-то вечера.
— Вряд ли, — сказала Нахид. — Я за рулем, домой ехать, а нам полагается быть прозрачными как стеклышко.
— Само собой, — отозвалась Софи, чувствуя, что ляпнула глупость.
— Кроме того, занятие прошло неплохо, совсем неплохо. Вы, ребята, вели себя вежливо и прилично, в общем и целом.
— Я вся сплошное восхищение, — сказала Софи. — В смысле, я и сама немного преподаю, но тут другое дело… Мои студенты по доброй воле на занятия ходят, им хочется учиться — большинству из них.
— Мне моя работа нравится, — сказала Нахид. — Она стоит усилий, и у меня последнее время получается, пусть даже я сама это говорю.
— Точно, — согласилась Софи. — Я сегодня многое узнала, хотя и не то, на что рассчитывала. Почему-то думала, что вы все из полиции.
Нахид улыбнулась.
— Нет. Эти курсы ведет не полиция. Мы все в основном были инструкторами по вождению. А вы, — обратилась она к Софи, — вы где преподаете?
— В университете. Историю искусств. Не настолько стоящее усилий, наверное. По крайней мере, то, чему я учу, спасает не многие жизни.
— Незачем извиняться за то, чем занимаетесь, — сказала Нахид.
На столе зажужжал ее телефон, Нахид глянула на экран, раздумывая, принять ли сообщение. Великая дилемма современного светского этикета.
— Давайте-давайте, — сказала Софи. — Мы все так делаем.
Нахид всмотрелась в телефон.
— Ну, это просто Иэн. — Прочитала сообщение. — Говорит, я сегодня молодцом.
— Как мило с его стороны.
— Он приятный парень. — Повинуясь порыву, взяла телефон и набрала ответ, затем глянула на Софи — с привычным уже теперь блеском в глазах. — Хотите, скажу, что я написала?
— Если это не личное.
— Сказала, что пью кофе с наркушей на спидах.
Софи рассмеялась:
— У меня уже такая кличка?
— Когда перерыв на чай, мы всегда выдумываем всем вам прозвища. Полагается продумывать вторую часть занятия, но… в общем, у нас это все уже от зубов отскакивает — более-менее.
— Скажите другие клички, — попросила Софи.
— По-моему, не стоит.
— Вот Дерек. Который по спортинвентарю.
— Мистер Злюка. Не очень оригинально, я понимаю, но ему к лицу. У нас таких один-двое всегда находятся, кстати. Одно понимаешь в этой работе точно: ох и много у людей гнева.
— Вы смелая — так подставляться под обстрел.
— Да не то чтобы. И вопрос тут не всегда расовый. Людям нравится злиться на что угодно. Очень часто они просто ищут повод. Мне их жалко. Думаю, у многих… мало что происходит в жизни. Эмоционально. То есть, может, у них брак усох или все, что они делают, стало некоей привычкой, не знаю. Но они мало что чувствуют. Никаких эмоциональных стимулов. Нам всем необходимо чувствовать, верно? Когда из-за чего-то сердишься, хоть что-то чувствуешь. Получаешь свой эмоциональный кайф.
Софи кивнула. Во всем этом был отчетливый смысл.
— А вы? Вам не надо сердиться, чтобы чувствовать себя живой?
— Мне повезло, — сказала Нахид. — У меня хороший муж и двое прелестных детишек. Они задачу выполняют. А у вас?
— О, я сейчас в некотором смысле… между отношениями. — Софи помедлила, но пока она это произносила, у Нахид вновь зажужжал телефон.
Она покосилась на экран и невозмутимо произнесла:
— Ну что ж, очень своевременное сообщение. — Она глянула на Софи. — Это опять Иэн. Он просит меня взять у вас номер телефона.
За всю свою жизнь Софи никогда не встречала никого с таким же пронзительным взглядом — или с такой же красноречивой, застающей врасплох улыбкой. Софи показалось, что она под этим взглядом сейчас увянет.
— Стоит дать?
Бенджамин вновь ехал из Шрусбери в Реднэл, вдоль реки Северн, через городки Крессидж, Мач-Уэнлок, Бриджнорт, Энвилл, Стаурбридж и Хэгли. Этим путем он катался туда-сюда по крайней мере дважды в неделю весь последний год. Двести поездок или даже больше. Немудрено, что ему теперь казалось, будто он знает каждый изгиб трассы, каждую черту пейзажа, каждый объезд, каждый паб, каждую автозаправку, каждый «Теско Экспресс», каждый садоводческий магазин, каждую старую церковь, ныне обустроенную под жилье. Он знал, где пробки будут паршивее всего, а где есть лазейки, чтобы обогнуть особенно неудобную череду светофоров. Сегодня-то это все не требовалось. Дороги пустовали. Резкий холод, притащивший за собой в эти края снег в начале месяца, уступил облачным небесам и температурам помягче; тусклая, невыразительная погода, то, что надо, и для этой поездки, и для ее повода. Субботнее утро, как любое другое такое же. Рождество — день, который Бенджамин пылко возненавидел.
К дому отца он подкатил в одиннадцать с небольшим утра. К дому, где вырос. К дому, который его родители купили в 1955 году. Краснокирпичный отдельный дом с пристройкой над гаражом, добавленной в начале 1970-х. Бенджамин знал этот дом так хорошо, что уже не видел его, уже не замечал как таковой и уже, возможно, затруднился бы описать его постороннему человеку сколько-нибудь в подробностях. Сегодня же утром он заметил одно: растения в ящике на подоконнике снаружи гостиной все перемерли — и, если судить по их виду, не один месяц тому назад.
Внутри все было вроде довольно чисто и опрятно, как обычно. Бенджамин платил уборщице, чтобы приходила раз в неделю по четвергам, поскольку не верил, что отец станет следить за домом. На сушке в кухне одна тарелка, один нож, одна вилка, пивной стакан и сковородка. Со смерти жены Колин не брался ни за какие блюда сложнее тех, что готовятся на сковороде. Жарил помидоры и ел с тостом и яичницей; ну, может, еще грибы, если был в ударе. Разнообразие в питании отца возникало, когда готовил Бенджамин — или когда он вывозил Колина куда-нибудь поужинать. Сегодня отец во всяком случае хорошенько поест печеного на обед.
На Колине был свитер с узорами, какие нравились знаменитым гольфистам и дневным телеведущим в 1980-е. Когда, в очередной раз посетив уборную, он спустился на первый этаж, при нем был пластиковый пакет с несколькими неловко завернутыми подарками — единственная во всем доме уступка Рождеству, какую Бенджамин заметил.
— Я думал, ты собирался купить елку, — сказал он.
— Я и купил. Она во дворе.
Бенджамин выглянул в кухонное окно и увидел елку, прислоненную к стене садового сарая, все еще запеленатую в пластиковую сетку.
— Выброшенные деньги, а?
— Завтра поставлю.
— Завтра поздно. А игрушки? Мама всегда что-то на елку вешала.
— Ой, неохота мне было доставать их с чердака. Может, на следующий год, когда буду пободрее. Собираешься и дальше меня критиковать или мы все же поедем?
Бенджамин глянул на часы. Всего десять минут двенадцатого. Чтобы добраться до Лоис, у них бездна времени.
— Где твоя ночевочная сумка?
— Я передумал. Можешь привезти меня после ужина обратно. Не хочу оставаться у твоей сестры, слишком хлопотно это, как ни кинь.
Бенджамин вздохнул. Перемены планов раздражали его — по эгоистическим причинам.
— Тогда мне придется с тобой тут остаться.
— Зачем?
— Нельзя же тебе быть одному в рождественскую ночь.
— Почему это? В любую другую ночь я же один. Занимайся своими делами, за меня не волнуйся. Обузой я точно быть не хочу.
Унимать неоднократно выраженный отцом страх, что он станет «обузой», оказалось одной из немногих настоящих обуз общения с ним. Но Бенджамин уже успел понять, что спорами ничего не добьешься. Взял пакет с подарками и повел Колина к машине.
* * *
Лоис с Кристофером, Софи, Бенджамин и Колин сидели в бумажных коронах за обеденным столом, перед ними на тарелках башнями высились индейка и овощи. Настроение граничило с похоронным.
— Мы это ради папы, — с нажимом говорила Лоис брату в кухне.
— Ему не надо. Вся эта затея — пустая трата времени.
— Вот спасибо-то. Очень по делу. Лучше б я тогда дома осталась.
— А это не твой дом разве? Последнее время мало кому это понятно.
Ели почти в полном молчании. Бенджамин пытался прочитать вслух шутки, написанные на хлопушках, но они показались затасканными, не искрометнее случайных цитат из какого-нибудь угрюмого фильма Ингмара Бергмана. Улыбалась одна Софи, но, как выяснилось, не шуткам, а полученному текстовому сообщению.
— От кого это? — спросила Лоис, как способна спросить лишь мать.
— От Иэна, — ответила Софи. — Просто желает мне счастливого Рождества.
— И где же он сам его проводит?
— С матерью.
— Новый парень, — пояснил Кристофер своему тестю, произнеся эти слова громко и медленно, ошибочно полагая, что Колин глохнет.
— Здо́рово, — произнес Колин. — Пора бы уже. Вам обоим не помешали бы внуки.
Софи отхлебнула вина и сказала:
— Бежишь впереди паровоза, а, дед? Он пока даже не мой парень. Всего два свидания было.
— Ну кому-то же надо продолжать род, — напирал Колин. — Остальные не очень-то преуспели в этом деле.
— Уймись, пап… — встрял Бенджамин.
— Нас за столом пятеро. И это всё? На большее вы, ребятки, не способны? Мы с вашей матерью родили троих. Я думал, к этому времени в мире будет чуть побольше Тракаллеев.
Молчание, последовавшее за этим выплеском, оказалось самым неловким и глубоким, чем все предыдущие. Семья за столом знала то, чего не ведал Колин, — у Бенджамина уже была дочь, жившая в Калифорнии, но он с ней не общался.
— Уверена, Пол скоро найдет себе кого-нибудь в Токио, — сказала Лоис. — Наверное, приедет тебя навестить через несколько лет с целой армией миленьких детишек, наполовину японцев.
Колин скривился и накинулся на брюссельскую капусту.
После обеда пошли прогуляться — все, кроме Колина. Он рухнул на диван с «Радио таймс» и заныл, что нечего смотреть по телевизору.
— А я тебе вот это зачем купил, как ты думаешь? — спросил Бенджамин, помахивая подарком отцу. Это был диск с рождественскими выпусками Моркама и Уайза[19].
— Не хочу я смотреть старье.
— Ага, ты и новье не любишь. — Бенджамин присел перед телевизором и воткнул диск. Пока возился, его посетило яркое воспоминание: Рождество 1977 года, тридцать три года назад, когда они всей семьей сели смотреть последнее представление этого комического дуэта на Би-би-си. Деды тоже присутствовали, и Бенджамин, смеясь вместе со всеми, запомнил это невероятное ощущение единства, ощущение, что целый народ оказался ненадолго, мимолетно объединен божественным действом смеха. — Двадцать семь миллионов человек это смотрели, между прочим, — напомнил он отцу.
— Потому что у нас было всего три канала. — Лоис вошла в комнату и встала у Бенджамина за спиной. — И ничем больше не займешься. Ты готов? Эдак мы выйдем, когда уже стемнеет.
Выбрались вчетвером, двинулись спокойными задворками, которые сегодня казались чуть менее обыденными благодаря рождественским украшениям там и сям да огонькам. Вскоре Бенджамин уже отстал, привычно погрузившись в свои мысли. Софи заметила это и помедлила, чтобы он смог их догнать.
— Все в порядке? — спросила она.
— Да, все хорошо. — Он улыбнулся и коротко приобнял ее, неуклюже потрепал по спине. — Спасибо за подарок, кстати. Очень трогательно.
— Он тебе не нравится, правда же?
Софи подарила Бенджамину экземпляр «Фаллопии», купленный на встрече Соана с двумя именитыми писателями. Экземпляр был с автографом: «Бенджамину — всего наилучшего, Лайонел Хэмпшир».
— Ну, рецензии на эту книгу были несколько… неоднозначные, — сказал Бенджамин. — Но прочитать мне хочется. Он сам каков, лично?
— Как раз таков, каким его себе представляешь.
— Ох, батюшки.
Пришли к музею Толкина, за ним — маленький участок травянистой пустоши, который недавно обозначили как «Зону отдыха „Шир“», и тот и другой запустили у Софи в голове цепочку размышлений.
— В тот вечер, — сказала она, — Соан подсказал, что «Сэрхол» — это практически анаграмма «сюр, лох». Что ж мы этого не замечали так долго?
Бенджамин не ответил. Смотрел вперед, на Лоис и Кристофера: они шли рука об руку, что почти придавало им вид счастливой супружеской четы. Лоис раздосадовала брата своим саркастическим замечанием о скудости телеканалов в 1970-е — это замечание подпортило (нечаянно, скорее всего) одно из самых дорогих Бенджамину воспоминаний. Краеугольным камнем его системы верований по-прежнему оставалось то, что Британия времен его детства была более цельным, сплоченным и единодушным местом (все начало разваливаться по итогам выборов в 1979-м), и смутное тепло, какое Бенджамин все еще ощущал, когда смотрел комедийные программы 1970-х, было тому неким доказательством. Но, разумеется, ждать, что Лоис воспринимает это так же, не приходилось: для нее то десятилетие было эпохой трагической, ужасной. Бенджамин наказал себе никогда об этом не забывать — и всегда делать на это поправку.
Впрочем, Бенджамина дома ждало резкое напоминание, когда они вернулись. Колин бросил смотреть Моркама с Уайзом и переключился на новости Би-би-си. Вид у отца был потрясенный. Лоис села рядом, а Бенджамин ушел на кухню ставить чайник.
— Все хорошо, пап? — спросила она.
— Та женщина, — произнес он без выражения, не сводя взгляда с экрана. — Девушка в Бристоле. Которая пропала на прошлой неделе. Нашли тело. Пока не сказали, что это она… Ну а кто ж еще?
Лоис промолчала, но напряглась всем телом. Кристофер присел на подлокотник дивана и положил руку на ее судорожно поджатое плечо. Эту картину Бенджамин застал, возвратившись в комнату: замершая сестра, мужчины по обе стороны от нее.
— Что сейчас, должно быть, переживают ее родители, — проговорил Колин, глядя теперь на Кристофера, и глаза у него посветлели и повлажнели. — Я точно знаю, каково им. — Сжал дочери руку быстро, с яростной страстью. — Годы прошли, как мы ее чуть не потеряли, ну.
Бенджамин поглядел, помедлил, осознал, что для него тут роли не предусмотрено, и удалился. Тихонько идя в кухню, услышал, как отец повторяет:
— Чуть не потеряли ее.
Январь 2011-го
После секса Софи погрузилась в глубокий сон, а просыпалась потом очень медленно, поздним утром, сперва осознав серый свет, сочившийся сквозь занавески, затем приятную боль в усталых членах, а следом грубоватое, на ощупь похожее на наждак лицо Иэна — он потерся о ее щеку и поцеловал Софи.
— Доброе утро, сладкая, — сказал он. — Я отскочу на минутку за всякой фигней.
— Угу.
— Спала хорошо?
— Очень хорошо.
— Собрался купить бекона, яиц…
— Красота какая.
— …грибов, помидоров, свежего апельсинового сока…
— Ты всех своих девушек так балуешь?
— Хочешь воскресную газету?
— Можно.
— «Санди таймс» годится?
— Предпочитаю «Обзервер»[20].
— Возьму обе.
Он отстранился, она сонно потянулась к нему, обняла за шею и привлекла к себе — еще раз поцеловаться. Одеяло сползло и напомнило Софи, что она голая, а Иэн полностью одет. Это разгорячило их обоих. В результате в экспедицию за провиантом Иэн отправился на двадцать минут позже.
Когда он ушел, Софи еще несколько минут повалялась в счастливом послесоитии, а затем выбралась из постели. Приметила белый банный халат, висевший на двери в ванной, влезла в него и раздернула шторы. Накануне вечером — точнее, сегодня рано утром — она пришла с Иэном к нему домой, но поскольку была в изрядном подпитии и трепетала в предвкушении, решив, что наконец переспит с Иэном, не обратила внимания, где он живет. Сегодняшний утренний вид из окна был непривычным, и она несколько мгновений пыталась сориентироваться. Похоже, Софи оказалась в одном из сравнительно новых спальных кварталов позади Сентенэри-сквер. Виднелись зады Баскервил-хауса и громадная стройка, где постепенно обретала очертания Бирмингемская библиотека. (Шум со стройки в рабочие дни наверняка оглушительный, подумала она.) Этим утром признаков жизни в округе отмечалось немного, если не считать мужчину, выгуливавшего пса на травянистом пятачке, да двух подростков, со скучающим видом сидевших на качелях посреди детской площадки. Где-то на небольшом отдалении беспрестанно гудел автомобильный поток. Вроде бы типичное бирмингемское воскресенье — для всех, кроме нее.
За жизнь она переспала с немногими мужчинами; для Софи секс — это и тяготение, и приключение. Эта ночь и сегодняшнее утро ощущались как восхитительная прогулка на цыпочках в неведомое. На несколько минут остаться одной у Иэна в пустой квартире — неожиданный дополнительный подарок. Пока что в их трех довольно долгих, но несколько скособоченных беседах он сумел почти никак себя не выдать. И вот, быть может, выпала возможность узнать его получше.
Первый порыв, оказавшись в гостях, — посмотреть на книги. Академический рефлекс, глубоко вшитый и совершенно неукротимый. Впрочем, сегодня он Софи не очень помог. Она уже понимала, что Иэн, по его собственному признанию, «невеликий читатель». Понимала она и то, что, вероятно, прочла больше здоровой для себя нормы, что придает чтению слишком большую важность, что в некотором смысле невротически одержима литературой и ее предположительной нравственной пользой. Но все равно обнаруженное на полках разочаровало Софи. Несколько спортивных автобиографий, кое-какие справочники (также в основном касающиеся спорта), романы-бестселлеры недавних лет, два-три руководства по безопасному автовождению. Софи посчитала книги: итого четырнадцать штук. Примерно столько же дисков с кино, в основном Джеймс Бонд и Джейсон Борн. Видеопроигрыватель стоял на полу рядом с широким телеэкраном и странно выглядевшим электронным прибором, снабженным ручками, который был либо причудливой эротической игрушкой, либо (скорее всего, осознала Софи с облегчением) игровой приставкой. Софи подняла ее, покрутила в руках, ненадолго заинтересовавшись странным предметом, назначение которого показалось ей таким таинственным. Никто из ее прежних молодых людей ничем подобным не владел.
Посередине гостиной располагался квадратный журнальный столик, изрядно заляпанный водяными разводами и пятнами от кофе, на полочке внизу — одинокий журнал под названием «Стафф»[21]. Диван и стулья, возможно, из «Икеи» — они, во всяком случае, отчетливо походили на диван и стулья в каждой квартире, которую она когда-либо снимала сама, и все эти диваны и стулья были из «Икеи». Растений на глаза не попадалось, но зато на стене висела в раме большая репродукция ван-гоговских «Подсолнухов».
В дальнем углу гостиной — неотгороженная кухня. В холодильнике почти ничего не нашлось — кроме пива, масла, сыра, молока и пачки сосисок, просроченных на восемь дней, судя по дате на упаковке. Морозильник пустовал, если не считать ледяных кубиков и коробки «Магнумов», в которой осталось всего две штуки.
Какая досада: о мужчине, которого Софи сейчас выбирала себе в новые партнеры, она почти ничего не узнала. После того как быстрый набег в ванную дал еще меньше сведений, она махнула рукой и решила вскипятить воду для кофе. Ожидая, пока вода закипит, Софи достала тот самый «Стафф» и уселась за журнальный столик почитать.
На обложке красовалась молодая привлекательная брюнетка — прижимала к бедру айпэд, пучила губки и вперялась вдаль. Пусть и с планшетом в руке, ночь она, похоже, собиралась провести по клубам, а не за работой, поскольку облачена была в едва прикрывавшее пах белое мини-платье с прозрачными вставками, в них виднелись обширные участки ее бюста и грудной клетки. Листая журнал, Софи заметила, что это сквозная тема иллюстраций — странная параллельная вселенная, где передовую технику применяют исключительно красивые молодые женщины, желавшие работать, фотографировать или играть в одном белье или купальнике. Обложка обещала рецензию на пятый айфон («Как „Эппл“ переизобретет колесо — смартфон… заново»), обзор «убойной техники, которая преобразит будущее», ностальгический каталог «39 гаджетов, изменивших мир, — „Скай++“, „Вии“ и 10 лет айпода», а также статью «Как устроить себе ШПЛ». Незачем и говорить, что Софи понятия не имела, что такое ШПЛ и зачем кому бы то ни было его устраивать, — шезлонг полосатый летний? Шалаш из палок и листьев? Добравшись до соответствующей статьи, Софи обнаружила, что это сокращение от «шутера от первого лица», такая разновидность компьютерных игр, где кто-то палит из оружия (очевидно) и как раз с его точки обзора все вокруг и показывают. Тут она вновь ощутила легкий грешный трепет выхода за собственные границы комфорта и продолжила читать со всевозрастающей зачарованностью, спотыкаясь о понятия, с какими раньше никогда не сталкивалась, — мегатекстуры, игровой движок, излучательность, запаздывание, — и так погрузилась в статью, что, когда открылась входная дверь, Софи это, пусть всего на миг, раздражило. Но Иэну обрадовалась, особенно когда, не успев остановить на ней взгляд, он замер, груженный магазинными пакетами, и сказал:
— Ух ты.
— Ух ты?
— В голове не умещается, что это ты. В голове не умещается, что это ты — здесь, у меня в квартире. Выглядишь… невероятно.
Не праздный он ей комплимент отвешивал. Волосы растрепаны, тело все еще светится от их последнего соития, белый банный халат так ей свободен, что едва не спадает, — Софи смотрелась как воплощенная мастурбационная фантазия любого читателя «Стаффа». Еще бы ей тискать «Олимпус ПЕН ЭП-3» («гладкий металлический кожух и, судя по всему, самый быстрый в мире автофокус») или пускать слюни на «Блэкберри Болд 9900» («снабжен тач-скрином и клавиатурой „КВЕРТИ“, работает на шустрой новой „Блэкберри 7 ОС“») — и полная картинка получилась бы. Неудивительно, что вид у Иэна был счастливый. Он еще раз ее поцеловал — долгий нежный поцелуй в губы, ответила Софи пылко, неспешно, затем Иэн нехотя отстранился и сказал голосом мужчины, которому не очень верится, что действительность вдруг повернулась таким вот боком, — мужчины, потерявшегося во сне наяву:
— Ну ладно. Нам надо поесть.
За завтраком Софи покаялась, что, пытаясь разгадать тайны этой квартиры, пережила разочарование.
— В смысле, тебе бы вряд ли удалось сделать ее более безликой, даже если бы ты служил агентом правительства и пытался сохранить тайну личности. Тебе разве не хочется это как-то персонализировать? Пару горшков с растениями, какие-нибудь цветовые пятна, побольше картинок на стенах?
— Я знаю, какую картинку хочу повесить на стене в спальне, — сказал Иэн. Сложил пальцы прямоугольником и прищурился сквозь них, словно выбирая кадр. — Фотографию тебя, в таком вот виде. Но тогда я по утрам вставать с кровати перестану.
Софи улыбнулась, чуть отодвигаясь и запахивая халат потуже.
Позже, после того как вернулись в постель и еще позанимались любовью, а потом долго отдыхали в объятиях друг дружки, они взялись читать газеты, а их взаимная нагота сделалась скорее уютной, чем эротичной. Сидели рядышком, и Софи наслаждалась, ощущая точки, в которых они с Иэном свободно соприкасались: прижимались плечами, мягкий изгиб ее бедра — вдоль мускулистого и более прямолинейного Иэнова, сплетались ступнями, и Иэн нежно водил пальцем ноги вдоль ее щиколотки. Все это ощущалось как возвышенно правильное и неизбежное, и легкость, с какой их тела подходили друг другу, отражалась и в расслабленной игривости их беседы. Первое воскресенье года, серьезных новостей в газетах немного. Громадная городская лиса поймана и убита в Мэйдстоуне, фотоснимок семилетнего мальчика, держащего зверя на весу, — ну или пытающегося, поскольку размеры у обоих примерно одинаковые. Исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что женщины, у которых в диете много фруктов и овощей, с большей вероятностью зачинают девочек. В Саутгемптоне, судя по всему, сбежали три свиньи, полиция, что загадочно, связывает их побег с местной фермы с «разрывом в отношениях» у пары, которая свиней содержала. Будь Софи одна, она бы не удосужилась дочитать большинство этих историй, но делиться ими с Иэном было весело — смеяться над странностью и глупостью мира, узнавать, как у Иэна устроено чувство юмора. Настроение у них поменялось (но и тогда перемена эта была мимолетной), когда он добрался до материала о Джоанне Йейтс, молодой женщине из Бристоля, тело которой нашли на Рождество.
— Я смотрю, того парня выпустили, — сказал он, пробегая взглядом первые пару абзацев. — Хозяина ее квартиры. Которого на допрос вызывали.
— Хорошо, — сказала Софи.
— Хорошо? Почему это хорошо?
— Потому что у них не было оснований даже задерживать его.
— Ага… да ты глянь на него.
Он показал ей фотографию Кристофера Джеффриза, шестидесятипятилетнего подозреваемого, которого полиция Бристоля забрала на три дня допросов и выпустила без обвинений. Необычный внешне, даже «чудаковатый» учитель английского с особой тягой к романтической поэзии, известный тем, что иногда подкрашивает волосы в голубоватый оттенок, — идеальный корм для английских газет, убежденных в его виновности с первого же мига, не успели они глаз на него положить, о чем и талдычили все последние дни, оставаясь, впрочем, в рамках закона.
— «Глянь на него»? — переспросила Софи, склоняясь над газетой. — А что в нем такого?
— Ну в смысле, вот же чудик!
Софи опешила.
— Так, для начала, — сказала она, — не вижу в нем по этой фотографии ничего чудно́го. И, кроме того, между «чудиком» и убийцей довольно большой зазор, не?
Иэн глянул на нее и заметил, что щеки у Софи вспыхнули, а кожа у основания шеи потемнела до красноты. Без всяких дальнейших комментариев он быстро перескочил на другую статью на той же полосе.
— Смотри: «Одежный магазин в Лиссабоне пообещал бесплатную одежду первой сотне людей, которые придут в первый день распродажи, облаченные в одно лишь белье».
Софи расслабилась и улыбнулась. На этот раз она забрала у него газету и рассмотрела снимок продрогших покупателей, столпившихся у входа в магазин перед его открытием.
— Классный зад, — сказала она, показывая на одного мужчину. — Хотя и не как у тебя.
Тут она отложила газету, и они занялись другими делами.
Февраль 2011-го
На полпути между Шрусбери и Бирмингемом, недалеко от трассы М54, имеется неизменная примета местной географии, удостоенная даже своего официального указателя, одна из главных достопримечательностей округа и, конечно, выдающийся повод для гордости. Садоводческий центр «Вудлендз». Жизнь его началась в 1973-м, тогда он был всего лишь торговой лавкой — небольшим, скромным заведением, продававшим растения, глиняные горшки и мешки с компостом. Ныне, почти сорок лет спустя, он расцвел и расширился до целого королевства, могучей империи, чьи подданные могли бродить часами — да целый день, было бы желание — среди всевозможных угодий и провинций, где явлены были все стороны человеческой жизни, ни одна не обойдена вниманием, для каждой свой товар. Снаружи действительно простирались пейзажи, богатые на травы, кусты, мхи, цветы, лианы, кактусы и прочую разнообразную растительную жизнь, которая, пусть и потрясала масштабами и пестротой, была в точности тем, что ожидаешь увидеть в подобном заведении. И лишь когда покупатели входили в крытую часть «Вудлендз», истинный масштаб и всеохватность этого места делались очевидными. Первым делом перед вами оказывались акры — бескрайние пастбища — садовой мебели, простиравшиеся докуда хватало взгляда. Не просто стулья и столы, а целые комплекты по четыре предмета, какие не испортили бы собой гостиную деревенского имения, не говоря уже о скамейках, тахтах, креслах-качалках, двухместных диванчиках, оттоманках, «честерфилдах», обеденных столах, столиках для напитков, журнальных столиках, случайных столиках и всем прочем, что могло бы по некоему разумению превратить садик на заднем дворе в жилое пространство на свежем воздухе. Но, даже приняв во внимание десятки громадных барбекю, куда более затейливых и вычурных, чем что угодно из кухонного инвентаря в домах у большинства людей, и поражающий воображение набор садового освещения — прожекторов, фонарей, гирлянд, подсветки на солнечных батареях, проблесковых огней, сияющих, мерцающих, — даже тогда нельзя считать, что вы хотя бы с поверхности постигли возможности «Вудлендз». Там имелся отдел кухонной мебели; зоомагазин, продававший все — от золотых рыбок до кроликов; магазин одежды, где царили «Барбур», сапоги «Веллингтон» и вешалки с рубашками и штанами из полиэфирных тканей; громадный отдел, посвященный ремеслам и увлечениям — рисованию, вышивке, шитью, кружеву, миниатюрным железным дорогам, авиамоделям, чему угодно, что ум человеческий в силах помыслить, лишь бы заполнить часы безделья в детстве или на пенсии; обширная продуктовая лавка, торгующая всем — от чеддера до английского вина; раздел с аудиодисками (с упором на Фрэнка Синатру, Веру Линн, Джонни Кэша и других стародавних звезд) и видеодисками (с упором на британские военные фильмы, илинговские комедии[22], кино с Джоном Уэйном и прочее ностальгическое); магазин игрушек, а в нем — нешуточный набор пазлов с фермерскими пейзажами доиндустриальной эпохи, «спитфайрами» и «харрикейнами» в полете, сценами из традиционной английской сельской жизни, винтажными автомобилями и всяким подобным; даже книжная лавка, опять-таки с уклоном в прошлое, где помимо обязательных тысяч наименований книг, посвященных садоводству, предлагались еще и без счету книги по местной истории. Многие представляли собой подборки старых черно-белых фотографий или оттененных сепией почтовых открыток и гордо носили названия «Образы былого Дадли», «Чэддсли-Корбетт в фотографиях» или «Бриджнорт, каким он был когда-то». Немалая часть этих книг, если приглядеться к корешкам, печаталась под маркой «Чейз Хисторикл».
Основатель, директор, редактор, координатор маркетинга, менеджер по связям с общественностью и арт-директор «Чейз Хисторикл» в лице самого Филипа Чейза попивал капучино в трепетном сердце (или же, скажем, плотно набитом желудке) «Вудлендз» — в его ресторане. Здесь, где мясной пирог с элем и пропитанная пивом рыба с картошкой оставались самыми популярными пунктами в меню вопреки неоднократным попыткам шефа придать списку блюд международный оттенок, очереди из бело- и сребровласых посетителей стояли день-деньской; посетители держались за свои деревянные подносы и предвкушали пир, вперяя взгляды в пирог под лимонной глазурью, булочки с вареньем, чайники наваристого бурого йоркширского чая. В это буднее утро — первый день весеннего семестра — дела у ресторана шли бойко, и Филип радовался, поскольку эти люди были и его клиентами, и скоро многие из них придут покопаться на полках в книжном магазине; сегодняшние продажи окажутся крепкими. Он продолжил попивать капучино и поглядывать на часы на экране телефона. Филип договорился о встрече с двумя людьми здесь, в ресторане, и первый уже опаздывал.
Этим первым человеком, так уж получилось, был Бенджамин, неверно запомнивший время встречи, — сейчас он считал, что приехал сильно заранее, и коротал время у входа в детский театр «Вудлендз». Да, эта Занаду среди садоводческих центров располагала даже собственным театром — пространством для зрелищ, во всяком случае, — который оказывался очень к месту именно в это время, когда шли школьные каникулы и родители готовы были на что угодно, лишь бы избавиться от ответственности за развлечение отпрысков хотя бы на полчасика. Благодаря этому нескольким местным увеселителям детей доставалась хлебная работа, но чаще им приходилось довольствоваться праздниками в честь дней рождения по выходным. В это утро с одиннадцати до одиннадцати тридцати небольшую, но воодушевленную толпу зрителей развлекал ужимками Барон Умник, дородная фигура, облаченная в джентльменский твид 1930-х, с золотыми карманными часами, красным пинг-понговым шариком на носу и в пошловатой разноцветной академической шапочке, шатко нацепленной на макушку. Бенджамин наблюдал за этим выступлением уже минут десять и вынужден был признать, что ему оно очень нравится. Детям, по сути, давали урок математики, сдобренный несуразными шутками, фокусами и физической комедией, — и все это подавалось в основном с энтузиазмом, а не с математической точностью. Действо было довольно сумбурным, но сам Барон, казалось, получает удовольствие — если судить по его постоянным выходам из роли, и это удовольствие передавалось зрителям. Таким он казался милым и увлекательным персонажем на самом деле, что Бенджамину и в голову не приходило, как кто-то мог бы этим человеком не проникнуться, а потому он изумился, услышав, как голос рядом с ним в дверях пробурчал:
— Терпеть не могу этого мудака.
Бенджамин обернулся. На человеке с наклеенными усами был белый медицинский халат, резиновые сапоги и кожаный шлем авиатора Второй мировой войны.
— Вечно он затягивает. Вечно выбивается из графика. Нарочно залезает на мое время, подонок мерзкий.
На грифельной доске возле двери мелом был написан распорядок сегодняшних развлечений. Следующее представление, которое начиналось в одиннадцать тридцать, называлось «Доктор Сорвиголова». Сейчас было одиннадцать тридцать три.
— Дайте-ка угадаю. — Бенджамин показал на имя на доске. — Не вы ли это?
— Еще как, блин, — сказал Доктор. — А этому гаденышу уже пять минут как пора вон со сцены.
Услыхав их голоса, Барон Умник обернулся, приметил своего соперника, и лицо у него потемнело до гримасы. Бенджамин учуял, что положение может стать неприятным, и решил, что участвовать в этом не хочет. Уже собравшись уходить, глянул напоследок на харизматичного потешника и зачарованный круг ребятишек, и тут случилось нечто странное. На этот раз, когда Барон перехватил взгляд Бенджамина, на лице у клоуна что-то проявилось — что-то подобное узнаванию. Он едва не сделал шаг вперед, прочь из круга, прочь из роли, и не поприветствовал Бенджамина как старого друга. Но, прежде чем что-нибудь подобное смогло случиться, вмешался Доктор — ринулся к сцене, попутно костеря своего соперника во всю глотку за то, что тот не завершил представление в согласованное время. Между клоунами разразилась злая ссора — дети наблюдали за ней со смесью веселья и оторопи, и никто не понимал, это все еще спектакль или уже нет. Бенджамин решил, что ему совершенно точно пора убраться, и, не задумываясь более ни на миг о странной перемене в лице Барона, зашагал к ресторану.
— Где ты был? — спросил Филип.
— Я же не опоздал, верно?
— Мы договорились в одиннадцать.
— Правда?
Они встречались здесь ежемесячно уже год или около того — с тех пор как Бенджамин перебрался на мельницу. Это место они выбрали просто потому, что оно располагалось на полпути между их домами, но было в этом и приятное совпадение (которое заметил Филип): «Вудлендз» исполнилось почти точно столько лет, сколько их с Бенджамином дружбе. Они познакомились в школе «Кинг-Уильямс», элитном учебном заведении, располагавшемся почти в центре Бирмингема; у школы имелась традиция взращивать в своих стенах выпускников, которые, по словам школьного гимна, «славят ее на весь белый свет». Ни Бенджамин, ни Филип, следует отметить, пока этот наказ не выполнили. Тогда как некоторые их современники сделались промышленными магнатами (в том числе ненавистный спортивный чемпион Роналд Калпеппер, ныне, судя по всему, владелец алмазных копей в Южной Африке, по слухам, стоящий более ста миллионов фунтов) или — в случае Дуга — выдающимися лидерами лондонского общественного мнения, Бенджамин с Филипом, похоже, довольствовались тихими радостями недотеп. Когда в середине нулевых зарубили давнишнюю газетную колонку Филипа под названием «По городу с Филипом Чейзом», он расстроился, но не удивился; уже приметив нишу на рынке — книги по местной истории качеством выше среднего, — он взялся обустраивать свою издательскую марку, первые три книги написал сам, а теперь, через пять лет, уже неплохо кормился с этого дела. После того как первый брак завершился дружелюбным разводом, Филип уютно обжился со своей второй женой Кэрол. Бенджамина же, удачно перекрутившегося на лондонском рынке недвижимости, в его пятьдесят точнее всего было бы считать удалившимся на покой. Если и имелись у него планы на будущее, он их держал при себе, и ничто не возмущало покоя его ума — даже знание, что он высадил тридцать лет своей жизни на бестолковую романтическую одержимость или вложил несколько десятков тысяч часов в работу над исполинским литературным и музыкальным проектом столь непомерным, несуразным и непродуманным, что даже сам осознавал: этому проекту никогда не достичь завершенности, не говоря уже о публике. Бремя всего этого профуканного эмоционального вложения и интеллектуальной энергии кого-то, может, и раздавило бы, но не Бенджамина. Он пробрался по туннелю травмы и вылез, помаргивая, на добродушные равнины невозмутимости, по которым теперь, довольный, брел без всякой отчетливой цели на уме — ни дать ни взять типичный посетитель «Вудлендз», у которого есть лишние два-три часа, чтобы потратить их в отделе садовой мебели, не имея намерения что-либо купить.
— Короче, у нас всего несколько минут, — сказал Филип, еще раз глянув на телефон. — Без четверти у меня встреча с потенциальным автором.
— Кто-то интересный?
Перед Филипом на столе лежало письмо. Он развернул его и подал Бенджамину.
— Открытки старого Дройтуича и Фекенэма, судя по всему. «Непревзойденная коллекция», говорит.
— Такому едва ли откажешь. — Бенджамин просмотрел содержимое письма и резко вдохнул на одной-двух фразах. — Ой-й, вроде немножко чокнутый.
— Они все немножко чокнутые. Чокнутые — это ничего. В меру, как в чем угодно другом. Некоторые сказали бы, что мы — целый народ безобидных чокнутых.
— Ну наверное, — произнес Бенджамин и задумался над сценой в детском театре, которой только что стал свидетелем. Что подвигало кого-то наряжаться Бароном Умником и зарабатывать на жизнь, валяя дурака перед толпой детворы? Не жили бы они в стране скучнее этой, кабы не такие вот люди?
Так или иначе, в потенциальном авторе Филипа, когда через несколько минут он явился и представился, ничего особенно чудаческого не отмечалось. Худшее, что о нем можно было бы сказать, — он, казалось, довольно рассеян и ему неловко. Потрепанный субъект с нечесаными седыми волосами, в зимнем анораке с подкладкой, покрытом пятнами, с водянистыми глазами, глядевшими сквозь крупные старомодные очки в проволочной оправе. Он потряс Филипу руку, представился Питером Стоупсом и вопросительно глянул на Бенджамина.
— Это мой друг Бенджамин Тракаллей, — пояснил Филип. — Все, что вы скажете при мне, можно сказать и при нем. — Он осознал, что похож на Шерлока Холмса, представляющего доктора Ватсона новому клиенту в гостиной дома 221В.
— Я самую малость удивился, когда вы предложили встретиться здесь, — промолвил Питер, усаживаясь напротив Филипа. — Считал, что подобные беседы обычно происходят в стенах вашего кабинета.
Кабинет Филипа размещался в спальне у него дома на Кингз-Хит, но признаваться в этом он не собирался.
— Итак, Питер, — сказал он, — давайте посмотрим, что вы для меня припасли. Открытки старого Дройтуича, верно? Принесли что-то с собой?
— Открытки, да, — и сопроводительный текст, — произнес Питер с немалым нажимом. — И да, они у меня с собой, где-то…
Он принялся рыться в карманах анорака, коих оказалось поразительно много. Наконец, с третьей или четвертой попытки, он обнаружил искомое и вытащил потрепанный манильский конверт, сложенный пополам, из которого извлек с полдюжины древних, мятых открыток в заломах. Бережно выложил их на стол перед Филипом, в два ряда по три штуки.
— Ах да, «Лидо» в Дройтуиче, — проговорил Филип, беря в руки первую. — Очень мило. На глаз — сороковые, я бы сказал.
— 1947-й, да, — подтвердил Питер.
— А вот эта хорошая, «Шато Имни». Странное здание для этой части света. Выстроил Джон Корбетт, промышленник, для своей жены в 1870-х. Она была наполовину француженкой.
— Верно.
— Что ж, эти очень хороши, должен признать, Питер. Сколько у вас их еще?
— Еще? Нет, это все. Все, что есть.
Филип потрясенно умолк.
— Но… для такой книги нам обычно нужна по крайней мере сотня.
— Обычно — да. Но эта будет не обычная книга. Текст, Филип. В данном случае текст — это все.
Филип неохотно произнес:
— Тогда, наверное, рассказали бы вы об этом побольше.
Петер нервно глянул влево и вправо.
— Думаю, нам стоит уйти куда-нибудь, где менее людно.
— Это непросто, — заявил Филип, — в садоводческом-то центре.
— Необходимость — мать изобретательности, — возразил Питер. — Думаю, решение есть. Идемте.
Он встал и направился прочь из ресторана, продираясь сквозь удлинявшиеся очереди обеденных посетителей. (Казалось, для сосиски с пюре или для «обеда пахаря» час никогда не бывал слишком ранним.) Филип двинулся за Питером, растерянно глянув на Бенджамина и проговорив:
— Тебе с нами необязательно.
— Да я такое ни за что не пропущу, — отозвался Бенджамин. — Это даже лучше, чем детский театр.
Вскоре они поняли, куда Питер Стоупс их ведет. Позади здания «Вудлендз», не видимый ни с парковки, ни с основной дороги, размещался самый потайной — но для многих самый ценный — анклав. Ибо здесь стояли садовые постройки. Сперва неброские садовые сараи, как раз такие по размерам, чтобы хранить в них газонокосилку, воздуходувку и немножко инструментов, а вот далее появлялись летние домики, беседки, павильоны и замысловатые, похожие на лабиринты конструкции, объединявшие в себе все перечисленное, — конструкции, призванные обеспечить женатого англичанина тем, чего он желает, вероятно, сильнее чего бы то ни было: местом, куда можно удрать от семьи, не покидая при этом дома.
Таких построек там было двадцать пять — тридцать, из них составили своего рода деревню с улицами, переулками и объездами, пересекавшимися между зданиями. Во всей империи «Вудлендз» сюда заглядывали реже всего, и сегодня, казалось, это место было в полном распоряжении Бенджамина, Филипа и загадочного автора. Питер знал, что делает.
Оглядевшись по сторонам, чтобы удостовериться, что их не выследили, он повел их ко второму сараю. Тот сарай относился к категории построек пониже: простенький кубик с одним маленьким окном и крышей, под коньком которой было недостаточно высоко, чтобы кто-то из них троих смог выпрямиться в полный рост. Более того, все втроем разом они там едва помещались. Несколько неуютных секунд они постояли внутри, согбенные и притиснутые друг к другу, после чего Бенджамин сказал:
— По-моему, надо поискать сарай побольше.
— Верно, — отозвался Питер.
Развернуться внутри этого сарая им не удалось, но все же с некоторым трудом они смогли сдать назад и по очереди выбраться на свежий воздух. Двинулись дальше. Следующий выбранный Питером сарай оказался лишь самую малость просторнее.
— Уверен, нам удастся найти что-нибудь побольше, — сказал Филип, когда они вновь забились внутрь.
— Разумеется, — согласился Питер. — Но я вообще-то собираюсь в ближайшем будущем купить себе сарай. И этот вроде бы как раз то, что надо. Мне, видите ли, требуется место для работы над моими книгами.
Филип с Бенджамином осмотрелись, уж как сумели в тесноте, и попытались оценить, насколько сарай годится как рабочий кабинет.
— Несколько тесноват, — постановил Филип.
— У нас садик маленький.
— Думаю, стол сюда втиснуть можно, — сказал Бенджамин. — Небольшой. По-моему, получилось бы.
— Мне еще нужно место, где хранить инструменты. Жене не нравится, что они захламляют дом.
— Инструменты?
— Музыкальные инструменты. Я руковожу небольшим местным музыкальным коллективом. Мы играем традиционные английские мелодии на исконных инструментах.
— А на чем вы играете? — спросил Бенджамин, почти опасаясь услышать ответ.
— На крумгорне и сакбуте.
— Давайте поищем сарай побольше, — предложил Филип.
Наконец они выбрали самую просторную постройку. В ней было три комнаты, центральное отопление, горячая и холодная проточная вода, а также обширный стол в главной комнате, вокруг которого располагались скамейки с изящно вышитыми подушками. На них-то все трое с некоторым облегчением и уселись.
Воцарилось долгое молчание. Когда Питер наконец вроде бы собрался заговорить, остальные подались вперед, ожидая — и в этом не ошибаясь, — что говорить Питер будет вполголоса.
— Итак, Филип… Как я уже сообщил, в случае с этой книгой самое важное — текст. И слово «важное» я употребляю не попусту. Этот текст излагает историю, которую я обнаружил лично и которая, когда станет широко известна, изменит то, как люди мыслят себе одну из важнейших тем нашего времени.
Несколько мгновений он давал этому впечатляющему заявлению усвоиться, а затем вознамерился продолжить, но тут заговорил Филип:
— Ну, в таком случае почему вы хотите, чтобы я это публиковал? Я всего лишь маленький издатель.
— Верно. Однако из маленьких желудей способны вырасти дубы. И кроме того, — признался он, — надо бы покаяться, что вы не первый издатель, к которому я обратился. Мое предложение рассматривали крупнейшие лондонские учреждения. Надеюсь, вас это не обижает.
— Вовсе нет. Скольким другим издателям вы уже отправляли это?
— Семидесяти шести.
Филип осмыслил это и сказал:
— Что ж, полагаю, фотографии старого Дройтуича могут показаться некоторым слишком нишевыми…
— Даже если добавить к ним Фекенэм, — услужливо встрял Бенджамин.
— Фотографии — лишь повод, — сказал Питер. — Как я уже успел сообщить, текст — вот что важно. История. Итак, то, что я собираюсь вам изложить… — голос сделался еще тише, — обязано остаться в стенах этого сарая.
Бенджамин с Филипом торжественно кивнули.
— Как я понимаю, вы заметили, что у этих фотографий общее? У всех людей на этих снимках?
Филип внезапно догадался, к чему все это.
— Продолжайте, я всему поверю, — произнес он устало.
— Общее у них вот что: все эти люди — урожденные англичане. Так вот, название моей книги — «План Калерги», и вступление у нее о том, что, захоти вы сделать такие снимки в наши дни…
И тут уж полоумная мешанина соображений посыпалась из Питера Стоупса без запинки. Кроме того, Филип, уже изучивший подобные верования несколькими годами ранее, был с мыслями Стоупса знаком. Белые народы Европы вроде как подвергаются постепенному геноциду. Их медленно изводят под корень, и весь этот процесс — дьявольское изобретение одного австрийского аристократа начала ХХ века по имени Рихард фон Куденхове-Калерги. «План Калерги», как его называют некоторые, — программа создания панъевропейского государства, в котором, по словам из его книги «Praktischer Idealismus»[23], «человек далекого будущего будет смешанных кровей. Будущая евразийско-негроидная раса, внешне похожая на древнеегипетскую, заменит разнообразие народов разнообразием личностей». И это геноцидное панъевропейское государство, конечно, уже окрепло и вершит свое злодейство — Европейский Союз, а Калерги — ни много ни мало его духовный основатель.
Через несколько минут Бенджамин с Филипом шагали к своим машинам под февральской моросью, а Питер Стоупс и его шесть старых открыток были посланы куда подальше главным редактором «Чейз Хисторикл» в очень откровенных выражениях.
— Так что же, он все это выдумал? — спросил Бенджамин.
— Ой, нет — Калерги существовал, он, возможно, и впрямь основатель Евросоюза, если хочется докопаться до истоков, — ответил Филип. — Но просто поражает, как эти люди извращают его идеи. Вероятно, мое замечание, что чокнутые безобидны, несколько наивно.
— Нет, вряд ли. — Бенджамин добрался до машины первым и завозился с ключами. — Нам сегодня просто не повезло. Таких, как он, немного.
— Надеюсь, черт бы драл. Давай где-нибудь в другом месте в следующий раз увидимся?
— Не-а, мне здесь нравится. — Бенджамин пристегнулся, захлопнул дверцу и открыл водительское окно. — Это всегда приключение. Никогда не знаешь, что обнаружишь. Иногда хорошее, иногда гадкое, чаще всего странное донельзя. Но такая вот она, Англия. Никуда от нее не денешься.
Он помахал из окна, отъезжая, Филип стоял и махал ему вслед, а затем горестно покачал головой и задумался, не слишком ли далеко зашла у Бенджамина эта его невозмутимость.
Апрель 2011-го
Иэн много рассказывал о своей матери. Об отце, который умер, когда Иэн был еще подростком, или о старшей сестре Люси, вышедшей замуж и переехавшей в Шотландию, — редко, и со всей остальной семьей он отношений словно бы не поддерживал, зато мать была, очевидно, важной фигурой в его жизни. Она жила одна в деревеньке где-то рядом со Стратфордом-на-Эйвоне, и каждое воскресенье Иэн ездил ее навестить. Софи (все равно склонная чрезмерно анализировать свои отношения, но особенно в данном случае, поскольку решительно постановила — решительно, — что эти не могут не сложиться) мысленно колебалась, считая близость Иэна с его матерью то трогательной, то настораживающей. Эта близость, безусловно, согласовалась с Иэновой заботливой и щедрой натурой, но в то же время здоро́во ли для тридцатисемилетнего мужчины встречаться с матерью так регулярно, так часто беседовать с ней по телефону?
Разумеется, Иэн рвался познакомить Софи с мамой как можно скорее, но Софи неделю за неделей сопротивлялась. И только после того, как они миновали многочисленные другие вехи — первый ужин с Лоис и Кристофером (с большим успехом), первый раз сказанное друг другу «Я тебя люблю» (в тихий миг одного необычайно скучного фильма, который она потащила Иэна смотреть в «Электрик»), день, когда Софи все же переехала к нему в квартиру (притащив с собой многие коробки книг, чтобы заполнить эти пустые полки), — она в конце концов уступила. И вот ярким воскресным утром в апреле они катили прочь из Бирмингема по трассе А3400 по непритязательной уорикширской сельской местности; пункт назначения — деревня Кёрнел-Магна, где Иэн родился и провел значительную часть своей жизни.
Софи радовала эта поездка — и не в последнюю очередь потому, что ей нравилась Иэнова манера вождения. Было в этом нечто сексуальное — наблюдать, как мужчина занят тем, что у него хорошо получается, за его постоянной расслабленной бдительностью, за тем, как он любезен с другими водителями, за его ощущением легкой власти над сложной, отзывчивой техникой. Отчего-то хотелось вложить ему руку между бедер и отвлечь его. Софи подразнила его так сколько-то, а когда беседа между ними начала усыхать, они взялись за словесную игру. Ее придумал Иэн: берешь последние три буквы номера ближайшей машины и придумываешь с ними фразу.
— Давай я начну, — сказал он и прочел три буквы с номера «воксолл-астра», оказавшейся перед ними на развилке. «СКТ» — «Славный ксилофон Тони».
Софи рассмеялась. Дурацкое это времяпрепровождение — в такие игры, как ей виделось, она бы играла со своими детьми, если они когда-нибудь появятся, — но зато она ощущала восторг, какой возникает от каникул после убийственной серьезности академического трепа (общение на факультете было настоящим испытанием). К тому же Иэновы представления о веселье, как обычно, оказались заразны.
— Ладно, — согласилась она. — «ЗЗА» — «Зоопарк заточает арфистов».
— «ОПЛ», — прочитал Иэн, глянув на «фольксваген-гольф», пронесшийся мимо. — «Обсосы предпочитают лесбиянок».
— «ВЖК» — «Великолепный желчный камень».
Наконец они вместе засекли здоровенный черный «рейндж-ровер», сдававший задом с подъездной аллеи.
— «ДВУ» — «Деррида вопиюще увиливает», — произнесла Софи в тот самый миг, когда Иэн придумал:
— «Дохлый воняет удод».
Они расхохотались, и не успела Софи осмыслить разницу между их вариантами решения, как они проехали указатель, приветствовавший их — и других осторожных водителей — в самой Кёрнел-Магне.
Деревня оказалась не совсем открыточной, какую ожидала увидеть Софи. Вероятно, Кёрнел-Магна не прошла бы конкурс как модель для пазла, у каких в магазине игрушек при садоводческом центре «Вудлендз» хорошие продажи. Начать с того, что, если подъезжать к деревне с севера, по обеим сторонам дороги высились новехонькие безликие дома, выстроенные из одинакового красного кирпича и поставленные чуточку слишком близко друг к другу. Смотрелись они довольно мило, но Софи себя в таком не представляла.
— Вон тот был мой, — сказал Иэн, показывая на какой-то дом, но Софи так и не поняла, на какой именно. — Жил здесь почти два года, — добавил он отчасти для себя.
Скоростное ограничение — тридцать миль в час, но Иэн сознательно сбросил до двадцати пяти, когда они ехали мимо универмага, индийского ресторана, риелторской конторы и парикмахерской, скученных вместе, всего в нескольких ярдах друг от друга.
— Вот и все, — сказал Иэн. — Все, что осталось теперь от деревни. Вон то… — он показал на громадное заброшенное здание слева, — было местным пабом, но потом помещение купила какая-то большая сеть, паб денег не приносил, и они его закрыли через пару лет. Жизни тут последнее время не очень много.
— Кто-то из твоих друзей еще живет здесь?
— Не-а. Все разъехались. Саймон был последним, теперь в Вулверхэмптоне.
Софи пока только пыталась запомнить имена всех Иэновых друзей.
— Саймон — это который, еще разок?
Иэн одарил ее почти — но не совсем — укоряющим взглядом.
— Мой лучший друг. Мы в начальные классы вместе ходили.
— Который в полиции служит?
— Он самый. Ладно, вот и мамин дом.
Он остановил машину на подъездной аллее перед высоким трехэтажным домом годов 1930-х постройки. Белокурая фигура уже сидела у окна в эркере парадной гостиной, ждала их. Она вскочила и вышла на крыльцо еще до того, как Иэн с Софи успели выбраться из машины. Мама оказалась рослой — пять футов и восемь-девять дюймов, как показалось Софи, — и, несмотря на возраст, статной. Она выглядела сильной и осанистой, спину держала прямо. Глаза голубые, зубы хорошо сохранились, взгляд пытливый. Софи уловила лишь намек на тремор, когда мама протянула ей руку, — единственный намек на то, что этой женщине семьдесят один. Сразу было ясно, что мать Иэна — женщина грозная.
— Хм-м, — выдохнула она, пристально разглядывая Софи с головы до пят и задержав ее руку в своих ладонях. — Даже симпатичнее, чем он мне рассказывал. Меня зовут Хелена, дорогая. Заходите же.
Она привела их в гостиную и налила по стаканчику сладкого хереса — напитка, который, как Софи осознала, она еще ни разу не пробовала.
— В самом деле, — произнесла Хелена после того, как болтовня об их поездке исчерпала себя, — мне кажется, мой сын мог бы привезти свою новую подругу раньше, чем нынче. Насколько я понимаю, вы уже переехали к нему в квартиру, дорогая, правильно? То есть эти… отношения, видимо, уже довольно развитые. По-моему, такой порядок дел — несколько с ног на голову.
— Ну… это целиком моя вина, — сказала Софи, нервно глянув на Иэна. — Он уже много раз приглашал меня поехать, но все как-то не складывалось. Воскресенья… всегда несколько занятые, — отчаянно импровизировала она.
— Вы посещаете церковь? — спросила Хелена с убийственной невинностью.
— Нет, но…
Иэн пришел на выручку.
— По-моему, это я ее запугал, мам, — слишком много о тебе рассказывал.
— Глупости какие, — произнесла Хелена, вставая. — Я и мухи не обижу. Так, пойду накрою стол к обеду.
— Я помогу, — сказал Иэн.
Оставшись в одиночестве в гостиной, Софи оглядела снимки на каминной полке и на стенах. В основном семейные фотографии: Иэн-школьник, лет тринадцати, в двойной рамке с девочкой года на три-четыре старше — явно Люси. Несколько снимков покойного мужа Хелены: одна черно-белая, на которой он облачен в армейскую форму (воинская повинность?), приятная парная фотография — она в купальнике, он в тенниске с открытым воротом и в шортах, где-то в отпуске семьей (юг Франции, может, 1960-е?), и еще одна, сделанная гораздо позже, она занимала самое видное место на полке, — супруг в костюме, на вид ему ближе к пятидесяти, незадолго до смерти, быть может. Дальше — снимок Люси-выпускницы (маленький, заткнут на полку рядом с телевизором), но рядом с ней — лишь Хелена и Иэн. Со всех фотографий пора бы стереть пыль, заметила Софи.
На обед Хелена приготовила свинину на косточке и теплый картофельный салат. Ели они не в гостиной, где, по словам Хелены, было в это время года слишком темно, а на кухне; кухня показалась Софи тоже довольно темной.
— Иэн мне рассказывал, — отважилась она заговорить во время обеда, — что вы прожили здесь больше сорока лет.
— Верно. Мы сюда переехали в тот год, когда родилась Люси. Вряд ли я стану переезжать еще раз, пусть деревня уже не та, что прежде, вовсе не та. Сын, думаю, может рассказать: тут и мясная лавка была, и антикварная, и скобяная. Все, разумеется, семейные. Совсем другое дело. Почтовое отделение закрыли лет пять назад. Вот это был удар. Теперь приходится кататься в Стратфорд, чтобы посылку отправить. И уж так там трудно парковаться. А еще был «У Томаса»!
— Что было у Томаса?
— Деревенская лавка. Настоящая деревенская лавка. Не просто едой торговала, а еще и игрушками, и канцеляркой, и книгами — всем на свете.
— То уж довольно давно, мам.
— Кое у кого долгая память.
— Ну, магазин там и сейчас есть.
— Вот это? — Хелена содрогнулась. — Совсем не то же самое. Пойдешь туда, а на разговор с человеком за кассой не рассчитываешь. Никогда ж не знаешь, даже каким языком они владеют. И кстати, я тебе рассказывала о своей новой уборщице?
Иэн покачал головой.
— Моя милая уборщица, — сказала Хелена, обращаясь к Софи, — которая ходила ко мне невесть с каких пор, наконец отправилась на покой и уехала на побережье. Кажется, в Девон. И вот агентство прислало мне эту новую девушку. Гретой зовут. Из Вильнюса. Литва, кто бы мог подумать! Представляете?
— Это не имеет значения же, ну, — проговорил Иэн, — главное, чтобы умела прибираться? Как у нее с английским?
— Великолепно, должна отметить. Хотя акцент очень сильный, и я бы совсем не возражала, если бы она говорила чуть громче.
— Может, она тебя боится. Многие боятся, между прочим.
Догадываясь, что это замечание — по крайней мере, отчасти — касается Софи, Хелена повернулась к гостье и смягчилась.
— Ну да ладно, дорогая моя, — сказала она. — Расскажите мне о вашей работе в университете. Сын говорит, что вы знаете абсолютно все, что вообще можно знать о старых картинах.
— Не совсем, — ответила Софи, внутренне содрогаясь. — Как и все ученые, я работаю в очень специализированной области. Моя диссертация касалась современных портретов черных европейских писателей девятнадцатого века.
— Черных европейцев? Вы кого же это имеете в виду?
— Александра Пушкина, допустим, чей прадед был африканцем. Или Александра Дюма — того, который написал «Трех мушкетеров», у него бабушка была рабыней с Гаити.
— Батюшки, я понятия не имела. Вот те на! — воскликнула Хелена, и тон ее намекал, что некоторые вещи лучше бы не знать совсем.
— Я изучала портреты этих людей, чтобы разобраться в том, как по-разному каждый художник запечатлел их чернокожее происхождение — или же не смог с этим справиться.
— Совершенно поразительно. Кто хочет пирога с ревенем?
По сути закрыв тем самым тему, Хелена захлопотала — полезла в духовку за пудингом и принялась готовить заварной крем. Далее Иэн (чьи визиты к матери почти всегда сопровождались выполнением каких-нибудь задачек по дому) ушел наверх чинить разболтавшееся сиденье на унитазе. Хелена же тем временем забрала Софи с собой во двор.
— Знаете, — сказала она, — кажется, впервые в этом году как раз потеплело так, чтобы пить чай в саду.
Они устроились на кованой скамейке, выкрашенной в белый, с видом на клумбу, которая, несомненно, через несколько месяцев станет радовать взоры богатством оттенков. Хелена взяла Софи под руку и стиснула ее пугающе непреклонно и свирепо.
— Я рада, что мой сын нашел вас, — сказала она. — Его две последние подруги совсем не годились — хотя, конечно, матери не полагается так говорить. Я бы хотела, чтобы у него была постоянная спутница — спутница жизни. Что до меня, то я очень остро чувствую нехватку такого спутника, хотя — батюшки! — уж двадцать лет прошло, как моего милого Грэма не стало.
— Должно быть, все случилось… очень внезапно, неожиданно?
— Совершенно. Инфаркт — в пятьдесят два. В полном расцвете сил. Любил свою семью, свою работу…
— Какую?
— Он служил в старых студиях «Пеббл-Милл», в Бирмингеме. Управляющим студии. Старшим управляющим, доложу я вам. Ездить каждый день приходилось далеко, но он не жаловался. Радовался каждой минуте там. Совершенно би-би-сишный был человек, насквозь. Не знаю, что бы он в эти дни про них говорил… Люси была в университете, когда это случилось. Она отдалилась, это ее способ справляться, я уверена. И не упрекнешь. Но хуже всего пришлось нам с Иэном, здесь, в этом доме. Тогда-то, видимо, мы и сблизились…
— Вы не… Вы никого себе больше не нашли?
Хелена отстранилась и поглядела на Софи, улыбка деланого изумления на лице.
— Мне бы и в голову не пришло. Ни разу.
Они умолкли. Было очень тихо. Редкие автомобили, редкие обрывки птичьих трелей. Тихо, подумала Софи, но отчего-то неспокойно.
— Этот сад садил Грэм, — наконец продолжила Хелена. — Вот эта клумба, ближайшая к нам, — розы. Непременно приезжайте через несколько месяцев, в июле. Вот это будет красотища! У нас много сортов, но мой любимый, самый прелестный, — дамасская роза, называется «Йорк и Ланкастер». Белая, с тончайшим намеком на розовый на некоторых лепестках. В точности оттенок вашей кожи. — Она теперь смотрела прямо Софи в глаза, и в бестрепетном взгляде этой старухи Софи могла прочесть много разного, и среди прочего — мольбу, красноречивую, словно ее выразили в словах: пусть Софи никак не ранит ее сына; а за этой мольбой — не менее подлинная угроза: если Софи посмеет его ранить, ей не избежать последствий. Все это осталось непроговоренным. Вслух Хелена произнесла лишь: — Вот какой я вас вижу, моя дорогая. Прелестной розой. Английской розой.
И Софи, до глубины души растревоженной, оставалось лишь глядеть к себе в чашку и осторожно потягивать чай.
Август 2011-го
Едва такси успело привезти их к дому, как Кориандр ринулась наверх, к себе в комнату. Прямиком направилась к проигрывателю на туалетном столике, заставила себя не смотреть по сторонам, не видеть коллажи фотографий, которыми были уклеены стены, и поставила пластинку «Возврат к черному». И лишь когда дерзкий, душераздирающий припев песни «Слезы сохнут сами»[24] затопил комнату, Кориандр осмелилась оглядеться, посмотреть на галерею картинок, которая до того, как они уехали в отпуск, была праздником жизни, но пока семья была в отъезде, превратилась — уму непостижимо — в святилище смерти.
Фотографии во всех мыслимых позах и обстоятельствах: верхом на стиральной машине в прачечной; наигрывая на гитаре «Лес Пол»; на сцене в тугих красных шортах и черной кожаной куртке, густые черные линии подводки узнаваемо вздернуты вверх; с мужем Блейком, зачарованно смотрят друг дружке в глаза, он в шляпе-пирожке, она в клетчатом сарафане и красном лифчике; позирует — сидит в ангельских крыльях, прядь черных волос закрывает один глаз, над скучающими, надутыми губами мушка; еще одно фото на сцене — укороченная безрукавка, грудь вываливается, без всякой сексуальности, туфли-лодочки, большущие серьги-кольца, буйные волосы стянуты наверху в улей шифоновым шарфом, на нем вышито имя Блейка; ужасные фотографии ближе к концу, она истощена, в отчаянии, скулы торчат, взгляд затравленный. А еще громадный увеличенный снимок ее коллекции записей — или части ее: россыпь пластиночных обложек; альбомы Каунта Бейси и Сары Вон, Дайны Уошингтон, Ареты Фрэнклин, Дайаны Росс, Луи Армстронга, Сидни Беше, Сэмми Дейвиса-младшего. Пока альбом играл, взгляд Кориандр жадно бродил по фотоснимкам. Когда она услышала высокий надорванный голос Эми в «Одной нечестивой войне», пришлось глотать слезы. Были в той песне слова — «я, моя честь и этот гитарный чехол», — которые вечно брали ее за живое и выворачивали наизнанку, но сейчас, из-за понимания, что певица мертва, что песен больше не будет, не будет музыки, слушать стало почти невыносимо.
Когда музыка доиграла, Кориандр почувствовала, что ей дались первые шаги к возвращению собственного самосознания — после трех кошмарных недель взаперти на тосканской вилле с семьей. Хорошо было вернуться к себе в спальню, в свой дом. Во всем остальном она этот дом не выносила, но в своей комнате чувствовала себя уютно.
Кориандр было четырнадцать. Она жила в доме, который стоил, согласно текущим оценкам местного агента по недвижимости, чуть больше шести миллионов фунтов, — пятиэтажный, спрятанный в тайных глубинах между Кингз-роуд и набережной Челси. Ее отец, Дуг Андертон, был известным комментатором — с левым уклоном — в национальных СМИ. Мать, достоп. Франческа Гиффорд, — бывшая подиумная модель, вернувшаяся в лоно религии и ставшая светочем лондонских благотворительных кругов, покровительницей благотворительных аукционов, где самое дешевое место за обеденным столом стоило десять тысяч фунтов. Кориандр на дух не выносила мать и чувствовала себя отчужденной от отца. Связи с младшим братом Рэнулфом или со старшими сводными братом и сестрой, Хьюго и Сиеной, она тоже не ощущала, хотя все они были в Италии вместе. Кориандр бесило ее частное учебное заведение в Хэммерсмите — и сам факт, что она получает частное образование, ее тоже бесил. Не выносила она и Челси, не выносила Юго-Западный Лондон. Бывали времена, когда ей казалось, что любит она лишь одно — любит с яростной, разъедающей страстью. Голос Эми Уайнхаус. А теперь Эми умерла. Умерла через несколько дней после их отъезда в отпуск, и у Кориандр вплоть до этого часа не было возможности погоревать.
Что дальше? Она не хотела застревать дома, торчать тут весь остаток дня. Хотела повидаться с друзьями, выяснить, что она упустила за эти три однообразные недели под тосканским солнцем. Незачем говорить родителям, чем она занимается. Отец уже ушел к себе в кабинет и работал над материалом об общественных волнениях, а мать сидела в нижней гостиной, просматривала почту. Марисоль, их экономка-филиппинка, разбирала вещи, сортировала стирку, и никто ни на какие мониторы охранной системы не глядел. Несколько минут — и Кориандр уже была на улице, прошла через садовые ворота и двигалась по Флад-стрит к магазинам и толпам. Вынула свой «блэкберри» и, не сбавляя шага, не глядя, куда направляется, быстро набрала СМС подруге Грейс: «В „Старбаксе“ в 5?» Но Грейс тут же отозвалась: «Сорь я в Турции». Вот так новость, они с Кориандр еще вчера переписывались (впрочем, семья Грейс частенько уезжала за рубеж, повинуясь мимолетному капризу). Поэтому Кориандр пошла в кофейню одна, заказала фраппучино и присела ненадолго за столик, написать еще кое-кому из друзей. Двое оказались совсем рядом, шлялись по магазинам в «Брэнди Мелвилл», предложили встретиться и съесть по мороженому йогурту в новом месте у Слоан-сквер, но Кориандр эта идея показалась скучной. Скучной уже какое-то время Кориандр казалась вся эта часть Лондона, вообще говоря, — как и паршивые тусовочные возможности, которые она предлагала. Иногда — не очень-то часто в эти дни, это да — отец пытался убедить ее, что ей повезло жить рядом с Кингз-роуд. Рассказывал байки о музыкальных группах, которые тут отвисали в 1960-е, о писателях, битниках и хиппи, что пили когда-то в «Челси Поттере», о приходе панка и открытии магазина «СЕКС» Малколма Макларена и Вивиен Вествуд в доме номер 430. Кориандр слышала эти Дуговы байки сто раз и пришла к выводу, что для него самого они значили так же мало, как и для нее. Он тоже терпеть не мог Челси, злился на себя, что теперь живет тут, и повторял утешительные сказки, просто чтобы рационализировать собственные скверные решения и компромиссы. Для его дочери они никак не меняли того, что в наши дни это было убийственно некрутое место для жизни, где отвисали испорченные богатенькие девочки, а вдобавок еще и омерзительно монокультурное: сколько-то разных языков услышать можно — европейская фуфло-элита проплывала от одного дизайнерского магазинчика к другому, — но никакого настоящего многообразия, никакого богатства оттенков кожи. То ли дело Хэкни, или Излингтон, или Северный Лондон. (Именно такова одна из причин громадной любви Кориандр к Эми Уайнхаус. Она была голосом Северного Лондона. Разнузданного, пошлого, дешевого, крутого, разнокультурного Северного Лондона, где находился рынок Кэмден, студии «Эйр», танцзал «Дингуоллз» и «Хэкни Эмпайр» — и все прочие достойные заведения, какие вообще порождал этот переоцененный, самодовольный город.)
Потягивая фраппучино, Кориандр перелистала несколько десятков предыдущих сообщений, пока не нашла то, которое прилетело вчера после обеда. Блин, лучше бы они вчера в это время были дома, а не дрыхли у бассейна, как толпа зомби. Кажется, получилось бы обалденно. Сообщение было от Эй-Джея, юного черного красавчика, с которым она познакомилась в каком-то клубе в Хэкни несколько недель назад. Сообщение, впрочем, он писал не сам. Переслал откуда-то. Вот такое[25]:
Все и каждый, из всех углов Лондона собираются в сердце лондонского (центрального) ОКСФОРД-СЁРКУС!! Открытые ЛАВКИ будем громить, приходите (за халявой!!!) похуй федералы задвинем их НАШИМ бунтом! >:O
Теперь безнадега и цветная война видишь брата… ЭЙ! видишь федерала… БЕЙ!
Нам нужно больше НАРОДА чем федералов Все беситесь, весь лондон и прочие давайте! Чистый террор и хаос и Халява… бейте витрины выгребайте чё хотите! Оксфорд-Сёркус!!!!! 9вечера, хватит мудакам федералам рулить улицами и забирать наших братьев в тюрьму оснащайтесь, это свободный мир айда гудеть по магазинам;)
Оксфорд-Сёркус 9вечера федерал стопарит брата ВЛЕЗАЙ!!! ВСЕ ВЛЕЗАЕМ негры будут шастать повсюду, полная отключка ударим в 9:15–9:30, всем приходить увидимся. УСЕКАЙ ЛОКАЦИЮ!!! ОКСФОРД-СЁРКУС!!!
ПЕРЕШЛИ ПО ВСЕМ КОНТАКТАМ!!!
«Чистый террор и хаос». Кориандр это нравилось — ой как нравилось.
* * *
Приключение на Оксфорд-Сёркус она, может, и пропустила, но не все было потеряно. «Жарко на Мэйр-стрит», — сообщил ей Эй-Джей в «Би-би-эм»[26]. Она прыгнула в подземку и, минут через сорок пять оказавшись в Хэкни и перехватив Эй-Джея, поняла, что́ он имел в виду. На перекрестке Мэйр-стрит и другой улицы стоял белый грузовик и перекрывал движение. Уже начала собираться толпа — в основном молодежь, и в основном молодежь черная, — но то была бесформенная неорганизованная куча народа по сравнению с полицейскими, выстроившимися в ряды напротив сборища, со щитами наготове. На краю толпы болтались прохожие и зеваки, они огибали ее по кромке, кое-кто пытался попасть в магазины или к себе домой, многие снимали назревавшее противостояние на телефоны и фотоаппараты. Пока ничего особенного не происходило, если не считать отдельных стычек между полицейскими в переднем ряду и горсткой ребят, полезших препираться с полицией, однако воздух звенел от назревавшего насилия. Кориандр все это заводило, но вместе с тем и пугало, и она держалась поближе к Эй-Джею, висла у него на руке; ее успокаивала мускулистая крепость его плеча, ощущаемая сквозь мягкую ткань толстовки с капюшоном.
Вскоре все пошло живее. Кто-то силой открыл кузов грузовика и обнаружил в нем свалку всяких деревяшек. Люди принялись хватать их — доски, ручки от метел, старые оконные рамы, всё подряд — и передавать в толпу. Кориандр тоже взяла себе деревяшку и осознала, что держит в руках самодельное оружие. Через несколько секунд она услышала звон бьющегося стекла у себя за спиной, оглянулась и увидела, что пара мужчин выбивают окна автобуса, оставленного у тротуара, когда движение на дороге замерло. От этого звука Кориандр ощутила прилив адреналина, а дальше, даже не успев подумать, тоже подбежала к автобусу и принялась лупить его своей палочкой размером с детскую клюшку для крикета. И обмерла: от ее ударов на корпусе автобуса не осталось почти никаких вмятин, она услышала, что над ней смеются.
— Ты какого хера творишь? — спросил Эй-Джей, догнав ее и схватив за руку. — Хочешь, чтобы нас арестовали, что ли? — Она не ответила, он продолжил: — Давай отойдем-ка. Если хотим поглазеть, надо найти местечко поспокойнее.
Они убрались в переулок и встали на углу главной дороги — глядели на стычки и записывали видео. Кориандр потихоньку выбросила свою палку, но заметила, как кто-то, идя мимо, привязывал к своей палке лезвие от ножа «Стенли».
— Бля, — проговорила она, — ты глянь.
Эй-Джей сказал:
— Тут опасные попадаются.
Кориандр спросила:
— Ты его знаешь?
Эй-Джей ответил:
— Нет. Думал, кто-нибудь из моих друзей придет, но пока никого не вижу. У нас все будет хорошо. Следи за собой, главное.
Позади них, на улице, началась потасовка. Двое растаманов попытались дойти по улице к своей квартире, но полиция их не пропустила. При полицейских были цепные овчарки, и псы кидались на тех двоих. Кавардак шумов: вопли полицейских, приказывавших прохожим сдать назад, крики растаманов, громко протестовавших в ответ, беспрестанный, оглушительный лай собак, вой сирен, затихавший в отдалении, и сумбурный гвалт возни на Мэйр-стрит, где основную часть толпы теснила вниз по улице полиция. Эй-Джей и Кориандр прибились к группе людей, наблюдавших за разборками полиции и растаманов. Какой-то белый журналист снимал стычку на видеокамеру. Кто-то из тех двоих кричал, что на него натравили собаку и она его укусила, а руки он при этом поднял, второй орал на полицейского, что «мы все равны — вели мне убраться, а затем вели белому человеку убраться». Собака тянулась к нему и рычала, а он кричал: «Ты стукнул моего друга дубинкой, чувак, ты его стукнул ебаной дубинкой». Наконец полицейские дали им пройти, но тот, которого укусили, продолжал твердить всем, кто готов был слушать:
— Я силу не применяю, так? А они вот так тут с нами. Приходят на наши улицы и до нас доматываются. Чего они, бля, хотят? Тут у каждого второго есть своя тема с ебаной полицией…
Так все и покатилось. Они нырнули обратно на Мэйр-стрит и обнаружили, что, помимо деревяшек из грузовика, протестующие вооружились и бутылками, награбленными в местном «Теско».
— Цепляй снаряды, бро, просто цепляй снаряды! — крикнул им кто-то.
Белый парень протолкался сквозь толпу вперед, встал перед шеренгой полиции, затем развернулся спиной, нагнулся и спустил штаны. Кориандр увидела, как выпуклость его белых ягодиц отражается в полицейском щите. Толпа засмеялась, одобрительно зашумела и зааплодировала, эта выходка словно бы придала людям мужества начать кидаться снарядами. Полиция в ответ ринулась вперед, оттесняя толпу вниз по улице. Протестующие, отступая, хватали с мостовой мусорные баки и либо швыряли их в полицию, либо поджигали. Кориандр зажали среди чужих людей, пихали и толкали, она спотыкалась, чуть не упала. Вскоре они уже оказались на другой улице, там размещался дизайнерский магазин под названием «Кархартт», в нем бешено верещала сигнализация, люди забегали внутрь и выскакивали со всем, что успевали ухватить, — с парками «Бэттл» и лётными куртками, свитерами и бушлатами. Кориандр, подчиняясь всеобщему безумию, вбежала вместе с остальными, не задумываясь, схватила две жилетки «Ньютон» армейского зеленого цвета, но, когда выбралась обратно на улицу, Эй-Джей ждал ее и сказал просто:
— Положи на место.
И она вернулась, бросила жилетки на пол, выбежала вон, пошла за Эй-Джеем.
Они проскочили мимо подожженной «мазды эм-экс5». В воздухе витала поразительная энергия, и то, что Кориандр ощущала гортанью, был не дым горевших автомобилей, а резкий, бодрящий вкус гнева. Бунтовщиков разозлило убийство Марка Даггэна[27] четырьмя днями раньше, их злили годы несправедливого поведения полиции, а полицию злило беззаконие этого протеста и насилие, которым полиции угрожали. Годы гнева, годы озлобленного, враждебного, насупленного сосуществования бурлили, всё готово было вскипеть. Фантастика.
— Дело тут не в протестном настрое, — объяснил потом ей Джексон, друг Эй-Джея, когда они отдыхали в Лондон-Филдз, попивая «Стронгбоу» и куря траву. — А в том, чтобы показать пяти нулям[28], что нечего им тут разгуливать и доматываться до молодых, чтоб оно им с рук сходило. Вот мы и собираемся раздолбать округу и показать им, что, когда в следующий раз подобную херню устроят, будет вот так. Похуй на 2012-й и на Олимпиаду. Если все к тому сводится, мы и это обосрем. Нефиг гоняться за ребятами вот так. Я иду по улице, полиция им рассказывает, как они у них наркоту нашли и всякое такое. Мы тебя обыщем. А если не обыщем, заберем тебя в участок и обыщем голышом. Они доматываются. Вот такое им устроят, значит, и я рад, что оно устраивается. Я не радуюсь, что того паренька убили. Но полиция огребет что надо, потому что они доматываются. Произвол.
* * *
Домой в тот день Кориандр вернулась после десяти. Мать уже была в постели, брат играл в какую-то игрушку на «Икс-боксе», но Кориандр хотелось с кем-нибудь поговорить, и она пошла искать отца. Дуг сидел за столом — все еще возился со статьей.
— Эй, пап, — сказала она.
— Эгей, — отозвался он, откидываясь на крутящемся кресле, закладывая руки за голову и потягиваясь.
— О чем пишешь?
— Пытаюсь изложить соображения о беспорядках. Не очень получается.
— Почему?
— Наверное, плохо понимаю, что́ я об этом думаю.
— Можно глянуть?
— Конечно.
Он пошел заварить себе кофе, а Кориандр уселась за его стол и прокрутила страницу на экране. Дуг вернулся с кружкой в руке и спросил:
— Ну, что думаешь?
— Годится, — сказала она.
— Годится?
— Да просто… — Она бросала слова с беззаботностью, на какую способны лишь четырнадцатилетки. — Наверное, такой вот материал и ожидаешь от человека, который живет, как ты.
— В каком смысле? — с ужасом спросил он.
Кориандр уже уходила из комнаты. Помедлила на пороге ровно столько, чтобы успеть сказать:
— Почаще выходить на улицу надо.
Черт, подумал он, даже моей дочери это видно. Он постоял несколько секунд, переживая нанесенный удар, а Кориандр уже взбиралась на два этажа к себе в спальню. Дуг крикнул ей в спину:
— А ты где вообще была весь день?
Но ответа не последовало. Вскоре из колонок на пределе громкости понеслась «Одна нечестивая война».
Беспорядки продолжались несколько дней и охватили другие города, в том числе Бирмингем.
В среду после обеда посыпались сообщения о массовом присутствии полицейских на улицах, о толпах мятежников в центре города и о стихийных отдельных группах мародеров, болтавшихся на окраинах, и Иэну в тот день посоветовали свернуть вечерние занятия пораньше и отпустить всех по домам.
Покидая через несколько минут здание на Колмор-роу, Иэн тут же понял, что в городе все не как обычно. Сотни молодых людей высыпали на улицы, многие — в толстовках с капюшонами, лица скрыты. Столько же, если не больше, было вокруг и полицейских в светящихся жилетах и со щитами. Несмотря на то что попадались белые протестующие и черные полицейские, противостояние казалось бесспорно расовым. Путь домой был к западу и занимал у Иэна несколько минут, но из природного любопытства он решил немного побыть в городе, побродить в толпе, дух которой сейчас, казалось, был скорее скучающим без цели, нежели накаленным.
Завершался жаркий августовский день, и, несмотря на беспорядки, многие все еще пытались пройтись по магазинам или просто добраться из одной части города в другую. Опять-таки, в основном то была молодежь, но попадались и пожилые покупатели, и дети на вечерней прогулке с родителями. Полиция орала в мегафоны на всех, чтобы расходились, расступались, чтобы ради собственной безопасности шли домой. Иэн продрался сквозь малоподвижную, путаную толпу и преодолел Черри-стрит до Корпорейшн-стрит. Задумался, нет ли где-то рядом его друга Саймона Бишопа. Они с Саймоном росли в Кёрнел-Магне вместе, Саймон теперь был полицейским второго уровня в территориальной группе поддержки полиции Уэст-Мёрсии. Работал он в Вулверхэмптоне и последнее время нес службу в основном за столом, но Иэн знал, что пару лет назад Саймон записался добровольцем на усиленную подготовку к подавлению уличных беспорядков, и в такой вот день его, скорее всего, вывели бы на улицы. Сегодня в центр Бирмингема небось стянули всех до единого полицейских запада Средней Англии — если судить по их количеству.
Иэн остановился у «Макдоналдса» и коротко переговорил с молодой женщиной, медлившей в нерешительности вместе со своей дочкой-подростком.
— Хочу добраться до станции «Нью-стрит», — говорила она, — но к ней не подойдешь.
— Давайте, — сказал он, — перекинемся с ними парой слов. Должны пропустить.
Он направился под горку, вниз по Корпорейшн-стрит к Нью-стрит, проталкиваясь сквозь толпу и время от времени проверяя, поспевают ли за ним женщина с девочкой. Большинство людей расступалось и пропускало их, но попадались группы молодежи (прямо-таки детворы), державшейся решительно враждебно, — эти отказывались уступать или даже смыкали ряды, не давая пройти. Но самыми сомкнутыми, как выяснил Иэн, была шеренга полицейских, не пускавших на Нью-стрит.
— Извините, никто дальше не проходит, — сказал констебль, угрожающе поднимая щит, чтобы не дать им протиснуться. — К станции — только в обход. Ради вашей же безопасности.
— В смысле? — спросил Иэн. — Ничего ж не происходит.
— Скоро начнется, приятель.
— Послушайте… спасибо, — сказала женщина, беря дочь за руку и отправляясь в другую сторону, к городской ратуше, где толпа была гораздо жиже. — Попробуем вот так, думаю. Берегите себя!
— И вы! — крикнул Иэн им вслед.
Он вскинул руку в коротком прощании, и тут высокий мускулистый парень в сером худи и мешковатых штанах налетел на него, а когда Иэн протестующе выкрикнул «эй!», парень развернулся и вроде бы собрался что-то сказать в ответ, однако, успев учесть рост и телосложение Иэна, отказался от этой мысли. Миг они оценивали друг друга, и Иэн заметил, что у парня из кармана что-то торчит. Кажется, рукоятка очень большого молотка. Парень двинулся обратно к Корпорейшн-стрит, Иэн машинально пошел следом. Держал его в поле зрения, пока они проталкивались сквозь все более беспокойные толпы. Миновав пол-улицы, парень остановился и прибился к группе своих друзей. Их было человек пять-шесть. Иэн встал ярдах в десяти от этих ребят, поглядывая на них, но стараясь наблюдать не слишком заметно. Ребята вроде бы ничего такого не замышляли, просто болтали и смеялись. С нижнего конца улицы, возле строя полицейских, начали скандировать — какие-то антиполицейские кричалки, слов не разобрать, — а дальше послышались вопли, будто началась потасовка. Иэн вытянул шею — поглядеть, что происходит. Настроение на улице явно менялось, и Иэну эта смена не понравилась. Глубинная угроза насилия поднималась к поверхности, и Иэн впервые уловил стрекот лопастей полицейского вертолета, кружившего в небе. Возможно, разумно было бы по-быстрому двигать домой. Но как раз когда Иэн задумался над этим, раздался громкий, убийственный удар и звон бьющегося стекла. Иэн развернулся на звук и увидел, что парень, за которым он шел, вытащил молоток и крушит им витрину кондитерской лавки. Остальные тоже были при молотках и здоровенных деревяшках, кроме одного — он вырвал мусорный бак из гнезда в мостовой и несколько раз саданул им в витрину. Стекло оказалось крепким, и пробить его насквозь пока не удавалось. После Иэн задумывался: «Почему кондитерская лавка? Из всех магазинов почему именно кондитерская?» — но в тот миг он не остановился поразмыслить. Что-то включилось — может, не совсем далекое от некого раздражения на этого парня; раздражения, вспыхнувшего, когда тот протолкался мимо несколько минут назад, — и Иэн пробился сквозь толпу, которая наблюдала за этим хулиганством, либо получая от него удовольствие и подбадривая участников, либо заворожившись этим зрелищем в безмолвном ужасе, схватил того парня за руку и что-то ему сказал — что-то дурацкое типа: «Ты какого черта творишь? Это ж, бля, просто кондитерская лавка». И это последнее, что он помнил примерно два следующих дня.
* * *
В тот день, когда Иэна покалечили, Софи была в Лондоне, что-то искала в Британской библиотеке. Его забрали в Больницу королевы Елизаветы, где врачи произвели исчерпывающие анализы и удостоверились, что мозг не поврежден, однако он все еще переживал последствия сотрясения и в субботу утром по-прежнему был в больнице. Софи предложила забрать маму Иэна из Кёрнел-Магны и после обеда привезти в больницу. Она уже поговорила с Хеленой по телефону и знала, что та из-за всей этой истории очень расстроена.
В дверь к Хелене Софи постучалась около двух пополудни и удивилась, когда ей открыла молодая женщина, которую Софи не узнала. Женщина была миниатюрной, с короткими белокурыми волосами и светло-голубыми глазами.
— Софи? — спросила она.
— Да?
— Я Грета. Прибираюсь у миссис Коулмен. Заходите, она почти готова.
— Вы работаете по субботам? — спросила Софи, проходя за Гретой внутрь.
— Нет, совсем нет. Но миссис Коулмен очень огорчилась из-за того, что случилось с ее сыном. Я немного волновалась за нее и приехала проверить, все ли в порядке, и привезла съестного. Волновалась, вдруг она ничего не ест.
— Софи? — раздалось сверху. — Это вы?
Софи поспешила по лестнице и обнаружила Хелену, уже облаченную в легкое пальто. Та с рассеянным видом искала что-то у себя в спальне.
— Очки, — пояснила она. — Я их где-то тут оставила. Вы их видите?
Очки лежали на кровати, плохо различимые на темно-зеленом покрывале.
— Спасибо. Та барышня еще здесь?
— Грета? Да, она меня впустила в дом. — Софи помогла Хелене застегнуть пуговицы на пальто. — Не уверена, что вам это в машине понадобится. Сегодня довольно тепло.
— А она что здесь делает? — спросила Хелена.
— Насколько я поняла, она просто хотела проверить, все ли с вами в порядке.
— Ну, это довольно странно, вам не кажется?
— Да нет, не очень.
— Она привезла мне суп. Грибной суп.
— Знаю. Слышу запах. Вкусный.
— В нем был сплошной чеснок или квашеная капуста — что-то в этом роде. Боюсь, не доем. Вам не кажется, что она хочет… В смысле, как вы думаете, не ждет ли она чего-нибудь в благодарность?
— Вряд ли. Идемте, вы уже готовы.
Софи взяла ее за руку и повела вниз по лестнице, поблагодарила там Грету и посмотрела, как та уезжает по центральной улице деревни. Затем принялась усаживать Хелену в машину и пристегивать ее. Софи прикинула, что поездка до больницы займет чуть меньше часа. Есть ли надежда, что им удастся поддерживать разговор все это время? Получится ли у них избегать спорных тем? Еще раз поговорив об обстоятельствах визита Греты — Хелена, похоже, восприняла его чуть ли не как дерзость, — они погрузились в молчание, которое Софи силилась прервать, болтая о погоде, о дорожном движении, планах на отпуск — о чем угодно безопасном и нейтральном. Но оказалось, что ум Хелены неотвратимо сосредоточился на образах из телевизора и газет истекшей недели и на увечьях, полученных ее сыном.
— Чем это кончится, Софи? Чем все это жуткое дело кончится?
Софи, конечно, понимала, что она имеет в виду под «жутким делом». Но разговор происходил посреди тихого субботнего вечера в августе. Они катились по трассе А435, неподалеку от развязки Уитолл, и солнце мирно светило на крыши машин, светофоры, автозаправки, живые изгороди, пабы, садоводческие магазины, универмаги и все прочие знакомые приметы современной Англии. В тот миг отношение к миру как к жуткому месту давалось с трудом. (Или как к очень вдохновляющему, впрочем.) Софи уже собралась предложить некий расхожий ответ — «Ой, вы же понимаете, жизнь продолжается», «Такие вещи со временем проходят», — но тут Хелена добавила:
— Он был прав, между прочим. «Реки крови». Ему одному хватало смелости такое сказать.
Софи застыла, услышав эти слова, и любые банальности усохли у нее на устах. Молчание, разверзшееся между нею и Хеленой, было теперь бездонным. Как ни крути, вот она. Тема, которую не надо, нельзя обсуждать. Тема, разобщающая людей сильнее любой другой, обижающая сильнее любой другой — потому что поднимать ее означает сдирать одежду и с себя, и с другого человека и вынужденно пялиться друг на друга, голых, беззащитных, и взгляд никак не отвести. Какой бы ни дала сейчас Софи ответ Хелене — любой ответ, в котором будет честная суть собственных взглядов Софи, отличных от Хелениных, — он будет означать соприкосновение с непроизносимой правдой: что Софи (и все ей подобные) и Хелена (и все ей подобные), может, и живут бок о бок в одной стране, но одновременно живут и в разных вселенных, и эти вселенные разделены стеной, беспредельно высокой и непроницаемой, стеной, выстроенной из страха, подозрительности и, вероятно, из чуточки самых английских из всех своих особенностей — стыда и смущения. Ни с чем из этого ничего не поделаешь. Единственный разумный подход — пренебрегать этой стеной (но долго ли удастся его придерживаться?) и пока что изо всех сил напирать на отчаянную, неутешительную выдумку, что все это лишь небольшая разница во мнениях, все равно что не целиком и полностью соглашаться с соседским выбором цветовой гаммы или с его увлеченностью какой-нибудь телепрограммой.
И вот поэтому они проехали молча минут десять или даже больше, пока не оказались в Кингз-Хит, и, когда ехали вдоль Хайбери-парка, Софи сказала:
— Листья желтеют уже.
И Хелена ответила:
— Знаю. Так красиво, но, кажется, с каждым годом все раньше, да?
* * *
Новая Больница королевы Елизаветы, один из главных свежих поводов для гордости в Бирмингеме, была к тому времени открыта чуть дольше года. Ее три девятиэтажные башни, сверкающе современные, сплошь белый алюминий и стекло, высились на городском горизонте, если ехать от Селли-Оука к Эджбастону. Внутри громадный атриум со стеклянным потолком создавал ощущение покоя, восторга и даже осторожного оптимизма, и поэтому в кои-то веки те, кто оказывался в больнице, не сразу же падали духом. Такое это приятное место, что Софи удалось вообразить себе, как приезжает сюда просто так, в кафе, почитать книгу или поработать. На самом деле даже в тот день несколько человек занимались, похоже, именно этим. Софи узнала одну свою коллегу с гуманитарного факультета — та была погружена в чтение томика Марины Уорнер[29].
Софи и Хелена поднялись на лифте в палату на четвертом этаже, где и обнаружили Иэна, он сидел в пижаме на кровати. Голова у него была по-прежнему забинтована, однако он казался вполне бодрым, пил чай и болтал со своим другом Саймоном Бишопом. Увидев их, Саймон встал и расцеловал обеих в щеки. С Софи они уже дважды встречались за ужином, и Саймон не скрывал своего мнения: Иэну досталась отменная добыча.
— Я уже собирался уходить, миссис Ка, — сказал он Хелене. — Не хочу путаться под ногами.
— Не говори глупости, Саймон. Я всегда рада тебя видеть. Вот неделька-то тебе выдалась!
— Было сурово, не поспоришь. И хуже всего то, что мы облажались.
— Облажались? Как это — облажались?
— Три смерти. Трое гражданских. Мы не смогли их защитить.
Саймон говорил о троих молодых людях — Абдуле Мусавире, Шахзаде Али и Харуне Джахане, — которых сбила машина, хозяин которой в среду вечером пытался защитить несколько магазинов вдоль Дадли-роуд в Уинсон-Грин от грабежа. То был единственный самый убийственный инцидент на всю страну за все шесть дней беспорядков.
— Очень печально, особенно для их семей, — сказала Хелена. — Но в конечном счете они сами подставились под удар…
— Не вполне, при всем моем уважении, — возразил Саймон. — Никто не ожидал такого вот нападения, с бухты-барахты. Если честно, то, что сделал ваш сын-балбес, было гораздо безрассуднее.
Иэн вяло улыбнулся. Потянулся к Софи, она крепко сжала его руку.
— Да, я собираюсь потолковать с ним об этом, — сказала Хелена, — когда ему станет получше.
Зловещее заявление — как и многие другие у нее.
Ближе к концу посещения Саймон сказал:
— Я вам вот что скажу, Хелена, давайте-ка оставим этих пташек ненадолго. Пойдемте, угощу вас чаем.
Взяв под руку, он повел ее вон из палаты, к лифтам. Прежде чем шагнуть за порог, она обернулась и послала сыну укоризненный воздушный поцелуй.
— Ну что, — сказала Софи, поворачиваясь к Иэну и ощущая мгновенное расслабление, которое всегда (как она уже заметила) охватывало ее, когда она оказывалась не рядом с Хеленой, — как на самом деле чувствует себя местный герой?
— Прекрасно, — ответил он. — А как чувствуешь себя ты? Как поездка сюда?
— О, мы ее преодолели, — ответила Софи. — На самом деле нормально. В смысле, она принялась цитировать Инока Пауэлла[30], но мы… проскочили. Ну что, скоро домой? Через день-другой?
— Похоже на то.
— Ты готов?
— Само собой. Они говорят просто не заниматься ничем чересчур будоражащим некоторое время — и ничем таким, что связано с физическими нагрузками.
— О, — проговорила Софи, улыбаясь и одновременно изображая огорчение. — Какая досада. Я надеялась, что мы сможем заняться чем-нибудь и будоражащим, и связанным с физическими нагрузками.
Она тайком скользнула рукой по одеялу примерно к его паху. Сжала — и ощутила ответное движение. Иэн завозился в постели в блаженном томлении.
— Ты в среду повел себя как полный обалдуй, — сказала она. — И я тебя ни разу так сильно не хотела, как с тех пор.
И правда. Она знала наверняка, что ни один из ее остальных друзей, ученых коллег или бывших парней не поступил бы в тех обстоятельствах, как Иэн. Совершенно глупый, опасный, несуразный поступок — но Софи никогда прежде так не гордилась Иэном, так не тянулась к нему.
— Слушай, когда закончишь меня мучить, — сказал он, краснея и быстро оглядывая остальных обитателей палаты, — я бы тебя попросил о паре вещей.
— Да? — спросила Софи, не убирая руку.
— Когда ты… когда ты повезешь маму обратно, как думаешь, ты сможешь вытащить ее мусорные баки? Их не вытряхнут до понедельника, но она не может проделать это самостоятельно.
— Хорошо.
— И можешь еще проверить кабели на задней панели ее телевизора? Судя по всему, что-то не так со звуком.
— Она говорила об этом, да. Конечно. Еще что-то?
— Кхм… да. — Он взял ее за руку, отвел ее от точки притяжения и пылко сжал. — Еще кое-что. — Глянул ей прямо в глаза. — Выходи за меня замуж, пожалуйста?
Казалось, все затихло. Мир будто перестал вращаться. И это наваждение — если то было оно — словно бы длилось и длилось вечно.
Наконец Софи рассмеялась и произнесла:
— Ты шутишь, да?
Тут рассмеялся и Иэн — и ответил:
— Да.
Облегчения, в общем, не наступило, но она хотя бы снова могла дышать как обычно. Вернее, могла, пока он не добавил:
— Конечно, шучу. Баки вывозят по вторникам.
Вернулось безмолвие, самое долгое и глубокое из всех. Пока он не повторил вопрос:
— Ну? Выйдешь?
Она посмотрела на него, и больше всего ее удивило, до чего легко дался ей ответ.
Когда Дуг встретился с Найджелом Айвзом в кафе рядом со станцией метро «Темпл» 19 августа, через неделю после беспорядков, Найджел выглядел, как обычно, жизнерадостно.
— Доброе утро, Дуглас, — поздоровался он. — Я взял на себя смелость заказать вам капучино.
— Спасибо, — сказал Дуг, размешивая добавленный сахар. — А теперь давайте сразу к делу. Что на самом деле происходит в этой стране?
Глаза у Найджела распахнулись в невинной растерянности.
— Если начистоту, Дуглас, чтобы эти разговорчики получались продуктивными, вопросы лучше бы задавать немножко отчетливее. Видите ли, ваш вопрос может действительно означать что угодно. Если речь о спаде розничных продаж в местах с естественной проходимостью — да, министр финансов признается, что это несколько обескураживает…
— Речь не о спаде розничных продаж в местах с естественной проходимостью.
— Окей, ну, если речь о скандале с незаконным прослушиванием телефонов, тогда министр внутренних дел первым признает, что выявленное к текущему моменту настораживает, а потому энергичное разбирательство…
— Речь не о скандале с незаконным прослушиванием телефонов.
Найджел пожал плечами.
— В таком случае ума не приложу, что вы имеете в виду. — Он отхлебнул кофе — пенка повисла на верхней губе — и добавил: — Если, конечно, вы не беспорядки имеете в виду.
Дуг улыбнулся:
— Вот, другое дело. Добрались наконец. Разумеется, я имею в виду беспорядки.
Найджел, похоже, растерялся.
— Хорошо, можем и об этом поговорить, если хотите, но вы же отдаете себе отчет, что они завершились больше недели назад? Я думал, вы желаете поговорить о чем-то чуть более злободневном.
— По-моему, на ближайшее будущее это важнейший сюжет, — сказал Дуг.
— Правда? — Найджела это, похоже, потрясло. — Вы действительно считаете, что это важно?
— Позвольте объяснить подробно, — сказал Дуг. — Общественные беспорядки в беспрецедентных масштабах. Не только в Лондоне, но и по всей стране — в Манчестере, Бирмингеме, Лейстере. Невероятный ущерб собственности. Ситуация, которая, казалось, совершенно выходит из-под контроля. Сотни людей ранены, уже пять смертей. Могло ли вообще сложиться хуже?
— Я понимаю, вам, медийщикам, лишь бы нарисовать мрачную картинку. Лишь бы хаять Британию.
— Да господи боже мой, даже ваш начальник решил прервать отпуск и прилететь домой, чтобы обратиться к парламенту.
Найджел сурово поджал губы. Этот последний довод оказался, похоже, самым веским.
— Ладно, Дуглас. Вы правы. Положение было довольно отчаянным. Но именно решительные действия Дэйва означают, что теперь это можно оставить позади.
— Оставить позади? То, что случилось на прошлой неделе, показало поразительный раскол во всем британском обществе. Как это можно оставить позади?
— Давайте вот с чем разберемся, Дуглас. Эти события не имеют ничего общего с политическим протестом. Это уголовщина, а не политика. Дэйв в палате общин говорил об этом недвусмысленно.
— Говорил-то он недвусмысленно, однако это не значит, что так оно и есть.
— Для вас, Дуглас, разница, может, и важна. Но вы писатель. Вы придаете словам больше ценности, чем большинство людей. Дэйв обратился к парламенту обычным простым языком, и то, что он сказал, отозвалось в сердцах людей по всей стране, из края в край. Вот что такое быть настоящим вожаком.
— То есть никаких политических уроков из этих событий коалиция извлекать не собирается?
— Конечно, собирается. На улицах нужно больше полиции.
— Не может быть, чтобы решение сводилось к этому, правда же?
— И ее нужно лучше экипировать. Шлемы, щиты…
— А как же подумать о более отдаленном будущем?
— Водометы, вероятно. Перечный газ.
— Я о более радикальном подходе.
— Слезоточивый газ, электрошокеры…
— А в корень-то чего же не глянуть и не разобраться?
— Вы намекаете, что полиции надо выдать оружие, Дуглас? Вооруженная полиция на улицах наших городов? Вы меня не на шутку удивляете. Не знал, что в вас есть столь авторитарная склонность. Но следует держать в поле зрения все варианты. Этот мы будем иметь в виду.
Дуг откинулся на стуле и задумчиво уставился на Найджела. У него был многолетний опыт общения с политиками и их представителями, но вот так ему ни с кем еще не приходилось разговаривать.
— Но, Найджел, это ж были не просто люди, случайно и спонтанно вбегавшие в магазины и воровавшие оттуда что попало. Да, такое тоже происходило, особенно ближе к концу. Но вы посмотрите, с чего все началось. Полиция застрелила черного, а затем отказалась разговаривать об этом с его семьей. У полицейского участка собралась толпа протестующих, настроение сделалось враждебным. Дело получилось расовое — и касающееся властных отношений внутри общины. Люди почувствовали себя жертвами. Почувствовали, что их не слушают.
— Это все очень здравые соображения, Дуглас. Великолепные соображения.
— Более того, в том, какие магазины люди грабили, есть закономерности. Большинство — не местные предприятия. На самом деле иногда, когда люди пытались напасть на лавки помельче, их останавливали другие протестующие. Конечно, это уголовное поведение, и никто его не оправдывает, но оно говорит нам кое-что и о нас самих как об обществе. Люди пошли против больших мощных бизнесов, сетевых магазинов, мировых торговых марок, потому что считают их частью тех же властных структур, какие держат людей в узде и подавляют их.
Найджел восторженно покачал головой.
— Глубокие мысли, Дуг. Важные мысли. Конечно, Дэйв собирается заказать обширный доклад. Думаю, вы должны помочь составить его.
— Эй, я не социолог. У меня нет никаких ответов. Я понятия не имею, где искать решение, вот правда.
— Ну, как раз поэтому вы на одной доске с Дэйвом и Ником — они тоже понятия не имеют.
Дуг улыбнулся.
— Отжиг тут не помогает, так?
— Отжиг? — Это слово, кажется, начисто сбило Найджела с толку. — Отжиг? Вы о чем вообще?
— Я думал, это клей, который скрепляет коалицию. То, что помогло Дэйву и Нику поладить вопреки их различиям.
Найджел заговорил, и тон у него был суровый и обвиняющий:
— Надеюсь, что не беру на себя слишком много, Дуглас, но все же, думаю, вам бы лучше посерьезнее со всем этим. Мы обсуждаем ситуацию, которая может иметь глубинное влияние и последствия. Не забывайте, что Лондону, как ни крути, в следующем году предстоит принять Олимпийские игры. Ничего подобного в 2012 году допускать нельзя. Лучшим умам страны необходимо объединить усилия и сделать все возможное, чтобы эти ужасные события никогда больше не повторились. Вряд ли тут уместны разговоры об отжиге. Честно скажу: вы меня изумили. Я думал, вы человек более серьезный.
Пристыженный Дуг допил свой кофе, и мужчины встали из-за стола. Выйдя из кафе, уже у входа в подземку они пожали друг другу руки.
— Ну спасибо вам, Найджел, — сказал Дуг. — Как всегда, это было поучительно.
— Нет проблем. Кстати, мой отец шлет вам приветы. Надеется, что ваш геморрой в прошлом. Такие вот неприятности бывают очень скверными, если как следует не лечить.
Апрель 2012-го
Через восемь месяцев, 7 апреля 2012 года, при приближении к Чизикскому причалу на реке Темзе пришлось приостановить гребные состязания «Оксфорд — Кембридж»: в воде перед лодками заметили плывшего человека. Позднее установили его личность: Трентон Олдфилд, австралиец, выпускник Лондонской школы экономики, — он заявил, что регате помешал в «знак протеста против неравенства в британском обществе, против урезания бюджета, сокращения гражданских свобод и культуры элитизма». Гонки возобновили через полчаса, и команда Кембриджа выиграла на четыре корпуса с четвертью.
В тот же вечер примерно в ста милях оттуда в непримечательной сельской церкви Кёрнел-Магны состоялась незамысловатая традиционная церемония бракосочетания Софи Поттер и Иэна Коулмена.
На невесте было потрясающее платье-трапеция из белой органзы, с вырезом «королева Анна» и шлейфом «часовня». Жених в парадном костюме смотрелся впечатляющим красавцем. Слева от прохода среди друзей и родственников невесты сидел Соан и думал лишь о том, до чего зрелищная они пара, но в то же время ему было удивительно и неспокойно. Софи всегда говорила, что ни за что не наденет на свою свадьбу белое. Более того, она всегда говорила, что не станет выходить замуж в церкви. Более того, она всегда говорила, что вообще не пойдет замуж.
Может, обо всем этом стоит спросить ее на банкете.
— Даю тебе это кольцо в знак нашего супружества, — говорил жених размеренным, уверенным тоном. — Телом своим воздаю тебе, все, что есть я, вверяю тебе.
— Все, чем владею, делюсь с тобой, — произнесла невеста торжественным трепетным голосом, — в любви Бога — Отца, Сына и Святого Духа.
Чертова ханжа ты, Поттер, подумал Соан. Ты в Бога веришь не больше, чем я.
И вот про это стоит сказать ей на банкете. Но Соан знал, что́ она ему ответит: «Ты просто ревнуешь, потому что не можешь жениться». Что было в тот момент правдой, хотя Дэвид Кэмерон, поговаривали, собирался как-то изменить положение дел. Новый законопроект вроде. Уж кто-кто, а Соан его ой как ждал. Ему тоже хотелось иметь право быть ханжой перед носом у всей своей семьи и друзей.
* * *
После службы гости потянулись в местную загородную гостиницу в двадцати минутах езды — живописное просторное поместье, выстроенное из желтого котсуолдского камня, с садами, раскинувшимися по берегам реки Эйвон. При гостинице возвели шатер, и Соан осознал, что здесь им предстоит провести ближайшие пять-шесть часов. Его усадили за столик номер три — не за главный стол, очевидно, зато хоть не изгнали в дальние пределы. Ближайшая соседка по столику уже заняла свое место — роскошной внешности азиатка с седыми прядями в длинных черных волосах и постоянным намеком на затаенное веселье в уголках губ и в глазах.
— Здравствуйте, — сказала она, когда Соан уселся рядом. — Нахид. Подруга жениха.
— Соан, — отозвался он. — Друг невесты. — Оглядел других гостей, вплывавших в шатер. — Любезно с их стороны.
— Усадить единственных двоих смуглых вместе? — попыталась угадать она — и не ошиблась.
— Ага. Вы пьете?
— В кои-то веки да.
— Я тоже. Давайте я вам налью.
Они чокнулись и с благодарностью отхлебнули невыразительного совиньона.
— Давно Софи знаете? — спросила она.
— Лет пять. А вы Иэна?
— Примерно столько же.
— Мы познакомились в университете. В Бристоле.
— Иэн — мой коллега по работе. Но и друг тоже.
— Вроде… милый.
— Он милый, да. А с прошлого года еще милее. Она, похоже, сделала его очень счастливым.
— Считаете, они хорошая пара?
— Неплохая. А вы?
Соан отхлебнул еще раз — вроде как воздерживаясь от высказывания. Он смотрел, как в шатер входит Бенджамин, ведет под руку шаркающего Колина, оба двигаются к главному столу.
— Вы знаете, кто эти двое? — спросил он у Нахид. Она покачала головой. — Интересно, уж не дядя ли это Софи, о котором она все время говорит.
— Понятия не имею. Но пожилая дама, сидящая рядом, — миссис Коулмен, мать Иэна.
— С виду настоящая матрона.
— С этой силой нужно считаться, уж точно. А рядом с ними — свидетельница невесты. Джоанна, по-моему. Знаете ее?
— Едва-едва. Кажется, и Софи-то ее знает так себе. У нее близких подруг не очень-то много. Там вообще должен был быть я.
Нахид рассмеялась:
— Вы?
— Да, а что? Я ее лучший друг.
— Вряд ли вы могли бы быть подружкой невесты.
— Ну а как называется мужской вариант? Подружок или как там. Не понимаю я эти дурацкие традиции.
— Я тоже. Вот, выпейте еще. Что-то мне подсказывает, вечер будет долгим.
* * *
Двумя часами позже, когда еду употребили, а речи произнесли, Софи добралась поболтать. Выходя из туалета, она их заметила, подтащила стул, уселась между ними, обняла Соана и пьяненько поцеловала его в щеку.
— Привет, красавчик, — сказала она. — Тебе тут весело?
— Очень весело, спасибо, милая, — ответил он. — Еда чудесна, тосты тоже. Особенно тост свидетеля.
— Это Саймон. Старейший друг Иэна.
— Ну, мне понравилась его шутка про китайского официанта, который не умел произносить букву «р» и вместо нее говорил «л». Мне всегда кажется, что немножко легкого расизма добавляет остроты ощущений после плотной трапезы.
— Ладно тебе… — осадила его Софи.
— Более того… — он взял Нахид за руку и сжал ее, — у меня теперь новая лучшая подруга. Я узнал все необходимое о правилах дорожного движения, что очень полезно, а она узнала все необходимое о том, как применен поток сознания в работах Дороти Ричардсон[31], что, вероятно, менее полезно, но зато не менее интересно.
— Привет, — сказала Софи, поворачиваясь к Нахид. Они не виделись несколько месяцев — с тех пор, как Нахид с мужем заезжала на ужин к ним домой, где-то перед Рождеством. — С ума сойти, я с тобой еще не успела поговорить. В смысле, ты здесь единственный человек, который… без которого ничего этого не произошло бы. — С грамматикой нынче вечером у нее не клеилось, осознала она, — то ли из-за выпивки, то ли от избытка чувств, то ли из-за всего вместе.
Нахид улыбнулась.
— Да ладно, не преувеличивай. Уж, во всяком случае, твои родители могли бы тут поспорить.
— Верно.
— И кроме того, думаю, Барону Умнику тут причитается кое-какое признание. — Глаза ее сверкнули весельем, и она пояснила: — Не слыхала о таком? А следовало бы, потому что он изменил ход твоей жизни. Он детский массовик-затейник — в этой части света профессия очень спрошенная, особенно на детских праздниках. Но он всегда ведет представление гораздо дольше оговоренного. И я обычно не хожу в «Старбакс» после работы, но моя дочь отправилась в тот вечер на праздник в городе, а я должна была ее забрать, но тут мне позвонила мама именинницы и сказала, что праздник все никак не закончится. Вот и понадобилось убить время. А если б не понадобилось, тогда… ну, история сложилась бы иначе. В общем — за Барона Умника.
Они с Соаном подняли бокалы и, смеясь, выпили за сказанное. Но вид у Софи был серьезнее.
— Черт. Это тревожная мысль. И можно же еще дальше пойти. А если б та камера меня не поймала по дороге к Солихаллу?
— Ах да, — сказал Соан. — «Дорога к Солихаллу». Не самый кассовый фильм-путешествие.
— Нет, ты совершенно права, — сказала Нахид. — Или, допустим, поехала бы ты вообще другой дорогой? Понимаешь, вот что меня завораживает в автовождении. Каждые несколько минут оказываешься у очередного перекрестка, и нужно выбирать. И каждый выбор потенциально способен изменить твою жизнь. Иногда — радикально. — Посмотрев в упор на Соана, Нахид продолжила: — Я понимаю, вы, профессура, считаете, будто вам известны все тайны жизни лучше нас, всех остальных. Но если хотите постичь человеческий род во всем его разнообразии и сложности — изучите, кто как водит машину. Мы, инструкторы вождения, — настоящие знатоки человеческой натуры. Истинные философы. — Затем обратилась к Софи: — Это и к Иэну относится. Помни об этом. А теперь, если можно, я тебя поцелую. — Она подалась вперед и нежно, ощупью приложилась к щеке Софи. — Вы заслуживаете всего счастья на белом свете, оба. Надеюсь, вы его найдете.
Возвращаясь к своему столу, Софи погрузилась в раздумья об этой беседе, об этом жесте. Добравшись, она обнаружила, что ее дед и мать Иэна изрядно сблизились. Он подпаивал ее десертным вином, а она показывала ему фотографии усопшего супруга, хотя — что правда, то правда — дед, кажется, не очень-то обращал на них внимание. Хелена рассказывала Колину о двадцати пяти годах преданной службы Грэма на Би-би-си, о его почтении к корпорации и ко всему, что она собой олицетворяла.
— Когда-то олицетворяла, следует сказать…
Не впервые, подумала Софи, она слышит, как свекровь (Иисусе Христе, вот кто она ей теперь!) так говорит о Би-би-си. Что она вообще имеет в виду?
Колин, во всяком случае, вроде бы понимал.
— Еще бы, все подмяла под себя банда политкорректности, а?
Софи решила, что сейчас подходящий момент, чтобы влезть в разговор.
— Дед, можно тебя на минутку?
— Не сейчас, солнышко. Мы с Хеленой заняты.
— Уверена, она не хочет слушать…
— Еще вина, Хелена? — спросил он, наполняя ее бокал до краев и дальше — так, что полилось на скатерть.
Софи поспешила туда, где сидела Лоис.
— Будь добра, сделай что-нибудь со своим отцом, а? — сказала она. — Он наклюкался и клеит Иэнову мать.
— Ага. — Лоис встала и быстро двинулась вокруг стола к Колину, с видом суровым и решительным.
— Из вашей комнаты есть вид на реку? — донеслось до Лоис. — Из моей — чудесный вид на реку. Я тут подумал, не хотите ли вы посмотреть, зайдете на пять минут, мы бы открыли с вами бутылку вина из мини-бара…
— Папа! — сказала Лоис.
— Что? — Он развернулся к ней: — И ты туда же.
— Ты какого черта творишь? — прошептала она.
— Отстань от меня. Я прекрасно знаю, что́ творю.
— Кажется, мы все знаем.
— Отстань от меня, я сказал. Что тут такого? Твоя мать мертва уже два года. У меня есть нужды, как и у всех.
— Сегодня, — угрожающе проговорила Лоис, — не время для тебя и твоих нужд.
— Отстань от меня, — повторил Колин. — По-моему, тут все на мази.
Он повернулся к дочери спиной и возобновил беседу с Хеленой, которой, кажется, гораздо сильнее хотелось показывать фотокарточки Грэма, нежели обсуждать свою комнату и есть ли из ее окна вид на реку. Лоис, получив отпор, огляделась по сторонам в поисках брата, но его, как обычно, нигде не было видно. Почему Бенджамина вечно не найти, когда он нужен?
* * *
Бенджамин размышлял, не развилась ли в нем навязчивая привычка смотреть на реку. Сегодня было почти полнолуние, узоры света, плясавшие по поверхности Эйвона, завораживали. Солнце село полчаса назад, и хотя на воде было зябко, а ветер гнал по реке рябь и потрескивал ветками ив, вставать со скамейки, которую кто-то заботливо разместил на берегу, совсем не хотелось. Бенджамин был человеком застенчивым, и светский треп его изнурял. Одно дело трепаться с членами своей семьи, а вот три-четыре часа поддерживать любезные беседы с посторонними… И кроме того, во всем этом сборище было что-то такое, от чего Бенджамин ощущал себя не в своей тарелке. С Иэном он виделся всего второй раз, и, пусть тот казался довольно приятным, Бенджамин не был уверен, что Иэн для его племянницы подходящий избранник. Что у них общего, ну правда?
Эти тревожные мысли плескались у него в голове, река беспокойно трепетала под усиливавшимся ветром, и Бенджамин вдруг осознал, что уже не один. Люси, старшая сестра Иэна, стояла рядом со скамейкой, сложив руки на груди и слегка дрожа.
— Вы не против, если я присяду?
— Нет, совсем нет.
Он подвинулся. Она села рядом, вытащила электронную сигарету.
— Ничего, если я?..
— Конечно.
— Ужасные эти штуки. Но от них хотя бы рак не возникает.
Некоторое время она пыхала сигаретой, оба молчали. В шатре заиграла музыка, какая-то слезливая баллада из 1980-х поплыла в ночном воздухе, намекая, что начались танцы.
Наконец Люси промолвила:
— Вы с Софи близки, верно? Она о вас рассказывала. Всем говорит, что вы в семье интеллектуал.
Бенджамин улыбнулся:
— В смысле, тот, кто так ничего и не добился.
— Она говорит иначе. — Люси тщательно выбирала слова, одно за другим. — Мой брат, — сказала она, — не очень понимает жизнь ума.
— Тогда, возможно, они с Софи будут дополнять друг друга, — сказал Бенджамин.
— Противоположности сходятся, так?
— Что-то вроде.
— Будем надеяться. — А затем добавила виновато: — Боюсь, меня воротит от свадеб. Из-за них во мне пробуждается старый циник. Вероятно, потому, что у меня своих было три штуки. — Она вдохнула и выдула струйку пара. — Все эти надежды. Обещания. Любовь, уважение, забота, защита, долой всех прочих — тяжелая это все херня. — Песня, заигравшая в шатре, опознавалась немедленно (во всяком случае, для Люси). — «Сила любви», — проговорила она, холодно улыбаясь. — Верите в нее?
Бенджамин, для которого этот разговор делался все более неуютным, ответ на этот вопрос счел невозможным.
— Ну, она сильная, не поспоришь, — выдавил он наконец. — Но это не всегда хорошо. — Встал. — Думаю, пора мне вернуться. Пойдете?
— Пока нет.
— Ладно, — сказал он и оставил ее одну на скамейке, а сам побрел медленно, задумчиво обратно к шатру, к огням и музыке.
Некоторое время он стоял на кромке танцпола и наблюдал. Танцевало пар двенадцать — или, по крайней мере, висли друг на дружке и топтались по кругу. Софи с Иэном сейчас среди них не было. И тут племянница подошла сзади и похлопала его по плечу:
— Давай, дядь, подари мне танец!
Этого-то он и опасался. У него не было чувства ритма — во всяком случае, такого, чтобы он понимал, как выразить его физически, — и имелось принципиальное возражение против танцев под музыку, которая ему не нравилась, а такой в основном и была вся музыка. (Под ту, что ему нравилась, танцевать бы никто не смог.) Но в этот вечер отказать племяннице он не мог ни в чем. И прикинул, что в наличной компании его явно некому превзойти. А потому Бенджамин подал Софи руку и позволил вывести себя на середину танцпола, где обнял племянницу, чуть осторожничая, чуть зажато поначалу, но затем она расслабилась, он тоже расслабился, она улыбалась ему и выглядела такой мечтательной, такой блаженной, что он так же тепло улыбался ей в ответ, а затем двигаться между танцующими парами стало проще простого, отыскивая ритм музыки, опираясь на него; и тут Бенджамин осознал, что эти вот мгновения с Софи, которую он знал с младенчества, которая стала (во многом) ему дочерью, — их последние мгновения вместе, что после сегодняшнего вечера все будет иначе, может, лучше, может, хуже, но необратимо иначе, и он понял, что хочет упиваться этими мгновениями как можно дольше, и даже когда завершилась первая композиция, они не ушли с танцпола и вскоре кружили под вторую песню, а следом и под третью. И где-то на середине третьей композиции к ним подошел Иэн, мягко взял Бенджамина под руку, разлучил их с Софи и сказал:
— Прошу прощения, ничего, если я свою жену заберу обратно?
И Бенджамин ответил:
— Конечно. — И сдал назад, а затем пошел искать бар, отчетливо понимая сейчас лишь одно: надо выпить.
Июнь 2012-го
Бенджамин потрясенно осознал, что прожил на мельнице два с половиной года. Куда подевалось время? Помимо поездок к отцу в Реднэл два-три раза в неделю, Бенджамин не понимал, что́ за эти тридцать месяцев сделал конструктивного. Выполнял кое-какую ремонтную работу по дому, ездил в Шрусбери за продуктами, готовил себе все более изобретательные лакомства… Ничто из этого не добавляло к дельно прожитой жизни, вынужден был признать он. Быть может, утрата Сисили оказалась ударом сильнее, чем Бенджамин сознавал, и он с тех пор жил в состоянии эмоционального шока. Или, вероятно, в пятьдесят два досрочно успокоился и обленился.
За все это время он о своем романе толком и не думал. Или о цикле романов, о романе-хронике — или как там этой чертовой штуке положено именоваться. «Непокой», проект, над которым он работал со времен своего студенчества в Оксфорде в конце 1970-х, уже разросся до полутора миллиона слов, то есть стал объемнее всех работ Джейн Остен и Э. М. Форстера вместе взятых. Рожденный объединить пространное повествование о европейской истории со времен прихода Британии на Единый рынок в 1973-м с подробным отчетом о внутренней жизни автора в тот же период, этот проект усложнялся тем, что у него имелся музыкальный «саундтрек», сочиненный самим Бенджамином, но каковы в точности отношения этого саундтрека с текстом, сам Бенджамин все никак не мог определить. Бесформенная, разбросанная, многословная, чрезмерная, непродуманная, не подлежащая публикации, местами нечитаемая и в общем и целом непригодная к прослушиванию, — это понимание начало нисходить на Бенджамина, как гнетущая туча. Он не мог заставить себя бросить книгу, но растерял всякое ощущение, было ли в этой работе хоть малейшее достоинство или нет. Вот что нужно: беспристрастное мнение.
Первым делом — и как это часто бывало — он обратился к Филипу. Филип — надежный друг в любых невзгодах, тем более последнее время, раз Филип теперь зарабатывал на жизнь, редактируя сложные рукописи и придавая им форму. Но когда Филип получил по почте файлы и осознал масштабы работы, которую его просят произвести, его охватила паника и он позвонил Бенджамину с другим предложением.
— Приезжай в «Викторию» на Джон-Брайт-стрит в понедельник вечером, — сказал он. — По этому поводу проведем настоящее заседание комитета.
— Погоди… есть какой-то комитет? — спросил Бенджамин.
— Не волнуйся. Я его соберу.
«Виктория», которую Бенджамин прежде ни разу не посещал, оказалась мрачным викторианским пабом, притаившимся в неприметном углу рядом с Саффолк-стрит-Куинзуэй в Центральном Бирмингеме. Был понедельник, 4 июня, и в честь алмазного юбилея королевы, который нация отмечала целые длинные выходные, по всей стране четыре дня шел проливной дождь. Когда Бенджамин прибыл, таща на себе распечатку своего шедевра в двух увесистых коробках, лить наконец перестало, но улицы все еще блестели дождевой водой и отражали свет фонарей. В пабе его встречал не только Филип, но и два других лица из прошлого.
Перво-наперво, там был Стив Ричардз, еще один старый друг по школе «Кинг-Уильямс». Стив был единственным черным мальчиком в их выпуске, неизбежно оказывался под обстрелом расовых насмешек и издевок и претерпевал их с несгибаемым достоинством и смирением. Ныне все у него шло хорошо: дочери выросли и покинули отчий дом, а спустя много лет, проведенных в промышленном секторе, сам он посвящал себя изысканиям, интересовавшим его всю жизнь, — стал директором чего-то под названием «Центр экологичных полимеров» в одном из ведущих университетов Средней Англии. У Стива был вид тихого довольства — помимо того, что выглядел он моложе Бенджамина и гораздо здоровее.
Рядом со Стивом сидел человек, которого Бенджамин поначалу не признал. Вероятно, за шестьдесят, эспаньолка, седые волосы до плеч, вроде бы смутно знакомый, но через несколько мгновений неопределенности стало ясно, что придется представиться.
— Бенджамин? Я Том. Том Сёркис. Только не говори, что не помнишь.
Мистер Сёркис… Да! Их преподаватель английского в шестом классе. Человек, чьим вкладом в историю «Кинг-Уильямс» стал придуманный им школьный журнал под названием «Доска», в котором Бенджамин, Филип, Дуг и прочие точили свои журналистские зубы. Бенджамин в глаза его не видел лет тридцать с лишним. А теперь, поглядев пристально, помимо общих симптомов старения, не замечал никаких перемен, вообще никаких: та же стрижка, тот же потрепанный твидовый пиджак, даже джинсы расклешенные, в стиле 1970-х.
— Ну, — произнес мистер Сёркис, — надо полагать, немудрено, что ты меня не узнал. Несколько поработал над имиджем с тех пор. Видишь?
Он показал на свою левую мочку, она была проколота и с маленькой золотой сережкой.
— А… да, — кивнул Бенджамин довольно растерянно. — Вот в чем дело, наверное. Вся разница в этом. Как поживаете?
— Все еще преподаю. Приятная общеобразовалка в Личфилде. Немного не такая, как «Кинг-Уильямс», но по-своему такая же веселая. Трудности другие. И все-таки после этого полугодия уйду на пенсию. Всё — вешаю академическую шапочку на гвоздь. О, зато отличные деньки были — 1970-е, а? Когда Стив сыграл Отелло, а ты написал тот скандальный обзор. Во шуму-то наделал! А еще Дуг, конечно, с этой его политикой. У него все хорошо, верно? Вы еще общаетесь?
— От случая к случаю, — ответил Бенджамин. — Он женился на одной из самых богатых и шикарных женщин в Лондоне, у них особняк в Челси.
— Ха! Интересно, что бы об этом подумал его отец. Цеховой староста в Лонгбридже, да?
— Да — но, уверяю вас, Дуг полностью отдает себе отчет в этом парадоксе. И тот Дуга мучает, я бы даже сказал.
— Впрочем, он всегда западал на пафосных женщин, — напомнил всем Стив. — С тех самых пор, как слинял в Лондон на выходные, пока мы еще были в школе, и утратил невинность с некоей Слоан на Фулэм-роуд[32].
— Верно, — сказал Бенджамин и на миг задумался, что, возможно, не у него одного взрослая жизнь в конце концов определилась подростковой влюбленностью.
После еще некоторых воспоминаний в том же духе Филип призвал всех к порядку и напомнил, каким делом им предстоит сегодня заняться. Тем временем на широком экране телевизора в глубине паба мелькали изображения окрестностей Букингемского дворца, где юбилейные празднества королевы завершал концерт. Шёрли Бэсси пела «Брилианты навсегда»[33], а ее величество и принц Филип озирали всех с добродушным недоумением.
— Вы гляньте на этих чертовых паразитов, — произнес мистер Сёркис, ощериваясь на экран.
Трое друзей оторопели.
— Ой, ну не знаю. По-моему, она молодец, — сказал Филип.
— Очень полезно для туризма, — сказал Бенджамин.
— Она к нам в университет разок приезжала, — сказал Стив. — Приятная дама.
Возникло краткое молчание, и под разочарованным взглядом мистера Сёркиса все вдруг осознали, до чего консервативными и пожилыми кажутся. Смутившись за всех разом, Филип заспешил дальше:
— Так, Бенджамин, ты привез книгу?
— Привез.
Чтобы достать две коробки, сложить разные разделы в правильном порядке, поснимать с них всех резинки и так далее, ушло немалое время — в том числе и потому, что стол, за которым они сидели, оказался недостаточно просторным для целых гор бумаги, не говоря уже о стопке дисков, на которых хранились файлы с музыкой. Друзья перебрались за соседний столик — самый большой в пабе, где уместилась бы компания в десять персон, и там Фил, Стив и мистер Сёркис несколько мгновений смотрели на рукопись в обалделом молчании.
— Блин, — проговорил Стив, — в смысле, я знал, что она большая, но не отдавал себе отчета…
— Как тебе это удалось, Бен? — спросил мистер Сёркис. — Ни разу не приходило в голову просто… остановиться?
— Я не могу остановиться, — ответил Бенджамин просто, — пока не доберусь до конца.
— Справедливо, — проговорил Стив.
Шёрли Бэсси покинула сцену под продолжительные аплодисменты, ее место заняла Кайли Миноуг.
— Итак, вот что я сделал, — пояснил Филип, — я попросил Стива прочитать материалы личного свойства, Тома — политические фрагменты, а сам прослушал музыку и попытался сообразить, как это все сцепляется воедино.
— Вполне себе план.
— Да, ну… Давайте поглядим, кто как справился. Стив, каково было твое первое впечатление?
— Слишком длинно, — не задумываясь сказал Стив.
— Окей. Том, какие выводы сделали вы?..
— Длинно, вообще ни в какие ворота, — произнес мистер Сёркис, не дожидаясь окончания вопроса.
— Хорошо, — сказал Филип. — Вижу, у нас тут складывается закономерность. Это полезно. Так, в отношении музыкальной части все несколько запутаннее. Видите ли, я не вполне уверен… — он примолк и виновато глянул на Бенджамина, — не вполне уверен, что понимаю, какую задачу выполняет музыка — в общей структуре. Частично она казалась несколько… ну, избыточной.
Автор/композитор ощетинился и сказал:
— Когда ты говоришь «частично»…
— Ну, думаю, на самом деле я имел в виду… ее всю.
— Всю музыку?
— Да.
— Избыточной?
— «Избыточной», понятно, жестковато, — проговорил Филип, — но… в этом контексте верно, как мне кажется.
За столом воцарилось неловкое молчание. По телевизору Кайли Миноуг выкрикивала «Никак не выброшу тебя из головы»[34] с энергией, не сообразной ее сорока четырем годам.
Бенджамин молчал долго, а затем выпалил:
— Да, вы правы. Я знаю, что вы правы! Весь этот замысел соединить музыку с печатным словом был нелеп с самого начала. Я ни разу не продумал его целиком, ни разу толком не задался вопросом, что вообще делаю, я…
Не говоря больше ни слова, он сгреб стопку дисков со стола и сбросил их в коробку.
— Вот. Мне полегчало. Теперь имеем нечто попроще. Просто книга. Просто очень, очень толстая книга.
— Слишком толстая, — сказал Стив.
— Слишком толстая, — согласился Бенджамин.
— Можно ее укоротить, — предложил мистер Сёркис, — если избавиться от кое-каких политических и исторических кусков.
Бенджамин обдумал предложение. Почувствовал, что его бывший учитель не до конца с ним искренен.
— Когда вы говорите «от кое-каких»… — подсказал он.
— Я имею в виду всё. В смысле, это интересно и все такое прочее, но… мне не показалось, что там есть сущностное качество, это особое нечто…
— Речь о половине книги, — напомнил ему Филип.
— Да. Но мы же сошлись во мнении, что она слишком толстая.
— Окей, — мрачно выговорил Бенджамин и убрал со стола части II, IV, VI, VIII, X, XII, XIV и XVIII, сложил кипы бумаги обратно в коробки, в которых привез. Стол теперь был лишь наполовину укрыт отпечатанными страницами, и роман внезапно показался гораздо более умопостигаемым.
— Так, Стив. Твои соображения.
— Мои соображения. Окей. Ну, перво-наперво, у меня была всего неделя на чтение, и потому прочесть все целиком я не успел. Но то, что успел, прочитал с удовольствием. Попадались прекрасные описательные пассажи, и… знаешь, Бенджамин, ты очень талантливый писатель. Но это и незачем тебе говорить.
— Спасибо, Стив.
— Странным же в этом, однако, — с поправкой на то, какой ты талантливый писатель и до чего прекрасными были описательные пассажи и все прочее… — странным было, подозреваю, то, до чего… ну, до чего скучно это было.
После этого замечания последовала самая долгая и самая потрясенная тишина. Никто не знал, что сказать, но все остро осознавали, что Элтон Джон поет у Букингемского дворца «Пока стою́ я»[35].
— Скучно? — проговорил наконец Бенджамин дрожащим голосом. — Окей. Такого я не ожидал, но если тебе так показалось…
— Пойми меня правильно, — сказал Стив. — В смысле, там была одна часть, которая мне по-настоящему понравилась. Которая о тебе и Сисили.
— А! Да, — сказал Филип. — Ее я тоже читал. И мне та часть очень нравится. Написано действительно от души, подумал я.
— В смысле, не скучно?
— Штука в том, что… ну, это замечательная история твоей жизни, правда же, Бен? Большая любовь. Как вы познакомились в школе, как ты Сисили нашел, как опять потерял, как она искала тебя годы спустя… И то, как ты это рассказываешь, — совершенно на другом уровне по сравнению с остальной книгой. Само письмо на совершенно другом уровне.
— Но это же всего страниц двести от всей вещи.
— Это правда, но… знаешь, двести страниц — хороший объем для романа. Гораздо лучше, чем пять тысяч.
Часть, о которой шла речь, — маленькая отдельная стопка на углу стола, который оказался ближе всего к Бенджамину. Он взял листки, перебрал их.
— Ты говоришь, что мне стоит оставить это и… выбросить все остальное?
— Мне кажется, это издать можно. Уверен, что у тебя получится это издать.
— Но этой части не полагалось быть отдельной от остальной книги. У нее ни своего названия нет, ничего.
— Спорим, название ты придумать сможешь.
— Та сцена, — сказал Стив, — где она пропадает на три или четыре года, а ты покупаешь джазовую пластинку, ставишь ее, и там мелодия, из-за которой ты думаешь о Сисили. Как называется? «Роза без единого шипа». Красиво же, ну.
— Стив прав. Вот тебе и название, — сказал Филип.
— Да, неплохо… — Чем дольше Бенджамин обдумывал этот вариант — хотя признаться ему не позволяла гордость, — тем больше он ему нравился. Может, дело в усилиях, какие понадобились, чтобы дотащить две здоровенные коробки, набитые бумагой, с парковки в паб, но у Бенджамина было сейчас устойчивое ощущение, что эта книга — физическое бремя, тяготившее его тридцать лет, а сегодня это бремя чудесным образом сняли с его плеч. Едва ли не чересчур хорошо, аж не верится, и, возможно, поэтому он продолжал измышлять возражения. — Но все же никто не захочет это публиковать.
— Я это опубликую, — сказал Филип.
— Ты?
— Да, я. Я издатель.
— Думаю, я сначала попробую настоящего… в смысле, издателя покрупнее.
— Конечно, — сказал Филип. — Отправь в «Фабер». Отправь в «Джонатан Кейп». Было б глупо не отправить. Но если они откажутся, я это напечатаю. Пора мне уже издать что-нибудь приличное.
Щедрость этого предложения тронула Бенджамина.
— Ты правда готов? — спросил он.
— Конечно.
— И все же я бы предпочел, чтобы у этого был серьезный… в смысле, кто-то из более солидных издателей.
— Разумеется. Само собой.
Решив этот вопрос, они обратили свое внимание на Пола Маккартни, справлявшегося у дворцовых ворот с довольно приблизительной версией «Ну и пусть». Лишь через несколько минут Филип осознал, что мистер Сёркис в последней части разговора почти не участвовал.
— Ну как, вы с нами согласны, Том? Вам тоже кажется, что Бенджамину стоит попробовать издать эту одну часть?
— Вообще-то, ее я не читал, — напомнил он.
— Да, но вы читали много чего в других главах.
— Верно, — горестно согласился он.
— Ну вот на основании этого дадите ли какой-нибудь совет?
— Дам ли я какой-нибудь совет Бену на основании того, что я прочитал?
— Да.
Песня подошла к концу, публика зааплодировала, мистер Сёркис нахмурил лоб, осторожно выбрал слова и, повернувшись к Бенджамину, сказал:
— Ты никогда не думал преподавать? Еще, между прочим, не поздно.
Июль 2012-го
Софи сидела на улице у бара «Vieux Port»[36], попивая второй бокал розового — обескровленного из-за кубиков льда, быстро в нем таявших, — и тут зазвонил телефон. Иэн. На миг она задумалась, отвечать ли. Затем вспомнила, что обещала позвонить ему, когда доберется, и забыла — и теперь чувствовала себя виноватой. Приняла звонок.
— Привет, — сказала она.
— Ты где?
— Во «Вьё-Пор», взяла бокал вина.
— Доехала нормально, значит? Сказала же, что позвонишь.
— Ага, прости, я забыла.
— Я волновался.
— Ну, если б в самолете оказалась бомба, о ней бы уже было в новостях.
— Я понимаю. Я следил за твоим рейсом по «Флайт-радару».
— Какое ты солнышко — так беспокоиться.
— Как твоя комната?
— Самая обычная студенческая.
— А Марсель как?
— Не знаю. Пока ничего не видела дальше студенческой общаги и этого бара. А бар очень милый, надо сказать.
— Слышу музыку.
— Ага, тут какие-то ребята с магнитофоном, гонят рэп на площади ярдах в двадцати отсюда. Думаю, такой вот это город.
— Уже поела?
— Ужин в девять. Вроде ничего особенного не происходит, и я решила пока тут выпить.
— Где будете кормиться?
— В каком-то ресторане.
Миг тишины.
— Я скучаю по тебе.
— Я тоже, — сказала Софи. Потому что, в конце концов, так полагается отвечать, когда твой муж говорит, что скучает по тебе.
* * *
«Quatorzième Colloque Annuel Alexandre Dumas»[37] происходил на третьей неделе июля в Университете Экс-Марселя. Сбор тезисов выступлений состоялся год назад, и Софи предоставила главу из своей диссертации о современных портретах Дюма, вовсе не ожидая, что материал примут. Но организатор Франсуа ответил ей на обаятельном почти безупречном английском, что «задача конференции в этом году — междисциплинарность, а также территориальный охват», и это заявление до сих пор в некоторой мере озадачивало Софи. Так или иначе, материал приняли, это главное, и вот она здесь, на своей первой международной научной конференции. Более того, конференция проходила на Средиземноморском побережье, где солнце никогда не прекращало светить, а средняя дневная температура достигала тридцати трех градусов по Цельсию, тогда как Англия даже в июле продолжала страдать от ливней столь мощных, что эстафету передачи олимпийского факела из Пекина в Лондон на последних этапах пришлось задержать.
Ужин в тот воскресный вечер был на свежем воздухе, в ресторане на крутом людном спуске, ведшем к Кур-Жюльен. Компания подобралась многонациональная и многоязыкая, с участниками-французами, немцами, итальянцами, турками, иранцами и португальцами — и одним американцем, предупредительным, негромким мужчиной из Чикаго, примерно ровесником Софи. Его звали Эдам, его приезд оплачивался из особой стипендии для афроамериканцев, и он оказался музыковедом — специалистом в области музыки для кино.
— Как интересно, — сказала Софи, с удовольствием оказавшись рядом с ним ближе к концу вечера, когда все стало менее формально и народ начал пересаживаться. — И какова же связь с Дюма?
— Довольно смутная, — признал он, — но я подал доклад о разных партитурах к «Трем мушкетерам». Будем надеяться, что эти ребята сочтут мое выступление легкой разрядкой.
— По-моему, здорово. Надеюсь, будет много музыкальных клипов. Какой, кстати, ваш любимый?
— Никаких спойлеров, — ответил он. — Если скажу, вам станет незачем приходить и слушать.
— О, я точно приду, — сказала Софи. — Это же наверняка будет самое яркое событие недели.
Позднее она осознала, что так говорить было легкомысленно, — и не в последнюю очередь потому, что получился сарказм, которого не подразумевалось. Но Эдам вроде бы не обиделся и даже не обратил внимания, а потому Софи вскоре выбросила это из головы. Она уже захмелела от теплого воздуха, прекрасной еды и, главное, от полного облегчения: свинцовые небеса Англии на несколько дней остались позади.
* * *
Доклад Софи был всего лишь вторым по порядку, поздним утром в понедельник. Заседание происходило в «Espace Fernand Pouillon»[38] в главном университетском городке, рядом с железнодорожным вокзалом. Софи сразу поняла, что конференция будет мощной и хорошо организованной. Доклад Софи читала на английском, перевод на французский показывали на экране у нее за спиной. Она проговорила час о портрете Дюма кисти Уильяма Хенри Пауэлла[39]. Вопросы из зала после выступления оказались вдумчивыми, заинтересованными и обильными, они продолжились и за обедом, и Софи некоторое время вдохновляли и этот успех, и воодушевление коллег.
К середине следующего дня, впрочем, она осознала, что уже начала чувствовать себя неуместной на этом собрании знатоков Дюма — если не сказать фанатиков. Она вспомнила, что у ее решения больше не заводить романы с учеными была причина — вот эта привычка одержимо вцепляться в одну тему, а весь остальной мир оставлять без внимания, незамеченным. И Дюма, как выяснилось, предоставлял богатую почву для одержимости — Софи недооценивала энергию и плодовитость этого человека, сотни романов, миллионы слов, «ассистентов автора», нанятых содействовать в написании книг, и вообще промышленные масштабы производства. Сама она читала только «Графа Монте-Кристо» и (много лет назад) примерно половину эпопеи о трех мушкетерах. Большинство докладов, что вполне естественно, сосредоточивались на писательстве и касались текстов, с которыми Софи знакома не была; за завтраком, обедом и ужином разговоры вращались вокруг Дюма, Дюма, Дюма. Во вторник на середине отчаянно сухой презентации пьес (которые в наши дни все равно никто, похоже, не читает) Софи решила, что остаток дня пропустит и самостоятельно изучит город.
Она теперь осознала, что́ Франсуа имел в виду, говоря о «территориальном охвате». Цель, как он пояснил всем за ужином в воскресенье, — не запираться в марсельском студгородке, а сделать так, чтобы конференция ощущалась во всем городе, — мало того — во всем регионе. Доклад Эдама о киномузыке, например, запланирован в консерватории Экс-ан-Прованса, в получасе отсюда. Ключевая лекция в четверг, посвященная представлениям Дюма о тюремном заточении, пройдет в замке Иф, в той самой камере, где, в воображении писателя, содержался Эдмон Дантес. А заседания во вторник проходили в центре искусств под названием «La Friche de La Belle de Mai», расположенном на бывшей табачной фабрике в третьем аррондисмане. Ускользнув из лекционного зала посреди бесконечного пересказа сюжета «Charles VII chez ses grands vassaux»[40], Софи замерла на миг во дворе, щурясь от яростного солнечного света. Первый порыв — позвонить Иэну. Сейчас он казался ей противоядием от этой тесной, душной академической вселенной, и она вдруг пожелала хотя бы нескольких минут нормального разговора с ним — но Иэн по телефону не отзывался. Неважно, весь остаток дня теперь в ее распоряжении, и это само по себе хорошо. Софи немного порылась на полках в книжном магазине, затем вышла на улицу поглазеть, как полдесятка ребят откатывают приемы на площадке для скейтбордистов, а затем посетила выставочный зал — ее зачаровала серия панорамных, резких черно-белых фотографий бейрутских городских пейзажей.
Проведя таким образом в «Ла Фриш» пару часов, Софи села в автобус в центр города, проехалась вдоль Ла-Канебьер, а затем, выйдя на станции метро «Ноай», побрела вверх по холму через Марше-де-Капюсан, петляя по узким, перекрещивающимся улочкам, на каждой — лавочки, торгующие всевозможной французской и африканской едой, воздух напитан искушающими ароматами знакомых и неведомых пряностей. Улицы полнились покупателями, и Софи видела, что головокружительная смесь культур, придававшая Лондону его современный характер, здесь еще плотнее, концентрированнее. И Софи это нравилось. Она чувствовала, что способна в этом городе раствориться.
* * *
Софи обещала Эдаму, что следующим утром придет на его доклад о киномузыке. Организаторы заказали автобус, доставивший их по трассе в Экс, а затем в консерваторию Дарьюса Мийо[41], красивое спокойное здание, названное в честь самого знаменитого в этих местах композитора и возведенное на рю Жозеф Кабассоль. Доклад Эдама, проиллюстрированный музыкой и отрывками из фильмов, оказался остроумным и увлекательным, хотя Софи расслышала бормотание некоторых особенно махровых знатоков Дюма, что, на их вкус, этот доклад недостаточно созвучен общей теме. В сугубо аналитических пассажах, что правда, то правда, она терялась, но было нечто привлекательное и убаюкивающее в его произношении, а потому Софи время от времени впадала в грёзы и сосредоточивалась на выговоре Эдама. И ей понравился масштабный полусерьезный вывод в конце, когда Эдам выдвинул соображение, что самая сложная и экспериментальная музыка из всего, что сочиняли для экранизаций Дюма, по его мнению, — партитура Скотта Брэдли к «Двум мышкетерам», мультику про Тома и Джерри из 1950-х[42].
Потом, вдохновленные перспективой раннего обеда, многие участники поспешили дальше по улице в поисках ресторана, забронированного Франсуа. Но Софи нужно было в туалет, и когда она появилась оттуда, все уже ушли — за исключением Эдама. Тот стоял в вестибюле и разговаривал с кем-то из молодых преподавателей консерватории.
— Замечательно получилось, — сказала Софи, встревая в паузе в разговор. — Я многое узнала. Спасибо.
Но Эдама интересовало нечто совершенно другое.
— Этот инструмент, — сказал он, показывая на рояль розового дерева в углу вестибюля, — самого Мийо, можете себе представить?
О Дарьюсе Мийо Софи хотя бы слышала, поскольку он был из тех композиторов, о ком вечно распинался дядя Бенджамин, но толком ничего о Мийо не знала и потому, в общем, не могла разделить воодушевления Эдама.
— Мне правда можно на нем сыграть? — спросил он у преподавателя.
— Да, конечно. Сделайте одолжение.
Эдам уселся на табурет, поднял крышку и сказал:
— Он действительно настроен на две тональности сразу?
Преподаватель рассмеялся. Софи — нет.
— Простите, — сказал Эдам. — Музыковедческая шутка. — И начал играть.
Похоже, импровизировал — жалобные, горько-сладостные аккорды, напомнившие Софи о Равеле, Дебюсси и ночных барах. Он играл, а она тихонько пошла к выходу, глядя на улицу, на здания желтого камня в утреннем солнце. Экс очень отличался от Марселя — тихий, богатый, успокаивающий; быть может, немного самодовольный. Напротив консерватории располагался магазин, торговавший книгами на английском; вывеска — чайник, раскрашенный под британский флаг. Софи подошла поближе, заглянула в витрину. Мелодия Эдама все еще лилась из открытых дверей на улицу. Слышно было очень ясно. И вдруг музыка прервалась, и Софи услышала, как он благодарит преподавателя, прощается, — и вот уж он рядом с ней на улице.
— Красиво, — сказала она, поворачиваясь к нему. — Я слушала отсюда. Вы так здорово играете.
— Спасибо, — отозвался он, но с застенчивостью — или скромностью, — которая, как она уже начала догадываться, была ему свойственна: он не понимал, что ему делать с комплиментом. — Хороший книжный — зайдем?
Потом Софи толком не могла определить, что в ее памяти придало следующим нескольким минутам это особое свойство. Быть может, дух лавки, такой безмятежный и неземной, они в ней — единственные покупатели. Может, все потому, что для Софи мало было чего столь же сокровенного, как с кем-нибудь вдвоем рыться в книгах. А может, бдительное улыбчивое внимание женщины за стойкой, так любезно их поприветствовавшей на таком хорошем английском и, судя по всему, решившей, что они пара. Может, все потому, что когда Софи сняла с полки «Сумерки выдр» Лайонела Хэмпшира и сказала Эдаму: «Боже, да он всюду», не имело значения, что Эдам не понял шутки, но все равно рассмеялся. Может, потому, что когда он взял с полки книгу какого-то американского писателя, чьего имени она и не слышала ни разу, и сказал: «Эту написал мой отец», она сочла очень логичным, что Эдам — сын писателя. В чем бы ни состояла причина, когда Софи купила эту книгу, когда они попрощались с хозяйкой, глаза которой многозначительно сияли им из-под вуали каштановых волос, что-то между Софи и Эдамом изменилось — едва ощутимо сместился их центр тяжести.
* * *
Софи избегала Эдама следующие полтора дня, проводила время одна, посмотрела Марсель еще шире, добравшись в прибрежные анклавы Мальмуск и Валлон-дез-Офф и проведя три или четыре часа в грубо отлитом бетонном прибежище «La Cité Radieuse»[43] — самом известном многоквартирном здании Ле Корбюзье. (Бруталистская архитектура была ее слабым местом, и пусть ее — как и кого угодно еще — радовало, что новая Библиотека Бирмингема обретает форму, Софи надеялась, что Центральная библиотека Джона Мэдина[44], шедевр 1970-х, избежит ударов чугунного шара.) На конференцию она не вернулась до обеда четверга, когда пришло время ехать в замок Иф. Было жарче прежнего, тридцать шесть градусов, и солнечные блики на воде Старого порта ослепляли. Морская поездка заняла чуть больше двадцати минут. Поначалу они неспешно пропыхтели прочь из Старого порта, мимо форта Сен-Жан и громадной прибрежной стройки, где почти уже возвели новый ультрасовременный Музей европейских и средиземноморских цивилизаций, а затем набрали скорость и подошли к самому острову Иф, минуя громадные круизные суда со всего мира, бросившие якорь в гавани на день; искатели удовольствий пересекали их путь на моторках и водных лыжах — пик туристического сезона, — и у Софи возникло странное, головокружительное чувство, что в гуще отпускников она на работе (в некотором смысле). Поездка была спокойной, замок приближался, и Софи обнаружила, что представить его как стратегическую крепость или — как случилось позднее в судьбе замка Иф — как суровое неуязвимое узилище трудно. Ныне башни и укрепления кремово-бело жарились на средиземноморском солнце, и замок смотрелся совершенно добродушно и гостеприимно. Туристическая достопримечательность — и невозможно красивая к тому же.
Впрочем, вид на замок по мере приближения к нему не подготовил Софи к тому, что замок, в свою очередь, когда взберешься по крутой спиральной лестнице на верхнюю террасу, предложит вид на город и береговую линию. Перед Софи раскинулся весь Марсель: путаница древних и современных зданий, ширь жилых кварталов на западе, зеленая глухомань и головокружительные утесы массива Каланки на востоке, и над всем этим — властная башня базилики Нотр-Дам. Между замком и этой панорамой простиралось море, катило мягкие волны, сияло под солнцем — насыщенный, безупречный ультрамарин до самых глубин. И все это купалось в свете. Да — вот чего, осознала она, ей не хватает в Англии, вот почему здесь все кажется таким живым, таким чувственным, таким исполненным энергии, таким неуничтожимо живым. Если сравнивать, то до чего же чахлое, несчастное существование влачат они в стране, которую обязаны именовать домом. Марсель — Бирмингем, Марсель — Кёрнел-Магна. Эти места, казалось, не в разных странах и даже не на разных планетах, они словно принадлежат совершенно разным порядкам бытия. Этот свет делал ее такой живой, какой она себя не ощущала много лет — возможно, с тех пор, как была ребенком. Ее коллеги на террасе увлеченно фотографировали, под всеми мыслимыми углами и во всех ракурсах, но Софи знала, что из этого ничего не выйдет, и телефон из сумки не доставала. Никакая комбинация пикселей не сможет запечатлеть чувство этого мига, это совершенно новое, мощное ощущение полнокровия.
Замок закрывался для посетителей в пять тридцать, им предоставили уникальный и, как поняла Софи, мало кому разрешенный доступ еще на два часа. В шесть вечера, когда туристы собирались на причале к последнему рейсу в Марсель, участники конференции пришли к камере на первом этаже, названной в честь Эдмона Дантеса, горемычного персонажа Дюма. Камера оказалась глубокой, но до странного просторной каменной комнатой, из окна высоко на стене струился тонкий луч света. Здесь выступающий по имени Гийом включил презентацию в «ПауэрПойнте» и проговорил чуть дольше часа о «L’Incarcération comme métaphore de la paralysie psychologique»[45]. Софи доклад понравился, произвел сильное впечатление, но ей не терпелось выйти из камеры и вновь оказаться на свежем воздухе — в вечернем свете.
В семь тридцать им предложили выбор: корабль доставит их обратно в Марсель, в ресторан, который для них забронировали на вечер, но можно еще сделать крюк и заехать на Фриульский архипелаг, это всего в нескольких сотнях ярдов по воде. Если кто-то желает сойти в порту на Ратонно — пожалуйста, оттуда позже вечером можно добраться общественным водным транспортом в город.
Большинство пожелало ехать в Марсель сразу: доклад Гийома раззадорил их, и они рвались обсудить его за ужином. Софи, Эдаму и еще троим, однако, было любопытно посетить другие острова, и их забросили туда через несколько минут.
Острова Ратонно и Помег связаны длинной каменной косой. Близ небольшого порта, где их высадили, — набережная, застроенная магазинами и барами. В один такой бар другие трое сразу и двинулись, более всего желая выпить на свежем воздухе, когда наконец стало попрохладнее.
— Что скажете? — спросила Софи. — Пойдем с ними?
— Не знаю… — замялся Эдам. — Я бы погулял. Тут же вроде бы где-то должен быть пляж?
Они изучили карту на стене в гавани и отправились по плоской пыльной дороге, ведшей прочь от порта к Каланк-де-Моржире. Очевидно, шли они против прилива туристов: непрерывный поток людей с полотенцами и пляжными сумками — парочки, семьи, шумные компании молодежи — двигался им навстречу. Ратонно — каменистый остров, пейзаж здесь так скуден на зелень, что кажется едва ли не лунным. Скоро в горле у Софи пересохло и защекотало от пыли, солнце палило немилосердно — даже в этот поздний час дня. Впрочем, до маленького галечного пляжа идти было всего несколько минут, там все еще плавали и ныряли с масками в теплой бирюзовой воде немногочисленные купальщики.
— Досадно, что мы ничего для купания не взяли, — сказал Эдам, глядя на море с насыпи над пляжем и прикрыв глаза ладонью от низких лучей заходившего солнца.
— Как раз об этом подумала, — сказала Софи, хотя отчасти была только рада, остро осознавая, до чего бледное у нее тело под легким летним платьем.
Они прошли еще немного по крутой, петлявшей тропе, которая привела их на каменную гряду высоко над пляжем. Даже эта прогулка была утомительна, и потому они нашли плоский камень рядом с тропой и с облегчением на него сели, благодарные, что по крайней мере легкий намек на морской ветер жару делал здесь чуть более сносной.
После долгого уютного молчания Софи сказала:
— Я начала читать книгу вашего отца.
— Да?
— Очень хорошая. Есть в ней что-то апдайковское.
— Некоторые так говорят. Ему Апдайк не нравится. — Эдам улыбнулся. — Но, во всяком случае, ему было бы приятно, что вы его не сравниваете с Джеймзом Болдуином. По правде говоря, мой отец — такой человек, какие умеют из любого комплимента сделать оскорбление. Я бы не сказал, что с ним легко.
— Вы близки с ним?
— Мы не виделись, — ответил Эдам, — года два или три. Они с мамой развелись некоторое время назад. К большому облегчению для нас с сестрой. Они все время ссорились. Было… сильно. — Старательно не глядя на Софи впрямую, он продолжил: — Вы, думается, из другой семьи происходите. Кажетесь… ну, довольно спокойной в этом отношении.
— Да, мои родители не то чтобы ссорились. Они просто живут в постоянном… я даже не знаю, как это назвать. Насупленном безразличии.
Эдам рассмеялся.
— Очень по-британски, похоже.
— Да, именно так. Они сохраняют спокойствие и продолжают свое дело, хотя мама… — Софи умолкла, не желая развивать тему дальше.
— А вы?
— Я?
— Замужняя жизнь. — Он глянул на ее обручальное кольцо. — Как вам она?
— О. Ну, пока рановато говорить. Всего три месяца прошло…
— А — так недавно? Поздравляю.
— Но пока хорошо. Очень хорошо. Я чувствую себя очень… заземленной.
— Великолепно. Рад за вас. И за него.
— Иэн. Его зовут Иэн.
— И чем он занимается?
— Он преподаватель.
— Само собой. История искусств?
— Нет. Он учит людей безопасному автовождению. Так мы с ним и познакомились. У него на занятиях.
— Правда? Вы мне лихим водителем не кажетесь. В вас есть дикарство, которым вы с нами не поделились?
— Нет, — ответила Софи вдумчивее, чем, наверное, предполагал вопрос. — Никогда так не считала.
Должно быть, просидели они так с полчаса или дольше — достаточно, чтобы посмотреть закат во всем его праздном великолепии. За ними, по другую сторону острова, вставала луна, проливая достаточно света, чтобы легко удавалось двигаться по тропе, когда они проголодались и отправились к гавани и ее ресторанам. Других участников конференции они найти не смогли — только что, судя по расписанию, отчалил наветт[46] до Марселя, но спешить в любом случае было незачем: последний уходил в полночь.
Они нашли тихий прибрежный бар и заказали мидии «мариньер» с обжаренными хлебцами и салат «нисуаз», а также графин розового и много-много льда. Когда закончили есть, было пол-одиннадцатого, еще два катера ушли на большую землю, и стало казаться, будто остров принадлежит едва ли не им двоим.
— Здесь так умиротворяюще, — сказала Софи. — В голове не укладывается, что мы всего в двадцати минутах от крупного города. Будто другой мир.
— Хотите еще выпить? — спросил Эдам.
— Нет. Давайте вернемся на пляж.
Вода теперь сделалась спокойнее, темнела маняще, озаренная лишь лунной дорожкой, тянувшейся к горизонту. Больше на пляже никого не было. Ни Эдам, ни Софи не разговаривали и не предлагали дальнейших действий; они совершенно единодушно и внезапно решили сбросить одежду, неуклюже доковылять по камням к воде и броситься в море. Внезапно и целомудренно, не глядя друг на дружку, пока не погрузились в воду целиком, хотя Софи все еще как-то удавалось остро ощущать разницу в оттенках их кожи. Она ни разу в жизни не купалась нагишом и не догадывалась, до чего чудесно осязается неподвижная теплая вода. Софи была хорошей пловчихой — в отличие от Эдама, похоже: он барахтался на мелководье, полуплавал-полуходил, — а потому направилась ко входу в бухту, в самую дальнюю и глубокую часть пролива, сочтя разумным убраться от Эдама как можно дальше. Там она поплавала туда-сюда раз десять между каменистыми берегами, пока руки и ноги не заломило, а затем перевернулась на спину и полежала так несколько минут, глядя на луну и звезды и думая, что никогда не была так счастлива, так умиротворена внутри себя самой, в таком родстве со стихиями воды и воздуха. Софи закрыла глаза, почувствовала нежность мистраля, ласкавшего лицо, и отдалась объятиям океана — не делая ничего, доверяя, не противясь.
После этого они с Эдамом разговаривали мало — даже на полуночном наветт в Марсель. Зачарованный вечер у них получился, и оба понимали, что болтовня эти чары развеет.
До общежития, где разместили участников конференции, они добрались почти в час ночи. Комнаты у них оказались в разных концах коридора.
Стоя у своей двери, Софи потянулась поцеловать Эдама в щеку.
— Ну, спокойной ночи, — сказала она. — Было прекрасно.
— Да, очень, — пробормотал он и, произнеся это, словно скользнул губами по ее лицу — пока не коснулся ее губ. Все в порядке, подумала Софи, потому что, ну в конце концов, это же просто дружеский поцелуй на сон грядущий? Рот у него был открыт, у нее — тоже, но все в порядке. Когда их языки встретились, она ощутила, как ее тело слегка тряхнуло. Но все в порядке. Просто дружеский поцелуй на сон грядущий. Пусть он и показался довольно долгим. А теперь вот рука его, двигаясь не спеша, но целенаправленно по ее телу, уже не держала Софи за спину в легчайшем объятии, а перемещалась по животу к груди, к левой груди, там помедлила, там Софи позволила ей помедлить, прижавшись к Эдаму крепче, чтобы его рука, не желая того, притиснулась крепче к ее груди, и ощущение было упоительным, от него по телу расходились волны удовольствия, и в тот миг Софи больше всего хотела уступить этим волнам, поддаться…
…но нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Не годится. Непорядок. Это уже не дружеский поцелуй на сон грядущий. Она резко оттолкнула Эдама и оперлась спиной о дверь, отдуваясь и краснея. Смотрела в пол, а он — в конец коридора, тоже тяжело дыша. Софи провела рукой по волосам и сказала:
— Слушай, это…
— Я знаю. Я…
— В смысле, нам нельзя. Я…
— Все в порядке. Не надо было мне…
Теперь она смотрела на него, а он — на нее, и в их глазах были печаль, гнев и томление.
— Ну хорошо.
— Ага. Хорошо. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — сказала Софи, быстро отперла свою дверь и так же быстро закрыла ее за собой, а затем простояла спиной к двери, казалось, целую вечность, в глазах слезы, и ждала, когда дыхание станет поспокойнее.
* * *
На утро пятницы запланировали всего одно заседание — пленарное, чтобы напомнить участникам доклады, представленные на неделе, подвести итоги и прийти к выводам. Эдама не было. Не было его и на завтраке. Софи тоже подумывала, не прогулять ли ей завтрак, но наконец решила, что это глупо: они с Эдамом оба взрослые люди, и нет никаких причин, с чего бы сегодня утром между ними быть смущению или напряжению. Никаких серьезных границ прошлой ночью они не перешли, сдали назад очень заблаговременно. И где же он сегодня утром? Почему его место в зале пусто?
— Он уехал в Париж утренним поездом, — сказал ей Франсуа во время утреннего перерыва на кофе. — Судя по всему, что-то срочное дома. Сказал, полетит более ранним рейсом в Штаты.
Перед продолжением утреннего заседания Софи отправила ему простое электронное письмо: «Незачем было так делать! Напиши мне», но ответа не получила.
Ее рейс домой в субботу утром приземлился в Лутоне в полдень. Хлестало как из ведра. Небо было сизым и тяжким от туч. Поезд до Бирмингема отменили из-за плановых инженерных работ, между Кеттерингом и Нанитоном автобусы дублировали железнодорожное сообщение.
«Дублирование железнодорожного сообщения», «Кеттеринг», «Нанитон». Не самые ли это удручающие слова в английском (да и в любом другом) языке?
Пока автобус полз от городка к городку Средней Англии в тугом и запинавшемся дорожном потоке выходного дня, Софи думала — и старалась не думать — о ночи четверга на Фриульских островах. Ощущение воды на коже. Узор звезд в ночном небе. Путешествие на залитом луной пароме обратно в Марсель, на открытой верхней палубе, бедро Эдама в нежном соприкосновении с ее бедром. А следом она слышала в голове голос Нахид — вечером свадьбы Софи, за столом в шатре, как она говорила о вождении и о том, что «каждые несколько минут приезжаешь к очередному перекрестку, и нужно выбирать. И каждый выбор потенциально способен изменить твою жизнь».
Когда она заковыляла на холм с вокзала Нью-стрит к Сентенари-сквер, волоча за собой чемодан, груженный грязным бельем, марсельским магнитом на холодильник и сувенирной бутылкой пастиса, было четыре часа дня. Тучи сделались гуще, темнее, плотнее прежнего, и незавершенный скелет новой Библиотеки Бирмингема высился над Софи. У них в квартире уже горел свет. Иэн стоял у окна, высматривал ее.
В девять вечера в пятницу 27 июля 2012 года:
Софи и Иэн сидели на диване у себя в квартире и смотрели по телевизору церемонию открытия Олимпийских игр.
Колин Тракаллей был один у себя дома в Реднэле, сидел в кресле и смотрел по телевизору церемонию открытия Олимпийских игр.
Хелена Коулмен была одна у себя дома в Кёрнел-Магне, сидела в кресле и смотрела по телевизору церемонию открытия Олимпийских игр.
Филип и Кэрол Чейз вместе с сыном Филипа Патриком и его женой Мэнди сидели в гостиной их дома в Кингз-хит, у каждого порция китайской еды на вынос, и смотрели по телевизору церемонию открытия Олимпийских игр.
Соан Адитья был один у себя в квартире в Клэпэме, лежал на диване, смотрел по телевизору церемонию открытия Олимпийских игр и писал об этом СМС своим друзьям.
Кристофер и Лоис Поттер в арендованном домике, дикарями в отпуске в Озерном крае, смотрели по телевизору церемонию открытия Олимпийских игр.
Дуг Андертон, его дочь Кориандр и сын Рэнулф сидели по разным комнатам в доме в Челси и смотрели каждый по своему телевизору открытие Олимпийских игр.
Бенджамин был один у себя на мельнице, сидел за столом в кабинете, сокращал и переписывал роман, попутно слушая струнный квартет Артюра Онеггера[47].
* * *
Софи на это конкретное зрелище больших надежд не возлагала. В той же мере, в какой Иэна инстинктивно тянуло к чему угодно, связанному со спортом, ее это все инстинктивно отталкивало. Для нее не имело особого значения, что Лондон принимает у себя Олимпийские игры 2012 года, а теперь, когда она там не жила, значило это еще меньше. Когда началась трансляция, Софи демонстративно держала на коленях открытую книгу («Граф Монте-Кристо» на самом деле — она взялась его перечитывать): не слишком деликатный способ показать, что она готова составить Иэну компанию, пока он смотрит телевизор, но внимания этому уделять не собирается. Решила, что три часа под военную музыку сплошь мужчины в трико и шортах будут нарезать круги по стадиону, а королева станет махать всем рукой.
— Даже Дэнни Бойл[48] не способен сделать это интересным, — сказала она.
Но ошиблась. Церемония началась с двухминутного фильма: ускоренное путешествие вдоль Темзы от самого истока до сердца Лондона. Камера мчала над поверхностью воды под стремительную, пульсирующую электронную музыку, миновала трех персонажей из «Ветра в ивах», в звуковую дорожку затесались фрагменты из «Боже, храни королеву» «Секс Пистолз» и из заглавного мотива «Жителей Ист-Энда»[49], и тут у Софи взыграл академический интерес. Она осознала, что смонтировано тут все по-умному, можно ждать множество интертекстуальных отсылок.
— А почему над электростанцией Бэттерси розовая свинья летает? — спросила она Иэна.
— Чтоб я знал, — отозвался он.
* * *
— Поняли, что это означает, да? — спросил Филип с восторгом, показывая на экран палочкой для еды. — Это отсылка к «Пинк Флойд». «Животные». Альбом 1977 года.
— Ты один это можешь знать, — сказала Кэрол.
— Я — и еще несколько миллионов людей, — отозвался он, пронзая палочкой креветочный шарик. Музыкальное невежество жены его иногда тревожило.
* * *
Хелена сочла видео в начале открытия слишком путаным и суетливым. Понадеялась, что не все будет дальше такое же. Но несколько расслабилась, когда в следующей части показали четыре разных хора, из каждой территории Великобритании, и каждый пел свой гимн. На стадионе мальчик исполнял сольную версию «Иерусалима»[50] — совершенно чудесным голосом, а сцены сельской жизни, изображаемые на арене, смотрелись очень покойно и очаровательно. Затем появилось множество дилижансов, они привезли актеров, наряженных викторианскими промышленниками, и волосы у Хелены на загривке вновь начали вставать дыбом. Нескольких предпринимателей играли черные актеры. Вот зачем это делать? Зачем? Вообще уже никакого уважения к истории?
* * *
— Ух ты…
Соан заметил, что та часть церемонии, где появлялись промышленники, называлась «Светопреставление». Он тут же настрочил СМС Софи:
«Ты это видела? Пандемониум! Да они прямо Хамфри Дженнингза дают!»
* * *
Софи ответила:
«Поразительно. И совершенно не то, что я ожидала».
— Ты кому пишешь? — спросил Иэн.
— Соану, — ответила она.
— О чем? Не можешь, что ли, на этом сосредоточиться?
— Я об этом и пишу. Он только что подчеркнул, что вся вот эта часть основана на совершенно забытой книге «Пандемониум» Хамфри Дженнингза[51]. — Иэн смотрел на нее непонимающе. — Кинодокументалист такой был в сороковые.
— А. Ну да. — Иэн помолчал, задумавшись. — У вас с ним слишком много общего. — Поцеловал ее. — Радует, что он гей.
* * *
Как и Софи, Дуг подошел к церемонии совершенно скептически. Как и племянница Бенджамина, он смотрел со все большим восторгом, который вскоре уже граничил с благоговением. Масштабы зрелища, его оригинальность — а временами даже причудливость, — величественный вид на промышленные трубы, вознесшиеся над муляжом холма святого Михаила[52], гипнотическая, нагнетаемая мощь музыки Подземного мира… Этот эксцентрический гимн британскому индустриальному прошлому — последнее, чего он ожидал, но было в нем нечто потрясающе действенное и убедительное… Нечто глубинно истинное даже. И, глядя на все это, он ощутил в себе движение чувства, какое не испытывал много лет — да вообще ни разу на самом деле, вероятно, проведя детство в доме, где любые выражения патриотизма считались подозрительными, — национальную гордость. Да чего б не сказать прямиком, не признать это: в тот миг он ощущал гордость — гордость британца, гордость принадлежности к народу, который не только добился всякого замечательного, но мог это отпраздновать с такой вот уверенностью, иронией и без спеси.
Чуял он: на эту тему в нем созревает материал для колонки. Определенно.
* * *
До сего времени Софи, что поразительно, сосредоточивалась на церемонии больше, чем Иэн. Через несколько минут он завозился, ушел к холодильнику за добавкой пива, высыпал в плошку чипсы.
— Тебе разве не нравится? — спросила она.
— Нравится, — сказал он. — Мы врубаемся. Британия понаделала прорву всякого.
Еще меньшее впечатление произвел на него эпизод, показанный следом, — короткий, заранее снятый кинофрагмент под названием «Славно и счастливо»[53] начался с воздушной съемки Букингемского дворца. Но затем Иэн увидел, как во дворец входит фигура, облаченная в смокинг, разворот плеч изыскан, уверенность в себе джентльменская, и осознал, кто это: Джеймс Бонд — или, во всяком случае, Дэниэл Крейг, последнее киновоплощение Бонда. Иэн уселся рядом с Софи, подавшись вперед, — наконец-то привлекли и его внимание. Бонд миновал приемные залы дворца и предстал перед актрисой, игравшей королеву, она сидела за бюро спиной к Бонду. И лишь когда она обернулась, стало ясно, что это не актриса. Это действительно королева.
— Добрый вечер, мистер Бонд, — произнесла она чопорно, и стало ясно, что не получится у нее самой естественной на свете актерской игры, пусть и играла она себя саму, но тем не менее — они втянули в это дело королеву, королеву, бля, Англии, сыграть роль в фильме, снятом для церемонии открытия Олимпийских игр, и даже еще круче, потому что дальше она последовала за Бондом прочь из дворца, они вместе сели в вертолет, вертолет взлетел, сняли, как он поднимается над Букингемским дворцом, ввысь над Лондоном, а вскоре он уже приближался к Олимпийскому стадиону, и тут была сыграна лучшая шутка, явлена великолепнейшая находка: по фильму смотрелось так, будто королева с Джеймсом Бондом вместе прыгают с вертолета на парашютах, играет музыка из «бондианы», раскрывается его парашют — и это громадный британский флаг, отсылка к потрясающим первым кадрам «Шпиона, который меня любил»[54], и общее воздействие этих элементов — королева! Джеймс Бонд! Британский флаг! — породили в Иэне чуть ли не оргастический прилив патриотического воодушевления, он вскочил на ноги и заорал «Да! Да! Да!», а затем рухнул на Софи, сгреб ее в тугие объятия и расцеловал всю.
* * *
Когда началась музыка к следующей части, Филип едва поверил своим ушам. Он тут же узнал ее, эту неповторимую гипнотическую фразу с диковинным музыкальным размером, — музыку, которую он прослушал сотни раз, тысячи раз, музыку, которую любил всем сердцем, хотя светские условности чуть ли не четыре десятка лет вынуждали его держать эту любовь в некоторой тайне, заставляли считать, будто любить эту музыку все равно что объявить себе несуразным, что ли, ну или по крайней мере навеки не в ногу с модой. Но вот она. Ее транслируют на весь белый свет, представляют как пример того, что есть лучшего в британской культуре. Вот она, справедливость! Наконец-то справедливость!
— Майк Олдфилд! — завопил он, рассыпая рис по ковру. — Это же Майк Олдфилд! Это же «Трубчатые колокола»![55]
Он достал телефон и поспешил в тихий угол комнаты — позвонить Бенджамину. Когда на том конце отозвались, Филип услышал музыку на заднем плане, но другую — что-то тревожное и нестройное. Струнный квартет, судя по звуку.
— Ты не смотришь, что ли? — спросил он.
— Не смотрю что? — переспросил Бенджамин.
— Церемонию открытия Олимпийских игр.
— Это сегодня?
— Ох, да боже мой. Включи телик.
— Да ну, неохота. Я сегодня работаю.
— Не спорь. Включай сейчас же.
Бенджамин умолк, впечатленный настойчивостью Филипа.
— Ну ладно, раз так.
Филип услышал, как струнный квартет выключился и включился телевизор. Через несколько секунд Бенджамин произнес:
— Вот те на, это Майк Олдфилд?
— Именно. Майк Олдфилд. Майк Олдфилд!
— Что он там делает?
— Он играет «Колокола», не слышишь, что ли?
— Но почему?
— Потому что наконец-то — наконец-то — кто-то осознал, какой это гений. Великий британский композитор! Мы были правы с самого начала! — Бенджамин улавливал в голосе друга торжествующую улыбку. — Ладно, я пошел. Досмотри церемонию — она изумительная.
Положив трубку на подлокотник дивана, Бенджамин уселся перед телевизором и коротко глянул на разворачивавшуюся там странную сцену: уйма народу, наряженного медперсоналом, и детей в пижамах, малышня скачет на исполинских кроватях, как на батутах, «Колокола» продолжают играть. Большинство зрителей церемонии объяснили бы ему, что эта часть мыслилась как гимн НСЗ[56], и Бенджамин мог бы, вероятно, сообразить самостоятельно, если б сосредоточился, — но он не сосредоточивался. Он думал о далекой середине 1970-х, через два года после того, как вышел альбом Майка Олдфилда, — как Бенджамин и его друзья слушали этот альбом в общей комнате в школе «Кинг-Уильямс» и вели нескончаемые заумные дискуссии. Дуг, который в ту пору слушал в основном всякий «Мотаун»[57], даже не пытался скрыть презрения. Для остальных же, впрочем, то был священный музыкальный текст. Бенджамин вспомнил, как однажды за обедом, — да, поразительно, как подобные образы, бритвенно четкие, время от времени посещают нас, есть в них чуть ли не что-то прустовское, и, несомненно, музыка из телевизора дала повод… — но, так или иначе, они с Хардингом слушали «Колокола», как раз вот эту часть, на самом деле, эти первые минуты, и ввязались в тот же дурацкий спор о размере. Бенджамин сейчас вспомнил, что Хардинг уверял его, будто ничего странного в размере нету, обычный размер, а Бенджамин возражал: нет, ты невнимательно слушаешь, это 15/8, и тут влезал Филип и говорил: вообще-то, нет, не такой он мудреный, просто одного удара не хватает во втором такте каждой четырехтактной фразы, то есть 4/4–3/4–4/4–4/4, и да, это действительно означает рисунок из пятнадцати ударов, но это не 15/8, это не то же самое, но тут Хардинг заявил, что они оба идиоты, не соображают, о чем толкуют, — как Бенджамин сейчас осознал, Хардинг вечно пытался всех достать, просто взбаламутить, — и потому в конце концов они отнесли запись к преподавателю музыки мистеру Силлу, он послушал и выдал совсем другой ответ, что-то еще более мудреное, а следом достал другие записи и велел им определять в них размер, начав с «Марса, вестника войны» Холста (5/4)[58], следом включил «Весну священную», и они провели за этим занятием остаток обеденного перерыва…
Хорошее время, думал Бенджамин. Счастливое время.
А в Лондоне эпизод церемонии, посвященный НСЗ, подошел к концу, но Бенджамин и не заметил; телевизор тихонько мерцал фоном, а Бенджамин смотрел на реку — с блаженной, задумчивой улыбкой на лице.
* * *
— Это же Саймон Рэттл[59], ну? — произнес Кристофер, когда знаменитый дирижер прошел к центру Олимпийского стадиона.
— Ага, — подтвердила Лоис, коротко оторвав взгляд от гобелена, который она ткала только в отпуске, а он все не доделывался — и не доделается никогда. Головы она не поднимала потом до тех пор, пока не услышала смех мужа.
— Чего смеешься?
— Смотри — Мистер Бин.
Саймон Рэттл управлял оркестром, исполнявшим тему из «Огненных колесниц»[60] (еще одна победа Филиповых подростковых вкусов — фанатом Вангелиса он был с тех же семидесятых), а Роуэн Эткинсон, обремененный задачей исполнять одну-единственную ноту на электрических клавишных, изображал развлекательную пантомиму скуки и томления.
— Интересно, с чего они решили его включить?
— Вообще-то, умная мысль, — отозвался Кристофер. — Весь мир любит Мистера Бина.
— Правда? — переспросила Лоис, возвращаясь к гобелену.
— Ты не помнишь разве, как мы были в Ареццо, шли мимо театра, и у них там был пародист Мистера Бина?
— Нет.
— И я сказал — смотри, во какой он здесь знаменитый. У них его даже пародируют.
— Совсем не помню такого.
— В Ареццо. Три года назад.
— Извини, — сказала Лоис, держа гобелен на отлете и критически в него вглядываясь. Что-то не вполне так с этим последним оттенком, который она выбрала. — Не вспоминаю этот разговор.
Кристофер вздохнул.
— Конечно, нет. Ты никогда не помнишь, что я говорю.
Он склонился к ней и поцеловал в щеку, по привычке, от отчаяния. Лоис чуть улыбнулась, но на поцелуй не ответила.
* * *
Пока давали эпизод с Мистером Бином, Кориандр не усидела и убрела вниз — посмотреть, чем занимается отец. Нашла его на диване в главной гостиной с банкой лагера в руке и, к ее изумлению, с едва заметным следом от слезы, сбежавшей по щеке. Ничего подобного она прежде не видела.
— Пап? — Она села рядом с ним. — Все хорошо?
— Извини, — сказал он, вытирая глаза. — Ужасно неловко. Но я в восторге. От каждой минуты — в восторге. Иди притащи маму. Пусть тоже посмотрит.
Кориандр вытаращилась на него:
— В смысле? Само собой, она это смотрит. Она прямо там.
— Да?
— Она в ВИП-ложе. Я ее там видела, рядом с Брайеном Ферри.
Дуг коротко удивился, услышав это, но, подумав, понял, что все вполне логично.
— Как так вы вообще вместе до сих пор? — спросила его дочь. — Не знаю людей, у которых было бы хуже с общением.
— Верно. Живи мы в доме поменьше, — сказал Дуг, — уверен, уже развелись бы.
— Ну, я б рада была, — объявила Кориандр. — Такой тухляк, когда родители столько лет вместе, сколько вы.
Дуг не был уверен, шутит она или нет. Но тем не менее порадовался, когда она уселась рядом на диван.
Церемония перешла к эпизоду под названием «Фрэнки и Джун говорят… спасибо, Тим!» — странная, едва понятная мешанина из британских музыкальных и киношных отсылок. («Вопрос жизни и смерти!» — написала Софи в СМС Соану. «Плетеный человек!»[61] — написал он в ответ.) Сцепляла их воедино некая любовная история двух подростков, которые познакомились и стали общаться в социальных сетях, пока ехали в лондонской подземке. Все очень сбивало с толку, но и воодушевляло при этом, а самое классное — пытаться определить как можно больше песен. Дуг поразился, сколько их знает его дочь. Она опознала «Джем», «Ху», «Роллинг Стоунз», Дэвида Боуи и «Фрэнки Гоуз ту Холливуд», а также тех, кого она слушала ожидаемо, — Эми Уайнхаус и Диззи Раскала[62]. Она не вычислила, что это за телефрагмент, где целовались две женщины, и он пояснил, что это из мыльной оперы под названием «Бруксайд»[63], и тот поцелуй был одним из первых между женщинами, показанным по общенациональному телевидению, и поразительно было, что Британия теперь использовала этот эпизод, чтобы гордо явить всему миру, до чего она просвещенная и прогрессивная.
— Это в Саудовской Аравии смотрят, между прочим, — сказал он, и Кориандр пришлось согласиться, что это невероятно круто, и, осознав это, она ощутила легкую щекотку возбуждения.
— А это кто? — спросила она, когда с муляжа великанского дома посреди стадиона подняли крышу и показался скучный на вид мужчина средних лет: он сидел за столом и печатал что-то на компьютерной клавиатуре, при этом на экранах и табло вокруг него вспыхнула фраза «ЭТО ДЛЯ ВСЕХ».
— Это Тим Бернерз-Ли.
— Кто?
— Он изобрел интернет[64].
— Что? Британцы изобрели интернет?
— В некотором смысле — да. По крайней мере, он лично.
— Обалденно. — Кориандр вытащила «блэкберри», сфотографировала телеэкран, подписала снимок: «Я родом из обалденной страны» — и твитнула это всем своим 379 подписчикам.
* * *
Творческая часть церемонии завершилась. Пришло время всем соревнующимся спортсменам пройти парадом по стадиону, а это грозило затянуться часа на полтора. Зрители разошлись.
Софи с Иэном отправились в постель. Любовью они не занимались почти неделю. Сегодня наверстали. Иэн фантазировал, что он — Джеймс Бонд, занимается любовью с прелестной танцовщицей-подростком из той части, где было про Фрэнки и Джун.
Колин уснул на диване, проснулся в три часа ночи, потерянный, и побрел наверх, в постель.
Хелена просидела до часу ночи — писала письмо в «Телеграф»[65] с жалобой на то, что у церемонии был крен влево, но в письме получилось больше пятисот слов, и неудивительно поэтому, что его не опубликовали.
Чейзов так проперло от церемонии, что Филип вышел в Сеть и тут же купил четыре оставшихся билета на какое-то спортивное событие, а следом — четыре билета до Лондона и обратно, и все вместе вышло феноменально дорого.
Соан произвел некоторый онлайн-поиск по Хамфри Дженнингзу и Майклу Пауэллу, после чего переоделся, побрился и в полпервого отправился в клуб. Ночь еще была юна и полна возможностей.
Кристофер заварил две кружки горячего шоколада, свою забрал с собой в постель. Лоис присоединилась через полтора часа — рассчитывая на то, что к этому времени он уже точно будет спать.
Дуг принялся за колонку. Показал Кориандр первые два абзаца и спросил, как они ей. Она сказала «хрень», уселась рядом с ним, и оставшийся текст они сочиняли вместе.
Поскольку ночь стояла теплая, Бенджамин отправился посидеть на террасе, прихватив с собой стакан холодного белого вина. Он был счастлив. Работа над укороченным вариантом романа завершилась. Текст — слегка беллетризованный рассказ об их отношениях с Сисили, озаглавленный «Роза без единого шипа», — был готов к отправке издателям. Чтобы отпраздновать это, Бенджамин включил переносные колонки и покрутил колесико айпода до музыки, которая вдохновила этот текст и подарила ему название, — сумрачный, страстный дуэт джазового пианиста Стэна Трейси и саксофониста Тони Коу, записанный в 1983 году[66]. Бенджамин включил его погромче. Здесь можно было слушать музыку на любой громкости, какой ему хотелось, и сколь угодно поздно вечером. Но когда композиция доиграла, он почувствовал некоторое облегчение и осознал, что предпочитает тишину. Тишину Англии, погружающейся в глубокий, удовлетворенный сон, — таким сном спишь после того, как устроил удавшуюся вечеринку, когда все гости разошлись по домам и ты знаешь, что рано вставать утром не надо. Англия сегодня вечером ощущалась как тихое обжитое место — страна, которой с собой уютно. Мысль о том, что столько миллионов отдельных людей объединила, сблизила телевизионная трансляция, вновь вынудила Бенджамина задуматься о детстве — и заставила улыбнуться. Все хорошо. И река словно бы соглашалась с ним — лишь она одна все еще нарушала тишину, двигаясь своим вечным курсом, бурля и пузырясь сегодня ночью, весело, весело, весело, весело[67].
Для привилегированных равенство ощущается как шаг вниз. Поймите это — и вы поймете многое в сегодняшней популистской политике.
Июль 2014-го
— Ну, — произнес Соан, — поздравляю.
— Спасибо, — сказала Софи.
Они сдвинули бокалы и выпили шампанского, которое оказалось непримечательным. Соан, плативший за это, на миг задумался о цене, которая была как раз очень примечательная.
— Что празднуем-то? — спросила Софи.
— Тебя.
— Меня? А что я?
— Ты — всё. Празднуем тебя и твое блистательное движение к славе.
Софи улыбнулась:
— По-моему, это небольшое преувеличение.
С бокалами в руках они отошли от бара и медленно двинулись по обзорной площадке. Под ними лежал Лондон, томный и податливый от жара раннего летнего вечера. Темза тянулась и вилась громадной грязной лентой, постепенно истончаясь в игольное острие света, поблескивавшее сквозь смог на восточном горизонте.
— Твой город, — сказала Софи, подходя к Соану вплотную и беря его под руку, они вместе глазели в окно во всю стену на обзорной платформе «Осколка» на здания в двухстах метрах под ними: кварталы башенных домов, бывшее муниципальное жилье, новые постройки, случайные экспонаты Хоксмурова[69] Лондона, торчавшие в современной серой мешанине.
— Мой? Да не очень. Лондон лондонцам больше не принадлежит.
— Тогда кому же он принадлежит?
— В основном иностранцам. Настоящим иностранцам. — Софи глянула на него скептически, и он добавил: — Это здание, где мы находимся. Свежайшая звездная достопримечательность Лондона. Думаешь, она британская? Девяносто пятью процентами ее владеет государство Катар. То же касается и вон тех блестящих новых деловых кварталов, которые отсюда видно. Те башни у реки, с шикарными квартирами. Что уж говорить о «Хэрродз», этом чудеснейшем английском заведении. Мы много лет продаем себя. Зайди куда хочешь в центре Лондона в наши дни, и, скорее всего, окажется, что ты ступаешь по чужой земле.
Вместе с небольшой, но горластой группой юных испанских туристов, напиравших на них и возбужденно снимавших городские виды в фото- и видеорежиме на телефоны, Софи и Соан двинулись дальше, обходя платформу по периметру и оглядывая город с разных точек. Собор Святого Павла отсюда смотрелся крошечным и уязвимым, пытаясь утверждать хоть какое-то самоопределение среди этих модернистских, бруталистских и постмодернистских творений, что недавно выперли вокруг из земли.
— А вон то — Олимпийский стадион? — спросила Софи, показывая на белый круг вдали — исполинскую конфету «Поло»[70], небрежно брошенную посреди старого Ист-Энда.
— Он самый. — Соан отхлебнул шампанского из своего тонкого бокала и продолжил: — Боже, до чего же давно оно было, кажется, а? Помнишь, как недоверчиво мы на все это смотрели поначалу и как потом, минут на пять, завелись? В смысле, я после церемонии прям купил билеты на какое-то событие. Спортивное событие. Я! Смотрю спорт!
— На что купил?
— На женский футбол. — Софи рассмеялась, а Соан сказал, оправдываясь: — Это последнее, что осталось нераспроданным. Знаю, совершенно дурацкая мысль. Не люблю я футбол, да и женщин не очень-то. За исключением присутствующих. Было у меня это дурацкое ощущение, что я смогу превратить этот поход во что-то вроде свидания. Взял с собой парня по имени Джереми. Для тех отношений все равно вышел поцелуй смерти…
— О чем ты думал-то? Это же и близко не ужин на двоих при свечах, ну? — Она утешительно обняла его за плечи. — Надеюсь, с тех пор случались и другие.
— Само собой. Уйма. Но ни одного, кто мне бы действительно нравился… в общем, совсем никого пару месяцев. — Он отхлебнул шампанского — больше обычного. — Конечно, я благодарен мистеру Кэмерону за то, что мы теперь можем жениться. По-хорошему, это единственное, за что я ему благодарен. Но начинаю подумывать, что никого для меня нету. Прямо-таки почти уверен.
— Ну, — сказала Софи, — мне никогда не казалось, что ты из тех, кто остепеняется.
— Мне так тоже никогда не казалось. Но вы с Иэном подали такой изумительный пример супружеского блаженства…
Она с удовольствием заметила, что во взгляде у него вновь возник блеск, услышала иронию в голосе, но вместе с тем было в этой подколке что-то раздражающее.
— Мы действительно очень счастливы.
— Не сомневаюсь ни секунды.
Более или менее правда. После первых несколько шатких месяцев их брак вошел в колею, оброс закономерностями привычек. По понедельникам и пятницам Софи работала либо дома, либо в недавно открывшейся Библиотеке Бирмингема. Если была дома, Иэн возвращался в квартиру между утренними и вечерними занятиями, они обедали вместе. В остальные дни недели Софи ходила в университет. По субботам Иэн отправлялся с Саймоном на игру «Виллы»[71] или смотрел спорт по телевизору, а по воскресеньям они с Софи навещали его мать. Получалось удобно, получалось приятно, и Софи решила, что будет этим довольна. И если ей иногда и казалось, что супружеская жизнь самую малость недотягивает до давних надежд на нее (как это иногда — очень нечасто — бывало в неподвижные темные часы зимними утрами, когда она просыпалась рано и Иэн еще спал, ровно дыша рядом с ней, и мысли у Софи принимались блуждать в случайных, непредсказуемых направлениях), она утешалась тем, как гладко развивалась ее карьера, шаг за шагом. Опубликовали ее диссертацию. Глава о портрете Дюма работы Пауэлла, которая появилась отдельно в «Оксфордском художественном журнале», привлекла внимание одного продюсера с «Радио Четыре», и он пригласил ее в эфир на ранний вечер, в дискуссионную передачу. Программа получилась хорошо, последовали дальнейшие приглашения, кое-какие — из научной среды, некоторые — от СМИ, из высоколобых (в основном из разделов искусств респектабельных газет, из последних сил цеплявшихся за свое хрупкое существование). А совсем недавно она получила самое неожиданное предложение: поучаствовать приглашенным лектором в десятидневном круизе по Балтике, стартующем из Дувра послезавтра.
А тут еще и новая работа — постоянное лекторство в одном из ведущих лондонских университетов. Начнется с октября, и Софи очень воодушевляло. Иэн, само собой, колебался. Да, денег у них будет больше, а это, разумеется, кстати, если заводить семью, что ему не терпелось начать, но он и сам подал заявление на новую работу (на продвижение по службе на самом деле — до регионального менеджера) и был вполне уверен в успехе и в сопутствующем повышении зарплаты. Не хватит ли пока? За невысказанным вопросом стояла громадная невыраженная тревога: его жена отныне будет проводить три дня в неделю в Лондоне — ночуя на диване у Соана, вероятно, пока не возникнет чего-нибудь поудобнее, — и было в этой мысли нечто глубоко беспокоившее Иэна. Нечто большее, чем просто перспектива постоянных разлук и двух-трех ночей в неделю в одиночестве у них в квартире. Это нечто — в том, что Софи откочевывает обратно в мегаполис, в стиле жизни и друзьях, не имевших с Иэном ничего общего, возникших до него, угроза их брачному статус-кво. С тех пор как решение было принято, между Софи и Иэном сделалось неспокойно — безо всяких слов, но осязаемо.
— Хорошо, — только и промолвила Софи в ответ на последнюю реплику Соана. И добавила: — Потому что это правда. — Тем самым все предыдущее показалось менее правдивым.
— Он едет с тобой, насколько я понимаю? На борту старого доброго судна «Ветхость».
— Постоянно-то хамить не надо.
— Да ладно, они ж там все древние будут. На «Легенду» разве не от семидесяти и старше берут?
— От пятидесяти.
— Ну, большинство окажется старше. КЕВ[72] «Маразм».
Соан расхохотался — у него была привычка смеяться над собственными шутками. С тех пор как Софи выложила ему эту новость, сама мысль о том, чтобы застрять на борту круизного судна в компании с четырьмя сотнями престарелых пассажиров-британцев, обеспечивала ему нескончаемое веселье. Софи подозревала в этом толику профессиональной зависти.
— Да, едет, — сказала она. — Очень красиво они поступили. Он пропустит первые три дня, но они организуют ему перелет, и Иэн догонит нас в Стокгольме.
— Как это романтично, — произнес Соан. — Прямо воображаю вас у тебя в каюте, пыхтите по Балтике. Как Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Сходство разительное. — Он допил остатки шампанского в бокале. — Будем надеяться, что айсбергов не возникнет.
— Не возникнет, — сказала Софи и ладонью прикрыла глаза от низкого солнца, тщетно пытаясь разглядеть Гринвичскую обсерваторию в бетонном хаосе города, который она скоро вновь будет считать своим домом.
22–24 августа 2014 года: Дувр — Стокгольм
«Легенда Топаз IV» отправилась из Дувра в среду, в два с небольшим пополудни. Стоял погожий день, вода была тиха. Софи смотрела со своего крошечного личного балкона, как удаляются белые скалы и судно скользит по гребням вперед, в открытое море, солнце сверкает на мягких, безобидных волнах Английского канала. Когда суша полностью исчезла из виду и Софи надоело смотреть на воду, она вернулась в каюту и удовлетворенно плюхнулась в креслице.
Довольная донельзя, Софи огляделась. Каюта оказалась невыразимо уютной. Две опрятные односпальные кровати и столик, на котором Софи уже разложила книги и бумаги для лекций. В маленьком тиковом шкафчике размещался мини-бар, набитый всевозможными алкогольными напитками, сверху стоял телевизор и видеопроигрыватель. Ее предупредили заранее, и Софи прихватила с собой полдесятка любимых фильмов, хотя гораздо больше можно было взять напрокат в судовой библиотеке. На столике между кроватями лежала Гидеонова Библия и, что куда удивительнее, удостоенные Букера «Сумерки выдр» Лайонела Хэмпшира в мягкой обложке.
Софи сперва не смогла придумать этому объяснение, но через несколько минут на него наткнулась. Среди бумаг, ждавших ее внимания в пухлой приветственной папке, нашелся четырехстраничный бюллетень под названием «На борту». Это был первый выпуск, и далее явно предполагались новые ежедневные, и он оказался полон полезных сведений: время восхода и заката, краткий прогноз погоды, круизное расписание и рекомендации по дресс-коду дня — Софи с облегчением обнаружила, что сегодня форма одежды «свободная». («Дамы, возможно, пожелают облачиться в повседневное платье или брюки, а джентльменам пусть будет свободно в рубашке с открытым воротом и в элегантных повседневных брюках».) Там же — подробности о творческих персонах и лекторах, которым предстоит развлекать и просвещать пассажиров в этой поездке. Компания подобралась пестрая — жонглеры, фокусники, чревовещатель, имитатор Элвиса и еще с десяток других, — и едва ли не в самом конце списка значилось ее имя, на которое Софи в этом контексте посмотрела со странной гордостью. Рядом со своим, что самое неожиданное, она увидела имя великого писателя. «С гордостью сообщаем, — гласила приписка, — что знаменитый, удостоенный многих премий мистер ЛАЙОНЕЛ ХЭМПШИР проведет на борту все время путешествия и публично прочитает фрагменты из своих произведений, а также проведет писательские семинары и публичные дискуссии».
Эти последние пять слов стали первыми, которые она услышала у дверей каюты директора круиза в пять вечера того же дня, когда пришла получить указания к назначенной лекции. Внутри, похоже, препирались. Софи замерла на пороге перед открытой дверью и увидела маститого писателя — он стоял к ней спиной и негодующим тоном жаловался некоей незримой персоне:
— «Писательские семинары и публичные дискуссии»! В договоре об этом ни слова. Ни единого.
— Знаю-знаю, — отвечала незримая персона. — Но что-то мне же надо было написать. У нас в круизе никогда не было писателя. Что еще мне с вами делать?
— Чтения, один раз, — настаивал Хэмпшир, — тридцать пять минут. Ни больше ни меньше.
— Ладно. Давайте во вторник вечером, в зале кабаре. Я вас поставлю перед Молли Партон.
— Долли Партон[73] здесь, на борту?
— Молли Партон. Вечные песни в новом исполнении. Будете на разогреве. У нас с вами всё?
Хэмпшир развернулся кругом и сказал перед тем, как уйти:
— Это возмутительно. Непременно напишу об этом своему издателю.
— Спросите у него заодно, зачем они разложили по экземпляру вашей книги по всем каютам. У меня уже есть жалобы.
— Жалобы?
Теперь уже побагровев, Хэмпшир протиснулся мимо Софи, не заметив ее, и исчез в глубине коридора. Высокий темноволосый мужчина с тонкими чертами лица возник в дверном проеме и некоторое время смотрел писателю вслед, после чего вернулся к себе в кабинет, бормоча — то ли себе, то ли Софи:
— Писатель! Теперь им писателя на чертовом судне подавай! — Впрочем, казалось, его вся эта ситуация скорее развлекает, чем раздражает, и Софи, кашлянув, чтобы напомнить о себе, увидела, что он улыбается. Улыбка была умная и лукавая. Софи она к себе расположила.
— Здравствуйте, я Софи, — сказала она, входя в каюту и протягивая руку. — Софи Коулмен-Поттер.
— Робин Уокер, — отозвался он. — Директор круиза. — Ее имя ему, похоже, с ходу ни о чем не сообщило, но через мгновение лицо у него озарилось от осознания: — Погодите… вы подражаете птицам?
Она покачала головой:
— Как ни печально, нет.
— Согласен, вы не похожи на подражателя птицам. Вы похожи на танцорку. — Не успела она решить, льстит ей это или оскорбляет, он хлопнул в ладоши: — Вы чечеточница! Которая завершает номер шпагатом над живым омаром.
— Боюсь, я…
— Ладно, сдаюсь.
— Я историк искусств. Буду читать лекцию «Сокровища Эрмитажа».
— А! Очень хорошо. История искусств. Великолепно. Нам нужно что-то такое. У нас среди пассажиров есть мозговитые. Им по вкусу будет чуток культуры. Я вас поставил на вечер воскресенья, с трех до четырех. Как вам?
— Вполне. А остальное время мне чем заниматься?
— Остальное время, дорогая моя, целиком ваше.
— Правда? Но я на борту десять дней.
— Расслабляйтесь и получайте удовольствие. Они вам хорошую каюту дали? Какой номер?
— Сто один.
— Великолепно. Одна из лучших. Но самое главное — у вас будет Хенри.
— Хенри?
— Лакей.
— У меня есть лакей?
— Конечно. Вы не читали бумажки, что ли?
— Ну, я…
— Простите, любовь моя, дела-дела. — На пороге возникли четверо пожилых мужчин. Вполголоса он пробубнил, обращаясь к Софи: — Стриптизеры. Наша новинка, но, судя по всему, довольно благовоспитанная. — И далее — громко: — Входите, господа. — Он проводил Софи в коридор, и, уходя, она услышала, как он говорит новым посетителям: — Итак, ребятки, расскажите мне, что будете делать. Надеюсь, обойдемся без полной фронтальной наготы.
— Совершенно обойдемся, — любезно отозвался один из той четверки. — Мы — струнный квартет.
После этого Софи провела у себя в каюте расслабленный час. Ей оставили тарелку канапе — видимо, тот самый лакей, — и она потихоньку ела их, приканчивая попутно две порции джина с тоником и примеряя все три платья, которые взяла с собой, перед ростовым зеркалом в ванной. Когда решила, что добилась в своем облачении повседневного вида, как того требовал сегодняшний протокол, Софи отправилась в обеденный зал на первую вечернюю трапезу этого путешествия.
Там обнаружилось нечто слегка тревожное: рассадка была фиксированной — не только на сегодняшний ужин, но и на все завтраки, обеды и ужины в ближайшие десять дней. Они с Иэном (когда он окажется на борту в субботу) ежедневно будут сидеть с одними и теми же пассажирами, среди них мистер и миссис Уилкокс из Рэмзботтома, Ланкашир; мистер и миссис Джойс из Тинмута, Девон; мистер и миссис Мёрфи из Уоркинга, Суррей; мисс Томсетт и миссис О’Салливэн из Бристоля, путешествовавшие вместе, судя по всему. Мистеру и миссис Мёрфи, кажется, было хорошо за восемьдесят, а сверх того один из них (супруг) выглядел решительно нездоровым. Всю трапезу он просидел, тоскливо уставившись в пустоту, лицо белое, губы синеватые, к еде почти не притронулся, тогда как жена его сосредоточенно ела изо всех сил, по временам бросая на мужа враждебные взгляды. Мистер и миссис Джойс, наверное, на пару лет моложе и, судя по всему, более преданные друг дружке. Две незамужние дамы — еще моложе, грядущих остановок в пути и развлечений они ждали с большим воодушевлением. Одна из них, как выяснилось, недавно овдовела, а вторая никогда не была замужем. Обе оказались вегетарианками. Наконец, мистер и миссис Уилкокс — самые молодые в спектре «Легенды» и самые шумные сотрапезники Софи. Он зарабатывал на жизнь — очень устроенную жизнь, как они всем дали понять, — продажей и арендой вилочных погрузчиков. Поехать в этот круиз придумал не он: его жена, «главный искусствоед», давно рвалась посетить Санкт-Петербург. Честно говоря, мистер Уилкокс предпочел бы прокатиться по Средиземке, но что есть брак, в конце-то концов, если не ты — мне, я — тебе, понемножку? Когда он это произнес, миссис Уилкокс улыбнулась — коротко, непроницаемо. А еще она ненадолго перехватила взгляд Софи и тут же отвела глаза.
Обед состоял из пяти перемен. После четвертой Софи откланялась, отказавшись от сырной тарелки и дижестива, и, объевшаяся, поплелась к себе в каюту. Посмотрела примерно половину «Beau Travail» Клер Дени[74] на диске, осознала, что клюет носом, и вышла на балкон подышать свежестью перед сном. Холодный ночной воздух, капли морских брызг, корабельная качка, бурление волн, ощущение бескрайней шири окрестных вод — все это было упоительно непривычно и бодрило. Отправляясь в постель, Софи оставила балконную дверь приоткрытой, чтобы можно было и дальше всем этим наслаждаться.
Вскоре пришел поверхностный, беспокойный сон. Ей вдруг приснилось, что снаружи доносится шум — странные, высокие, нечеловеческие крики. Она вышла, перегнулась через борт и увидела, что рядом с кораблем плывет дельфин. Она потянулась к нему, схватилась за плавник и втянула дельфина на судно. Страстно поцеловала его в пасть. Это был Эдам — но дельфин. Она поманила его в каюту, они легли на постель, и Софи гладила его по коже — гладкой и мокрой, как дельфинья. Он был наполовину Эдам, наполовину дельфин, но в некоторой точке этой грёзы он стал целиком Эдамом. Они занялись любовью, и Софи кончила во сне, вскрикнув в темноте. После она несколько минут лежала, проснувшись, чувствовала себя виноватой и в то же время необъяснимо счастливой. Проспала еще девять часов и проснулась так поздно, что пропустила первый завтрак.
* * *
Теперь уже проголодавшись, Софи решила, что пора опробовать услуги лакея. Набрала трехзначный номер на внутреннем телефоне. Ответил невесомый музыкальный голос на безупречном английском с сильным, однако неопределимым акцентом. Софи заказала кофе, омлет, копченую лососину, свежие фрукты и апельсиновый сок, а затем приняла ванну. Когда она выбралась из ванной, завтрак уже был подан, а мужчина, которого Софи сочла за Хенри, старательно вешал ее платье (брошенное смятым комком на пустую кровать) на плечики и возвращал в гардероб.
— А… доброе утро, мадам, — сказал Хенри, улыбаясь ей и слегка кланяясь. — Надеюсь, вы спали хорошо. — Стройный непримечательный персонаж, ненамного выше самой Софи, взгляд карих глаз мечется по каюте безостановочно, ища, что бы еще прибрать или обустроить этими вот тонкими пальцами.
— Спасибо, — сказала она, — ну что вы, это совсем не обязательно. И зовите меня Софи.
Хенри улыбнулся и поклонился вновь, однако не ответил. Ей показалось, что его это предложение обеспокоило. А еще до нее дошло, что она понятия не имеет, как вести себя с этим человеком. Он — слуга. Слуг у нее никогда не было. Она чувствовала себя совершенно растерянной и косноязычной.
— Ваша газета тоже здесь, мадам, — сказал он.
— Спасибо.
О том, что она заказывала газету, Софи припомнить не могла и надеялась, что ей не будут ежедневно подавать «Телеграф» или «Мейл»[75]. Однако четырехстраничный таблоид, который Хенри протянул ей на серебряной тарелке, оказался судовым изданием и назывался «Мир сегодня». Не впервые Софи изумилась, сколько всякого дополнительно нашлось на борту «Топаза IV» и до чего хорошо тут все, похоже, организовано. Ей пришло на ум выражение «все схвачено и проконопачено» — в самом буквальном смысле.
— Спасибо, — повторила она в третий раз и отвернулась покопаться в сумочке со смутным замыслом дать Хенри чаевые. Когда она их нащупала, он уже убрался беззвучно из каюты, оставив ее необычайно раздосадованной на саму себя.
Она читала газету, завтракая перед балконной дверью, которую вновь оставила открытой. Газета оказалась примитивного содержания, однако Софи сочла, что «Мир сегодня» осуществляет очень полезную услугу, сводя вчерашние мировые новости к четырем удобоваримым страницам, и задумалась, почему никто ничего подобного не издает дома. За несколько минут она узнала, что к предстоящему в сентябре референдуму «Да, Шотландия» обеспечила себе миллион подписей в кампании за шотландскую независимость, что количество британцев, нуждающихся в предметах первой необходимости, возросло в этом году на одну пятую и что Би-би-си обвиняют в укрывательстве участия в недавнем полицейском налете на дом сэра Клиффа Ричарда[76], последовавшем за обвинениями в сексуальных домогательствах.
За ужином в тот день именно последняя новость в основном обеспечивала топливо для бесед. Миссис Джойс решила, что с сэром Клиффом поступили безобразно: он десятилетиями обеспечивал стране исключительно удовольствие, и теперь перед ним просто обязаны извиниться. Мистер Джойс считал, что Би-би-си не мешало бы у себя в хозяйстве порядок навести, прежде чем нападать на других, еще со скандала с Джимми Сэвилом[77] было ясно, что Би-би-си — попросту рассадник педофилов, и что генерального директора следовало бы немедленно арестовать. Мисс Томсетт деликатно одернула его, заявив, что в любой организации найдутся паршивые овцы и что людям не стоит забывать, сколько Би-би-си сняла чудесных исторических кинодрам, а также великолепных документальных фильмов о живой природе с Дэвидом Аттенборо. Мистер Уилкокс, которому (Софи не смогла не заметить) очень нравились звуки собственного голоса, высказался так: Би-би-си не лишена достоинств, но одержима политкорректностью и до сих пор не отошла от того случая, пять лет назад, когда один популярный комик и один популярный радиоведущий в прямом эфире оставили пошлое сообщение на автоответчике у всеми любимого пожилого актера Эндрю Сакса[78]. С тех самых пор, попав под тяжелый обстрел СМИ в связи с этим инцидентом, корпорация настороже — знает, что ее считают (и заслуженно, по мнению мистера Уилкокса) элитистской, высокомерной, столичной и оторвавшейся от корней.
— Как именно она оторвалась от корней? — переспросила Софи и доброжелательно, и задиристо, наливая себе еще бокал вина и передавая бутылку мистеру Уилкоксу.
— Она не говорит от имени простых людей, — ответил тот. — Теперь уже не говорит.
— От моего имени чаще всего говорит. А я — простой человек.
— Нет, не простой.
Софи ощетинилась.
— Прошу прощения?
— Я говорю о людях, живущих в реальном мире.
— Я живу в реальном мире. По крайней мере, мне так кажется. Вы хотите сказать, что мне это все мерещится?
— Разумеется, нет. Я просто говорю, что есть разница между тем, чем заняты вы, и тем, чем заняты люди вроде меня.
— Это что, как-то делает вашу жизнь «реальнее» моей?
— Людям нужны вилочные погрузчики.
— Не уверена, что они нужны мне.
— Конечно, нужны. Вы просто не думаете об этом.
— Ну, возможно, живопись вам нужна не меньше. Вы просто не думаете об этом.
Услышав эту отповедь, миссис Уилкокс рассмеялась, и они с Софи чокнулись.
— Вот тебе, Джеффри, — туше́.
Мистер Уилкокс улыбнулся и решил выпить с ними.
— Не волнуйтесь, я приду к вам на лекцию. Не совсем уж я чертов обыватель, в конце-то концов. Правда, Мэри?
Еще восемь таких ужинов, подумала Софи, возвращаясь к себе в каюту. Нельзя сказать, что они невыносимы, но вдруг показалось, что уже перебор. Может, было б легче, если бы старшие пары побольше участвовали в разговоре. Но мистер Джойс вроде бы туговат на ухо, а мистер Мёрфи еще ни слова не проронил, никому — даже своей жене, и, насколько Софи могла судить, не съел ни кусочка.
* * *
Следующий день — их третий на море и последний перед прибытием в Стокгольм, где на борт взойдет Иэн. Софи все это время общалась с ним нечасто. Интернетом можно было пользоваться в зависимости от качества спутниковой связи на корабле, и Софи удалось отправить Иэну лишь одно электронное письмо, а получила она от него четыре, из которых узнала, среди прочего, что новостей о возможном продвижении по работе пока нет, хотя Иэн по-прежнему ожидает скорейшего подтверждения.
Последний день в одиночестве — пятница — выдался замечательно ярким, и в одиннадцать утра Софи поднялась на верхнюю палубу выпить кофе и почитать книгу на солнышке. За соседним столиком, записывая мимолетные соображения в «молескин», потягивал латте Лайонел Хэмпшир. Софи кивнула и улыбнулась ему. Он кивнул и улыбнулся в ответ, но никак не показал, что узнал ее после их встречи у каюты директора круиза два дня назад.
Через несколько минут к Хэмпширу подошла скуластая седовласая женщина с экземпляром «Сумерек выдр» в руках.
— Вы автор вот этого? — спросила она без предисловий.
— А! — Он отодвинул блокнот в сторону и взял у нее книгу, держа ручку наготове. — С удовольствием, конечно. Желаете просто автограф или какое-нибудь посвящение?..
— Я не хочу, чтобы мне ее подписывали, — сказала она. — Я хочу понять, надо ли мне это читать.
Вопрос застал Лайонела врасплох. Он, кажется, не знал, как тут ответить.
— Этот экземпляр лежал у меня в каюте с самого начала, — продолжила она. — У нас у всех он есть. Но я взяла с собой свои книги и поэтому не хочу прямо сейчас это читать. Задумалась, обязательно ли это.
— Обязательно? Вовсе нет… — смущенно ответил он. — Просто жест щедрости со стороны моего издателя.
— Славно. Это большое облегчение, поскольку тут сзади говорится, что главный герой — «психологически сложный».
— Все верно.
— Ну, — сказала она, — я не люблю таких людей, которые психологические.
Засим она удалилась. Урезоненный Лайонел продолжил попивать кофе. Он явно отдавал себе отчет, что Софи слышала этот разговор, а потому через миг-другой, чтобы освободить его от неловкости, она смело проговорила:
— Вот уж поставила она вас на место.
Улыбка у него была чопорная, но в целом признательная.
— Жизнь писательская полна подобных мелких унижений.
— Я уже прочла вашу книгу. Несколько лет назад. Очень понравилось.
— Вы очень добры. Спасибо.
— Хорошая мысль — штатный судовой писатель.
— В принципе — да. На практике же, кажется, они не очень понимают, что со мной делать. Это пилотный проект. Меня мой издатель уговорил.
— Ну, лишь бы не слишком вас загоняли. Чувствую себя несколько виноватой — у меня всего одна лекция, а мне за это десять дней отпуска.
— А, так вы, значит, из выступающих? — Он впервые повернулся и всмотрелся в нее хорошенько, а затем — поскольку ему, кажется, понравилось увиденное — чуть придвинулся. — Ну слушайте, не надо чувствовать себя виноватой, ради всего святого. Я здесь целых две недели и намерен воспользоваться этим на всю катушку. Максимальное вознаграждение за минимальное участие. Относитесь к этому так же. Мы здесь ради себя самих. В смысле, здешние простофили вряд ли оценят нас по достоинству, верно? Бисер перед свиньями, так сказать…
— Мне говорили, что на «Легенде» обычно собирается довольно смышленая публика. В смысле, выше среднего, не как обычно в круизах.
Лайонел глянул на нее недоверчиво.
— И у вас пока такое впечатление?
— Рановато еще делать выводы, — уклончиво ответила Софи.
— Кстати, какая у вас тема?
— История искусства. В данном случае — русского.
— И вы тут одна?
— Муж появится здесь завтра. А вы?
— Я один до Хельсинки. Туда приедет моя ассистентка.
— У вас есть ассистентка?
— Это очень громко сказано, она просто студентка из Голдсмитс. Помогает мне с электронной почтой, по мелочи пишет под диктовку, такого рода задачки.
— Ваша жена этим всем разве не занимается? — Софи осознала, что вопрос получился слишком в лоб, и добавила: — Я несколько лет назад была на одной встрече с вами, и вы очень тепло говорили о своей жене, о том, как много она вам помогает.
— А, да. Где это было?
— В Лондоне. Совместно с тем французским писателем, Филиппом Альдебером.
— Хм-м… Не помню. Так или иначе, увы, Джун нехорошо на кораблях. Ужасная морская болезнь. Слушайте… не поужинать ли нам сегодня вместе? Как вам такое?
— Как же нам это удастся? Вроде полагается сидеть каждый вечер с одними и теми же людьми?
— Я имел в виду свою каюту. Вы ведь не ели вместе с пассажирами, правда же?
Софи вежливо отклонила приглашение — и порадовалась этому, потому что, явившись к ужину в семь вечера, обнаружила неожиданное. За столом пустовало не только Иэново место, но еще и два других. Отсутствовали мистер и миссис Джойс.
— Добрый вечер, милая, — произнес мистер Уилкокс, передавая ей хлебную корзинку. В глазах у него мерцал мрачный огонек, а в голосе слышалось удовлетворение: — Ну что, началось.
— Что началось? — не поняла Софи. Оглядела остальных и заметила потрясение на лицах. — Что вы имеете в виду?
— Джордж отдал концы. Сердечный приступ. Посреди ночи.
— Он… он умер?
— Не надо так расстраиваться, — подбодрил ее мистер Уилкокс. — Вы его знали-то день-два. И не то чтобы душа компании, правда?
23–30 августа: Стокгольм — Копенгаген через Хельсинки, Санкт-Петербург, Таллин
— Судя по всему, — сказала Софи, — в круизах это довольно обычное дело. В смысле, они все тут видали виды уже, так что немудрено.
— Чуток мрачно, — сказал Иэн. Он оглядывал себя в зеркало, пытаясь выровнять галстук-бабочку, та норовила сидеть кривовато. Тем временем бережными движениями одежной щетки Хенри ненавязчиво отряхивал Иэну плечи. Сегодня был объявлен полный парад, что, согласно вестнику «На борту», означало: «Дамам предлагается надеть вечернее или коктейльное платье, мужчинам же — фрак или смокинг. При желании допускается пиджачная пара».
— Из ваших подопечных пассажиров умирал кто-нибудь? — спросила Софи у Хенри. Она то и дело пыталась завести разговор со слугой и сегодня утром все же вытащила из него, что сам он с Филиппин и служит на «Легенде» чуть больше трех лет.
— Нет, мадам, со мной такого не случалось, — ответил он с большой серьезностью. — Если же случится, это будет очень печально. С моим коллегой так вышло. Очень долгий круиз, в Южную Америку. Бывает, в море больше недели подряд. Значит, с телом будет загвоздка — ну, понимаете, с трупом? Приходится помещать его в морозилку, в самом низу корабля. — Хенри завершил отряхивать Иэну плечи и убрал щетку в карман, где, похоже, хранил поразительное разнообразие приспособлений. — К слову, вот ваше меню на этот вечер. Я положил его на стол.
Тут он, по своему обыкновению, слегка поклонился и ушел, оставив Софи в уже привычных смешанных чувствах неловкости и стыдной радости от того, что ей так усердно прислуживают. Иэн взял меню и просмотрел.
— Сегодня у нас скандинавский ужин, — сказал он. — Закуски из Норвегии: панированное сладкое мясо с медом и сливовым соусом. Суп из Швеции: зеленый горошек с овощами, рис и раки. Основное блюдо из Дании: томленые телячьи голени с соусом из томатов и виноградного лука, брюква и картофель. Далее салат: маринованная редька и копченая форель… Ты каждый вечер столько всего ела?
— Это лишь начало. И вот почему я не влезаю в это платье. Застегни мне молнию, а?
Иэн застегнул на ней коктейльное платье — вдоль изгиба спины, который он так любил, но, прежде чем достигнуть самого верха, он подался вперед и поцеловал Софи в основание шеи, легонько подул на нее. Софи обернулась, обняла его за шею, они потерлись носами. Она ощутила вес его знакомого поджарого тела, почувствовала животом его возбуждение и тихонько застонала. Эротические сны о каких угодно других мужчинах показались несуразными — и уж точно необъяснимыми.
— Сегодня ляжем пораньше?
— Однозначно.
Но получилось не так рано, как она надеялась. Софи не приняла в расчет теплоту мгновенной симпатии между Иэном и Джеффри Уилкоксом. Как только их представили друг другу за ужином, стало ясно, сколько у них общего: одинаковое чувство юмора, равная приверженность женам (выраженная в нежных насмешках и поддразнивании), одни и те же сомнения в целях и ценности этого круиза, совпадающие мнения почти по всем предметам, политическим и прочим, какие всплыли за два с половиной часа трапезы. Но и это еще не все. Когда доели последние сырные крошки и допили остатки портвейна, мистер Уилкокс предложил наведаться в бар. Пригласил всех, кто был за столом, но никто не удивился, когда мистер и миссис Мёрфи отклонили это предложение. А после нескольких минут за угловым столиком на шестерых, слушая томные фортепианные пассажи Уэзли Причарда («Наш Король Клавиш будет сопровождать ваш вечер серенадой из его личной подборки мелодий из кинофильмов и ностальгических шлягеров военных лет»), стало понятно, что мисс Томсетт и миссис О’Салливэн не явятся.
— Непохоже, что лесбы к нам присоединятся, — проговорил мистер Уилкокс.
— Кто-кто? — переспросила Софи.
— Простите, Софи, не очень ПК[79] с моей стороны, понимаю. Давайте так: две милые дамы альтернативной сексуальной ориентации. Годится?
— Не в слове дело, — сказала Софи, — а в вашем выводе о них — таком вот за здорово живешь.
— По-моему, вполне справедливый вывод. Две женщины в одной каюте. Вегетарианки, — добавил он зловеще.
— Ой, да ладно вам. Женщины, оставшиеся без мужей или не выходившие замуж, часто путешествуют вместе. Почему бы и нет? Приятнее же, чем в одиночку.
— Может, вы и правы, — сказал мистер Уилкокс, вскидывая руки в шуточной капитуляции. — Всё, забыли.
— Джеффри считает себя экспертом по всем тонкостям человеческой натуры, — сказала миссис Уилкокс, пытаясь разрядить напряжение ледяной шуткой.
Мистер Уилкокс пробубнил в свой виски:
— Я просто что вижу, то и пою.
Но все сделали вид, что не услышали.
* * *
Дни всё летели. Лекция Софи о сокровищах Эрмитажа прошла с блеском. Мест потребовалось столько, что пришлось перенести встречу в зал побольше. На следующий день Робин Уокер с громадным удовольствием сообщил Софи, что ей удалось добиться рейтинга одобрения пассажирами в 9,3 балла — почти неслыханная оценка. Участники круиза стали обращаться с ней как со знаменитостью, в тот вечер трижды попросили автограф — на экземпляре вестника, рядом с извещением о лекции. Иэн перед поездкой предложил ей напечатать визитки; Софи посмеялась над этой затеей, но он их все равно подготовил и теперь (как часто и случалось, вот досада) оказался прав: Софи раздавала визитки направо и налево, женщинам, приглашавшим ее на встречи в местных ЖИ[80] или читательских группах.
— Ты прямо хит! — твердил Иэн, и гордость у него на лице светилась очевиднее некуда.
Они провели в Хельсинки чудесный день, примкнув к автобусной вылазке в дом Сибелиуса на озере Туусула; поездка увенчалась исполнением «Финляндии»[81] в местной музыкальной академии. В тот же вечер теплоход направился в Санкт-Петербург.
Причалили рано, едва ли не в центре города, у восточного берега Невы. В то утро была запланирована еще одна автобусная экскурсия. Иэн отправился в корабельную библиотеку, по-быстрому проверить электронную почту, Софи сошла на причал, решила подождать там. Все ждала и ждала, а он не появлялся. Наконец двое последних копуш заспешили вниз по сходням, но Иэна с ними не оказалось. Теми двоими были мистер и миссис Уилкокс.
— Он не поедет, — сказал ей мистер Уилкокс.
— Что?
— Слишком огорчился. Мы его видели в библиотеке. Узнал о продвижении по работе.
— И как? Не получил?
— Судя по всему, нет.
— Блин. — У нее внутри все упало, вдруг накатила тошнота. — Он же был совершенно уверен.
— Ну… В таком деле железобетонно не бывает же?
Софи знала, что надо делать.
— Пойду поговорю с ним, — объявила она. — Скажите всем, пусть едут без меня.
— Не надо, — возразил мистер Уилкокс. — Он так не хочет. Сказал, что все с ним будет нормально. Ему бы просто тихий день в одиночестве.
— Давайте, — сказала миссис Уилкокс, беря Софи под руку. — Мы все расстроимся, если вы не пойдете с нами в Эрмитаж.
— Ну… — Софи колебалась. — Наверное, я сюда за этим и ехала. Но бедный Иэн…
— Все с ним будет хорошо, — сказала миссис Уилкокс. — Ну пригорюнился человек немножко, бывает.
День поездок по достопримечательностям получился долгий. В самом Эрмитаже было невероятно суетно, и они провели там больше трех часов, проталкиваясь в толпе, и Софи едва выстаивала под нескончаемым обстрелом вопросов со всех сторон. Ей это посещение понравилось — и она порадовалась, что смогла принести пользу стольким людям, но работенка выдалась изнурительная. Группа опаздывала на автобус, и когда они вернулись на «Топаз IV», ужин уже пятнадцать минут как начался. Иэн и миссис Мёрфи (она тоже почему-то не поехала на сегодняшнюю экскурсию) уже заняли места за столом. Иэну вполне объяснимо полегчало, когда экскурсанты прибыли, он встал, и Софи сгребла его в утешительные объятия.
— Какая жалость, — сказала она, прижимая его к себе еще сильнее. — Вот же досада-то. Ты совершенно заслуживал повышения.
Пока все гомонили, усаживаясь, раскладывая салфетки, передавая друг другу хлебную корзинку и бутылки вина, Иэн произнес:
— Ничего. Бывает. Я целый день об этом думал. Все хорошо. И я рад за Нахид.
— Нахид? Она… Работу дали ей?
— Да. Я уже послал ей письмо с поздравлениями.
— А ты вообще знал, что она тоже подавала заявку?
— Да. Судя по всему, в итоге выбор был из нас двоих.
Софи все еще усваивала эти сведения, и тут на другом конце стола заговорила миссис Мёрфи. Что само по себе редкость. Еще реже она говорила таким громким, требующим к себе внимания голосом. Однако то, что она сказала, оказалось самой большой неожиданностью.
— Прошлой ночью скончался мой муж.
За столом воцарилась тишина — мгновенная и полная.
— У него случился инсульт. Совершенно безболезненно, похоже. Я обнаружила это лишь сегодня утром. Поняла, когда он не встал заварить мне чай, что с ним что-то не так.
Остальные забормотали «какое горе» и прочие смутные сочувственные слова.
— Когда полетите с ним домой, дорогая? — спросила мисс Томсетт.
— Я не полечу домой, — ответила миссис Мёрфи. — Я заплатила за этот круиз и буду получать от него удовольствие.
Она откусила хлеб и принялась его жевать — с некоторым вызовом. Остальные переглянулись, не зная, как реагировать, а затем тоже вернулись к еде и напиткам. Больше об этом не говорили — не считая мистера Уилкокса, он поднял свой винный бокал и, прежде чем отпить, пробурчал:
— И их осталось семь.
* * *
Назавтра вечером, когда Софи с Иэном пришли в зал кабаре на чтения Лайонела Хэмпшира, на двери обнаружили записку: «Вынуждены сообщить, что мистер Лайонел Хэмпшир недомогает и заявленные чтения не состоятся. Молли Партон выйдет на сцену в 22:00».
Наутро Софи увидела Лайонела на верхней палубе, и недомогающим он не выглядел совсем. Более того — вид у него был цветущий. Сидел на своем привычном месте, пил себе латте, как и в прошлый раз, но теперь при нем находилась белокурая женщина лет на десять моложе Софи, и Лайонел представил ее как Максин, свою ассистентку.
— На берег сегодня не сойдете, значит? — спросила Софи. Корабль пришел в Таллин примерно в половине седьмого утра.
— Я там уже был, — ответил Лайонел. — Не очень-то много чего смотреть. Мы решили, что после обеда прогуляемся по Старому городу.
— У нас была та же мысль.
Теперь к ним примкнул Иэн, а через несколько минут — мистер и миссис Уилкокс. Положение получилось непростое: Лайонел, судя по всему, был готов допустить до беседы Софи, но не всех остальных.
— Рада, что вам получше, — сказала она.
— Получше?
— Насколько я поняла, вам вчера вечером нездоровилось.
— А, это. Просто желудок шалил. Возможно, морепродукты на обеде.
— Их перенесли? Ваши чтения, в смысле.
— Насколько мне известно, нет.
— Ох батюшки. Но это значит, что вы прокатались впустую.
— Ну… — Лайонел улыбнулся. — Что поделаешь?
Непохоже было, что его это хоть как-то беспокоит. И как раз тут Софи заметила, до чего необычайно красива Максин и до чего необычайно близко размещаются под столом их с Лайонелом колени. Софи коротко, заговорщицки встретилась с ней взглядами, но вслух ничего сказано не было. Максин прильнула к своему нанимателю и что-то ему нашептала — что-то, явно не предназначенное для чужих ушей, и Софи поймала себя на том, что слушает, о чем беседуют ее муж и мистер Уилкокс. Тема, что неудивительно, — неудача Иэна с продвижением по службе.
— Значит, место дали вашей коллеге? — говорил мистер Уилкокс.
— Ага.
— И как, вы сказали, ее зовут?
— Нахид. Я ее знаю с незапамятных времен. Мы пять лет вместе работаем. Она замечательная.
— Хм-м. Нахид… Видимо… дама-азиатка, верно?
— Верно.
— Ну вот пожалуйста.
Он вытряхнул пакетик подсластителя в кофе, два-три раза помешал, сосредоточившись на этой задаче и явно считая, что добавить тут нечего. Софи ждала, что ее муж подначит собеседника, но Иэн молчал. Когда стало очевидно, что все так и останется, она обратилась к мистеру Уилкоксу:
— Что вы имеете в виду?
Он отвлекся от размешивания.
— Простите, милая?
— Что вы имеете в виду под этим «ну вот пожалуйста»?
Он бесстыже уставился на нее.
— Стоит ли произносить это вслух, а?
— Думаю, да. Поскольку я не имею буквально ни малейшего понятия, о чем вы.
— Слушайте, — сказал он, — я не хочу баламутить. Но ваш муж огорчается, что ему не досталось место по службе, и я говорю только одно: себя ему винить не в чем.
— Так-так, продолжайте, — вымолвила Софи.
Тут вдруг показалось, что все слушают их беседу — даже Лайонел с Максин. Софи отчетливо осознавала, до чего спокойно это утро: безоблачное небо над ними, чайки кружат, но не орут, увеличивается в размерах на далеком горизонте приближающаяся к гавани пылинка другого круизного судна, покрупнее.
— Мы все знаем, как оно в наше время, — сказал мистер Уилкокс.
— «Как оно»?
— Эта страна. Мы все знаем расклады. Как оно устроено. Людям типа Иэна по заслугам больше не воздается.
Софи повернулась к Иэну. Ну теперь-то он точно вмешается, возразит, скажет что-нибудь? Но нет. И потому продолжать разговор опять пришлось ей.
— Под «людьми типа Иэна» вы, надо полагать, подразумеваете белых?
Мистер Уилкокс, впервые застеснявшись, поглядел по сторонам на других слушателей, поискал поддержки в их лицах. В общем, не обрел, но продолжил гнуть свою линию.
— Мы о своих больше не заботимся, да? Если вы из меньшинств — пожалуйста. Проходите в начало очереди. Черные, азиаты, мусульмане, геи — с ног сбиваемся ради них. Но возьмем талантливого парня вроде Иэна — и совсем другое дело.
— Или, может, — произнесла Софи, — работу дали лучшему кандидату.
Об этих словах она пожалела тут же. Иэн по-прежнему молчал, но она видела, как ему больно, да и мистер Уилкокс тут же ринулся в бой, воспользовавшись ее оплошностью.
— Думаю, вам бы лучше решить, — сказал он, — что для вас важнее: поддержать супруга или сохранить политкорректность.
Тут он забрал свою книжку (название Софи не разобрала, но видела, что это не «Сумерки выдр») и, прежде чем открыть ее на том месте, где остановился, пробормотал два слова — всем за столом и лично Иэну:
— Эта страна… — В них он вложил мощную смесь печали и презрения.
Последовавшее долгое молчание нарушила миссис Уилкокс — когда глянула на другое круизное судно, теперь уже почти поравнявшееся с ними, и произнесла:
— Ну и здоровенный же корабль.
* * *
В тот вечер, сидя на улице при кафе в Старом городе и попивая эстонское пиво в тени высокого фахверкового здания, Софи сказала Иэну:
— Ты же не повелся ни на что из сказанного Джеффри, верно?
— Нет, конечно, — ответил он.
— Хорошо. И прости, если показалось, что от меня мало поддержки, но…
— Брось, Соф, ладно? Как ты и сказала, место досталось лучшему кандидату. — Он вновь принялся читать путеводитель, но через несколько секунд, почувствовав, что Софи не удовлетворена его уверениями, добавил: — Это же единственное объяснение, так? В смысле, либо его теория верна, либо твоя. Ну вот. Такие дела.
Было совершенно очевидно, что он не желал больше это обсуждать, и дальше Софи на самом деле разговаривала сама с собой:
— Я этим чуваком сыта по горло в любом случае. Восемь вечеров подряд уже с ним рядом отсидела. Думаю, сегодня давай придем пораньше и сядем поближе к Джоан и Хизер. — Подождала отклика, не получила. — Как считаешь?
Он буркнул что-то. В тот вечер большего она от него не добилась. Но у замысла Софи был недостаток. Непредвиденный недостаток. Мисс Томсетт и миссис О’Салливэн не явились в тот вечер на ужин, и потому они вновь сидели вчетвером, вместе, а миссис Мёрфи устроилась на другом краю стола (все еще решительно намеренная получать удовольствие от круиза, хотя ни на какие экскурсии она, судя по всему, не ездила). Мистер Уилкокс развлекался рассуждениями — отчасти в шутку, отчасти всерьез, — кто из их пожилых спутников преставился на сей раз.
* * *
Следующий день, пятницу, они провели в пути до Копенгагена. Наряды рекомендовали «свободные». («Дамам предлагается облачиться в умеренно свободные платья или же парные костюмы. Мужчинам можно выбрать между пиджачной парой, спортивной курткой или блейзером, с галстуком или без, или же строгой рубашкой с глухим воротником и галстуком».) Ежедневный вестник объявлял, что в десять тридцать состоится семинар об облысении, в одиннадцать — занятие «Сидя и стройно» («Приглашаем к Дэвиду на бережные физкультурные упражнения, с удобством выполняемые сидя, идеальная разминка») и показ фильма «Зулус»[82] в кинозале в два тридцать. Как обычно, в вестнике размещалась короткая юмористическая заметка под заголовком «Хиханьки Робина», в тот день — такая:
Сегодняшнее невыдуманное рекламное объявление:
«Продается посуда для смешивания, повар с таким тазом собьет что угодно».
Позже утром Софи сходила в библиотеку проверить свою электронную почту и обнаружила письмо:
От кого: Джоан Томсетт
Отправлено: Пятница, 29 августа, 2014, 8:54
Кому: Софи Коулмен-Поттер
Тема: Наше отсутствие
Дорогая Софи!
Пишу по адресу, указанному на вашей визитке, и надеюсь, что вы получите это сообщение. Должно быть, уже теряетесь в догадках, почему мы покинули круиз. Не волнуйтесь, мы живы-здоровы и ни в коей мере не стали жертвами таинственного проклятья стола № 19! Однако вчера в Таллине с нами произошла большая неприятность. Мы осматривали городские стены, Хизер поскользнулась и падала несколько ступенек. Упала она скверно, и когда мы привезли ее в больницу, оказалось, что у нее сломана нога. К счастью, перелом не ужасный, но после того, как ей наложили гипс, нам предложили вернуться в Англию для дальнейшего лечения. Администрация «Легенды» очень помогла нам — нашелся вечерний рейс, и мы уже в Бристоле!
В отличие от миссис Мёрфи, которая, полагаю, все еще продолжает путешествие, став вдовой, я без своей возлюбленной Хизер представить эту поездку не могла бы. Мы более тридцати лет все делаем вместе, и за все это время я и помыслить не могла бы даже одну ночь врозь. Да, о нашей связи мы позволили себе некоторую ложь во спасение, но, уверена, вы быстро догадались, какова природа этой связи. За многие годы путешествий и в особенности круизов мы, к сожалению, осознали, что даже сейчас не можем полагаться на понимание других пассажиров, если рассказать им, что мы — спутницы жизни, хотя на оптимистической ноте следует отметить, что люди вроде бы и впрямь делаются несколько терпимее. (Но само это слово в подобном контексте всегда казалось мне странным: что именно в наших преданных, любовных и участливых отношениях требует от окружающих применения ресурсов «терпимости»?) Так или иначе, мы обе сочли вас и вашего очаровательного мужа чрезвычайно симпатичными и без всяких колебаний говорим вам правду!
Я знаю, что вам с Иэном осталось совсем немного времени на борту, но надеюсь, что вы развлечетесь и получите полное удовольствие. Ваша лекция в воскресенье и ваши содержательные комментарии в Эрмитаже очень вдохновили многих из нас. Вас несомненно ждет замечательная карьера, и я буду за ней следить — издали, вероятно, однако с большим интересом.
* * *
В воскресенье утром, когда корабль причалил в Копенгагене, Софи с Иэном приготовились покинуть круиз и вылететь домой. «Топаз IV» вернется в Дувр только еще через четыре дня — будут остановки в Северной Германии и Нидерландах, но, соглашаясь на это предложение, Софи решила, что десяти дней на море ей хватит (и об этом решении сейчас пожалела). Вот чемоданы уже собраны — и Софи попрощалась с Хенри. Как обычно, разговор получился доброжелательным, но она не смогла нащупать правильный тон. Хенри, как всегда, был сдержан, таинствен и безупречно учтив.
— Что ж, Хенри, — сказала она. — Громадное вам спасибо за все.
— Не за что, мадам. Это все часть сервиса.
— Вы превзошли любые рамки служебного долга. Трусы моему супругу гладили. Поразительно.
Он рассмеялся и повторил:
— Все часть сервиса.
— Вот моя визитка, — сказала она, — если вы… не знаю, если захотите поддерживать связь.
Он принял карточку, все еще улыбаясь, и убрал ее в карман не глядя.
— Надеюсь, вам понравилось… — Она собралась сказать «заботиться о нас», но решила, что выйдет нелепо. С чего заботиться о них вдруг приятнее, чем о ком бы то ни было еще? — В этой поездке. — Так она завершила фразу — неуклюже. — В смысле, я понимаю, что для вас это просто работа и… у вас нет такой каюты… — Его каюта, в которой он обитал еще с двумя членами экипажа, размещалась в недрах корабля, там не было иллюминаторов; это все, что Софи знала. — Ну, в общем… — Получалось все глупее и глупее. — В общем… Вот небольшая… признательность — от нас с Иэном.
Она вручила ему белый конверт с маленькой открыткой и несколькими купюрами. Они с Иэном — но в основном она сама — измучились, прикидывая, сколько следует дать и в какой валюте. В конце концов остановились на пятидесяти евро.
— Спасибо, мадам, — произнес Хенри, убирая конверт в тот же карман и пожимая ей руку. — Вы очень добры. Очень рад знакомству.
— Хорошо. И мы тоже. Когда будете в Лондоне или в Бирмингеме…
Хенри повторил, оказавшись почти в дверях:
— Спасибо, мадам.
— Ну… до свиданья. Или паалам, как вы бы сказали…
Хенри ушел. Иэн прыснул.
— Над чем смеешься?
— Над тобой. Сплошные либеральные терзания и отчаянная попытка задружбаниться с ним.
— Просто стараюсь вести себя любезно, вот и все, — сказала Софи; приметила на своем туалетном столике забытую губную помаду и бросила ее в сумочку. Вроде все. Она встала посреди каюты, огляделась, уперев руки в боки и ощущая, как накатывает внезапная меланхолия. — Буду скучать по этой каюте, — сказала она. — Мне очень понравились эти десять дней.
— Знаю-знаю, — сказал Иэн, обнимая ее. — Особенно та часть, пока меня не было.
Она глянула на него пристально:
— Почему ты так говоришь?
— Тебе нравится быть одной. Не думай, что я не заметил. — Не успела она отпереться (если вообще собиралась отпираться), он продолжил: — Так ты попрощалась с Уилкоксами?
— Ага.
— А с Лайонелом?
— Он еще в постели. Я постучала и попрощалась из-за двери.
— Максин?
— В ее каюте ее не было.
— Хм. Логично.
Они вышли на балкон глянуть на море напоследок. Гавань была безликой и унылой. Три других круизных судна, все гораздо крупнее «Топаза IV», причалили сегодня утром.
— Ты собираешься поддерживать связь с кем-нибудь из них? — спросил Иэн.
— Не уверена, — ответила Софи. — Скорее, нет. Может, с Хизер и Джоан. Они мне, скорее, понравились, я бы сказала.
— Лесбы. — Иэн улыбнулся. — Забавно, что Джеффри на их счет не ошибся.
Софи промолчала. Смотрела на солнце и хотела еще разок ощутить лицом морской бриз. Иэн перегнулся через перила и всмотрелся в глубины вод. Несколько минут не разговаривали.
— О чем думаешь? — наконец спросила Софи.
— Ой, ни о чем, — ответил он, выпрямляясь и возвращаясь в каюту. Хотя на самом деле он думал о том, что раз мистер Уилкокс не ошибся насчет этих двоих, может, он и в остальном тоже прав?
Март 2015-го
Бенджамин стоял в книжной лавке садоводческого центра «Вудлендз». Не разглядывал ни книги по садоводству, ни по местной истории, ни издания, в которых были запечатлены разнообразные стороны Второй мировой войны. Не листал кулинарные книги и не искал в них вдохновения для сегодняшнего ужина, не рылся в отделе юмора в отчаянной попытке отыскать что-нибудь, способное вызвать улыбку. Его внимание было приковано к едва ли не самому глухому и наименее посещаемому отделу магазина, где на нижней полке самого дальнего шкафа имелась рубрика «Разное». Под этой рубрикой размещалось около пятнадцати-двадцати наименований. Одно, в двух экземплярах, — его роман «Роза без единого шипа».
Потянувшись к нижней полке, он вытащил оба экземпляра и любовно повертел их в руках. «Чейз Хисторикл», может, и низкобюджетное издательство, но книгу они подготовили прекрасно, надо отдать им должное. На первой сторонке обложки на черном фоне размещалось изображение белой розы в высоком разрешении. Название и имя автора набраны тем же сдержанным белым, все строчными буквами. Смотрелось невероятно стильно. И все же какая досада, какая жуткая досада, что качество производства у Филипа превосходило его возможности распространителя. Роман увидел свет больше месяца назад, Бенджамин навестил почти каждый книжный магазин в радиусе пятидесяти миль и обнаружил не больше полудюжины экземпляров — в основном в садоводческих центрах, хотя знал о надеждах Филипа на то, что расширение в художественную прозу откроет ему доступ к более солидным точкам продаж. (На самом деле Филип издал книгу Бенджамина преимущественно поэтому — если не считать уз дружбы.) Бенджамин пока не решался запросить цифры продаж; что же касается отклика критики… его не существовало. Никаких рецензий, ни в национальной, ни в местной прессе, само собой, ничего ни на каких читательских веб-сайтах, ни одного отзыва на «Амазоне», где рейтинг продаж у книги был 743 926 (или, если ему хотелось себя подбодрить, 493 в «Бестселлеры > Проза > Художественная проза > Автобиографическая проза > Любовный роман > Одержимость»).
И да, этого следовало ожидать. Следовало знать, что Филип сам по себе, без бюджета на маркетинг, мог лишь напечатать книгу и надеяться на лучшее. Но какой у Бенджамина был выбор? Каждый издатель в Лондоне и каждый независимый издательский дом во всей остальной стране отказались публиковать роман — или чаще всего отказывались даже читать его. Ни один литературный агент не обеспокоился послать ему ничего больше формального уведомления в ответ на присланную к рассмотрению рукопись; обычно в этих уведомлениях содержалась какая-нибудь елейная отписка вроде: «Мы считаем, что у вашей ркпс есть множество замечательных достоинств, но она сейчас не подходит к нашему издательскому плану». Отдельные письма предлагали некоторые подробности — не столько о качествах самой книги, сколько о текущих условиях рынка и трудностях, связанных с запуском новых авторов в наше непростое время. Большинство издателей и агентов продержало его с ответом больше двух месяцев, и, все еще продолжая рассылать многочисленные запросы, Бенджамин терпеливо сносил отказы почти целый год, они ежедневно падали к нему в почтовый ящик — именно в такое время, чтобы испортить ему завтрак, и в итоге Бенджамин сдался и позвонил Филипу. После этого все происходило очень быстро и напрямик. Всего за несколько недель рукопись прошла редактуру, верстку и корректуру. И вот пожалуйста — работа всей его жизни (или, во всяком случае, усеченная часть этой работы) наконец-то в продаже. Еще бы магазин выставил ее позаметнее…
Исходя из этих соображений и убедившись, что продавщица не видит, Бенджамин отнес оба экземпляра своего романа в центр магазина и разместил на столе главной выкладки, поверх стопки книг о деревьях бонсай. Подействовало почти мгновенно. Бенджамин удалился в сторонку и сделал вид, что погружен в биографию Уинстона Черчилля, — и ждать ему пришлось всего ничего. Он увидел, как к выкладке один за другим подошли три посетителя и взяли в руки его книгу, прочли цитату на обложке и полистали издание. Да, ни один не стал ее покупать, но зато было ясно, что шансы у книги значительно повысились. Удовлетворенный Бенджамин отправился в ресторан к отцу.
За последнюю пару месяцев он несколько раз привозил Колина в садоводческий центр. Поначалу это был жест отчаяния — в окрестностях самого Реднэла они уже давно исчерпали места, куда можно съездить, — но Колину та вылазка вроде бы понравилась, и довольно скоро это превратилось в привычку. Однако Бенджамина эти встречи все равно вряд ли радовали. В те дни каждая минута в обществе отца давалась трудно: Колин едва таскал ноги, был мрачнее во всех отношениях, во всех отношениях циничнее. Искрометным его общество назвать не получилось бы никак, а потому Бенджамин ой как удивился, добравшись до ресторана и увидев, что отец не сидит один, нахохлившись над отбивной и пирогом с почками, а участвует в довольно оживленной беседе — и даже шутит — с персонажем, которого Бенджамин поначалу не признал. То был крупный человек, облаченный в джентльменский твид 1930-х, с золотыми карманными часами, а рядом с ним на столе в перевернутой разноцветной вырвиглаз академической шапочке покоился красный пинг-понговый шарик. У собеседника отца была эспаньолка и румяное, бодро-доброжелательное лицо, а когда подошел Бенджамин, человек вскочил на ноги, схватил его за руку, энергично потряс и сказал:
— Бен! Как я рад тебя видеть, дружище!
Бенджамину оставалось лишь растерянно пялиться.
— Не говори, что ты меня не помнишь. Ну же, Бен, не разбивай мне сердце.
— Помню, конечно. Ты… — Он замялся, а затем предложил единственную догадку, в которой не сомневался: — Барон Умник? Массовик-затейник?
— И? И?
Бенджамин понятия не имел. Отец смотрел на него со смесью восторга и превосходства. Нечасто случалось, чтобы он оказывался на шаг впереди сына.
— Я сразу понял, кто это. Не узнаешь? Это же Чарли! Чарли Чэппелл!
Лицо Бенджамина постепенно озаряло осознанием. Но все равно простительно, что он не узнал Чарли Чэппелла — человека, с которым не виделся (да и не думал о нем) более сорока лет. Чарли когда-то был их ближайшим соседом, Бенджамину — одним из лучших друзей. В первый день учебы в начальной школе, в пять лет, они сидели рядышком. Вместе играли на школьной площадке, постоянно ходили друг к другу в гости, делились сладостями, менялись шоколадными батончиками, читали свои первые (в случае Бенджамина — единственные) порножурналы, сидя бок о бок. А затем, в одиннадцать лет, — по неизвестным до сих пор причинам — родители Бенджамина заставили его сдавать вступительные экзамены в «Кинг-Уильямс», и он их сдал. Чарли остался в государственной учебной системе — в местной общеобразовательной школе, и между ним и Бенджамином разверзлась пропасть. Не образовательная или учебная, а в основном социальная. Бенджамин перебрался в школу, где учителя являлись в класс в университетских мантиях; где не только существовало понятие школьного гимна, но его еще и пели — на латыни; где на весь выпуск был всего один черный мальчик — Стив Ричардз, и остальные мальчики звали его Растусом[83]. Бенджамин с Чарли не просто постепенно разошлись в разные стороны — их мгновенно растащило врозь стремительными, мощными, расходящимися течениями. Они перестали бывать друг у друга в гостях. Разговоры сделались натужными и неловкими. И через год-другой расставание стало необратимым: Чэппеллы переехали в новый дом в Нортфилде, в десяти минутах езды. И всё. Бенджамин с Чарли с тех пор ни разу не виделись и не разговаривали.
Но все это было давным-давно. На лице Чарли не отражалось ничего, кроме восторга встречи со старым другом.
— Я точно видел тебя тут пару лет назад, — сказал он. — Посреди моего выступления. Я пытался перехватить твой взгляд.
— Да, это был я, — признал Бенджамин. — Ты сегодня тоже выступал?
— Только закончил, — ответил Чарли. — Тугая публика опять подобралась.
— Как же вышло, что ты?.. — Как завершить эту фразу, Бенджамин не понимал.
— Зарабатываю этим на жизнь? — помог ему Чарли. — Долгая история. Скажем так: из КШК[84] мне так и не дозвонились. А у тебя? Твой отец говорит, что ты уже ушел на пенсию.
— Не ушел я на пенсию, — возмутился Бенджамин. — Я за тобой ухаживаю… — он посмотрел на отца, — это во-первых. Во-вторых, я работаю волонтером три утра в неделю в одной больнице в Шрусбери — в благотворительной лавке. И пишу. У меня вообще-то первый роман вышел.
— Почему я не удивляюсь? — проговорил Чарли. — Неизменный главный интеллектуал у нас. Творческий гений. Где можно разжиться экземпляром?
— Прямо тут. У них парочка есть в магазине.
— Великолепно. У тебя только что состоялась продажа.
Уходить Чарли не торопился. В четыре часа у него ожидался детский праздник, но до этого — ничего, и он был рад разделить с Бенджамином и Колином неспешный обед. Затем Колин объявил, что желает навестить зоологический отдел: ему нравилось смотреть на карпов кои и тропических рыбок, он глазел на них по нескольку минут, зачарованный раззявленными ртами и меланхолическими глазами, словно пытался понять их грёзы и проникнуть в их воспоминания. Сказал, что придет потом к Бенджаминовой машине. И вот Бенджамин с Чарли отправились в книжный, по дороге пройдя мимо детского театра.
— Ты глянь, кто на сцене, — проговорил Чарли недобро, кивая на открытую дверь.
Бенджамин глянул и увидел, что человек, развлекавший кружок детворы, облачен в белый медицинский халат, резиновые сапоги, у него наклеенные усы и кожаный шлем авиатора Второй мировой. Бенджамин помнил его с прошлого раза — его обиженное поведение вне сцены и хамскую враждебность к Чарли. Что между ними такое? Он увидел, что Чарли перехватил взгляд Доктора Сорвиголовы и ощерился; второй клоун тоже его заметил — и оскалился в ответ, не выходя из образа. В тот миг воздух заискрил и задрожал от ненависти и злобы, хотя, стоило им отойти, Чарли тут же посветлел, вернул себе прежнюю жизнерадостность как ни в чем не бывало, и потому Бенджамину не показалось, что уместно заикаться на эту тему или же спрашивать, что происходит.
В книжном Чарли взял оба экземпляра «Розы без единого шипа» с центральной выкладки, прочел цитату на обложке, похвалил ее дизайн и сказал:
— Так. Я забираю обе.
Чтобы насладиться мигом торжества, Бенджамин отправился с Чарли к кассе. Продавщица восхитилась, вероятно, меньше, чем ожидалось, и пробила продажу с механическим безразличием.
— Это автор, между прочим, — сказал Чарли. — Не помешало бы с ним носиться. Он местная знаменитость.
— У нас тут много авторов, — отозвалась она.
— Ну ладно. — Чарли глянул на Бенджамина и скроил гримасу. — Можешь подписать для меня, Бен, раз они уже оплачены?
— Конечно. — Бенджамин положил книги на стойку и извлек ручку. — Обе тебе?
— Одна мне. Вторая — «Анике», пожалуйста.
— Что-то специальное?
— Да нет. — Он задумался. — На ее экземпляре напиши, если можно: «Удачи в учебе».
— «Удачи в учебе», — повторил Бенджамин, пока писал эти слова, после чего с гордостью вручил книги Чарли. Первые автографы — если не считать экземпляров Фила, Лоис, Софи и отца. Он сказал, обращаясь к продавщице: — Придется теперь дозаказать еще.
— Все в порядке, — отозвалась она. — У нас еще штук сорок в подсобке.
— О. Желаете, я вам их тоже подпишу?
— Лучше нет. Они у нас и так-то идут туго. А если подпишете, мы их вернуть не сможем. Будут считаться бракованными.
Бенджамин задумался, сколько еще огорчений сможет вытерпеть от этой женщины.
— Вы вообще хоть один экземпляр продали? — спросил он.
— Парочку, — сказала продавщица, — но покупатели их вернули.
— Вернули? Почему?
— Подозреваю, дело в названии. Они думали, это о выращивании роз. Сюда в основном за этим приходят, вы же понимаете. Художка у нас не очень-то в ходу.
Пора было идти и ждать Колина в машине. Пока они петляли среди садовой мебели, Бенджамин не мог не задуматься над хрупкими коммерческими перспективами своей книги, но наконец отвлекся от этих мыслей и вспомнил, о чем хотел спросить у Чарли.
— Кто же такая эта Аника?
— Как и всё в моей жизни, это долгая история, — ответил он. — Можем пообедать как-нибудь в ближайшее время? Я бы очень хотел хорошенько наверстать упущенное.
— Непременно. Давай.
— В общем, — сказал Чарли, когда они вышли из бескрайних внутренних владений «Вудлендз» и двинулись по столь же обширной парковке, — если вкратце — я в некотором смысле ее отчим. Ее мать разведена — они живут вдвоем… и…то есть я не женат на ее матери, ничего такого, но провожу у них в доме много времени и стал, видимо, этакой отцовской фигурой. По крайней мере, хотел бы ею быть… Все сложно. Кавардак, если честно, Бен. Мне бы помогло поговорить с тобой чуток обо всем этом. Немногих я знаю людей, которые понимают… человеческую душу и все ее таинства.
Бенджамина этот комплимент тронул, но услышать такой оборот от Чарли было удивительно — он намекал на неочевидные запасы чуткости и уязвимости.
— Ну не знаю, — сказал он, чтобы укрепить взаимное доверие. — Когда прочтешь мою книгу — поймешь, что с эмоциями у меня в жизни было много трудностей, и…
— Ох ЕБ ТВОЮ МАТЬ! — завопил Чарли. — Ебте, ах ты блядская блядь сучья!
Бенджамин замер и вытаращил глаза от изумления. Они дошли до автомобиля Чарли — древнего, но прилежно начищенного и блестящего «ниссана-микры», и Чарли с бешенством и отчаянием смотрел на краску на водительской стороне. От передней фары до стоп-сигналов тянулась длинная, глубокая царапина, оставленная монетой или каким-то другим приспособлением.
— Он это сделал, — проговорил Чарли, цедя слова сквозь зубы. — Он это сделал, подонок. Я его убью, клянусь. Расколю ему башку и лицо ему изрежу, бля, выкидушкой.
Он развернулся и уже собрался рвануть обратно в садоводческий центр. Бенджамин наложил на его плечо сдерживающую руку.
— Чарли, не наделай глупостей, — произнес он. — Я понятия не имею, что у вас с ним такое, но… насилие — не ответ. Никогда не ответ. — А затем, чтобы хотя бы отвлечь его, добавил: — Так что, когда пообедаем?
Чарли помедлил, тяжко дыша, гнев все еще владел им почти целиком. А затем ответил:
— Ну да, ты прав. — После чего извлек телефон, чтобы глянуть в календарь, и миг кризиса миновал.
Апрель 2015-го
14 апреля 2015 года Консервативная партия обнародовала манифест перед грядущими всеобщими выборами. Дуг прочел первый абзац вступления Дэвида Кэмерона, пока ждал приезда Найджела на их привычную встречу в кафе рядом со станцией подземки «Темпл». «Пять лет назад, — читал он, — Британия была на грани…»
С тех пор мы многое повернули вспять. Ныне британская экономика — одна из самых быстрорастущих в мире. Мы вновь берем в свои руки контроль над финансами страны. Долю дефицита в экономике мы сократили вдвое. Трудоустроено больше людей, чем когда бы то ни было раньше. Британия встала на ноги, она сильна и крепнет с каждым днем. И это не произошло само собой. Это результат трудных решений и терпеливой работы в согласии с нашим долгосрочным экономическим планом. Но самое главное, это итог непревзойденных усилий всего народа, когда каждый принес свою жертву и каждый сыграл свою роль… Наши друзья и соперники за рубежом смотрят на Британию и видят страну, которая привела свой дом в порядок, страну на подъеме. Они видят страну, которая верит в себя.
— Вы писали что-то из этой чепухи? — спросил Дуг, когда вечно юный заместитель помощника начальника отдела коммуникаций явился и сел напротив.
Найджел расплылся в ледяной улыбке, однако вроде бы не удивился и не очень-то смутился от такого гамбита.
— Ах, Дуглас, — сказал он, — вечно вы нападаете. Вечно пытаетесь заработать первое очко. Реши я, что вы хоть что-то из этого всерьез имеете в виду, обиделся бы. Но я неплохо узнал вас за все эти годы.
— Как боевой дух в Доме десять? — спросил Дуг, передавая Найджелу капучино, который уже заказал для него. — Паника зашкаливает, надо полагать.
— Уверенность, Дуглас, энтузиазм — вот что зашкаливает. Дэйв готов к этой борьбе — знаете почему? Потому что уверен, что выиграет.
— Он, стало быть, на опросы общественного мнения не смотрит?
— Мы никогда не обращаем никакого внимания на опросы общественного мнения. Они всегда ошибаются.
— Теледебаты прошли так себе. Эд Милибэнд[85] выступил довольно ярко.
— Эд славный парень, но он нас не беспокоит. Народ этой страны никогда не выберет премьером марксиста.
— Где вы вычитали, что он был марксистом? — спросил Дуг. — В «Дейли мейл»? Эд Милибэнд не марксист.
— Его отец был марксистом. Как пишет «Дейли мейл».
— Ой, да ладно вам, Найджел, что за глупости. Если отец марксист, это не означает, что сын марксист. У вас отец проктолог. Вы в таком случае кто?
— Вы то и дело вспоминаете профессию моего отца. Вам геморрой покоя не дает до сих пор?
Дуг вздохнул. С Найджелом они встречались два-три раза в год уже пять лет, но, насколько Дуг мог судить, он никак не приблизился к тому, чтобы пробиться сквозь этот фасад Найджеловой жизнерадостной помраченности.
— Поделом мне, — сказал он, — зря я думал, что вы поведете себя как-то иначе и не станете делать вид, будто все тип-топ. У вас, в конце концов, работа такая.
— Я бы не сказал, что все тип-топ, Дуг. Чуточку самодовольно так думать, если позволите. У нас по-прежнему много трудностей. Режим экономии все еще кусается — и тяжелее всего тем, кто менее всего способен с ним жить. Дэйв в курсе всего этого. Он не чудовище, что бы вы там о нем ни думали. Но мы довольно неплохо улавливаем настроения в стране, и, очевидно, когда все так трудно, когда будущее неопределенно, люди же не психи, чтобы голосовать за перемены. Преемственность, стабильность — вот чего они себе хотят, чтоб пережить лихую годину.
Дуг почесал голову.
— Но это же буквальная бессмыслица. При текущей администрации в стране бардак, а потому единственный выход — голосовать за текущую администрацию?
— В сухом остатке — да. Как раз вот эту очень отчетливую мысль мы собираемся донести до электората в ближайшие несколько недель.
— Что ж, удачи вам.
— Выбор сейчас — между сильным и устойчивым правительством Дэвида или слабым и беспорядочным Эда, которому, вероятно, придется вступить в коалицию с шотландскими националистами. Вы вдумайтесь!
— Вам, возможно, предстоит остаться в коалиции с либерал-демократами.
— Не беда, но этого все равно не случится. Мы собираемся завоевать абсолютное большинство голосов. Вполне уверены в этом. Так нам сообщают опросы общественного мнения.
— Но вы же только что сказали, что не доверяете опросам.
— Мы не доверяем большинству опросов. Но заказываем свои. И им доверяем.
Дуг вздохнул еще раз.
— Окей. Вернемся к сути дела.
— К соли ее, — согласился Найджел.
— Точно. К соли. Страница семьдесят вторая манифеста: «Настоящие перемены в наших отношениях с Европейским Союзом».
Найджел счастливо просиял.
— Именно. Ключевая часть манифеста. Едва ли не уникальное торговое предложение, можно сказать.
— Ну, кто бы это ни написал, надо отдать ему должное, написано вполне отчетливо. «Лишь Консервативная партия осуществит настоящие перемены и сделает настоящий выбор по вопросу Европы с референдумом „за выход — против выхода“ до конца 2017 года».
— Все верно.
— Действительно ли это хорошая мысль?
— Это мысль Дэвида. Конечно, она хорошая.
— Но предположим, что референдум происходит и мы голосуем за выход?
— Тогда мы уйдем. Таков будет глас народа.
Пусть и под впечатлением от такой бескомпромиссной приверженности прямой демократии, Дуг все равно не мог не возразить:
— Но народу, в общем, нет дела до Евросоюза. Как ни попроси перечислить, какие политические вопросы их в основном беспокоят, они назовут образование или жилищное строительство, а Евросоюз даже в первую десятку не попадает.
Найджел выглядел растерянным, но тут лицо у него прояснилось.
— А, вы говорите об общественности. Простите, я не это имел в виду под народом.
— А что вы имели в виду под народом?
— Я имел в виду народ в Консервативной партии, который талдычит о том, как он не выносит ЕС, — и не заткнется, пока мы что-нибудь не предпримем.
— Ах вы про тот народ.
— Про тот.
— То есть вот почему Кэмерон обещает этот референдум. Чтобы заткнуть тот народ.
— Не говорите глупости, Дуглас. Референдум по такому важному вопросу только ради того, чтобы утихомирить нескольких зануд в собственной партии? Это же крайне безответственно.
— Но вы же только что сами сказали, что как раз это и делается.
— Нет, не говорил. Ничего подобного я не говорил. Вы не читали манифест, что ли?
— Читал, конечно.
— Ну, там говорится, почему мы обещаем референдум. — Он взял со стола брошюру Дуга, все еще открытую на соответствующей странице. — Слушайте: «Таков будет фундаментальный принцип будущего правительства консерваторов: членство в Европейском союзе зависит от согласия британского народа. Вот почему после выборов мы обсудим новые условия для Британии в Европе, а затем спросим британский народ, желает он оставаться в ЕС на этих обновленных условиях или нет. Референдум о дальнейшем участии в ЕС мы проведем до конца 2017 года и с уважением отнесемся к его исходу». Куда уж проще-то?
— Погодите секунду, — произнес Дуг. — Вы тут кое-что оставили за скобками.
— Да?
— Да… ну-ка дайте мне. Вы тут пропустили.
— Вряд ли.
— Та фраза про решение британского народа…
— Да?
— Сразу следом. Вот… — Он забрал у Найджела брошюру и быстро пробежал взглядом по странице. — Вот, пожалуйста: «Членство в Европейском союзе зависит от согласия британского народа — и в последние годы это согласие истончилось до толщины облатки».
— Все верно. Истончилось.
— То есть Кэмерон, берясь за это, чрезвычайно рискует, иными словами?
— Вы о чем говорите?
— О том, что он предлагает провести референдум об участии в Евросоюзе, заведомо зная, что большинство будет толщиной с облатку.
Найджел покачал головой и зацокал языком.
— Вот честно, Дуглас, что с вами, с писателями, делать! С этим вашим несуразно творческим толкованием всего на свете. Берете совершенно ясную, совершенно невинную фразу и передергиваете ее, искажаете…
— Надо полагать, вы всегда сможете сделать так, чтобы результат зависел от квалифицированного большинства — в шестьдесят процентов или что-нибудь в этом духе.
— Такой вариант был предложен, но нужды на самом деле в нем нет.
— Почему?
— Потому что референдум будет исключительно совещательным.
— Правда? А тут другое говорится. Говорится вот что: «Референдум о дальнейшем участии в ЕС мы проведем до конца 2017 года и с уважением отнесемся к его исходу». По-моему, не похоже на совещательный референдум.
— Похоже, конечно. Это означает, что британский народ даст нам свой совет и мы его примем. — Дуга этот довод, кажется, не убедил, и Найджел добавил: — В любом случае, так уж плохо ли, если мы выйдем из Евросоюза? У вас как у социалиста с Евросоюзом должна быть масса противоречий. Вы посмотрите, как они с несчастными греками обходятся, к примеру.
Допивая свой капучино, Дуг встал и убрал брошюру с манифестом в карман пальто.
— Это верно, — сказал он. — Но, как я понимаю, Кэмерон хочет остаться.
— Конечно.
— В таком случае, думаю, он делает непомерные ставки, предлагая голосование пятьдесят на пятьдесят по вопросу, в котором, как сам Кэмерон заранее считает, общественное мнение делится едва ли не поровну.
— Да, таковы ставки, — согласился Найджел. — Это большая игра. Будущее страны решит игральная кость. То, что Дэйв готов это принять, говорит о нем как о сильном, решительном лидере.
Как обычно, под мощным впечатлением от Найджеловой логической акробатики Дуг потряс ему руку и задал последний вопрос:
— То есть Кэмерон совершенно спокойно предлагает этот референдум?
— Ну, он бы беспокоился, — ответил Найджел, застегивая пальто, — но в конечном итоге ничего не случится.
— Почему? — спросил Дуг.
— Потому что не наберет он подавляющее большинство. Все опросы общественного мнения об этом говорят. Вы вообще их не смотрите, Дуглас? Очень стоило бы.
Такие прощальные слова ошарашили бы Дуга на всю дорогу домой. Но у Найджела в рукаве нашлась карта еще лучше.
— И кстати, — сказал он и выдержал безупречно рассчитанную выжидательную паузу. — Передайте от меня приветы Гейл, будьте добры. Дэйв считает ее совершенно необходимым членом команды. Надеюсь, она это понимает.
Май 2015-го
Дуг так и не выяснил, как Найджел об этом проведал. С Гейл Рансом они к тому времени встречались всего несколько недель и старались держать это в тайне. Дуг предположил, что в тесном тепличном пространстве Вестминстерской деревни[86] долго прятать новые отношения невозможно, особенно если это отношения левофлангового журналиста и парламентария-консерватора. Это же такой подарок для сплетников, само собой. Но каково бы ни было объяснение, Дугу было отчетливо неуютно от того, что заместитель помощника директора отдела коммуникаций Дэвида Кэмерона осведомлен о том, чего не знает даже дочь Дуга.
Но кого за это винить? Они с Кориандр последнее время едва разговаривали. Более того, он бы и не поверил, что отец с дочерью вообще способны делить столь тесное пространство обитания и при этом существовать в столь фундаментальном неведении о жизни друг друга.
С того вечера, когда состоялась церемония открытия Олимпийских игр, в доме Гиффордов-Андертонов произошли масштабные перипетии. Дуг и Франческа разъехались — без особых сердечных мук с обеих сторон. Он перебрался в двухкомнатную квартирку в Нижнем Холлоуэе, неподалеку от Каледониан-роуд. Как он узнал (из колонки «Дневник лондонца» в «Ивнинг стэндард»[87]), Франческа недолго думая начала встречаться с неким недавно разведшимся телепродюсером, который, по слухам, входил в сотню самых богатых людей в стране. Кориандр, чье давнишнее презрение к материным ценностям и образу жизни получили во всем этом мощное подтверждение, дождалась своего шестнадцатилетия и воспользовалась законным правом покинуть уют Челси и съехаться с отцом. Она также бросила частную школу в Западном Лондоне и пошла в старшие классы государственной школы в Кэмдене, что было убийственно модно среди дочерей либеральной интеллигенции Северного Лондона.
Дуг вскоре обнаружил, что не очень-то скучает по прелестям сверхбогатства: сокращение его жилого пространства уравновешивалось, с точки зрения Дуга, тем, что больше не требовалось высиживать званые обеды в обществе олигархов или вести учтивые беседы с управляющими хеджевых фондов на дне вручения учебных табелей. И переезд Кориандр его порадовал: он представлял себе их новые отношения, основанные на уютной болтовне за завтраком и возне с домашними заданиями поздними вечерами. Но он кое-что проморгал. Да, его дочь отрицала ценности своей матери, однако Дуговы ее тоже не очаровывали. Более того, она теперь оказалась гораздо левее своего отца. Ее взгляды на расизм, неравенство и политику идентичности были совершенно бескомпромиссными, и она даже не пыталась скрывать, что считает отца в лучшем случае оболваненным, оторванным от действительности умеренным социал-демократом, а в худшем — продажным задохликом, чьи политические компромиссы на самом деле составляли куда более мощную преграду социальной справедливости, чем какие угодно уловки партии тори. Нынешнюю Лейбористскую партию с Эдом Милибэндом во главе (которого консервативные СМИ изображали как марксиста или, по крайней мере, как сына марксиста, что приравнивалось к одному и тому же) она считала бледным бескровным отпрыском нового лейборизма Тони Блэра, непоправимо замаранного преступной ошибкой войны в Ираке, без всякого убедительного или радикального видения, какое можно было бы предложить в ответ на программу жесткой экономии, выдвинутую тори.
— Но это, во всяком случае, меньшее из двух зол, — говаривал ее отец, и она в ответ фыркала.
А болтовня за завтраком… в учебные дни Кориандр выходила из дома в семь тридцать и завтракала с друзьями в местных кофейнях. С теми же друзьями она шаталась по улицам Лондона вечерами и по выходным, обходила бары, клубы, концерты и вечеринки, об истинной сути которых Дуг мог только догадываться (хотя предпочитал вообще об этом не думать). В хорошие дни Кориандр с отцом, если пути их пересекались в кухне или по дороге в ванную, вели себя со сдержанной учтивостью. Но случалось им и сожительствовать неделями напролет, не адресуя друг другу ни единого слова.
Впрочем, 5 мая 2015 года — вечером дня всеобщих выборов — положение в их доме существенно ухудшилось.
* * *
Ночной эфир Би-би-си, освещавший выборы, все шел, и Дуг ошарашенно наблюдал за результатами. Как и все остальные, он считал, что выборы получатся напряженными и, вероятно, приведут к подвешенному парламенту. Экзитпол в десять часов вечера уже показал, что такого не случится. Далее оставалось лишь ждать, пока проголосуют ключевые избирательные округа. Когда Нанитон оказался за тори — в час пятьдесят пополуночи, — телеведущие объявили, что выборы выиграны, а все ожидания опрашивающих сокрушены. Невероятно, однако правда.
Дуг согласился написать 1200 слов к шести утра. Не для печатного издания, а только для веб-сайта (за малую толику гонорара, положенного при печатном варианте). Отправился на кухню заварить себе кофе, прежде чем взяться, а затем вновь сел к телевизору, завел на ноутбуке новый документ и принялся печатать:
Способен ли сэндвич с беконом побороть социализм?
Крепкий зачин. Несколько предсказуемый, наверное. Но продолжим.
В конечном счете как еще объяснить необъяснимое? У Эда Милибэнда должен был настать час торжества. Коалиционное правительство за последние пять лет, по сути, не сделало ничего, чтобы завоевать себе популярность у избирателей. Никаких усилий не приложено, чтобы разобраться с глубинными причинами финансового обвала 2008 года, не считая составленной и настойчиво исполненной программы жесткой экономии, последствия которой ощутил на себе каждый житель этой страны, не считая сверхбогатых. Для молодежи из среднего класса уровень зарплат застрял на одной и той же отметке, уровень жизни не вырос. Беднейшие слои понесли самый тяжелый удар — зависимость от продовольственных фондов выросла экспоненциально, а это позор для любой цивилизованной страны.
В половине третьего открылась входная дверь и вошла Кориандр, вид у нее был взъерошенный и недоспавший. Она сбросила пальто и рухнула на диван рядом с ним.
— Ты слышала? — спросил он.
— Ага. Тупые пёзды.
Он вопросительно глянул на нее, поскольку не был до конца уверен, кого она имеет в виду.
— Избиратели, — пояснила она.
— А.
— Идиоты, которые только что проголосовали, чтобы их жизнь стала еще хуже.
Дуг сказал:
— Ну а какой у них был выбор? Раз уж, по-твоему, Лейбористская партия — такое же барахло.
— Верно.
— Ты бы как проголосовала?
Кориандр, которой восемнадцать исполнялось в июне, от этого решения была избавлена. Пожала плечами.
— Я б тяпнула кофе, — сказала она, вставая.
— Мне тоже завари, ладно?
Пока ее не было, по телевизору объявили еще два результата: Брекон и Рэдноршир — и Йовил. И там, и там проголосовали за тори, с сильным перевесом по сравнению с либерал-демократами. Кампания тори безжалостно перла против своих партнеров по коалиции, и теперь, судя по всему, эти усилия вознаграждались. Но Дуг все еще пытался понять почему.
Что же до самого премьер-министра, традиционным тори он никогда, в общем, не нравился, виделся им слишком столичным и общественно-либеральным. Он, может, и считает введение гей-браков своим главным достижением и гордостью, но дополнительных голосов в Средней Англии ему это принесло немного.
В четыре утра Туикенэм сдался тори и Дуг отодвинул ноутбук в сторону; мысли путались. Туикенэм! Твердыня Винса Кейбла! Кейбл был министром по предпринимательству, президентом Торговой палаты и второй крупнейшей фигурой из либерал-демократов в правительстве. И вот его большинство в 12 000 голосов оказалось сметено. Тори массово резали своих бывших партнеров, уничтожали их. Даже после «отжига» у Ника с Дэйвом за столом кабинета министров… И все-таки результаты, которых Дуг ждал с наибольшим нетерпением, еще не появились. Когда же объявят Юго-Западный Ковентри? Отправил быструю СМС Гейл: «Долго еще?» — и она ответила: «Не знаю. Тут корчи. Ххх».
Светало. Дуг уже собрался отдернуть шторы и впустить первый солнечный свет, но не хотелось мешать Кориандр, она все еще лежала на диване рядом, то засыпая, то просыпаясь.
Так в чем же просчитался Милибэнд? Следить за его кампанией временами бывало больно. С медийщиками ему вечно не по себе, и, как многие лидеры-лейбористы до него, он пытался донести свои соображения вопреки враждебной среде, где целые группы СМИ готовы были броситься на него из-за любой оплошности. Не следует недооценивать действенность кампании «Мейл», постаравшейся изобразить Ралфа, его отца-ученого, как марксиста, который «ненавидел Британию», и намекать, что сын тоже запятнан — генетически.
Ну и конечно, еще и история про сэндвич с беконом. Невероятно, однако это произошло уже почти год назад, и все еще выходит несчастному Эду боком та фотография, когда он в кафе в Новом Ковент-Гардене пытается съесть сэндвич с беконом и получается небольшой казус: сэндвич разваливается у Эда в руках. Два дня назад «Сан» забабахала этот снимок на всю первую страницу и подписала: «Бутерброд в руках у Эда пропал, как свиной хвостик. Через 48 часов Эд, может, начнет вытворять то же с Британией». Вот к чему мы пришли? По-настоящему прогрессивный, реформаторский и уважительный к людям манифест — на одной чаше весов, а на другой — партийный лидер (лидер-еврей, напомню), который старается держаться свободно, поедая свиной продукт, и его поэтому необходимо предъявлять как неловкого на людях и оторванного от простого народа?
Он все еще возился с этим абзацем, который, на его вкус, был слишком многословным и громоздким, — и тут глянул на телеэкран и увидел, что камеры наконец добрались до Юго-Западного Ковентри. Появилась Гейл, с виду уставшая, но в приподнятом настроении, облаченная в парадный темно-синий костюм. По бокам от нее стояли другие кандидаты: впритык слева — оппонент Гейл из лейбористов, остальное пространство платформы занимала привычная диковинная толпа, включая традиционного представителя Официальной чудовищно-бредовой партии полоумных[88] в цилиндре и с громадным фальшивым нарциссом в петлице. Дуга посетила мимолетная мысль, что Англия была и остается очень чудно́й страной.
Но вот объявили результаты — и Гейл уже улыбается и торжествующе вскидывает руку. Большинство голосов за нее было небольшое, но она победила, и на ленточке внизу экрана появилось «Победа консерваторов».
— Да! — непроизвольно выкрикнул Дуг. — Она смогла.
Этот вопль разбудил Кориандр, она неуклюже села и, сощурившись, глянула на телеэкран. Прошло несколько секунд, прежде чем почерпнутые сведения добрались до ее сонного мозга, после чего она повернулась к отцу и произнесла растерянно:
— Ты только что порадовался победе тори? — Дуг не нашелся, как отпереться. — Почему? — спросила она. — Кто вообще эта женщина?
— Она… — Он примолк. Ему за пятьдесят. Слова следовало выбирать осторожно. Как это приличнее всего обозначить-то? — Я с ней встречаюсь.
На эту новость Кориандр ответила долгим-долгим молчанием. Наконец она прервала его — не заговорив, а встав со скрипучего дивана и пошаркав к себе в спальню.
Она ушла, и Дуг в отчаянии крикнул ей вслед:
— Она в своей партии очень слева! — Но еще до того, как эти слова слетели с его уст, он отчетливо чувствовал, что лед ими не проломить.
* * *
За непредвиденной победой Дэвида Кэмерона события последовали стремительно. Утром подали в отставку по крайней мере три ключевые партийные фигуры: Эд Милибэнд из лейбористов, Ник Клегг из либерал-демократов и Найджел Фараж из ПНСК[89]. Политический пейзаж, к которому Дуг успел привыкнуть за последние несколько лет, за считаные часы оказался в запустении. В тот день нация созерцала странновато-комическое зрелище: трое главных партийных вожаков, двое — теперь бывшие лидеры своих партий, облаченные в торжественные наряды, стояли рядом у Кенотафа как участники празднования семидесятой годовщины Дня победы в Европе. А затем, ближе к пяти вечера, когда Дуг обычно ожидал возвращения дочери (ненадолго) из школы, он получил СМС от Франчески: «Только что пришла Корри. Говорит, что ненавидит тебя и хочет ненадолго переехать сюда. Что ты натворил?»
Дуг, у которого было в разгаре интервью с «Би-би-си Радио Лондон», написал в ответ: «Трахнул тори», что, вероятно, не самая дипломатичная формулировка, зато емкая и точная. Ответа не последовало.
Остаток выходных был занят пылкими пересудами, кто же унаследует пост лидера лейбористов и либерал-демократов, и Дуг либо заколачивал очередной размышлизм у себя за столом, либо сновал между разнообразными телестудиями. Когда он отправил последнюю статью — уверенные 2500 слов для «Нью стейтсмен», — уже наступил понедельник, отношение Дуга к результатам выборов переменилось и у него появилась новая теория. Да, тори блистательно и свирепо дрались за каждое ненадежное место либерал-демократов в стране, но подлинный решающий фактор в их победе — Шотландия. Бесперебойно вдалбливалась шумная, назойливая мысль, что из Эда Милибэнда получится слабый лидер, что лейбористы не смогут получить большинство голосов и в итоге войдут в коалицию с Шотландской национальной партией, а значит, в Вестминстере станут верховодить именно ШНП, эти настырные, неприятные шотландцы. По словам Гордона Брауна (чье поражение после той чудовищной неловкости с «фанатичкой», казалось, случилось пять жизней, а не пять лет назад), «вместо того чтобы разыграть карту британского единства, консерваторы решили разыграть карту английского национализма. Все это было задумано, чтобы намекнуть на существование шотландской угрозы, шотландской опасности, шотландского риска».
…Бесспорно действенная стратегия, как выяснилось (писал Дуг). Но, как отмечает наш бывший премьер-министр, в ней таится риск для будущего: если Дэвид Кэмерон «отвинтил кран английского национализма», сможет ли он завинтить его обратно или же национализм продолжит течь — с нарастающей и неостановимой силой — в ходе кампании перед ЕС-референдумом, под которым Кэмерон подписался?
* * *
К середине недели буря комментариев начала затихать. Дуг и его коллеги в СМИ начали (с некоторым трудом) возвращать себе чувство меры. Легко было забыть, что широкая общественность, отдав свои голоса, дальнейшие пять лет не изводила себя раздумьями о последствиях — в отличие от выразителей общественного мнения при Вестминстере. Да, состоялось политическое землетрясение, но маленькое же, местное, если посмотреть на него с общемировой точки зрения или sub specie aeternitatis[90]. Меж тем английское лето манило, и страна продолжила заниматься своими делами. В ближайшие пару месяцев в жизни нации ничего сейсмического не произойдет. Ближайшего по-настоящему потрясающего события придется подождать до 25 июля 2015 года.
В тот день было объявлено, что роман Бенджамина Тракаллея «Роза без единого шипа» попал в длинный список Букеровской премии.
Июль-август 2015-го
С дочерью Дуг не виделся два месяца. В этом ей никак не откажешь: так, как умела дуться дочь, дуются чемпионы высшей лиги. Но она и тогда не собиралась с ним видеться, эту встречу подстроила Франческа — она позвала Дуга выпить кофе в «Галерее Саатчи» на Дьюк-оф-Йорк-сквер июльским утром и притащила с собой Кориандр, не предупредив ни ее, ни Дуга.
— Хватит вам уже, — сказала она, — это нелепо. Ну завелась у твоего отца подруга. Что тут такого? Случается сплошь и рядом.
— Он жуткий лицемер, — проговорила Кориандр и насупилась, глядя в свой латте.
— Слушай, Корри, — сказал Дуг, — и извини, если покажусь старым пердуном, но когда ты станешь чуть постарше — ну, чуть за восемнадцать, а я знаю, что тебе этот возраст кажется вершиной мудрости, — так вот, когда станешь чуть постарше, ты поймешь, что не любой человек, с которым у тебя разные взгляды на политику…
Выслушивать все это Кориандр интересно не было.
— Тори — шваль, — произнесла она.
Дуг повернулся к Франческе, предполагая, что она разделит его негодование от этих слов. Франческа же улыбалась.
— О, как славно, — сказал он. — Прямо-таки очаровательно. Миленькое слово, чтобы обозвать женщину, с которой у твоего папы… — Чуть не сказал «любовь», но вовремя спохватился — отчасти потому, что не хотел произносить это в присутствии бывшей жены и собственной дочери, но еще и потому, что понятия не имел, правда ли это. И в итоге выбрал «свидания», от чего Кориандр лишь скривилась.
— Может, хватит вам обоим уже такие слова употреблять? — припечатала она. — В вашем возрасте у вас не «свидания». У вас не «подруги». Тебе пятьдесят пять. Ей сорок шесть. Гадость же.
Так, подумал Дуг, она знает, сколько лет Гейл. Кое-кто погуглил.
— А ты не употребляй слово «шваль» применительно к тем, чьи представления не совпадают с твоими, — сказал он. — Гейл… замечательный человек. У нее очень крепкие принципы.
— А-а… — протянула Франческа, — так вот почему ты с ней переспал.
Кориандр не желала слушать.
— Правда? Строительную компанию ее мужа разве не оштрафовали за паршивое муниципальное жилье?
(Погуглили, значит, немало.)
— Были кое-какие проблемы… — начал Дуг, но она его оборвала:
— Типичный еврей девелопер.
— Эй! — Он вскинул предупреждающий палец. — Поменьше вот этого. — Дуг и раньше замечал, как легко ее пылкая поддержка палестинцев начинала отдавать рефлекторным антисемитизмом. — В любом случае они разведены. Уже некоторое время. Может, на этой неделе поужинаем втроем или как-то?
— Я на этой неделе занята.
— Чем ты занята? Учеба закончилась, верно?
— Мне нужно готовиться к Боготе. На самом деле… — она встала и закинула сумку на плечо, — мне по магазинам сейчас надо.
— К Боготе? Давно ли ты туда собралась? — Он вновь повернулся к Франческе: — Ты об этом знала?
— Вчера выяснила. Они собираются с Томми. Судя по всему, планировали давным-давно.
— Кто такой Томми?
— Текущий парень, насколько я понимаю, — ответила Франческа.
Из-за этого пояснения Кориандр одарила ее взглядом жалости, каким духовный старейшина смотрел бы на новообращенного, все еще пребывающего в дремучем невежестве, и выговорила презрительно:
— Парень/друг. Друг/парень. Просто чувак, с которым я иногда бываю в постели. Чего вашему поколению далась эта дебильная бинарность?
С этими словами она вымелась из кафе.
Дуг, отягощенный унынием, посмотрел вслед ее удаляющейся фигуре.
— Вот и поговорили.
— Что мы породили? — спросила Франческа, размышляя вслух. Затем отхлебнула свой фраппучино и попыталась подобрать ноту пожизнерадостнее: — Во всяком случае, у нас получилась дочь, которой не все равно, что творится в мире. Уже кое-что, наверное.
— А ей не все равно? Иногда мне кажется, что она подсажена на то, чтобы возмущаться от имени других людей.
— Наверное. Может, университет ее угомонит.
Дуг скептически хохотнул.
— Нам известно, куда она собирается?
— Хочет остаться в Лондоне. Но жить не будет ни с тобой, ни со мной, очевидно.
— Очевидно.
Помолчали, продолжая размышлять над блужданиями дочери. А следом Франческа спросила:
— У тебя с этой женщиной серьезно? С Гейл.
— Довольно серьезно, да. В нашем возрасте уже не забалуешь на одну ночь, верно?
Она грустно улыбнулась.
— Видимо, так. Как вы познакомились?
— На вечеринке в Палате общин. Чисто выпить. Как-то у нас срослось, не знаю почему. — Он кратко — и вяло — потрепал бывшую жену по руке: — А у тебя как?
— О, неплохо, — отозвалась она с натужной бодростью. — Пыхчу потихоньку, сам знаешь. — Тут она вспомнила, о чем хотела с ним поговорить. — Я тут на днях, так вышло, встретилась с твоим старым школьным другом. С Роналдом Калпеппером.
— С Калпеппером? Иисусе. И зачем же?
— Он хотел, чтобы я организовала благотворительное событие для его некоммерческой организации. Фонд «Империум».
Дуг громыхнул злым изумленным смехом.
— Боже, ну и наглец. О Калпеппере тебе надо знать три вещи. Первое: никакие благотворительные пожертвования ему не требуются — он уже стоит миллионы. Второе: фонд «Империум» — не некоммерческая структура в нормальном смысле слова, это мозговой центр крайних правых, толкает свободную торговлю и помогает крупным американским корпорациям влезать на британские рынки. Особенно в здравоохранение и социальное обеспечение.
Франческа поразмыслила над сказанным.
— Это два пункта. А третий какой?
— Он паскудный говнюк.
* * *
Дуг — через Франческу — выжал из Кориандр обещание, что она будет слать ему из Колумбии СМС, чтобы он не волновался о сохранности отпрыска. Впрочем, первое сообщение пришло только вечером, когда поздравляли Бенджамина, в первую неделю августа. Дуг ехал в плотном автомобильном потоке, и тут зажужжал телефон. Сообщение ему прочитала вслух Гейл.
— Пишет: «Тут все хорошо».
— Да? И?..
— И ничего.
— Тут все хорошо? Правда? Ей больше нечего сказать отцу после десяти дней путешествия?
— Лучше, чем ничего, по-моему, — сказала Гейл. — Почему ты так о своем сыне не беспокоишься?
— Потому что он в Лондоне, а это безопаснее Боготы.
— Дело не в этом. А в том, что дочери умеют из своих отцов веревки вить.
У Гейл были сын Эдвард — вскоре ему предстояло отправиться в университет — и дочь Сара, на несколько лет младше. Дуг сейчас проводил с ними помногу времени, и его уедало, что Гейл до сих пор не знакома ни с одним его ребенком.
— Когда Корри вернется, я прослежу, чтобы вы встретились, — пообещал он.
— Никакой спешки, — сказала она. — У меня такое чувство, что это будет наша первая серьезная трудность. Не уверена, что уже готова к ней. Давай я сперва переживу встречу со всеми твоими старыми друзьями.
Решили добираться не поездом, а поехать на машине из дома Гейл (впечатляющего трехэтажного здания ленточной застройки в Эрлсдоне, одном из самых богатых районов Ковентри) на ужин к Бенджамину в центре Бирмингема. Катились по трассе А45, запруженной четырехрядной магистрали, по сторонам которой за гостиницами, легкими промышленными постройками и оживленной махиной Бирмингемского аэропорта еще виднелись остатки Шекспирова Арденского леса. Дуг вел, а Гейл стремительно преодолевала последние страницы романа Бенджамина — намеревалась успеть до встречи с автором.
— Ну, — сказала она и отложила книгу, когда они уже приблизились к центру города, — тоскливо. Прекрасно написано, однако тоскливо.
— Меланхолия, — произнес Дуг, — очень Бенджаминова штука. Особенно английская меланхолия. С довеском в виде болезненной ностальгии.
— Судя по всему, у нас впереди веселый вечер.
— Не волнуйся. Он все это оставляет для письменного слова.
— Напомни, кто еще там будет?
— Там будут Филип Чейз, с которым мы вместе учились в школе, и его жена Кэрол. Вторая жена. Возможно, сестра Бена Лоис и ее муж, хотя в центр ей ездить не очень нравится.
— Почему?
— Она от этого дерганая. Была там в ночь взрывов в пабах[91]. Не просто где-то рядом, а в самой гуще. Где все случилось. Видела, как убили ее парня.
— Черт. Бедняга.
— До сих пор не отпустило.
— Вряд ли такое вообще когда-либо отпускает. А у Бенджамина есть подруга или английская меланхолия уже не тот магнит для девчонок, каким была в свое время?
Дуг улыбнулся.
— По последним данным, он один. Само собой, много лет состоял в браке, но то уже давненько было.
— Дети?
— Не с женой. У него есть дочка Мэлвина, живет в Штатах, но мы о ней не говорим.
— Как все сложно. Есть еще что-то, о чем мы не говорим?
— Нет, кажется, на этом всё. Может, племянница Бена приедет. Софи. Дочка Лоис. И еще Стив Ричардз, другой наш старый друг.
Но Стива в итоге не было — они с женой укатили в отпуск. А когда Дуг спросил, появится ли Софи, ее мать ответила:
— Она бы с радостью, но уехала в Амстердам. У нее берут интервью для документального фильма по Вермееру. — Она изо всех сил старалась делать вид, что не считает это чем-то выдающимся.
— Ух ты, уже и телевидение? — На Дуга это произвело впечатление.
— Ну… всего лишь «Скай Артс».
Они сидели в ресторанном баре с предварительной бутылкой шампанского. Дуг представил всем Гейл — как «приемлемое лицо партии тори». Филип подчеркнуто подал ей бокал, налил шампанского и пригласил сесть рядом.
— Ну давай, — сказал Дуг, — доложи нам, как все случилось. По-моему, это самый странный выбор победителя с тех пор, как Евросоюз получил Нобелевскую премию мира в 2012-м.
— Я пока ничего не получил, — поправил его Бенджамин. — Я пока даже не в коротком списке — только в длинном. — Но улыбка с его лица не сходила все равно. Лоис, сидевшая рядом, задумалась, до чего милая это улыбка и как редко в последние годы она ее видела.
— Ну конечно, я подал заявку из-за призовой суммы, — сказал Филип, — потому что само собой же? Пусть и не думал, что книге хоть что-то вообще светит… в смысле, извини, Бенджамин, я не хотел, чтоб показалось…
— Все в порядке, — отозвался Бенджамин. — Я понимаю, в каком ты смысле.
— Я и забыл про это дело, пока в прошлую среду не раздался звонок — ни с того ни с сего. От организаторов премии, из Лондона.
— Потрясающе. Прямиком в Высшую лигу. Ну, Бен, потрясающее же чувство наверняка. Сам подумай, даже Лайонел Хэмпшир в этом году не попал.
Так и было. Когда объявили длинный список, те немногие газеты, что не поленились доложить об этом, начинали с новости, что выдающийся беллетрист в этом году оказался «отвергнут» — как принято выражаться в таких случаях — членами жюри, которых, судя по всему, не впечатлил его худосочный и вычурный шестой роман «Занятный расклад артишоков».
— Немудрено, — сказала Лоис. — Читала я эту книгу, барахло. Ни в какое сравнение с твоей.
— А «Лэдброуки»[92] уже огласили ставки? — спросил Дуг. — Сколько за тебя предлагают?
— Пока сто к одному.
— Ясно. Большой кредит доверия, значит. Но все равно игра свеч стоит.
— Я не выиграю, — сказал Бенджамин. — Даже в короткий список не попаду.
— И что? — сказал Филип. — Мы с Кэрол уработались, язык на плечо. Каждый «Уотерстоун» в этой стране пожелал полдесятка экземпляров. Продажи подскочили на три тысячи процентов. Телефон раскалился. Бен у нас теперь — история. Лучшая на свете: отважный чужак против больших пацанов. Англичане обожают белых ворон. Я был на местном радио, говорил о Бене, в итоге дал интервью «Радио Четыре». А на той неделе еще две газеты приедут Бена интервьюировать.
— Общенациональные?
— Общенациональные.
Дуг поднял бокал.
— Молодец, дружище. Давно пора. Ты заслуживаешь этого как никто другой. — Он огляделся — убедиться, что все готовы выпить. — За Бенджамина.
— За Бенджамина, — откликнулись они.
Бенджамина захлестнуло чувством. Всматриваясь в улыбающиеся лица — в лица его старейших и ближайших друзей, в лицо любимой сестры и даже в лицо Гейл, с которой они только-только познакомились, но он уже начал к ней проникаться, — он ощущал себя так, будто тонет в оторопи, слаще которой ничего не бывает. И в лучшие-то времена застенчивый (а сейчас были времена точно лучшие), никогда не ловкий со словами, если не было возможности хорошенько их обдумать, прежде чем доверить бумаге, он в тот миг упивался счастьем — счастьем столь полным, что выразить его не получалось совсем. Оставалось лишь — как обычно — прибегнуть к преуменьшениям и самоиронии.
— Спасибо вам всем, — сказал он. — Но давайте не увлекаться. Это лотерея, вот и все, и мне просто очень-очень повезло.
— Ну так и радуйся, боже ты мой, — сказал Филип, хлопая его по спине. — Большинству людей и пятнадцати минут славы не перепадает.
— Я бы не называл это славой…
— Ой, Бен! — одернула его Лоис.
— К тебе журналисты едут общаться, верно? — сказал Дуг. — Твоя фотография будет в газетах. Красивые женщины станут падать к твоим ногам. Тебя начнут узнавать в общественных местах.
До все еще отнекивавшегося Бенджамина дошло, что кто-то ошивается у него за плечом. Он повернулся и увидел молодую белокурую женщину, которую можно было без особого преувеличения назвать красивой, — она стояла рядом, смотрела на него с уважением и ждала, когда сможет обратить на себя его внимание.
— Прошу прощения, — сказала она с обаятельной заминкой в голосе, которую легко было расценить как почтительность. — Вы же… Бенджамин Тракаллей?
Все умолкли. Казалось, они вместе стали свидетелями начала Бенджаминовой новой жизни.
— Да? — ответил он с вопросительной интонацией. А затем повторил — горделивее, увереннее: — Да. Да, это я.
— Отлично, — сказала женщина. — Ваш столик накрыт.
Август 2015-го
Церемония открытия Олимпийских игр 2012 года подействовала на Соана глубоко и по-особенному. Она изменила направление его исследований: Соан теперь сосредоточился на литературных, кинематографических и музыкальных образах английскости. В частности, провозившись с этой темой несколько месяцев, он очаровался представлением о Глубинной Англии — начал все чаще сталкиваться с этим понятием и в газетных статьях, и в научных журналах. Что это, если поточнее? Психогеографическое явление, связанное с деревенской лужайкой, соломенной крышей местного паба, красной телефонной будкой и тихим стуком крикетного мяча о биту? Или же, чтобы полностью постичь его, необходимо погрузиться в сочинения Честертона и Пристли, Х. Э. Бейтса и Л. Т. К. Ролта?[93] Помогает ли смотреть «Кентерберийский рассказ» Майкла Пауэлла или «Как прошел день?» Кавальканти?[94] Обнаруживается ли музыкальная выжимка этого понятия в работах Элгара, Вона Уильямса или Джорджа Баттеруорта?[95] В полотнах Констебла? Или на самом деле мощнее всего оно выражено в аллегорической форме у Дж. Р. Р. Толкина, в том, как он придумал Шир и населил его пасторальную идиллию доблестными, сосредоточенными на своем хоббитами, склонными к дрёме и самодовольству, если оставить их в покое, яростными, если им досадить, и едва ли не самое лучшее в этих существах — хотя с виду это менее всего вероятно — то, что на них можно положиться в трудный час? Вероятно, существовала связь или даже сущностное родство с французским идеалом La France profonde[96]… Соан часто разговаривал об этом с Софи, до позднего вечера по вторникам и средам, когда она ночевала у него в квартире в Клэпэме, но им так и не удалось определиться с понятиями, снять ключевые вопросы, что такое в самом деле Глубинная Англия или где ее искать. Но утром в воскресенье 9 августа 2015 года Софи, как ей показалось, ближе всего подошла к решению этой загадки. Если Глубокая Англия существует, решила она, — ее место здесь, у пятой лунки в «Загородном гольф-клубе» Кёрнел-Магны.
Софи наблюдала, отчасти оторопело, отчасти с брюзгливым восхищением, как Иэн оценил положение своего мяча на краю фервея и быстро, решительно вытащил из сумки клюшку.
— Айрон номер семь, — пояснил он — будто это добавляло смысла.
— Отличный выбор.
Софи произнесла это так, что, как ей казалось, было очевидно: она понятия не имеет, что Иэн имеет в виду, но он уже встал у мяча и прикидывал расстояние до лужайки, а потому ему недосуг было замечать.
За миг до удара по мячу воцарилась почти идеальная тишина. Да, слышались птичьи трели, но они лишь подчеркивали во всем остальном глубинный покой. Не доносился шум автомобилей с М40 неподалеку, никакого даже малейшего рокота, его, возможно, глушили деревья — изящная цепочка дубов и лиственниц, окаймлявшая восточную сторону фервея, терпеливо и прилежно стоявшая на карауле при этом тщательно постриженном пейзаже. Солнце палило в безоблачном небе — небе насыщенной безупречной синевы. Это утро вообще было симфонией синего и зеленого: над Софи — небо, справа от нее, в отдалении, — переливчатая синева водной преграды, маленького искусственного пруда, вокруг Софи — разнообразная зелень, обустроенная и человеком, и природой, бесконечно умиротворяющая и приятная для глаз. Ход времени словно отменен. Софи завладел беспредельный покой. В этом драгоценном сокровенном пространстве ничто не значило больше и не было важнее простой лобовой задачи: загнать мяч в лунку как можно меньшим количеством ударов.
Иэн все еще слегка переминался с ноги на ногу, приноравливал свой центр тяжести; еще раз осторожно разместил клюшку у мяча, затем замахнулся и мощным, изящным движением ударил. Мяч вспорхнул ввысь, описал красивую дугу, на миг исчез из вида, а затем плюхнулся на траву и, подпрыгнув, замер примерно в шести футах от лунки.
— Славно, — промолвила миссис Бишоп, стоя прямо позади Иэна.
— Действительно очень хорошо, — произнес мистер Бишоп с другого края фервея, где его мяч застрял в высокой траве.
Мистер Ху, последний из четверки, не сказал ничего. Он стоял посередине фервея и уже пошел вперед, таща за собой тележку, к своему мячу, чуть было не улетевшему в песок.
— У тебя хорошо получается, — сказала Софи, пока Иэн запихивал клюшку обратно в сумку.
Он улыбнулся.
— Раз на раз не приходится.
Двинулись вперед по солнышку. Софи взяла Иэна под руку.
Эта новая привычка — игра в гольф каждое воскресное утро — уже несколько месяцев была для них источником напряжения. Иэну играть нравилось всегда, однако эти еженедельные походы стали священными: три часа на поле, обычно с Саймоном Бишопом и его родителями, а затем обед с матерью — либо у нее дома, либо при гольф-клубе. Вместе с футбольными матчами по субботам это означало, что их выходные почти целиком посвящены спорту, и получалось, что основную часть суббот и воскресений Софи проводила в одиночестве у них в квартире.
— Дело в том, — пьяно говорила она, уставившись на болтавшиеся у нее в стакане остатки шнапса и размышляя, насколько сильно они подействуют, — что я не могу понять, то ли мы все больше врозь, то ли мы всегда были очень врозь, а я вот только начала это замечать.
Сигрид из «Скай Артс», режиссер документального фильма о Вермеере, подалась вперед и коснулась руки Софи. Дело шло к двум часам ночи, и они были одними из последних посетителей громадного, сумрачного бара на Гравенстраат.
— Много общего с партнером, — сказала она, — ничего не значит. У нас с Питером одни и те же интересы, политика одна и та же, мнения одинаковые… И что мне это дало?
Она уже изложила Софи — довольно подробно — историю своего кошмарного брака, начавшегося как союз душ, а завершившегося домашним насилием.
— Питер оказался говном, — сказала она. — Лживым говном. Предательским говном. Буйным говном. Как думаешь, твой муж — говно?
— Нет, — сказала Софи. — Однозначно нет.
— Ты его любишь?
Софи помедлила. Вопрос казался невозможным.
— Наверное…
— Он тебе нравится?
— Да. — Без запинки.
— Ты ему доверяешь?
— Да.
— А жизнь свою ему доверишь?
— Да, доверю.
— Тогда, бля, держись за него. Ну проголосовал он за консерваторов на последних выборах, а ты — за лейбористов, и что? Жизнь к этому не сводится. Мой бывший муж был социалистом и при этом разбил мне лицо однажды вечером — за то, что я задержалась у подруги.
— Да, — сказала Софи. — Конечно. Ты совершенно права.
— Если тебе кажется, что вы все больше врозь, будь к нему поближе. Приложи усилия. И тогда он, возможно, заметит это и постарается быть поближе к тебе.
Софи неуверенно покивала и повторила:
— К нему поближе…
— Не знаю… Поезжай, сыграй с ним в этот его дурацкий гольф. Покажи готовность. Не ужас же будет? По крайней мере физкультура и свежий воздух.
Вот так Софи через несколько дней оказалась здесь. Провести воскресное утро в «Загородном гольф-клубе» в Кёрнел-Магне — там, где еще пять лет назад ноги бы ее не оказалось. И в голову бы не пришло, что она, шагая под солнцем рука об руку с мужем, наконец обретет Глубокую Англию, — и что получится совсем не так плохо.
— Как думаешь, что он из всего этого извлекает? — спросила она у Иэна, кивая на мистера Ху.
— Думаю, у них в Китае тоже есть поля для гольфа, — ответил он.
— Да, конечно, и все-таки… из вот этого. — Она обвела рукой окрестности. — Это же все такое стереотипно английское. Я вот думаю, не кажется ли ему это все экзотикой.
— Уверен, ему это страшно нравится.
Мистер Ху Давэй прибыл в Великобританию на несколько дней, чтобы укрепить деловые отношения с Эндрю Бишопом, отцом Саймона. Эндрю посвятил свою трудовую жизнь молочному скотоводству и как раз переоснащал то, что исходно было маленькой семейной фермой, в расширяющееся международное сельхозпредприятие. Мистеру Бишопу уже было хорошо за шестьдесят, но никакого желания уйти на покой и никакого недостатка в идеях он не выказывал: только что обнаружил выгодный новый рынок экспорта в Китае, где британское молоко имело крепкую репутацию, а ультрапастеризованное молоко пользовалось особенно высоким спросом. На прекрасной ферме Бишопов XVIII века постройки мистер Ху гостил с четверга и получил полное удовольствие от визитов в доильные сараи и на фабрику переработки, провел вечер субботы в Стратфорде-на-Эйвоне с миссис Бишоп, увенчавшийся посещением «Кориолана» в КШК, а в это утро воспользовался возможностью продемонстрировать свои умения в гольфе — умения впечатляющие. (Игру он завершил с форой в три очка.) Мистер Ху играл в паре с Эндрю против Иэна и миссис Бишоп — Саймон все выходные работал, — и после четырех лунок они уже опережали на два очка.
— Давайте же, Мэри, — приговаривал Иэн, стоя рядом со своей партнершей, пока она примеривалась к очередному удару. — Мы справимся. Отыграемся.
Мяч Мэри лежал посередине фервея, но до лужайки не долетел почти пятьдесят ярдов. Если на этот раз закинет мяч так, чтобы его потом можно было загнать в лунку, ей все равно удастся закончить в регламенте. Но она сильно зарезала мяч: длина полета была рассчитана хорошо, но мяч унесло за край лужайки.
— Досада, — проговорила она.
— Не беда, — сказал Иэн. — Не все потеряно.
Вопреки этому утешению, Мэри, шагая дальше, качала головой, укоряя себя за такой перекос. А затем:
— Я так поняла, вы были в Амстердаме, — обратилась она к Софи, когда они приблизились к лужайке. — Милый город, правда? Я туда ездила с Женским институтом, один раз, много лет назад. Хорошо вам там было? Так важно время от времени делать передышку, верно?
— Ну, — сказала Софи, — получилась не очень-то передышка. Хотя я…
— Мы с Эндрю постановили раз в пару месяцев ездить куда-нибудь, — говорила Мэри — явно не самый лучший на свете слушатель. — Всего за один этот год мы были… дайте вспомнить… Будапешт… Севилья, божественно… Бари, необычайные морепродукты… Таллин…
— А, да, — сказала Софи, — мы были в Таллине. Очень коротко. Останавливались там с Иэном, среди прочих мест, когда…
— И всё прямыми рейсами из Бирмингема, — продолжала Мэри. — Удивительно, да? За последние несколько лет он стал настоящим международным узлом. Мы посетили такие уголки Европы, куда иначе бы ни за что не попали.
— Замечательно, — сказала Софи, не придумав ничего лучше.
— Кому вообще надо теперь ехать в Хитроу или Гэтвик в наше время? У нас тут вся Европа под рукой.
* * *
Разговор с мистером Ху состоялся у Софи только к седьмой лунке. Мяч у него оказался примерно в тридцати ярдах от лужайки, мистер Ху достал айрон номер восемь и выбрал рискованный удар — прямо через обширный бункер, но проскочил его, не перемахнув через лужайку, и мяч приземлился в приятной близости от лунки.
— Я не знаток, — сказала Софи, — но, по-моему, вам эта игра неплохо дается.
— Дома, — проговорил он, — я играю два-три раза в неделю. Но тут по-другому. Тут особенно.
— В каком смысле?
— В гольф нужно играть здесь, — объяснил он, обводя жестом округу. — В Англии. В «зеленой Англии родной»[97]. — Они двинулись дальше. — Вы преподаете в университете, верно? Об Уильяме Блейке знаете?
— Немного. Скорее как о художнике, чем как о писателе, честно говоря.
— Это стихотворение, «Иерусалим», оно очень красивое. Но я в нем разобраться не могу.
— Почему?
— «Возникнул Иерусалим». Там так говорится, я не ошибаюсь? Но такого слова нет — «возникнул». Это неправильное слово.
— Неправильное. Зато «возникнул» в строку хорошо ложится.
Мистер Ху обдумал этот довод и восхищенно улыбнулся.
— Видите, вот это я и люблю в англичанах. Все думают, что вы очень надежный консервативный народ. Но вы вечно нарушаете правила. Если это позволяет добыть то, что вам нужно, вы с радостью нарушаете правила. — Он радостно рассмеялся. — Даже Уильям Блейк!
* * *
С Эндрю Бишопом Софи разговорилась только к десятой лунке.
— Боюсь, вам должно быть довольно скучно вот так проводить воскресное утро, — сказал он. Он опять потерял свой мяч в траве, и она помогала ему в поисках.
— Вовсе нет, — возразила она. — Я уже узнала уйму всего.
— Правда? Например?
— Я узнала, что означает «пар». Поняла разницу между веджи и драйвом. Разобралась, что бёрди на один удар меньше, чем пар, игл — на два, а альбатрос — на три, но это все мало кому удается.
— Очень хорошо. Хотя я не понимаю, насколько полезны эти сведения в вашей работе.
— Не угадаешь. Все в научном хозяйстве пригодится.
— Ну наверное. А, вот же!.. Вот те на.
Его мяч оказался не просто глубоко в траве, но и лежал так близко от ствола тисового деревца, что разыграть его было положительно невозможно. Эндрю пришлось забрать мяч и бросить себе за спину, тем самым теряя ход.
— А еще я узнала, — сказала Софи, пока он вытаскивал пятый айрон, — что Британия экспортирует молоко в Китай. Что мне и в голову не приходило до сегодняшнего дня.
— Черт. — Удар получился наперекосяк: мяч проскакал вперед всего несколько ярдов, да так и остался в траве. Мистер Бишоп пошел к нему с той же клюшкой. — Да, это поразительно, правда? Несколько лет назад я бы и сам вряд ли представил себе это. И уж точно не подумал бы, что буду экспортером. Поначалу казалось бесконечно мучительным. Но сын очень помог все это раскачать. Не Саймон — я о Чарлзе, брате Саймона. Он работает на «Эйч-эс-би-си» в Гонконге. Вот у него и есть кое-какое понимание той части света. И знаете, что? Когда мы за это взялись, оформление бумаг — даже с учетом языковых трудностей — оказалось проще, чем то, как это с Евросоюзом выходит.
— Правда? Поверить трудно.
— Да нет. Эти люди в Брюсселе — кошмар какой-то, вы понимаете. Волокита. — Он замахнулся на мяч, тот чистенько взмыл в воздух и так же опрятно приземлился посередине бункера примерно в тридцати ярдах. Эндрю скривился. — Совершенный чертов кошмар.
* * *
— Ну как, хорошо тебе? — спросил Иэн, пока они вместе шли к фервею у четырнадцатой лунки. Пар тут был три, и у Иэна имелись шансы на бёрди: он довел мяч до самой кромки лужайки первым же ударом.
— Вряд ли я бы стала делать это традицией, — сказала Софи. — Но вообще мило.
— Ну, ты, во всяком случае, теперь знаешь, с какой целью я просыпаюсь по воскресеньям, — и что у меня нет романа на стороне.
Они шли дальше. Было так тихо, что Софи слышала, как крутятся колесики у тележки Иэна и свои шаги по губчатой траве.
— Здесь очень спокойно, — проговорила она. — Понятно, почему тебе это нравится.
— Да, — сказал он. — Разве не здорово было бы находиться в таком месте все время? Где вот так спокойно.
— В смысле, жить в каком-то таком месте?
— Да.
— Это разве не на пенсию план?
— Я подумывал, что это, скорее, то, что люди предпринимают, когда готовы завести детей.
Софи напряглась и ускорила шаг.
— Сейчас не надо об этом, — сказала она. — Я не готова. И ты об этом знаешь.
Иэн замер. Стоял и смотрел на нее, уперев руки в бока, а Софи шла дальше.
* * *
Мать Иэна собиралась разделить с ними обед. Софи думала, что Хелена приедет на своей машине, но когда они с Иэном пересекли площадку перед зданием клуба, то Софи увидела, что подъезжает незнакомый автомобиль с Хеленой на пассажирском сиденье. За рулем оказалась Грета. Они припарковались, и Хелена с помощью Иэна медленно выбралась со своего места, а затем тяжко оперлась на него, и он повел ее к парадному входу в клуб. Софи подошла к водительскому окну — переговорить с Гретой.
— Спасибо, — сказала она. — Вы очень добры.
— Я всегда рада помочь, — отозвалась Грета. — Знаю, что она уже не очень любит водить.
— Не зайдете с нами выпить?
— Ну что вы, спасибо. Я на самом деле хотела поговорить с миссис Коулмен, и вот выпала возможность. Чувствую себя виноватой, по правде сказать: подала на увольнение.
— Ох нет, — сказала Софи. — Вы же так здорово подружились.
— Да, надеюсь, что так, — сказала Грета. — Я уже давно у нее в доме. Четыре года. И все же я по хорошей причине ухожу. Мы с мужем ждем ребенка.
В свете разговора с Иэном у четырнадцатой лунки эта новость задела Софи особенно пронзительно. Грета была лет на пять моложе точно. Но Софи удалось выговорить с некоторой искренностью:
— Чудесные новости. Поздравляю. Когда срок?
— Через пять месяцев.
— Великолепно. — Она попыталась вспомнить хоть что-то о муже Греты помимо имени. — Лукас все еще работает?..
— В ресторане, да.
— В ресторане в?..
— В Стратфорде. Его повысили до управляющего.
— Великолепно, — повторила Софи. — Я очень рада, что все складывается так хорошо.
— Спасибо, — сказала Грета. Пока она отъезжала, Софи заметила у нее на лице потаенную улыбку и не могла Грете не позавидовать.
Обеденный зал клуба оказался не таким удушливым, каким Софи его себе опасливо представляла, — облачение предполагалось «парадно-произвольным», судя по всему, то есть мужчинам не требовалось надевать галстуки, — однако чувствовала Софи себя здесь не в своей тарелке. Перво-наперво, она остро осознавала, что они с Иэном тут самые молодые, столько сивых и белых шевелюр разом она не видела с круиза на «Легенде». Еда тяжеловата: надо было идти к стойке, занимать очередь и получать хорошо прожаренные куски говядины или свинины из мясного ресторана с горами жареной картошки и зеленых овощей, которые мистер Ху, понаблюдав за поведением гостя, стоявшего впереди него, прилежно залил морем густой бурой подливы, хотя на лице у него явно читалось некоторое недоумение.
Во время трапезы никакой фоновой музыки из динамиков не доносилось. Слышалась лишь приглушенная благовоспитанная болтовня примерно сорока мужчин и женщин, которые либо только что сыграли, либо собирались играть свои три с половиной часа в гольф.
— Мама рассказала тебе новости про Грету? — спросила Софи, занимая свое место рядом с мужем.
— Рассказала, — ответил он.
— Как мама это восприняла?
Иэн покосился на нее слегка удивленно:
— Хорошо. Агентство скоро подберет ей кого-то еще.
— Может, она будет скучать.
— Может.
— Глядишь, останутся на связи.
— Вероятно.
— Ее муж управляет рестораном в Стратфорде, судя по всему. Можем свозить туда маму как-нибудь.
— Хорошая мысль. — Набив рот едой, Иэн заметил, что Софи еще не приступала, а уставилась перед собой в некотором оцепенении. — Все хорошо?
— Извини, — сказала она. — Кажется, я немного устала. Получилась едва ли не самая долгая прогулка из всех, какие у меня случались за многие годы. И я не ожидала, что она приведет меня туда, куда привела.
— В каком смысле?
— Сюда, — сказала она. — В 1950-е.
Иэн снисходительно улыбнулся этой шутке, но поначалу промолчал. Похлопотал, чтобы у матери был полный бокал вина, передал ей соль и перец.
Наконец сказал:
— Можешь считать это 1950-ми, но для некоторых людей это совершенно нормальная Британия 2015-го. Не бурчи на это лишь потому, что ты к такому не привыкла.
— 2015-го? Правда? — переспросила Софи и показала на картину, висевшую на стене напротив их стола: — И тут вот эта штука?
На полотне примерно десяток наездников в красных мундирах и цилиндрах скакали по полям и перепрыгивали через изгороди в погоне за непокорной лисой, та забилась в самый угол картины, спасаясь от охотников, и в ужасе смотрела на них через плечо.
— А вот это, — произнес мистер Ху, — я бы действительно хотел посмотреть. Традиционную британскую охоту. Может, в мой следующий приезд, мистер Бишоп, вы смогли бы это организовать? Я исключительно зрителем, разумеется. Клюшкой для гольфа махать умею, а вот на лошади ездить — нет.
Эндрю улыбнулся.
— Боюсь, с этим не все так просто.
— Правда?
Возникла краткая тишина: всем было интересно, кто сообщит ему новости. Наконец не подкачала Мэри.
— Видите ли, охота на лис теперь считается в этой стране уголовно наказуемым деянием, — пояснила она. — Ее запретили уже сколько-то лет как.
— Запретили? Как странно. Я не отдавал себе отчета. — Мистер Ху отрезал здоровенный кусок говядины и проговорил, медленно жуя: — Конечно, британцы знамениты своей любовью к животным.
— Закон был принят последним лейбористским правительством, — сказал Эндрю, — и с заботой о животных имеет мало общего, зато много — с классовым неприятием.
— Может, удастся отменить этот закон, — предположил мистер Ху.
Мэри и Хелена коротко и пренебрежительно фыркнули от смеха.
— Так или иначе, вы, по крайней мере, — сказано осторожным тоном, — живете в свободной и демократической стране.
— Боюсь, вы заблуждаетесь, — сказала Хелена. — Англия в наши дни — не свободная страна. Мы живем при тирании.
— Тирании? — повторил мистер Ху с большим чувством. — Прошу вас, мадам, выбирайте выражения.
— Я выбираю их очень тщательно, уверяю вас.
— Ваш мистер Кэмерон не кажется мне тираном.
— Я не об этом. Тирану не обязательно быть отдельным человеком. Это может быть понятие.
— Вы живете при тирании понятия?
— Совершенно верно.
— И это понятие…
— Политкорректность, конечно, — ответила Хелена. — Уверена, вы с ним знакомы.
— Разумеется. Но не в связи с тиранией.
Хелена отложила нож и вилку.
— Мистер Ху, я не бывала в Китае и не желаю легкомысленно подходить к трудным условиям, в которых вы, надо полагать, живете. Но здесь, в Великобритании, мы сталкиваемся с похожими бедами. Более того, я бы даже осмелилась сказать, что наше положение хуже. У вас прямая цензура, у нас же она скрытая. Все происходит под личиной свободы слова, чтобы тираны могли утверждать, будто все в порядке. Но у нас нет свободы — ни слова, ни чего бы то ни было еще. Люди, которые когда-то хранили живую британскую традицию псовой верховой охоты, более не могут этим заниматься. Если кто-то из нас попытается на это пожаловаться, нас заклюют. Наши взгляды нельзя выражать на телевидении или в газетах. Наше государственное вещание пренебрегает нами — или обращается уничижительно. Голосование стало пустой тратой времени, поскольку все политики расписываются под одними и теми же модными мнениями. Конечно же, я голосовала за мистера Кэмерона, но без воодушевления. Его ценности — не наши. На самом деле он знает о нашем образе жизни столько же, сколько его политические противники. В действительности они все на одной стороне — и она не наша. Так вот, раз, судя по вашему виду, я вас не убедила, приведу еще один пример. Довольно конкретный. Год назад мой сын подал заявку на повышение — Иэн, не перебивай, дай мне договорить, — он обратился за повышением, и если бы в этой стране сейчас существовала хоть какая-то честность или справедливость, он бы это повышение получил. Но они повысили соперницу — из-за ее этнического происхождения и цвета кожи. Они так поступили, потому что — Софи, можешь смотреть на меня вот так сколько влезет, но это нужно сказать, кто-то должен это произнести, и я вот еще что скажу: жизнь моего сына понесла урон, серьезный урон из-за этой абсурдной политкорректности, и если ты, Софи, продолжаешь пресмыкаться перед ней и не стоишь за свой народ и свои ценности, это случится и с тобой, ты будешь следующей. Я-то уже старуха и могу говорить то, что говорю, потому что у меня сердце надрывается смотреть, как вы, прекрасная молодая пара, еле сводите концы с концами, работаете на двух работах, в разных городах, не видитесь всю неделю, времени нет быть вместе и завести семью, а такого не произошло бы, вы бы не были в этом положении, если бы Иэну досталась та работа. Она причиталась ему. Он ее заслужил. Он ради нее тяжко трудился — и заслужил.
Не один день после этого выплеска Софи сердилась на себя, что не возразила. Как и все за столом, она уставилась к себе в тарелку и ничего не сказала, хотя подумала, что остальные помалкивали, поскольку в общем и целом соглашались. Отношение мистера Ху понять было непросто — если не считать того, что он опешил. И Хелена в любом случае собиралась сказать еще кое-что.
— Люди Средней Англии, — сказала она, обращаясь впрямую к китайскому гостю, — голосовали за мистера Кэмерона, потому что у них на самом деле не имелось выбора. Альтернатива была немыслимой. Но если когда-нибудь придет время и нам выпадет возможность дать ему понять, что́ мы на самом деле о нем думаем, поверьте мне — мы ею воспользуемся.
— Вы разве не собираетесь звук писать? — спросил Бенджамин.
Журналистка по имени Гермиона Доз улыбнулась и покачала головой. У нее на коленях лежал открытый блокнот, и она держала наготове шариковую ручку. Волосы Гермионы Доз ниспадали на плечи белокурыми локонами, губная помада — ярко-красная.
— Я очень старомодная девушка, — сказала она. — Начнем?
— Конечно, — ответил Бенджамин.
Он откинулся на спинку дивана и попытался расслабиться. Вид на Северн, струившийся под окном, обычно успокаивал его, но не в это утро. Никак не удавалось стряхнуть ощущение, что Гермиона (чьи материалы, как предупредил Филип, иногда бывают «резковаты») отстраненно обозревает обстановку его дома и выносит суждение о каждой вещи, дизайнерском решении, предмете мебели.
— Итак… вы начали писать совсем молодым, верно?
— Да. Лет в десять или одиннадцать. Помню…
— Ваши родители были писателями?
— Нет, совсем нет. Мой отец работал на заводе «Бритиш Лейленд» в Лонгбридже, мама сидела дома. Она была домохозяйкой.
— А вы ходили в местную школу?
— Я учился в «Кинг-Уильямс», ближе к центру Бирмингема. Так родители решили.
— Как думаете, это было верное решение?
— Полагаю, да. В смысле… совсем недавно я восстановил связь с одним моим старейшим приятелем из начальной школы, с которым мы не разговаривали больше сорока лет, и в результате осознал, как британская образовательная система способна, ну… разделять людей.
— Чем он сейчас занимается? — спросила Гермиона, прилежно записывая.
— Он клоун.
Она подняла голову.
— Клоун?
— Детский массовик-затейник.
— Ну, в любом случае это славно, что вы теперь общаетесь. К писательству вы начали серьезно относиться еще в школе?
— Ага, я очень рад, что вы об этом спросили, — отозвался Бенджамин. — Потому что, оглядываясь в прошлое, я в силах определить с большой точностью, когда это произошло. Ноябрь 1974 года, мой друг — его звали Мэлкомом, он был парнем моей сестры, — взял меня на концерт в клуб «Барбарелла». И там, среди прочих, играла группа под названием «Хэтфилд и Север»[98]. Сейчас мы считаем то, что они тогда играли, прог-роком, но тогда этого понятия толком не существовало, как вы, наверное, помните…
Гермиона, почуяв, что он ждет от нее хоть какого-то подтверждения, сказала лишь:
— Я родилась в 1989-м.
— О. Ну да. Окей. Так вот, сильнее всего в тот вечер меня пробрало в «Хэтфилде и Севере» их сочетание свежести, самобытности, полного переосмысления формы и музыки, которую было легко слушать, она по-настоящему приглашала к себе слушателя. И я подумал: «Вот что я должен делать как писатель». Например, в их первом альбоме была композиция под названием «Белая цапля», ее сочинил их гитарист, и если слушать внимательно, там не только размер меняется каждые несколько тактов, но и мелодия претерпевает необычайные модуляции, смены тональности и при этом остается очень липучей, очень привлекательной для слуха. И я тогда задумался: да, если за тем, что ты делаешь, тематически нетрудно следить, если читателю дается сильная сквозная линия хоть в сюжете, хоть в выборе идей, хоть в персонажах, хоть в чем…
Он осознал, что Гермиона уже некоторое время совсем ничего не записывает.
— Одним словом, — подытожил он, — для меня это был поворотный момент. «Хэтфилд и Север». «Барбарелла». Ноябрь 1974 года.
— Ага. — Она черканула еще пару слов — или, по крайней мере, сделала вид. — И примерно тогда же вы влюбились в ту девушку и она вдохновила ваш роман?
— Да, более-менее.
— В книге вы зовете ее Лилиан. Каково ее настоящее имя?
— Боюсь, я не могу его назвать.
— Но это реальный человек, да? Она еще жива?
— Да.
— То есть ваша книга — вовсе не роман, это, по сути, мемуары, но с измененными именами?
— Нет, это упрощение. Я это воспринимаю как стык художественной прозы и мемуаров. Мне интересно исследовать такие… пороговые пространства, что ли.
«Пороговые» — хорошее слово. Впервые за интервью Бенджамину понравилось то, что он сказал. Но Гермиона и это, кажется, не записала.
— То есть вы были с ней в романтических отношениях в последнем классе школы, но затем отношения распались и девушка уехала в Америку — жить с какой-то женщиной.
— Да.
— Время романа — через несколько лет после этого. Вы слушаете музыкальную композицию неизвестной британской джазовой музыкантши…
— Знаменитой, вообще-то.
— …и что-то в этой музыке навевает яркие воспоминания о той влюбленности, и вдруг — вдруг жизнь кажется невыносимой. Вы учитесь в Оксфорде и решаете все бросить, уйти?
— Да.
— И когда это произошло?
— Осенью 1983 года. Я только начал второй курс аспирантуры в Баллиоле. Помню — помимо того момента, очевидно, — что в том полугодии появился Борис Джонсон[99]. Жил в комнате в одном коридоре со мной.
Впервые с начала интервью Гермиона, похоже, оживилась.
— Правда? Вы знаете Бориса?
— Да нет… я совсем его не знал. Вы же понимаете, как это: итонцы не разговаривают с мальчиками из общеобразовательных школ. Но я зато помню, как размышлял, кто эта броская фигура, с этим выпендрежным голосом и необычайной шевелюрой. Впечатление он производил сильное.
Громко вздохнув, Гермиона записала еще несколько слов, а затем спросила (скорее вынужденно, нежели воодушевленно):
— То есть потом вы вернулись в Бирмингем и стали… бухгалтером? Это еще с чего вдруг?
— Ну, пока был в академе, я работал в банке, и выяснилось, что я неплохо разбираюсь с цифрами. И у меня тогда была стадия отрицания. Раз Сисили мне не достанется…
— Лилиан, — поправила его Гермиона, попутно записывая имя.
— Да — если мне не достанется Лилиан, значит, ничто желанное не получится. Писателем мне не стать, музыкантом тоже…
— А это еще одно ваше тогдашнее устремление.
— Да. К тому же у меня тогда был этот религиозный период.
— Понятно. Значит, вот этот религиозный период и стадия отрицания — они сколько длились?
— Примерно семнадцать лет.
— Ух ты. Это… немаленький период. И вы в то время женились? И всю дорогу работали бухгалтером? И больше ничего? Я просто пытаюсь сделать всю эту историю поинтереснее.
— Ну, я постоянно работал над книгой. Писал ее больше двадцати лет, наскоками.
— Хм-м… — Она пососала свою шариковую ручку. — Вам больше ничего не вспоминается — чем еще вы занимались в то время?
— Рецензировал книги. Я знаком с Дугом Андертоном, еще со школы, и он заказывал мне рецензии, пока был редактором по литературным вопросам в…
— А! Вы знаете Дуга Андертона? Это интересно. — Она записала имя, сунула ручку в рот и постучала ею по зубам. — Давайте разберемся в окончании этой истории, и я бы задала вам еще несколько более общих вопросов.
— Окей.
— То есть в конце концов…. «Лилиан» объявилась, нашла вас, и вы несколько лет даже прожили вместе. Она очень болела, вы за ней ухаживали. Стали ее сиделкой, по сути.
— Все верно.
— И все это было в Лондоне.
— Да.
— А затем она опять вас бросила. История повторилась.
— Да. И я продал нашу квартиру, купил вот это жилье. Лучшее решение в моей жизни.
— Сцена в книге, где вы провожаете ее самолет в Южную Америку, очень трогательная. И вы понятия не имеете, что больше не увидитесь.
— Да, вот так все и случилось. В книге почти ничего не придумано. Если не считать того, что это была не Южная Америка.
— Вы все еще на связи?
— Нет.
— Совсем?
— Совсем.
— Хм-м…
Гермиона записала несколько последних слов в блокнот, а затем долго сосала шариковую ручку. Бенджамину стало неуютно. Чтобы нарушить тишину, он сказал:
— Хотите кофе?
— О, было бы здорово. Очень мило.
Он отправился на кухню, Гермиона, к его беспокойству, двинулась следом. Пока он возился с чашками и кофе-машиной, она сидела за столом. Бенджамин не был уверен, продолжается ли все еще их интервью. Гермиона держала блокнот открытым на столе перед собой, ручка лежала рядом, временно без дела, но Гермионин тон оставался бодрым и напористым.
— Здесь очень спокойно, — сказала она. — Понимаю, почему это подходящее место для писательской жизни, но вам не кажется, что тут может быть еще и слишком изолированно, чтобы убедительно писать о современной Британии?
— Я довольно много езжу по округе. В основном до Бирмингема, где живет мой отец, и обратно.
— Эта часть страны представляется еще и очень монокультурной. По дороге сюда я видела преимущественно белые лица.
— Ну, мультикультурализм — в основном городское явление, надо полагать. — Ему пришлось возвысить голос — поверх пара и бурления машинки. — Жить в Лондоне мне нравилось, но в конце концов меня достали толпы, шум, скорость жизни, стресс, дороговизна. Я переехал сюда, чтобы от всего этого быть подальше.
— Как вы считаете, издатели были не очень склонны рассматривать вашу книгу, потому что вы слали ее из глубинки?
— Кто знает? Надо полагать, им шлют много книг.
— Вы, должно быть, чувствуете себя как следует отмщенным.
— Ну, я просто… счастлив, что нашел сколько-то своих читателей.
Он поставил перед ней чашку. Она поблагодарила и сделала осторожный глоток.
— Несколько маститых авторов — Лайонел Хэмпшир, например, — не попали в этом году в длинный список.
— Признаться, его новый роман я не читал. Хотя я поклонник. — Это напомнило ему кое о чем, что могло бы ее заинтересовать. — Кстати, моя племянница с ним шапочно знакома. Они вместе были в круизе в прошлом году.
Гермиона тут же схватилась за ручку.
— Ваша племянница ездила в круиз с Лайонелом Хэмпширом? — переспросила она, принимаясь писать.
— Нет-нет-нет, я имел в виду, что они оба были приглашенными лекторами в круизе. Ничего не было… в смысле, они не вместе. Она очень счастлива в браке, а он… с ним была какая-то женщина, секретарь или что-то такое…
Гермиона строчила изо всех сил. Бенджамину пришлось сдерживаться, чтобы не податься вперед и не остановить ее физически.
— Так она мне рассказывала… Строго не для записи. Вы же не собираетесь ничего этого включать, правда?
Гермиона одарила его этой своей нервной улыбочкой.
— Это не очень-то новость. Большинство людей отлично знает, каков Лайонел. — Она записала еще несколько слов, на миг задумалась, вскинула взгляд и произнесла: — А вам не кажется, впрочем, что на британской литературной сцене происходит некая смена климата? Этот длинный список гораздо более разнообразный, чем был еще десять лет назад. И дело даже не в том, что в списке теперь есть и американцы, — в нем и писательниц больше, и авторов из ЧАЭМ[100]. Не конец ли это эпохи пожилого белого британского писателя?
— Не знаю… трудно обобщать…
— Чуть ли не кажется, что в этом году вы один и выстояли.
— Не думаю, что могу высказываться об общих тенденциях в литературе. Применительно ко всему этому я — по-настоящему посторонний.
Гермиона закрыла блокнот.
— Хорошая завершающая нота, — сказала она, хоть и без особого воодушевления.
Бенджамин понимал, что оказался в ее глазах разочаровывающим собеседником: ответы давал застенчивые, округлые, в них не хватало ни акцентов, ни убежденности. Это впечатление подтвердилось, когда через несколько минут он ушел в туалет, а вернувшись, обнаружил, что она на террасе, с кем-то разговаривает — с подругой? с редактором, заказавшим интервью? — по телефону, и пусть разобрал не все, он был вполне уверен, что услышал: «В общем-то зря скаталась, честно говоря» и, что еще тревожнее: «Придется подключить творчество…»
Он предложил подвезти ее до Шрусбери, но она сказала, что это незачем, и вызвала себе такси. Приехало оно минут через двадцать, они тем временем болтали — и получалось это гораздо легче и с большей взаимной открытостью, чем в интервью. Бенджамин вызвал ее на откровенность, разговорившись с ней о ее карьере, устремлениях, тяжкой доле вольного писателя в нынешней беспощадной экономике. Спросил, предпочитает ли она быть политически в согласии с изданиями, для которых пишет, и его поразил оборот, который она употребила в ответе: нет, она готова быть «идеологически гибкой» в этом смысле. Про себя он сделал вывод, что она пойдет далеко. Но Гермиона ему в целом понравилась, и он чувствовал, что она выказывает, вероятно, не цинизм, а прагматизм, порожденный трудными обстоятельствами, а когда они пожали друг другу руки, он продержал ее ладонь в своей с большим теплом — возможно, чуть дольше необходимого, — и после того, как она ушла, он, моя кофейные кружки, вспомнил, что в гости к нему почти никто больше не ездит, и дом без нее вдруг показался пустым.
* * *
Интервью вышло через четыре дня. Филип с Бенджамином решили встретиться за кофе в садоводческом центре «Вудлендз» и оценить разрушения.
— Ну, могло получиться и хуже, — проговорил Филип.
Газета лежала на столе между ними. Бенджамин промолчал.
— Могла бы и отлупить, — добавил Филип.
Бенджамин продолжал молчать. Взял газету и еще раз взглянул на заголовок. Прочти он это еще хоть сорок или пятьдесят раз, оторопь все равно не прошла бы.
СВОЙ ИЗГОЙ.
— Это так несправедливо, — произнес он. — Как она это все написала. Так несправедливо.
Филип взял газету и прочел подводку — которую он тоже выучил едва ли не назубок: Бенджамину Тракаллею нравится считать себя смелым посторонним в Букеровском забеге этого года, однако, как выяснила Гермиона Доз, этот писатель со связями не так-то прост.
— «Писатель со связями» — довольно сильно сказано, — согласился он.
— Довольно сильно? Это вранье — откровенное вранье. — Бенджамин выхватил у Филипа газету. — Тут написано, что в университете я был знаком с Борисом Джонсоном. Я с ним ни единым, блин, словечком не перекинулся! Мы жили в одном коридоре недели три, он меня обгонял по дороге в туалет. «Он годами был на короткой ноге с влиятельными медийными фигурами вроде Дуга Андертона» — какая же это чепуха. Мы в школе вместе учились. Сорок лет назад. А вот это: «Заявляет, что у него нет доступа к внутреннему кругу литературного Лондона, и при этом с радостью делится скабрезными слухами о своем собрате-писателе — Лайонеле Хэмпшире, который, оказывается, друг семьи».
— Хороша, — признал Филип. — В этом ей не откажешь. Вот тебе и превращение грубых металлов в золото.
— Ты вообще на чьей стороне? Она еще и придумывает, что я сноб, — бросил своих старых друзей по начальной школе, когда перешел в «Кинг-Уильямс».
— А, кому какое дело, — сказал Филип. И добавил — менее уверенно: — Я бы волновался больше о том, что ты тут получаешься немножко расистом, честно говоря.
Бенджамин вытаращился на него.
— В смысле, ты правда так сказал? — Филип взял газету из дрожавших рук друга. — «Сидя в своем уютном прибежище в сердце английской провинции, Тракаллей заявляет, что „мультикультурализм — в основном городское явление. Я переехал сюда, чтобы от всего этого быть подальше“».
Бенджамин заклокотал от ярости.
— Я сказал нечто подобное, да. Но в промежутке была еще куча всякого другого — о том, как я хотел убраться подальше от шума, толп и стресса.
— Избирательное цитирование — прелестная вещь. «Я обращаю его внимание на то, что писатели из ЧАЭМ в списке этого года представлены мощнее, чем когда-либо прежде, и намекаю, что этому можно радоваться, на что Тракаллей отвечает лишь: „Я и есть настоящий аутсайдер“».
Бенджамин вновь бессвязно залопотал от ярости.
— Просто «я — настоящий аутсайдер». Тире. Без «и есть». И говорил я об издании. Говорил о том, что получил десятки отказов и в итоге издавался у тебя.
Филип отложил газету и покачал головой.
— Ну, продажи все еще на высоте, так что вреда никакого.
— И ведь показалась такой милой. К концу мы действительно поладили. Я давал ей советы по ее карьере и все такое, она сказала «будем на связи» или что-то в этом роде…
— Хорошенькая, да?
Бенджамин не усмотрел повода для сопротивления.
— Думаю, да, хорошенькая.
— Ох, Бен… Спиши на жизненный опыт, и все. Первое твое интервью все-таки.
— Правда. Кстати, когда второе?
— Второе?
— Вроде бы второе намечалось?
— О, они оставили тему. Я им перезванивал пару раз, но… Думаю, там все остыло.
— Прекрасно. — Бенджамин нахохлился над своим капучино и угрюмо уставился перед собой.
— Впрочем… — Филип полез в карман и вытащил оттуда подписанный от руки конверт, — тебе тут письмо от поклонницы. По крайней мере, я так понял.
Он передал конверт Бенджамину, тот принялся осторожно его осматривать и спереди и сзади, изучил почерк и почтовый индекс, пока Филип не сказал:
— Да открой его уже, Христа ради.
Бенджамин надорвал конверт указательным пальцем, прочел первые несколько фраз, а затем перевернул письмо — посмотреть на подпись.
— Иисусе, — произнес он. — Ни за что не догадаешься, от кого это. — Филип даже пытаться не собирался. — От Дженнифер Хокинз.
— От кого?
— Ты же помнишь Дженнифер Хокинз. Из Школы для девочек. Я с ней недолго встречался.
— Это она? Ты имеешь в виду… ту самую Дженнифер Хокинз? Которая из шкафа?
— Именно. Из шкафа.
Много лет назад, еще школьником, Бенджамин оказался на вечеринке, которую устраивал Дуг по случаю отъезда его родителей в отпуск. В ходе веселья Бенджамин, выпив три четверти бутылки портвейна, отрубился и проснулся перед рассветом в гардеробе, в обнимку с телом полуголой девушки — как впоследствии выяснилось, Дженнифер Хокинз. Бенджамин из рыцарских соображений, сочтя их пьяные подростковые тисканья своего рода помолвкой, пригласил Дженнифер на свидание, и последующие несколько недель они и впрямь считали друг друга парой, хотя вскоре отношения сдулись.
— Ну! — Фил широко улыбался. — Вот тебе привет из прошлого будь здоров. Что пишет?
Бенджамин пробежался по письму быстрым взглядом.
— Увидела мое имя в газете, где анонсировали длинный список, — сказал он. — У нее всплыло много воспоминаний. Купила книгу, и она ей очень понравилась.
— Не говорит, где купила? — спросил Филип.
— Говорит. В каком-то садоводческом супермаркете под Киддерминстером. Она теперь работает в агентстве недвижимости. Управляет местным подразделением. Она… — Он перевернул листок, увидел следующее слово и произнес его с большим нажимом: — Разведена… (Возникла пауза, он встретился взглядами с Филипом, и они обмозговали следствия этого заявления.) Спрашивает, не желаю ли я поужинать вместе, наверстать упущенное и поболтать о, кавычки открываются, старых добрых деньках, кавычки закрываются. Люблю, Дженнифер. Чмок-чмок.
Он глянул на Филипа — улыбка у того делалась все шире.
— Вот поди ж ты — Дуг был прав. Женщины кидаются! Не в силах устоять перед успешным писателем.
— Очень смешно. Есть одна загвоздка. Тогдашний роман с Дженнифер — одно из худших решений всей моей жизни.
— А залепух ты в жизни понаделал, будем честны.
Бенджамин этот удар в лицо принял.
— Не поспоришь. И повторять ту залепуху не буду. В гробу я видал ужин с Дженнифер Хокинз.
И, чтобы поставить на этом точку, мощно и сердито отхлебнул капучино — и обжег язык.
Две недели спустя они с Дженнифер Хокинз поужинали. Она теперь жила в Хэгли, в тридцати милях от Бенджамина, и они компромиссно решили встретиться в пабе в Бриджнорте: ходили слухи, что в нем прилично кормят.
Как и с Чарли Чэппеллом, Бенджамин не был уверен, что, столкнись они с Дженнифер случайно, он бы ее узнал. Она оказалась изящной, хорошо одетой, привлекательной — для своих пятидесяти с лишним выглядела однозначно хорошо (лучше Бенджамина), но он поначалу не сумел уловить связь между женщиной, с которой беседует, и девочкой-подростком, с которой когда-то был так близок, с кем разделил столько неловких летних вечеров за питием в «Виноградной лозе» и кто потащил его смотреть «Звездные войны» (фильм, ненавистный с тех самых пор) в кино на ее день рождения. Вот эту взрослую Дженнифер он бы в толпе ни за что не выделил, и первые несколько минут у Бенджамина было странное ощущение, что он беседует с совершенно незнакомым человеком. Это ощущение держалось, пока она не сказала:
— Помнишь, я тебя называла Тигром? — И его тряхнуло от воспоминания, что действительно такое ироническое прозвище она ему и придумала, и стало сразу и неловко, и приятно, Бенджамин начал входить в ностальгическую колею — и задумался, что эта встреча в итоге не будет такой уж мучительной.
— Одно то, что ты со мной мирилась, уже большое дело, думаю я, оглядываясь на все это, — сказал он. — Наверняка тебе казалось, что я дурак дураком.
— Не дурак, — возразила она. — Дураком ты никогда не был, Бенджамин. Немного незрелым, может. Но мальчики взрослеют медленнее девочек, это всем известно.
Она отпила красного вина из большого бокала, который уже был наполовину пуст. В паб она заявилась на такси. Бенджамин приехал на своей машине и поэтому с вином осторожничал.
— Помнишь нашу последнюю встречу? — спросила она. — Помнишь, что я тебе сказала?
— Не очень, — ответил Бенджамин. — Надо полагать, дело было в «Лозе», да?
— Конечно, — сказала Дженнифер. У нее был сильный бирмингемский акцент — как ему удавалось раньше этого не замечать? — Конец августа 1978 года.
— Очень точно.
— Я в то время вела дневник. Встреча случилась сразу после того, как вывесили оценки выпускных.
— Верно.
— У тебя было четыре пятерки.
— Правильно. А у тебя?
Дженнифер рассмеялась и ответила:
— Ну, мило, что ты спросил, Бенджамин, — тридцать семь лет спустя, поскольку в свое время не спросил вообще. У меня было две четверки и одна тройка, если тебе и правда интересно.
— Поздравляю, — с чего-то вдруг — несуразно — отозвался он.
— Спасибо. Ты пригласил меня выпить, чтобы дать мне отставку, если помнишь.
— Правда? — переспросил Бенджамин, возясь на стуле все бесприютнее.
— Не волнуйся, я полностью приготовилась и желала быть отставленной. Удивилась, что этого не случилось раньше, честно говоря. Конечно, то, что ты меня бросал ради Сисили Бойд, было вишенкой на торте. Помнишь, как я отреагировала, когда ты мне сообщил?
— Ну, если б ты вылила мне на голову стакан пива, я бы, наверное, запомнил, но, видимо, что-то в этом роде.
— Не вполне. Ты не помнишь? Я была в ужасе. Я предупреждала тебя, Бенджамин. Я предупреждала тебя, что́ она такое. Она пережевывает людей и сплевывает, сказала я. А ты не послушал, да? То увлеченьице исковеркало тебе жизнь на… лет на тридцать же?
— Считай, да.
— Хоть книга из этого получилась, стало быть. Оно того стоило?
Бенджамин не смог придумать ни одного простого ответа на этот вопрос. Так получилось, что он все эти годы думал много и крепко об отношениях между человеческими страданиями и искусством, которое они способны вдохновлять, но ему не казалось, что Дженнифер сейчас тяготеет к рассуждениям на эту тему.
— Бедная твоя жена, — сказала Дженнифер. — Как она вообще с этим мирилась?
— Ей и не удалось в конечном счете. Судя по всему, я ее доконал. — Добавил повеселее: — Ты ее знаешь, между прочим, — Эмили? Эмили Сэндис? Вы учились в одной параллели.
— Ты женился на Эмили? Черт бы драл, Бенджамин, уж если ты собрался жениться на одной из самых скучных девчонок в нашей школе, мог бы меня выбрать хотя бы.
— Так а ты за кого замуж пошла — после того, как я тебя разочаровал?
— А, да, за Барри. За милого Барри. Познакомилась с ним на тусовке с работы, в конце восьмидесятых. Поженились, жили своим домом, пока он пять лет назад не устроил классический кризис среднего возраста. Сбежал с кассиршей из местного «Декатлона». То-то я думала, чего он повадился туда каждые выходные, а сам никакой физкультурой с 1995 года не занимался.
— Какая жалость. Дети у вас есть?
— Двое. Оба уже в универе. А у вас с Эмили?
— Нет, у нас… не получилось.
— Ну и ладно. Может, оно и к лучшему, а?
Бенджамин удивился самому себе — решил сейчас доверить Дженнифер тайну, которой делился с очень немногими.
— У нас с Сисили родилась дочь, — сказал он.
— Правда?
— Сразу после школы. Она мне не говорила, но была беременна, когда уехала в Америку. Там и родила. Назвала Мэлвиной. Я выяснил это все много лет спустя. — Бенджамин натужно сглотнул. Досказывать эту историю давалось с трудом — о тех событиях он и думать-то не любил, куда там излагать кому-то еще. — А потом Мэлвина вернулась в Англию, познакомилась с моим братом Полом, и он… злоупотребил ею.
Дженнифер обалдело вытаращила глаза.
— И поэтому мы с ним больше не разговариваем.
— А она? С ней ты разговариваешь?
— Иногда. Она теперь опять в Штатах. Дни рождения, Рождество — вот такие поводы. Трудно. Не просто трудно — невозможно.
Дженнифер протянула руку через стол и сжала ему ладонь. Он в ответ улыбнулся. Жест расхожий — и довольно краткий, но Бенджамину он понравился, очень.
* * *
— Вот что меня поражает в старении, — сказала Дженнифер, — начинаешь мыслить в этих… новых единицах времени. Уже не помнишь ничего по годам. Помнишь по десятилетиям.
— И не говори, — согласился Бенджамин.
— Начинаешь складывать все это дело в голове. Вот типа несколько недель назад смотрели мы с Грейс, моей дочкой, «Челюсти». Ей семнадцать, а фильму сорок. Сорок лет! Если бы я семнадцатилетняя смотрела кино, которому сорок, его должны были снять в тридцатые годы.
— Похоже, между тридцатыми и семидесятыми много чего случилось в мире. Многое изменилось. А с тех пор, может, не очень.
— Ты думаешь? И поэтому все кажется по-прежнему таким недавним? Или мы просто…
Она не договорила. Половина одиннадцатого, ужин завершился, и она много выпила.
— Ты знаешь, как к этому относился Филип Ларкин?[101] — спросил Бенджамин.
— Нет. Расскажи, как же Филип Ларкин к этому относился?
— Ну, если дожить до семидесяти, каждое десятилетие делается как день недели.
— Так.
— Жизнь начинается утром в понедельник.
— Окей.
— Нам сейчас за пятьдесят, и знаешь, какое у нас сейчас время недели? Вечер субботы.
Дженнифер уставилась на него с ужасом:
— Вечер субботы? Черт бы драл, Бенджамин.
— По сути, нам осталось одно лишь воскресенье.
— А воскресенья — дерьмо. Терпеть не могу воскресенья. Начать с того, что по телику смотреть нечего.
— Вот-вот. И это нас ждет впереди. «Больничные годы» — я слыхал, кто-то их так называл.
— Бля. Ну и вогнал же ты меня в тоску.
— Не то слово. Прости. Сейчас люди по восемьдесят с лишним лет живут вроде бы.
— Во, уже что-то. И все-таки… — Она допила, что там осталось у нее в бокале, и сказала: — Ну, Бенджамин, ты, по крайней мере, не утратил способности устроить девушке приятный вечер. И уж точно знаешь, как завершить вечер на подъеме. — Глянула на часы. — Пора просить счет, а мне надо вызвать такси.
— Я заплачу, — сказал Бенджамин. — Этот приз тянет на пятьдесят тысяч фунтов, между прочим. И он практически у нас в кармане.
— Шикарный жест. Принимаю.
— И о такси не беспокойся. Я запросто отвезу тебя домой.
* * *
Оба понимали, что предложение это не невинно. Пусть ни один не был уверен, что произойдет дальше, оба знали, что решение уже принято, — совместное решение, основанное на чувстве, что, каким бы ни было движение, начатое за ужином, оно не завершено. И все же это знание, которое должно было бы сблизить их, сделать — к обоюдному восторгу — заговорщиками, слово бы жутко отдалило их друг от дружки. Не успели они сесть к Бенджамину в машину и отправиться в двадцатиминутную поездку до дома Дженнифер, как навалилось тяжелое, ледяное молчание. В пабе Бенджамин, по его-то привычным понятиям, был откровенно болтлив, а тут совершенно онемел. Нетрудно понять почему: перспектива — или даже вероятность — физической близости с другим человеком после стольких лет невольного воздержания уже сама по себе лишала его дара речи — и от возбуждения, и от страха. И вот эта его бессловесность передалась Дженнифер, которая, в свою очередь, тоже утратила дар речи. Ум Бенджамина метался в поисках, чего бы сказать хоть сколько-нибудь сообразного в заданных обстоятельствах, и чем больше он метался, тем призрачнее делались шансы найти хоть фразу, хоть слово. Бенджамин прямо-таки ощущал, что язык у него распух вдвое против своих обычных размеров и уже никогда не сможет выдать ни единого слога. Глянул на Дженнифер, на ее лицо, бледное в сиянии янтарных фонарей, и убедился, что она смотрит на него оторопело. Притормозив на светофоре, он решительно вознамерился попробовать еще раз, напоследок. Он сможет что-нибудь сказать, оно должно найтись. Вот они потенциально готовы отправиться в самое прекрасное совместное странствие, какое может случиться у двух людей, и нет никакой причины вдруг растерять все слова. Он же писатель, господи боже. Он мысленно увещевал себя: ну же, Бенджамин, у тебя получится. Ты в силах взять эту нежную, манящую, устрашающую высоту.
— Ну что, — сказал он, наконец поворачиваясь к Дженнифер.
— Ну что, — повторила она и посмотрела на него вопросительно, исполненная трепетным предвкушением.
Он глубоко вдохнул.
— Ну что… Если Дэвид Кэмерон действительно проведет референдум об участии в Евросоюзе, что в итоге выйдет, как думаешь?
Дженнифер исторгла громкий, отчаянный вдох.
— Черт бы драл, Бенджамин, это действительно у тебя сейчас на уме?
Он покачал головой.
— Нет. Не это. Совсем не это.
— Слава богу. Потому что иначе я бы не на шутку забеспокоилась. Вот здесь — следующий поворот налево.
Он свернул в переулок и произнес:
— Прости. Я просто немного… В общем, вечер вышел прекрасный, и я не хочу…
— Я тоже. Вот, приехали. Номер сорок два.
Бенджамин завел машину на подъездную аллею перед ее домом. Когда двигатель заглох, стало поразительно тихо.
— На кофе зайдешь ведь?
— Да, конечно.
— Хорошо. Тогда пошли.
В кухне, пока она ставила чайник, Бенджамин сказал:
— Вообще-то кофе мне нельзя. От кофеина я не сплю. После обеда не пью никогда.
— У меня есть декаф.
— Действует так же.
— Что ж, тогда у меня предложение. — Она достала бутылку совиньон блан с винного стеллажа, встала напротив Бенджамина и вскинула бутылку вверх. — Давай-ка ты выпьешь большой бокал вина и останешься на ночь в любой из трех моих гостевых спален?
— А где же Грейс и Дэвид?
— На каникулах с отцом. У меня даже запасная зубная щетка есть.
В кои-то веки Бенджамин не стал мяться.
— Окей, — согласился он.
— Славно, — сказала Дженнифер и в награду оделила его нежным неспешным поцелуем в губы.
* * *
Оба оказались не готовы обнажаться друг перед другом. Поднявшись в спальню к Дженнифер через некоторое время, они задернули шторы, выключили свет и раздевались в полутьме — к большому облегчению Бенджамина. У него дома в ванной были ростовые зеркала, но он наловчился не смотреть в них, когда вставал под душ, или ложился в ванну, или вытирался. Не было у него никакого желания смотреть на отражение своего бледного обвислого пятидесятипятилетнего тела. Он решил, что Дженнифер относится к этому так же, однако, забравшись в постель рядом с ней и впервые робко и пытливо проведя рукой по изгибу ее бедра и далее, ощутил исключительно упругость и гладкость. Почувствовал, что уместен будет комплимент.
— Ты в превосходной форме, — сказал он.
Она повернулась к нему лицом и повторила со смехом:
— В превосходной форме? Ты что, мой тренер по фитнесу?
— Извини. Вечно не знаю, что сказать, когда…
— Так и не говори ничего, — посоветовала она, прикладывая палец к его губам. В ответ он этот палец нежно укусил — или, во всяком случае, намеревался. Судя по внезапному воплю боли, он довольно сильно оплошал. — Ай! Черт бы драл, Бенджамин, ты чего дуришь?
— Прости, больно, да?
— Да, бля, еще как. Иисусе…
Она несколько секунд сосала палец. И без того напряженный Бенджамин напрягся еще сильнее.
— Кровь идет? — спросил он.
— Нет, не идет, — ответила она, голос смягчился. — Ты расслабься, Тигр. Мы оба этим не занимались сто лет. Все будет хорошо.
Приятно было еще раз услышать свое прозвище. Дженнифер обняла Бенджамина, и они некоторое время целовались в почти безмолвной и едва ли не полной тьме. Он гладил ее по волосам, а затем скользнул рукой вниз, к ее груди. Почти сорок лет, подумал он, прошло с тех пор, как он прикасался к этой же груди, брал ее в ладони, чуть ли не бессознательно, в пьяном ступоре на подростковой вечеринке у Дуга. Дженнифер права. В этом возрасте начинаешь думать большими промежутками времени. Десятилетиями, а не годами…
Между тем Дженнифер потянулась к его паху и принялась побуждать его руками, поначалу мягко, а затем энергично. Ни тот ни другой подход, похоже, не принес плодов.
— Что там за дела внизу? — спросила она.
— Судя по всему, никаких.
— Что такое? Ты бы предпочел оказаться в постели с сексуальной журналисткой до тридцатника, а не с женщиной своих лет?
— Нет, совсем нет. — Он поцеловал ее еще. — Ты красавица. Продолжай.
— Еще немного — и у меня туннельный синдром разовьется, — сказала она, наращивая и скорость движений, и силу хватки.
Через минуту-другую он положил ладонь поверх ее кисти и попросил прекратить.
— Прости, — сказал он.
— Не волнуйся. Давай не будем торопиться. И в любом случае теперь моя очередь.
Она взяла его руку, все еще лежавшую у нее на груди, и медленно повлекла ее по податливой равнине своего живота, пока Бенджамин не ощутил мягкую путаницу ее лобковых волос. Дженнифер побуждала его на дальнейшее, и вот под пальцами у Бенджамина оказался теплый, чуткий комочек, и Бенджамин принялся тереть и ласкать его — при терпеливом наставничестве Дженнифер. Вскоре Дженнифер забормотала от удовольствия и томно расставила ноги еще шире.
— Славно, — вымолвила она, потянулась и яростно поцеловала его, язык метнулся к нему в рот. — Не убирай палец… как раз с этого места.
— Я тут читал на днях… — сказал Бенджамин между поцелуями.
Дыша все надсаднее, Дженнифер еще смогла проговорить:
— Книги, книги, книги. Ты хоть иногда о них не думаешь?
— Нет… Ну правда, — отозвался он, — это интересно. Я тут читал на днях о евангелистах в Штатах. Они составили брошюру, в которой объясняют девушкам, почему нельзя мастурбировать, а название, которое они этому придумали…
— Чему?
— Тому, что я сейчас трогаю…
— Ох, Бенджамин, заткнись уже наконец!
— Бесов дверной звонок.
— Бесов… дверной… звонок? — повторила Дженнифер. Слова выскакивали наружу с трудом, она дышала все быстрее и все возбужденнее, дыхание прерывалось воплями удовольствия или смехом — трудно разобрать, возможно, и то и другое вперемешку, — пока в восхитительном освобождении вдруг не заорала «Дзынь-дзынь!» во все горло, рухнула на Бенджамина, обняла его крепче некуда и целовала долго-долго, — он, во всяком случае, удовлетворился знанием, что свой скромный долг выполнил блестяще.
Через несколько минут, лежа головой у него на груди, Дженнифер произнесла:
— А теперь я себя чувствую виноватой. Я кончила, а ты нет.
— Это неважно.
Она потянулась проверить положение дел у него в паху. По-прежнему ничего.
— Такое случается иногда у мужчин твоего возраста. Чуток «Виагры» — и все наладится.
— У тебя, надо полагать, нету?
— Как ни странно, не держу. Есть парацетамол, кое-что от аллергии, но это все вряд ли поможет.
Она игриво подергала вялый орган. Бенджамин сгорал от расстройства. Вообще-то он необычайно возбудился, но его тело, похоже, почему-то не улавливало, что к чему.
— Может, поговорить с тобой сально? — предположила Дженнифер. — «Давай, парниша, вдуй мне» — такое вот что-то.
Бенджамин усомнился в действенности. И к тому же у него возникла другая мысль.
— Или, может… — начал он.
— Да? — Дженнифер заблестела глазами.
— Помнишь, где мы первый раз это делали?
— Дома у Дуга Андертона.
— А точнее…
— В шкафу у его родителей. Такое вряд ли забудешь.
— Точно. Так вот, поправь меня, если я ошибаюсь, но у тебя там довольно просторный шкаф.
Дженнифер приподнялась на руке.
— Ты серьезно?
— Не знаю… вероятно, стоит попробовать. Думаю, если удалось воспроизвести тот момент — вернуться мысленно, понимаешь…
Несколько секунд колебаний — и она свесила ноги с кровати.
— Теперь ничто меня не удивит, — сказала она. — Вперед, Тигр.
То был встроенный шкаф — чрезвычайно вместительный. Однако они уже не были проворными гибкими подростками, как когда-то, и потому их немолодые тела втиснулись внутрь с некоторым трудом. Впрочем, внутри они устроились уютно.
— Весело-то как, — сказала Дженнифер. — Как пошлая игра в сардины.
Сдвинув колено поудобнее — и попутно чуть не выбив ей челюсть, — Бенджамин закрыл дверцу. Стало темно, глаз выколи. Он протянул руки, нащупал плечи Дженнифер, погладил их, провел пальцами по ее щекам, очертил ими скулы. Ощутил восхитительную остроту осязания.
— Кажется, может сработать, между прочим.
— Ну, — сказала она, — даже если стояка у тебя не возникнет, мы, вероятно, сможем хотя бы выйти в Нарнию. А пока давай проверим, что у нас происходит внизу.
Она вновь потянулась к его паху и ощутила мгновенный, крепкий отклик.
— Блин, — сказала она. — Ты прав. Похоже, мы в деле. — Взявшись за стержень правой рукой, она принялась медленно, ритмично ласкать его по всей длине. — Как тебе?
— Хорошо, — ответил Бенджамин несколько неубедительно.
— М-м-м, хорошо-о-о, — повторила Дженнифер, выдыхая это слово с тягучим гласным. — Хорошо, а? Хорошо же, парняга?
— Так хорошо, — сказал Бенджамин. — Так очень хорошо. — Не хотелось ей говорить, но, если по-честному, он не чувствовал ничего. Что было в некотором роде даже тревожнее, чем предыдущая неувязка.
— Ты же большой мальчик уже, да? — проговорила Дженнифер, оглаживая быстрее и жестче. — Куда больше, чем был когда-то. Боже, как хорошо. Как же мне нравится тебя чувствовать рукой.
Бенджамин переместил вес на дверь, та жалобно громыхнула. Он принялся стонать, Дженнифер сочла это за намек усилить хватку и ускорить движения; всякий раз, добираясь до кончика, она безжалостно повертывала руку.
— О-о, тебе нравится, да? Тебе нравится, когда я так.
Бенджамин еще простонал, а затем завопил.
— Хочешь еще, да? Хочешь еще и еще.
— О боже, — выдавил из себя Бенджамин. — О боже!
— Нравится?
— Бля! Бля!
— Хорошо-о, а?
— Нет! Стой!
— Никаких «стой», пока не доделаю, парняга.
— Нет, стой! Свело! Жутко свело! У меня адская боль!
Боль у него в голенях сравнялась с полным отсутствием любых ощущений во всем остальном теле. Бенджамин схватился за дверцу, открыл ее рывком, они оба вывалились из шкафа и приземлились на ковер в бесцеремонной путанице рук и ног. Бенджамин все еще стискивал рукой голень и страдальчески орал, Дженнифер же села, поглядела на предмет, который держала в руке, и взорвалась хохотом.
— Что такое? — спросил Бенджамин, пыхтя от боли.
Дженнифер едва могла говорить.
— Ты посмотри!
Прищурившись в полумраке, Бенджамин произнес:
— Это вообще что?
— Это ароматизированная свечка, которую мне на Рождество подарила тетя Джули. Я все думала, куда эту свечку подевала. Не один месяц искала ее.
Судороги боли все еще раздирали Бенджамину ноги, но он смог выговорить:
— Это… Это ты и наглаживала?
По лицу у Дженнифер потекли слезы смеха.
— Да.
— Немудрено, что я ничего не чувствовал.
На это Дженнифер уже не хватило. Она упала на спину и лежала на ковре, голая и беспомощная от смеха, в руке — желтая свечка в термоусадочной пленке. Со всем доступным ему достоинством Бенджамин встал и забрался на кровать, натянул на себя одеяло и принялся тереть болезненные, судорожно дергавшие голени. Дженнифер скользнула в постель рядом с ним, продолжая смеяться. Кажется, унять ее никак нельзя было — пока она не положила голову на плечо Бенджамину и они не уснули в объятиях друг у дружки.
Ноябрь 2015-го
«Эй».
Одно слово; один слог; всего две буквы. Но не успели они возникнуть на экране, как сердце у Софи заколотилось.
Она откинулась в кресле и вытянула шею — глянуть, чем занимается в кухне Иэн. Он увлеченно пытался вытащить пробку из винной бутылки.
Софи вновь посмотрела на экран.
«Эй».
Как ответить? С тех пор как они познакомились с Эдамом в Марселе, прошло три года. Три года она не слышала от него ни слова. Три года с того несуразного поцелуя в коридоре у ее номера. С тех пор она писала ему не раз — и все время с легким налетом стыда и неловкости. В последнем сообщении она отправила ему контактные данные своего скайпа. И вот Эдам пишет ей. Что отвечать? Что она вообще могла бы ему сказать, чтобы выразить смесь сложных, неоднозначных чувств?
Подумав чуть-чуть, Софи напечатала:
«Эй».
Сзади приближался Иэн с полным бокалом красного вина. Софи быстро щелкнула мышкой по иконке на панели задач внизу экрана. Окошко скайпа исчезло, возник файл «ПауэрПойнта», который она готовила для загрузки в «Мудл»[102].
Иэн поставил бокал на стол рядом с ней.
— Эй, — сказала она.
— Эй, — отозвался он.
Она отхлебнула вина.
— Спасибо, — проговорила Софи и поцеловала Иэна.
— Начну готовить ужин, — сказал он.
— Ты письмо уже прочел? — спросила она. — Я его распечатала.
— Нет. Думал, это не к спеху. Ты говорила, что оно, вероятно, не важное.
— Вероятно, так и есть.
— Хорошо, — сказал он и собрался уйти.
— Но это раздражает, — сказала она.
Он замер; обернулся.
— Ладно, сейчас прочту.
— Не к спеху, — сказала она. — Оно, вероятно, не важное.
— Прочту сейчас, — сказал Иэн и вернулся в кухню.
Как только он ушел, она вновь щелкнула по иконке скайпа. Там было новое сообщение.
«Просто хотел сказать спасибо за то, что ты написала и сообщила о конференции».
Недавно она нашла повод написать ему: привлечь его внимание к грядущей лондонской конференции по музыке в кино, на следующий год. Совершенно не уверенная в том, зачем это делает, и отчасти в надежде, что он ответит отрицательно, Софи написала:
«Приедешь?»
«Увы, нет».
Разочарование было острым — и мгновенным. Да, было в нем и облегчение, но разочарование главенствовало.
«Есть чем заняться?»
«В некотором роде. Я вообще-то ухожу с работы. Хватит с меня академии».
Вернулся Иэн, принес плошку чипсов, поставил к ней на стол, рядом с ее бокалом вина. Софи вовремя успела щелкнуть по иконке «ПауэрПойнта».
— Чем занимаешься? — спросил Иэн, глядя на экран.
— Админкой всякой.
Он поцеловал ее в макушку.
— Нескончаемо, да?
— Иногда прямо так и кажется.
— Вот сейчас суну рыбу в духовку — и сразу прочту письмо.
— Ладно.
Иэн удалился. Софи написала:
«Уходишь? Как так?»
Подождала ответа. Прошло несколько минут.
— Может, стоит сначала рис поставить! — крикнула она в кухню.
— Ладно.
«Причин всегда много разных — работа раздражает, внутренняя политика бесит, сама знаешь, думаю, — но в конце концов все упирается в деньги. Не могу я дальше преподавать по контракту без перспективы постоянной ставки, при этом у меня <$20 000 в год. К счастью, подвернулось кое-что».
«Кое-что?..»
— С ума сойти, — сказал Иэн из кухни.
— Что такое?
— Письмо это.
— Я тебе говорила.
Она все еще ждала ответного сообщения. Пока ничего.
— Ты рис поставил?
— Ой-й… забыл. Сейчас.
«Ага — сочинение музыки. Для видеоигр. У меня друг создал продюсерскую компанию, зовет к себе».
«Великолепно! По-моему, в этом куда больше творчества, чем учет статистики приема или заполнения бумажек по стратегическому воздействию».
«Только не говори, что ты со времен Марселя успела заделаться циником».
Вот оно. И первым об этом заикнулся Эдам. Первым поднял тему.
«Может, я всегда была чуточку циником. В ту неделю просто не показывала».
— Как думаешь, в фольге рыбу запекать?
— Да. И, может, положи укропа какого-нибудь, если у нас есть.
— Гляну.
Звук открывающейся дверцы холодильника, поиски в ящиках.
— Пишут, используйте до конца сентября.
— Уверена, что все обойдется.
«Прости, что с тех пор не выходил на связь. Концовка показалась несколько напряженной».
«Не беда. Может, оно и к лучшему!»
«У тебя-то как дела?»
Вот уж сложный вопрос — как мало какой еще. Она помедлила минуту или больше и написала:
«По-всякому. Не знаю, получал ли ты мои письма, но, по-моему, я в одном из них говорила, что»
Иэн вновь возник сзади — с бутылкой белого вина. Софи быстро переключилась обратно на «ПауэрПойнт».
— Готова к добавке?
— Да, пожалуйста.
Он налил ей в бокал и спросил:
— Это же не серьезно, правда?
— Не серьезно? Что? Что не серьезно? Кто сказал, что серьезно?
— Ну, письмо.
— О. Да… Нет, не думаю, что это серьезно. Не может быть серьезно. Глупость это все какая-то.
— А что именно ты сказала на этом семинаре?
Из кухни донеслось громкое шипение, с таким звуком перекипает рис.
— Блин! — Иэн убежал разбираться.
Софи продолжила печатать:
«у меня новая работа, в Лондоне. Отлично все, но приходится проводить две-три ночи не дома, от этого иногда бывают трудности. Но Иэн не получил в прошлом году повышения по работе, а зарплаты нам нужны обе, однозначно».
«Вечно все упирается в деньги! Прочел тут статью на неделе, там пишут, дескать, если кандидат от демократов (кем бы он/а ни был/а) не победит на выборах в следующем году, то именно потому, что большинство средних американцев больше не может менять автомобиль раз в пару лет».
«Мы наш не меняли пять!»
«Вот-вот».
«Только послушайте нас, людей с бедами первого мира».
Вернулся Иэн. Софи опять переключила окошки.
— Так что ты говорила?
— Когда?
— На семинаре.
— О… ну, в голову только одно приходит… — Софи вдохнула. — Ладно. Короче, есть у меня студентка Эмили, она трансженщина.
— То есть?..
— То есть биологически она мужчина, но определяет себя как женщину.
— В смысле, она пол меняет?
— На некотором этапе, да, но это долгий процесс. Нужно прожить два года женщиной, и тогда можно оперироваться.
— То есть сейчас надо говорить «он», а не «она»?
— Нет, она хочет местоимение женского рода. И ладно.
Иэн нахмурился.
— Ну да. Но женщина, которая написала жалобу, — не Эмили.
— О чем и речь. Это-то самое дурацкое и есть.
— Она кто? Подруга ее, что ли?
Зазвонил телефон.
— Отвечу, — сказал Иэн. — Это мама.
— Можешь в кухне поговорить?
— Конечно.
Ушел. Софи подождала, пока не услышала, как Иэн заговорил с матерью, узнала тон, всегда более подобострастный, чем в разговорах с кем бы то ни было еще, а затем прочитала последнее сообщение от Эдама.
«Ну ладно, у меня занятие через несколько минут. Надо бы подготовиться».
«ОК. Чё ж их задерживать».
«Но я рад, что мы опять на связи. И прости еще раз, что так долго не отзывался».
«Как уже было сказано, не беда. Прости, что приставала».
«Я этому рад».
«Ну беги давай».
«Я тебе свой новый почтовый адрес дам. Учебный после декабря уже не будет работать».
«Отлично. До связи!»
«ОК. Пока».
«Пока ххх».
Разговор завершился, она откинулась в кресле и глубоко вздохнула, успокаиваясь. Пару раз быстро отхлебнула вина. А затем разлогинилась в скайпе и пошла в кухню посмотреть, не надо ли с чем помочь.
* * *
Съели рыбу. Получилась суховатая. Распечатка письма лежала на столе рядом с Иэном. Теперь уже заляпанная мелкими жирными брызгами.
Письмо было от Мартина, декана факультета, где работала Софи. В нем говорилось о жалобе, полученной от первокурсницы: на прошлой неделе Софи якобы допустила у себя на семинаре трансфобные замечания. Ее приглашали в кабинет к декану завтра к четырем часам дня — чтобы Софи могла изложить свою версию произошедшего, прежде чем возникнут дальнейшие разбирательства.
— Но ты бы ни за что ничего трансфобного себе не позволила, — сказал Иэн. В исполнении Иэна это слово показалось Софи странноватым.
— Само собой, нет, — отозвалась она. — Это недоразумение.
Она обратилась мыслями к семинару прошлой недели. Эмили Шэмма — из тихих студентов, и Софи запомнила всего два прямых взаимодействия с ней на том семинаре. В самом начале она закинула Эмили довольно простой вопрос — в надежде вытащить студентку на контакт: показала ей две версии «Крика» Мунка и попросила определить, какая была написана раньше. Ответ (как считала Софи) был довольно очевиден, но Эмили не смогла прийти к однозначному решению. Софи ее за это никак не принизила, терпеливо объяснила правильный ответ и продолжила вести семинар. Позднее, когда все уже расходились, у них случилась краткая — и тоже незавершенная — дискуссия о том, в среду или в четверг на предпоследней неделе семестра состоится их занятие один на один.
— И все? — спросил Иэн.
— По-моему, да, — ответила Софи. — Больше ничего вспомнить не могу.
— Ну тогда прям так и скажи Мартину, и все будет в порядке.
— Конечно, будет, — согласилась Софи. Набила рот рисом и выбросила всю эту историю из головы, задумалась о разговоре с Эдамом и далее — о тех нескольких пьяных от солнца днях в Марселе, о поездке на Фриульские острова, о лунном купании при Каланк-де-Моржире — и потому Иэна почти не слушала, а он, судя по всему, о том письме тревожился больше, чем она, глянул на распечатку еще раз, натужно рассмеялся и проговорил:
— Сплошная ерунда какая-то. Даже имя студентки-жалобщицы. Ну, в смысле, кто, господи ты боже мой, станет называть дочку Кориандр?
На следующее утро в семь сорок Софи, как обычно, села в поезд на станции «Бирмингем-Нью-стрит» до «Лондон-Юстон». Когда поезд проезжал мимо Милтон-Кинз, а Софи писала Соану СМС, подтверждая место их ужина в тот вечер (предполагалось, что Соан познакомит ее со своим новым парнем), позвонил Иэн.
— Привет, — сказала она. — Что случилось?
— Ну… — начал он. Судя по голосу, Иэн явно нервничал. — Понимаю, что ты сейчас не в твиттере, но я быстренько глянул — там сегодня всё про тебя.
Софи ощутила, как в желудке внезапно и жутко опустело.
— Всё про меня? — переспросила она. — В каком смысле?
— Много твитов о тебе. Не то чтоб прям тренд, но… почти.
— Много твитов? Чьих?
— Студенческих в основном. Похоже, эта Кориандр дала делу ход будь здоров.
— Ох блин. Все плохо? Что говорят?
— Слушай, не читай их — ни в коем случае. Я знаю, ты вечно не слушаешь, но я тебе уже говорил, что это за типы — эти Воины Общественной Справедливости. Мало что хуже, чем стая леваков, если она ударяется в крестовый поход за нравственность и им на глаза попадается жертва. Честно сказать, раздумывал, стоит ли тебе говорить, но решил, что, наверное, тебе лучше знать про все это прежде, чем ты пойдешь сегодня на встречу.
— Иисусе, как это вообще? Я даже не знаю, какие слова мне приписывают.
— Возможно, никаких. Поэтому, я уверен, все сдуется. Но пока оно смотрится несколько крупнее, чем мы думали.
— Ладно, спасибо. Предупрежден — значит, вооружен и всякое такое, видимо.
— Именно. Люблю тебя.
— И я тебя.
Она сбросила звонок и несколько минут глазела в окно. Однако пустота в животе лишь ширилась, и Софи боролась с растущим искушением почитать те твиты. Чтобы отвлечься, решила заняться делом — приготовиться еще немножко к двум семинарам, ожидавшим ее в то утро.
* * *
— Меня бойкотируют? — спросила Софи.
— Похоже на то, — ответил Мартин.
— Но это же чушь какая-то. Это, блядь, чушь.
— Софи, прошу вас, не надо эмоций. Никому от этого пользы не будет.
Декан факультета Мартин Ломэс, пятидесятидвухлетний профессор европейской истории, специализировался на роли льна-сырца в торговых сделках Великобритании со странами Балтии в начале XVII века — на эту тему он уже успел написать четыре книги. Оглядывая его кабинет, безупречно опрятные полки с книгами, расставленными не по фамилиям авторов или по предметам, а по размеру и по цвету корешков, Софи понимала, почему эмоции способны ужасать Мартина.
— Не сомневаюсь, что все это — нелепое недоразумение, — продолжил он. — Но университет настаивает, чтобы мы следовали положенным процедурам. Давайте просто последуем положенным процедурам, и все будет хорошо.
— Тогда можете для начала рассказать, какие слова мне приписывают.
Мартин глянул в свои заметки к этой встрече.
— Вы обратились к трансгендерной студентке так, что из ваших слов следовало, будто ее гендерная дисфория — результат личностной слабости.
На несколько секунд Софи утратила дар речи. А затем выговорила:
— Херня.
— Софи, прошу вас…
— Ну хорошо, ладно, ерунда. Полная ерунда. Так лучше?
— Позвольте, я изложу факты, как они мне представлены.
— Представлены кем?
— Перво-наперво, студенткой, с которой вы общались. Эмили Шэммой. Она сообщила о вашем разговоре своей подруге Корри Андертон, а мисс Андертон сообщила сотруднику студсоюза, отвечающему за равные возможности. Вашу реплику слышали еще трое студентов, они подтвердили это заявление.
Софи примолкла. Все складывалось не здорово.
— Судя по всему, вы сказали Эмили: «Вам как-то очень трудно определяться, да?»
Софи ждала продолжения.
— И?
— Все.
Софи на миг задержала на Мартине взгляд, затем глубоко выдохнула.
— Ладно. Ну слава богу.
— В смысле?
— В смысле, волноваться не о чем. Она меня неверно поняла, вот и все.
Мартин ждал дальнейших пояснений. Судя по его лицу, Софи Мартина не убедила.
— Я не говорила о ее выборе гендера. Эта реплика касалась того, что она не могла решить, когда прийти на консультацию — в среду или в четверг.
— Понятно. — Он сделал несколько пометок у себя в блокноте. — Но зачем вы это сказали?
— Потому что она не могла принять решение.
— Да, но это всего лишь миг нерешительности. А вы обобщили.
— Ой. Нет-нет… Я имела в виду, шутя, кое-что, о чем мы говорили на том же семинаре. Я показала ей две картины и спросила, какая, с ее точки зрения, была написана раньше, и Эмили не могла решить.
Мартин все это записал.
— Ну, так вроде получается некоторый контекст, — сказал он неуверенно.
— Нет, не контекст получается, — настаивала Софи, — а полное объяснение. Это объясняет, почему я это сказала и что имела в виду.
— Все равно это было не очень тактично — по отношению к студентке, которая, как я понимаю, обдумывает перемену пола.
— Тактично? Дело внезапно сводится к такту? Нет, разумеется, тактичным это не было. Это было глупо. И мне понятно, почему это истолковали превратно. Я извинюсь перед ней, и дело с концом.
— М-м. — Мартин совсем не выглядел убежденным, что все так просто, как считала Софи. — Будем надеяться. Видите ли…
Мартин поглядел в окно кабинета, отвлекшись, как обычно, на банальный вид: кирпичная стена северного крыла факультета гуманитарных наук, ряды безликих конторских окон. Почувствовал, как наползает непреодолимая скука. На предыдущей неделе он обнаружил новый факт о льне-сырце и его роли в торговых сделках Британии со странами Балтии в начале XVII века и желал лишь одного — развить этот факт до статьи. Или даже до книги. Да, возможно, из этого получится целая книга…
Он неохотно бросил эту цепочку размышлений и попытался включиться вниманием в текущую факультетскую неурядицу.
— Видите ли, мисс Андертон говорит вот что: этой репликой вы, вероятно, нарушаете закон о равных возможностях. Вот где собака зарыта. И конечно, в таком случае это очень серьезно.
— Но…
— В прошлом мы бы разбирались с этим внутренне. Не то чтобы замалчивали, но… ну, все это утряслось бы в пределах факультета. Но теперь приходится иметь дело с социальными сетями. Вы видели твиты и отклики?
— Нет. Плохие?
— Студенческое сообщество пылко выражает свое мнение.
— На моей стороне есть кто-то?
— Вероятно, вам стоит посмотреть самой. Быстрее всего найдете их по тэгу «#уволитьКоулменПоттер».
— Ясно, — сказала Софи. — Понятно, к чему это все. — Ей вновь стало тошно. И все равно она не понимала, почему, как бы скверно сейчас все ни казалось, нельзя пресечь развитие этого скандала. — Поговорю с Эмили, разберемся, давайте так?
— Может оказаться не так-то просто. Жалобу подала мисс Андертон — после того, как получила сообщение. Какова позиция мисс Шэммы по этому вопросу, я не знаю наверняка. Возможно, она даже не имеет значения. По-моему, если она довольно пассивная… — Он оборвал себя — вовремя. Даже в частных беседах, как эта, неразумно было разбрасываться суждениями о личностях, относящихся к незащищенным меньшинствам.
— Можно мне посмотреть содержание жалобы?
— Она вам будет предоставлена в должном порядке.
— Можете вы сказать, что именно в ней написано?
— Не уверен, что она у меня под рукой. — Мартин пролистал пару бумажек в кипе, громоздившейся у него на столе. — Кажется, там было слово «микроагрессия».
— «Микроагрессия»?
— Вам знакомо это понятие?
— Да.
— Ну вот, в этом вы, по мнению студентов, и провинились. В «громадной микроагрессии».
Мартин вяло улыбнулся, встал и протянул Софи руку.
— Давайте следовать положенным процедурам, — сказал он. — Если им следовать, то, как показывает мой опыт, ошибиться невозможно.
* * *
Соан с Софи явились в ресторан вовремя, а вот Майк прислал СМС, что будет на полчаса позже. Уселись читать меню и ждать Майка. На цены Софи смотрела с ужасом. Меньше ста пятидесяти фунтов на нос не выйдет никак, Иэн будет в ярости, если узнает, что она столько заплатила за еду.
— Не обалденно ли? — спросил Соан. — Понятно, почему у этого места такие потрясающие отзывы.
— Понятно, почему оно полупустое. Пятнадцать фунтов за закуску?
— В особый вечер люди столько заплатить готовы.
— Что это за херня — «квашеные сардинные крокеты»? Как можно заквасить сардину и зачем после квашения делать из нее крокету?
— Хумус вроде хорош.
— Хумус? Его можно за фунт двадцать купить в «Теско». Положили в него «маринованные грибы симедзи» — что бы это ни значило — и думают, что можно брать за это двенадцать фунтов.
— Ты после переезда в Бирмингем изменилась, — сказал Соан, все еще увлеченно исследуя меню. — Я в курсе, что там все еще подают цыпленка в корзинке и пирог с лимонным безе, но остальная-то страна ушла далеко вперед.
— Обхохочешься, — отозвалась Софи. — Серьезно: мне такие цены не по карману.
— Ой, не волнуйся. Майк за все заплатит.
— Нет, не заплатит. Я за себя сама плачу.
— Милая, он зарабатывает в десять раз больше нас с тобой. Слышишь? В десять раз. Он у меня за все платит. Нам бы иначе не удалось ничего делать вместе.
— И ему нормально с этим?
— Тут простой здравый смысл. Говорю тебе, с тех пор как я с этим парнем познакомился, мой образ жизни улучшился до неузнаваемости. Он всего на пару лет старше нас — и хренов миллионер!
Софи покачала головой с неохотным восхищением.
— Как так? Семейные деньги?
— Совсем нет. Он урожденный босяк, хочешь верь, хочешь нет. Отец был сталеваром где-то в забытом богом северном городе — в Хэррогейте, или в Халифаксе, или где-то там еще.
— Ни то, ни то, по-моему, никакого отношения к стали никогда не имело.
— Ну что-то там на «Х».
— Хартлпул?
— Хартлпул, точно. Однако Майков препод по математике в школе распознал в нем гения. Майк поступил в Имперский — первый человек в семье, попавший в университет, — остался, сделал докторскую по высшей математике, а следом подался прямиком в Сити.
— Они все еще нанимают людей вот так? Я думала, это все до обвала было.
— Судя по всему, нет. — Вновь уставившись в меню, Соан посветлел лицом. — Ух ты. Вырезка вагю со стручковой фасолью и тертыми брокколи. За тридцать шесть фунтов!
Софи посмотрела на него — убедиться, что он шутит. Он не шутил.
— Отставим твою блистательную любовную жизнь в сторону, — сказала она. — Хочешь послушать еще одну невероятную подробность о сегодняшнем фиаско? — Она уже изложила в деталях свою встречу с Мартином. — Студентка, которая на меня нажаловалась, — я ее практически знаю лично, как выясняется. Она дочь одного из лучших друзей моего дяди.
— Дяди Бенджамина из длинного списка Букера?
— Именно.
— Ну, это же хорошая новость, верно? Он может позвонить своему другу, потрепаться с ним цивилизованно и договориться, чтобы друг велел своей дочери заткнуться на хер.
— Возможно. — Софи понимала, что это можно счесть разумным вариантом, но он не облегчал ощущения надвигавшейся катастрофы, какое настигло ее в тот день. Вечером она дала слабину и просмотрела кое-какие твиты студентов. Через две минуты чтения само количество и озлобленность этих сообщений подействовали на нее физически, и ей пришлось пробежаться по коридору в дамский туалет, чтобы успокоить бесплодные позывы к рвоте. Вероятно, содержание меню не воодушевляло ее еще и поэтому.
— Короче, пусть левые против тебя и восстали, но ты зато, может, станешь героиней правых, — сказал Соан. — Если подать это как протест против политкорректности, не исключено, что поборники свободы слова прискачут к тебе на защиту. Поместят тебя на обложку «Спектейтора»[103], а «Дейли мейл» про тебя заглавные статьи писать будет.
Софи раздосадовало, что он сводит все это к шутке. Дежурно улыбнулась, но порадовалась, что через несколько секунд их разговор прервало появление у их столика высокого, белокурого, уверенного в себе мужчины в темном деловом костюме. Мужчина потрепал Соана по волосам, сжал его плечо, Соан сказал: «Эй ты» — и, когда тот сел рядом, поцеловал его в щеку.
— Софи, это Майк, — представил мужчину Соан. — Майк, это Софи.
— Лучше поздно, чем никогда, — сказал Майк. — Простите за опоздание.
Мужская красота не производила на Софи подобного сильного впечатления с тех пор, как они познакомились с Иэном. Она глянула на Соана, он вернул ей торжествующий взгляд; глаза у него блестели, как у кота, которому предложили щедрую порцию жирных сливок в блюдце из беспримесного золота.
* * *
Счет за ужин составил 435 фунтов. Как и предвидел Соан, Майк настоял на том, что платить будет он, хотя проделал это так незаметно, что Софи и не поняла, пока официантка не вернулась к их столику с чеком.
— Нет, это несправедливо, — запротестовала она, когда Майк убрал чек в карман, предварительно поинтересовавшись, не пригодится ли чек Софи для налоговых нужд.
— Это совершенно справедливо, — сказал Соан. — Человеку платят неприличную уйму денег за разработку причудливых финансовых инструментов, чтобы богатые делались еще богаче. А вот я в то же время занимаюсь важными исследованиями — жизненно важными, можно даже сказать, — само́й природы того, что значит быть англичанином, а платят мне гроши. Крохи.
— Так и есть? — спросила Софи, улыбаясь Майку. — Я не про исследования, само собой, а про твои служебные задачи?
— Более-менее, — ответил он.
— Мне казалось, что после обвала производные инструменты стали считать довольно опасными.
— Я оказался в Сити в 2007-м, — сказал он, — только-только осел, как все и случилось. Немножко крещение огнем. Конечно, некоторое время все чуточку тряслись, но затем поулеглось. Никто, в общем, не стал вести себя иначе, насколько я могу судить. Деньги крутятся слишком большие. Подсаживаешься их заколачивать. Это как любая другая зависимость — наркотики, секс — простым наведением новых порядков не отделаешься. Особенно когда наведение этих порядков вялое.
— А тебя это не тревожит? Риск? В смысле… допустим, случится еще один обвал?
— Случится, — ответил Майк. — Но, будем надеяться, я к тому времени уже слиняю с места преступления. Еще пару лет в этом — и выхожу.
— А заниматься чем будешь?
— Чем-нибудь совершенно другим. Может, благотворительную организацию открою? Надо что-то отдавать.
— Видишь, какой он? — спросил Соан. — Совершенный идеалист. Альтруист. Хочет спасать мир, как и все мы.
— Ты домой часто ездишь? — спросила Софи, не обращая внимания на Соана.
— Не очень. Как ни печально, за последние пятнадцать лет мы с родителями отдалились друг от друга. Я к ним ездил в свое время. Деньги давал, но им это не нравилось, я и перестал. Думаю, считают это зазорным.
— Они знают, что ты гей?
— Понятия не имею. Никогда не сообщал им.
— Так или иначе, — сказал Соан, — товарищ Корбин, когда станет премьер-министром, положит конец вашим гадким финансовым проказам. Твои дни производства денег из ничего сочтены.
— Может быть, — сказал Майк. — Но большинство лейбористских правительств через некоторое время начинают дружить с Сити. Налоговые поступления — вещь полезная. Возможно, следующее правительство окажется другим, посмотрим.
Джереми Корбин стал лидером Лейбористской партии в сентябре. Удивительные — ошеломительные, можно даже сказать, — выборы этого малоизвестного, однако заслуженного бунтаря из задних рядов многие, включая Софи, сочли благоприятным знаком: партия решила вернуться к принципам, заброшенным при Тони Блэре. Менее благоприятным оказалось то, что конкретно их с Иэном политические разногласия высветились как никогда ярко. Иэн считал Корбина троцкистом, Софи же он казался мудрым добродушным социалистом. Иэн предупреждал ее, что Корбин превратит Британию в репрессивную дистопию, похожую на старый Восточный блок, что люди, подобные Софи, последователям Корбина — враги, и, проголосуй она за него, выйдет индюшка, голосующая за Рождество. В частности, поэтому Софи не собиралась делиться с Иэном сведениями, что, согласно странице в фейсбуке, которую Софи сегодня посетила, среди многочисленных политических обществ, где Корри Андертон была воодушевленным участником, значилась недавно возникшая группа под названием «Студенты за Корбина».
За последние несколько часов Софи почти забыла обо всем этом — забыла о своих гонителях и о кавардаке, который ей удалось устроить на факультете и в социальных сетях. И теперь все вернулось. Вопреки своему полупьяному состоянию и общему сияющему самодовольству, которое Соан был не в силах не излучать при Майке, он заметил эту перемену в настроении Софи и понял, что ее породило.
— Пойдем, — сказал он, беря ее за руку, — пора спать.
Они втроем отправились на такси до квартиры Соана в Клэпэме. Софи добралась до дивана, к которому давно привыкла, и пролежала, не моргая и не засыпая, час с лишним, слушая, как в соседней комнате Майк с Соаном занимаются любовью. Она все еще не спала, когда из их спальни вышел Майк — нагишом, но прикрытый полотенцем, и прошлепал мимо нее в кухню за водой. На обратном пути заметил ее блестевшие в темноте глаза.
— Извини, — сказал он. — Мы немножко шумноваты?
— Ничего страшного, — отозвалась Софи. — Приятно осознавать, что люди получают удовольствие.
Он остановился на пороге кухни и сказал:
— Не волнуйся. Я уверен, все будет хорошо.
— Конечно, будет.
Она повернулась к нему лицом и поплотнее завернулась в одеяло.
— Ну, спокойной ночи, — сказал он.
— Спокойной ночи.
Ее как-то странно утешили эти слова и тронула нота сочувствия у него в голосе, но Майк все равно ошибался: наутро она получила от Мартина электронное письмо, в котором сообщалось, что до дальнейших распоряжений Софи полностью отстранена от преподавания.
Январь 2016-го
Бенджамин вновь ехал из Шрусбери в Реднэл — вдоль реки Северн, через городки Крессидж, Мач-Уэнлок, Бриджнорт, Энвилл, Стаурбридж и Хэгли. Он уже не решался даже подсчитывать, сколько раз катался этим маршрутом. Единственная разница (и разница значимая) теперь состояла в том, что эта поездка приближала его к месту, где жила Дженнифер, и иногда поздними утрами он заглядывал в риелторскую контору, где она работала, и забирал ее на обед или объявлялся у нее дома непоздними вечерами по дороге домой, и они шли ужинать, а затем занимались любовью. К большому удивлению Бенджамина, получались неброские, но совершенно благополучные отношения. Виделся он с Дженнифер примерно раз в две недели, иногда чаще, иногда реже. После первого фиаско в платяном шкафу половая жизнь у них наладилась. Оказалось, что им приятно общество друг друга, хотя Бенджамина — почти так же, как сорок лет назад, — снедало подозрение, что у них с Дженнифер, по сути, мало общего. Но зато он к своим пятидесяти пяти (лучше позже, чем никогда) хотя бы развил в себе достаточно самосознания, чтобы иметь в виду: общее с ним самим находилось у очень и очень немногих. Тихий, замкнутый писатель, занятый своей внутренней вселенной воображения в не меньшей мере, чем окружающим миром. И Дженнифер, судя по всему, это — пока — вполне устраивало. Было б мило, получи он Букеровскую премию или хотя бы окажись в коротком списке, но от мимолетной славы все же были осязаемые преимущества. Один лондонский издатель предложил ему небольшой аванс за второй роман — пока безымянный, пока ненаписанный (и, более того, даже не продуманный). Его пригласили выступить на одном-двух литературных фестивалях и, чуть позже в этом же году, поучаствовать в ведении недельного писательского курса. Продажи «Розы без единого шипа» оказались скромными, и никто не сцапал у него права на экранизацию, но Бенджамину хватило и того, что есть. Он почувствовал, что самоутвердился. Почуял везение.
Интересно, все еще размышлял он по временам, гордилась бы мама его успехами? Отец об этом заикался редко. Колин делался все более немногословным и нелюдимым; его лицо, случайные слова, сама поза и язык тела все ярче выражали общее ощущение экзистенциальной тоски. А сверх того, как Бенджамину уверенно казалось, отцу начала отказывать память. В 1970-е Колин работал бригадиром на автозаводе «Бритиш Лейленд» в Лонгбридже; в начале 1980-х его повысили до конторской службы, откуда он ушел на пенсию в 1995-м. Все, что случилось до того года, года его увольнения, виделось ему по-прежнему ярко, а все, что было после, — словно бы смазано или вообще забыто. Он, само собой, помнил, кто такие Бенджамин и Лоис и кто такие Кристофер и Софи, в меньшей мере — Иэн, а вот что происходит в их жизнях, он запоминать уже не мог — или, во всяком случае, не имел к этому интереса. Ему по-прежнему ежедневно доставляли «Дейли телеграф», но Бенджамин сомневался, что отец читает газеты, хотя Колин знал, как зовут нынешнего премьер-министра, а также нынешнего лидера оппозиции (которого на дух не выносил). Впрочем, никаких сомнений не было, что Колин помнил администрации и тори, и лейбористов 1970-х и помнил во всех подробностях конфронтационную политику самого Лонгбриджского завода в то десятилетие, когда производство нередко простаивало из-за забастовок и (в его версии событий, так или иначе) дня не проходило без того, чтобы в Кофтон-парке не собирались тысячи рабочих, где их доводил до ожесточенной воинственности какой-нибудь бузотер из цеховых старост вроде Дерека Робинсона или Билла Андертона. Колин по этому поводу в свое время злился, и — как иногда казалось Бенджамину — злится до сих пор, четыре десятка лет спустя.
Отец теперь выходил из дома редко, и только вместе с Лоис или Бенджамином, и оба неизменно везли его за город, на запад, подальше от городской застройки Бирмингема. Колин стал слишком медлителен и хрупок, на серьезные прогулки его не хватало, но его пока еще удавалось отвести под руки — иногда с трудом — к садоводческому центру или в зал деревенского паба. Однако он уже много лет не оказывался вблизи старого Лонгбриджского завода, хотя тот находился всего в миле с небольшим от дома. И вот сегодня Бенджамин удивился, когда через пятнадцать минут после его приезда они уже исчерпали все, что могли друг другу сообщить, и отец объявил:
— Вези меня сегодня после обеда в Лонгбридж.
— В Лонгбридж? — переспросил Бенджамин. — Зачем?
— Хочу посмотреть на запущенную новую очередь.
— Какую очередь?
— Там большую новую производственную очередь запустили. Прямо посреди завода. Вчера вечером по телику показывали. Хочу посмотреть, как и что. И, кто его знает, может, наткнусь на кого-нибудь из старой гвардии.
— Но, пап…
Бенджамин решил придержать язык. По тому, что отец говорил, казалось, будто он понятия не имеет, что сталось со старыми заводскими зданиями. Все они почти без исключения были снесены, сметены с лица земли. Если не считать ничтожных остатков у старых ворот «Кью»[104], где все еще цеплялось за жизнь мелкосерийное производство, обеспечивая ненадежную занятость нескольким сотням людей, все давно пропало. Западный, Северный и Южный цеха уничтожили первыми, а затем территория долго пустовала — служила печальным напоминанием об упадке британской промышленности, однако теперь те площади уже были почти целиком заняты жилой застройкой, розничными точками и новым техническим колледжем. Знал ли Колин обо всем этом? Бенджамин сомневался — и согласился, как отец, увидев столь полное преображение впервые, отнесется к нему, как откликнется на столь радикальное переписывание всей истории, с которой когда-то был знаком.
— Ты уверен, что этого хочешь? — спросил он. — Я думал, мы опять в «Вудлендз» поедем.
— Надоело мне это место жуть как, — рявкнул Колин. — Почему мне никто не верит, когда я говорю, что чего-нибудь хочу?
* * *
Бенджамин поехал к старому заводу кружным путем, подъехал к нему с запада, по трассе А38, мимо кинотеатра, и кегельбана, и «Моррисонс», и «Макдоналдс». В два часа зимнего дня свет, казалось, уже угасал. Когда Бенджамин свернул на круговой развязке на Бристоль-роуд, отец вытянул шею в противоположную сторону и спросил:
— Мы где?
— Сам знаешь где. Это Бристоль-роуд.
— Нет, это не она. Над Бристоль-роуд проходит конвейерная эстакада. Где конвейерная эстакада?
Конвейерная эстакада была местной достопримечательностью — сорок пять лет, во всяком случае. Узкий отрезок Лонгбриджской сборочной линии, тянувшийся над оживленной четырехрядной магистралью по крытому мосту, обеспечивал связь между Западным и Южным цехами, построили его в 1971 году. Бенджамин мог назвать точную дату, потому что это был его первый год в «Кинг-Уильямсе» и ему приходилось дважды в день ездить на автобусе под этим мостом, пока его строили. Но для британской промышленности то были времена живее и оптимистичнее, и мост, давно пережив свою нужность, в 2006 году был разобран — девять лет назад. Колин действительно этого не замечал или же просто забыл?
— Его нет, пап. Его снесли сто лет назад.
— И как же они тогда перемещают машины с одного края завода на другой?
Бенджамин не ответил. Сделал первый же поворот налево, в широкий проулок между рядами неотличимых друг от друга недавно построенных домов, и проехал еще несколько сотен ярдов, пока не оказался на просторной парковке, окруженной магазинами, — было там не только громадное заведение «Маркс и Спенсер», но и «Паундленд», «Бутс» и прочие.
— Где мы? — спросил Колин, ошарашенный и отчаявшийся.
— Мы там, куда ты хотел приехать, — сказал Бенджамин. Показал на громадный универмаг: — Вот это новая очередь застройки, про которую в новостях говорили.
— Я не ее имел в виду, — уперся Колин. — Я хотел, чтобы ты отвез меня в Лонгбридж.
— Это и есть Лонгбридж.
— Нет, это не он.
Бурча, отец выбрался из машины и двинулся, шаркая, к громадному магазину, Бенджамин же запер дверцы, натянул пальто и поспешил следом за отцом.
Оказавшись внутри, Колин огляделся по сторонам, посмотрел влево и вправо, растерялся от увиденного; его потрясал масштаб всего вокруг. Сделал еще несколько шагов к отделу дамского белья и оказался перед бесчисленными рядами чулок, бюстгальтеров и кружевных трусиков — докуда хватало глаз. Поскольку он рассчитывал на сшибающие с ног шум, вонь и тестостероновый дух старой Лонгбриджской сборочной линии, понятна была его растерянность.
— Что здесь происходит? — проговорил он, оборачиваясь к Бенджамину.
— Это открывшаяся новая очередь, пап. Магазинов. «Маркс и Спенсер». Автомобили здесь больше не делают.
— А где же их теперь делают?
Хороший вопрос. Они побродили еще немного и пришли в бар первого этажа, где подавали просекко, там было пусто, если не считать молодой, хорошо одетой пары, у которой здесь, на глаз Бенджамина, происходило прелюбодейское свидание.
— Это же точно не новая столовая, да? — спросил Колин.
Далее они заглянули в ресторанный дворик, и потом, пока гуляли туда-сюда по словно бы нескончаемым рядам фасованных салатов, готового мяса и импортированных вин, Бенджамин попытался объяснить.
— Слушай, пап, ты помнишь те митинги, на которые мы все ходили в Кэннон-Хилл-парк? Митинги за «Ровер»?
— Нет, а когда это было?
— Пятнадцать лет назад. В общем, ничего хорошего не вышло. Четверо местных ребят прибрали компанию к рукам, но вместо того, чтобы ее спасти, они сровняли ее с землей и в 2005 году продали. С тех пор тут почти ничего не производят. Все теперь покупают машины из Германии, Франции и Японии. Они снесли все заводские здания, и много лет тут был пустырь и больше ничего. Ну же, пап, ты должен помнить хоть что-то из этого. Мы с тобой ездили как-то раз на это посмотреть, когда был в разгаре снос Южного цеха.
— Южный цех снесли?
— Мы в нем стоим. Там, где он раньше был.
— ЛСА-1 и ЛСА-2?[105]
— Ни той ни другой уже.
— А Восточный цех? Который на Гровели-лейн?
— Не знаю. Как там, я не знаю.
— Отвези меня туда.
— Правда?
— Отвези сейчас же.
Они вернулись на парковку. Поездка к месту былого Восточного цеха заняла всего три минуты, но за это время небо словно бы потемнело еще сильнее.
— Похоже, к дождю, — проговорил Бенджамин.
Прибыв на место, они обнаружили лишь бескрайнюю ширь пустыря, обрамленную высоким металлическим забором. На равном расстоянии друг от друга висели знаки, предупреждавшие потенциальных посетителей, чтоб держались подальше. Имелся и громадный щит, объявлявший о скором строительстве очередного трех-, четырех- и пятикомнатного жилья.
— Ну вот, — сказал Бенджамин. — Чем дальше займемся?
— Паркуй машину, — произнес отец.
Бенджамин оставил автомобиль у обочины. К его удивлению, Колин отстегнул ремень и выбрался наружу. Медленно, с усилием пошел к двустворчатым воротам, украшенным логотипом строительной компании. Бенджамин двинулся следом.
Дойдя до ворот, Колин остановился. Между створками был зазор, сквозь него можно было заглянуть внутрь. Колин простоял несколько минут, щурясь в щель. Бенджамин нависал рядом — встал на цыпочки и смотрел поверх ворот на тот же самый пейзаж. Смотреть было не на что. Сотни акров глины, заброшенные и непримечательные в неверном свете, они тянулись вверх по холму к улице, где различим был ряд домов межвоенной постройки. В воздухе висела влага — скорее туман, нежели морось, — и вечер делался пронизывающе холодным.
— Давай, пап, — сказал Бенджамин. — Не на что тут смотреть.
— Я не понимаю, — проговорил Колин.
Бенджамин повернулся к машине. Затем вновь обратил лицо к отцу:
— Что? Что ты не понимаешь?
— Я не понимаю, как можно вот так просто все снести. Такое, что было здесь так долго, такое…
Он вновь уставился в щель между створками. Но глаза у него остекленели, стали незрячими, а голос, с натугой выдававший больше слов, чем он произнес, вероятно, за последний год, казался плоским и невыразительным, как окрестный пейзаж.
— В смысле, здание — это же не просто место, верно? — сказал он. — Это же люди. Люди, которые были внутри… Я же не говорю… В смысле, я знаю, что машины мы делаем паршивые. Знаю, что немцы с японцами делают машины гораздо лучше любых наших. Я не олух. Я это все понимаю. Понимаю, почему люди хотят купить машину из Японии, которая не сломается через пару лет, как наши в свое время. Но не понимаю я вот чего… Не понимаю, когда ж это кончится? Как можно так жить. Мы ничего больше не создаем. Если мы ничего не создаем, значит, нам нечего продать, и как тогда… как же мы тогда выживем?.. Вот что меня беспокоит. В смысле, само это меня не беспокоит. Это громадное пустое пространство, оно просто… ничто. Сносишь завод со всеми его рабочими местами — вот такое и получишь. Ничто… Но тот магазин — тот чертов громадный магазин? И те дома? Сотни и сотни домов? Это вообще что? Как можно заменять завод магазинами? Если нет завода, как людям зарабатывать деньги, чтобы потратить их в магазинах? Как людям зарабатывать деньги, чтобы покупать дома? Бред какой-то… Наверное, я поэтому… смотрелся чудно́ там, в магазине. Просто я не мог уяснить, как так все вышло. И память у меня иногда мутная немножко. Я заметил, что оно уже так. Не знаю, что это означает. Слегка пугает. Все слегка пугает, когда доживаешь до моих лет, потому что не знаешь, что тебя ждет за любым углом. Но я все еще помню много чего. Говорю же, я не олух. Пока что. Конечно, я помню, как сносили здания. Я знал, что они это сделали. Но я не знал… не отдавал себе отчета, что снесли всё. А есть и кое-что такое, старше, гораздо старше, памятное мне еще отчетливее… Вот как это место. Это место в те времена. Восточный цех. Вижу ясно, как день. Люди начинали стекаться сюда примерно с половины восьмого. Все приезжали на машинах. Все дороги вокруг были уставлены машинами на многие мили. И днем грохот линии, люди, беготня — с ума сойти. Вот как я это все помню. Бабуля тоже тут работала, между прочим. Моя мама. Рассказывала мне истории про войну. Тут, где мы с тобой стоим, прямо у нас под ногами пролегают туннели. Десятки. Громадные туннели. В войну сотни людей в них работали. В том числе и бабуля. Показывала мне раз фотографию всех, кто в туннелях работал. Где-то она у нас лежит. Вооружение они делали, боеприпасы, запчасти для самолетов. Представляешь! Представляешь, каково это было — сотни людей работали все вместе, на дело победы? Вот это дух, а? Вот это страна мы были тогда!.. Что со всем этим сталось? Когда я работал, уже было так себе. Каждый сам за себя, выживание сильнейших, у меня-то, Джек, все как по маслу[106]. Вот что начало брать верх. Но сейчас совсем худо, сплошь… модные тряпки, да бары с просекко, да чертовы… мешки с салатом. Мы размякли, вот беда-то. Немудрено, что остальной мир над нами смеется.
Колин отвернулся от ворот. Теперь уже почти совсем стемнело, и отца начало знобить.
— Смеется, пап? — спросил Бенджамин. — Кто над нами смеется?
— Все смеются. Ни в грош не ставят. Думают, мы олухи.
Бенджамин понятия не имел, о чем или о ком отец толкует. Взял его за руку, пока они шли обратно к машине, открыл пассажирскую дверцу и помог плюхнуться на сиденье. Затем сел на водительское место, но некоторое время не заводил мотор. Несколько мгновений они с отцом молчали. Слушали зарождавшийся шелест зимнего дождя по лобовому стеклу.
— Думаю, ты не прав, — сказал наконец Бенджамин. — Я не считаю, что над нами кто-то смеется.
— Отвези меня домой, да и всё, — горестно проговорил Колин.
Март 2016-го
— Увлекательные времена, Дуглас, — сказал Найджел. — Невероятно увлекательные времена. Чьи это слова — «чтоб тебе жить в увлекательные времена»?
— Конфуция. И там «интересные времена».
— Уверен, что на самом деле он имел в виду «увлекательные», — сказал Найжел. — Может, это издержки перевода.
— Он сказал «интересные», — повторил Дуг. — И подразумевалось это как проклятье. Он ничего хорошего не имел в виду.
— Что же нехорошего в том, чтобы жить в увлекательные времена? — спросил Найджел. — У вас, писателей и интеллектуалов, столько негатива во всем.
— Такие вот мы, — проговорил Дуг, всыпая в свой капучино две щедрые ложки сахара. — Вечно на темной стороне.
— Народ уже сыт интеллектуалами, — сказал Найджел. В глазах у него внезапно возник блеск, словно его поразила гениальность этой фразы. — Погодите минутку, мне надо это записать.
— Да не пропадет впустую жемчуг вашей мудрости, — улыбаясь, произнес Дуг, наблюдая, как Найджел корябает у себя в блокноте.
— Чуточку подкрутить — и может выйти неплохая цитатка, — сказал Найджел.
Они встретились, как обычно, в кафе рядом со станцией подземки «Темпл». За несколько недель до этого Дэвид Кэмерон посетил Брюссель, чтобы обсудить новые условия участия в Евросоюзе, с надеждой достичь договоренностей, которые дадут Британии исключительный статус — еще более исключительный, чем уже имелся, — и тем самым утихомирить все более горластую армию евроскептиков. Сразу после этого Кэмерон объявил дату обещанного референдума по членству Британии в Евросоюзе, 23 июня — так вышло, второй день Фестиваля Гластонбери.
— Это, стало быть, сто тысяч молодых людей, которые не утрудятся проголосовать, верно? — спросил Дуг.
— Будет почтовое голосование — и молодым, и старым, — ответил Найджел. — Дэйв предусмотрел все случаи жизни.
— Включая и тот, при котором он проиграет и нам придется выйти из ЕС?
— Все возможные случаи жизни, оговорюсь.
— А что произойдет, если он все-таки проиграет? Уйдет с поста?
— Дэйв? Ни за что. Он не слабак.
— А если результаты окажутся почти равными?
— Почему журналисты так любят гипотетические вопросы? Все-то у вас чисто гипотетическое. «Что произойдет, если вы проиграете?» «Что случится, если мы выйдем из ЕС?» «Что будет, если Доналд Трамп станет президентом США?» Вот же люди, живут в мире грёз. Чего вы мне какие-нибудь практические вопросы не позадаете? Типа: «Каковы будут три ключевые составляющие стратегии в кампании Дэвида?»
— Окей, пусть так. Каковы будут три ключевые составляющие стратегии в кампании Дэвида?
— Я не уполномочен их обнародовать.
Раздраженный Дуг попробовал взять другой курс.
— Слушайте, допустим, народ проголосует за Брекзит, и мы…
— Прошу прощения, — сказал Найджел. — Вынужден вас прервать. Проголосует за что?
— За Брекзит.
Найджел посмотрел на него обалдело.
— Как вам вообще пришло в голову это слово?
— Разве публика не так это называет?
— Я думал, это называется «Брикзит».
— Что? Брикзит?
— Мы это так называем.
— Кто?
— Дэйв и вся команда.
— Все остальные называют это Брекзитом. Откуда вы Брикзит-то взяли?
— Не знаю. Мы думали, оно так называется. — Он вновь принялся писать в блокнот. — Брекзит? Вы уверены?
— Совершенно уверен. Это слово-портмоне. Британский экзит[107].
— Британский экзит… Но получается же как раз Брикзит?
— Ну, греки в своем случае называли это Грекзитом.
— Греки? Но они же не вышли из Евросоюза.
— Нет, но подумывали.
— Но мы-то не греки. У нас должно быть свое слово.
— Оно у нас есть. Брекзит.
— Но мы это называем Брикзитом. — Найджел покачал головой и произвел еще более подробные записи. — Это будет совершеннейшая бомба на следующем заседании кабинета. Надеюсь, я не единственный, кому предстоит им это предъявить.
— Ну, — проговорил Дуг, — поскольку вы убеждены в том, что этого не произойдет, вам и слово не очень-то нужно, верно?
Услышав это, Найджел счастливо улыбнулся.
— Конечно, вы абсолютно правы. Этого не случится, а потому нам и слово не нужно.
— Ну и вот.
— В конце концов, через год вся эта ерунда будет забыта.
— Точно.
— Никто и не вспомнит, что какие-то люди хотели Брикзита.
— Вполне. Хотя, видите ли, кое-кто из тех людей… — Дуг задумался, как бы это сформулировать. — Ну, довольно серьезные ребята, правильно? Борис Джонсон, к примеру. Он настоящий тяжеловес.
— По-моему, не стоит хамски отзываться о его личной внешности, — проговорил Найджел. — Пусть Дэйв и очень на него сердится.
— Он разве не ожидал, что Джонсон заявится на Выход?
— Нисколько.
— Ходит слух, — сказал Дуг, — что вечером накануне сдачи «Телеграф» в печать у Бориса было наготове две статьи. Одна — за «Выйти», вторая — за «Остаться».
— Я в это не верю ни секунды, — сказал Найджел. — Борис подготовил бы три статьи — за «Выйти», за «Остаться» и за колебания в нерешительности. Он все базы прикрывать любит.
— А еще же Майкл Гоув[108]. Еще один игрок за Выход.
— Верно. Дэйв очень зол на Майкла. К счастью, все равно хватает преданных, разумных консерваторов, ценящих преимущества членства в ЕС. Насколько мне известно, с одной такой вы спите. Но представьте, каково Дэйву с Майклом и кое-кем еще. В смысле, он аж в Брюссель съездил и добыл нам чудесные условия, но этим все равно не угодишь.
— Многим просто не нравится ЕС, — сказал Дуг. — Они считают, что он недемократичный.
— Да, но выход из ЕС повредит экономике.
— Они считают, что Германия помыкает остальными странами.
— Да, но выход из ЕС повредит экономике.
— Они думают, что из Польши и Румынии понаехало слишком много иммигрантов и из-за них зарплаты ползут вниз.
— Да, но выход из ЕС повредит экономике.
— Окей, — сказал Дуг, — думаю, мы выяснили, каковы три ключевые составляющие стратегии в кампании Дэйва. — Теперь пришла его очередь делать себе пометки. — А что там с Джереми Корбином?
Найджел втянул воздух с долгим присвистом и едва ли не зримо отпрянул.
— С Джереми Корбином?
— Да. Как он во все это встроен?
— Мы не обсуждаем Джереми.
— Почему?
— Почему? Потому что он марксист. Марксист, ленинист, троцкист и коммунист. Маоист, большевик, анархист и левак. Радикальный социалист, антикапиталист, антироялист и протеррорист.
— Но он к тому же и Оставальщик.
— Правда?
— Судя по всему.
— Тогда, конечно, мы с восторгом принимаем его к себе. Но вряд ли Дэйв будет готов находиться с ним на одном помосте.
— Ему и не придется. Джереми отказывается находиться на одном помосте с ним.
— Славно. Вот видите, как приятно, когда политические противники способны отложить в сторону свои разногласия ради общей цели и в кои-то веки хоть о чем-то договориться.
— А именно об отказе вместе находиться на одном помосте.
— Совершенно верно.
— А Найджел Фараж?
Найджел вновь вдохнул со свистом.
— Мы не обсуждаем Найджела Фаража.
— Похоже, много чего вы не обсуждаете. Почему Найджела Фаража нет?
— Дэйв выступил с очень памятной фразой о ПНСК и ее сторонниках. Вот сейчас я ее забыл, но она была очень памятная.
— Он назвал их «чеканушками, маразматиками и скрытыми расистами».
— Правда? Как некрасиво с его стороны. Так или иначе, Найджела Фаража мы всерьез не воспринимаем. Равно как и ПНСК. В конце концов, от них в парламенте всего один человек.
— Но это все из-за системы простого большинства. На самом деле у них двенадцатипроцентная поддержка, а значит, эта партия — третья по популярности.
— Вот в чем красота нашей парламентской системы. Она не позволит… как там у Дэйва — кому?
— Чеканушкам, маразматикам и скрытым расистам.
— Она не позволит чеканушкам, маразматикам и скрытым расистам оказывать какое бы то ни было заметное влияние. В смысле, задумайтесь, сколько их, чеканушек, маразматиков и скрытых расистов, по всей стране, и вообразите, что случилось бы, если бы в вопросах национальной важности у них было равное право голоса со всеми остальными.
— Но именно это референдум им и предоставит.
Найджел вздохнул.
— Негативное мышление, Дуглас. Вечно негативное мышление. Негатив, негатив, негатив. Мы того и гляди ошеломительно задействуем прямую демократию. Ну же — вы живете политикой и дышите ею, правда? Это же страсть всей вашей жизни. Вы разве не хотите разделить эту страсть со своими согражданами? То, за что взялся Дэйв, — это начало разговора. В ближайшие три месяца страна будет поглощена и потрясена общенациональным разговором о месте Британии в Европе и мире. Вы только вдумайтесь! Подумайте о миссис Джоунз…
— О ком?
— Я просто для примера, это гипотетический пример. Подумайте о миссис Джоунз, как она идет в мясную лавку субботним утром. «Доброе утро, миссис Джоунз, — говорит мясник. — Дюжину ломтиков прекраснейшего бекона для вас и вашей семьи, как обычно?» И пока выкладывает их на стойку, подрезает и заворачивает, он добавляет: «Ну, что скажете о влиянии этих досадных нетарифных ограничений, э? Чтоб мне пусто было, но они значительно повлияют на британскую сферу услуг, а она составляет до восьмидесяти процентов оборота в экономике». И миссис Джоунз ему отвечает: «Ах, но по правилам ВТО…»
— Найджел, — перебил его Дуг, — вы совершенно свихнулись, если думаете, что люди станут беседовать вот так. На всю страну и двенадцати человек не найдется, кто понимает, как устроен ЕС, — какое уж там понимать, как его система вписана в общемировую. Вы этого не понимаете, я не понимаю совершенно точно, и если вам кажется, что люди за три месяца уразумеют это лучше, вы живете в Тучекукуйщине. Люди проголосуют так же, как и всегда, — нутром. Эту кампанию предстоит выиграть на девизах, цитатах, инстинктах и эмоциях. Не говоря уже о предубеждениях — к которым Фараж и его чеканушки горазды апеллировать, между прочим.
Найджел откинулся на спинку, скрестил руки на груди. Лицо его источало чистейшую жалость. Он побарабанил пальцами по бицепсам и сказал:
— Дуглас, Дуглас, Дуглас. Вы знаете, как давно — сколько лет — мы с вами встречаемся в этом кафе? Почти шесть. За это время у нас состоялось столько интересных разговоров. И мне хотелось бы думать, что во многом, вопреки нашим различиям в политических взглядах, возрасте, физическом здоровье, — вы понимаете, что я имею в виду, не хочу вас смущать и поднимать эту тему еще раз, хотя визитку отца я вам оставлю, на будущее, — мне хотелось бы думать, что у нас сложилась искренняя дружба. За это время с вами столько всего произошло. Многие газеты, на которые вы работали, позакрывались. Комментаторы, подобные вам, уже не располагают тем влиянием, какое у них когда-то было. И все равно каждую нашу встречу мы говорим о правительстве, которому я имею честь служить, и о премьер-министре, с которым мне так повезло работать, — и, да, считать в некотором смысле другом, — и всякий раз вы выступаете в роли пророка погибели. Вечно провидите катастрофу и поражение. Но Дэвид — победитель, Дуглас. Он боец. Он намерен бороться в этой кампании — и победить в ней. Так же, как победил на выборах в прошлом году — вопреки всем пророкам беды. Вопреки всем этим нелепым опросам общественного мнения, согласно которым должен был проиграть. В смысле… — тут он недоуменно рассмеялся, — вы помните, до чего сильно они ошиблись? Да кто после этого будет слушать этих умников? Кто хоть на грош поверит этим опросам?
— Которые на этот раз, — напомнил Дуг, — говорят, что в июне верх одержит «Остаться».
— И они правы! — торжествующе провозгласил Найджел. — Дэйв действительно выиграет! Обязан выиграть. Обязан выиграть, потому что у него впереди еще четыре года на посту, у него столько работы, и его долг перед британским народом — продолжать.
— Отлично, — сказал Дуг. — Еще четыре года жесткой экономии, сокращения бюджетов на общественные услуги и на соцзащиту, ползучей приватизации НСЗ…
— Именно. Видите? Столько всяких дел! Кстати, о делах… — Найджел глянул на часы и вскочил. — Мне пора. С нашими кофе разберетесь? В следующий раз будет моя очередь.
Найджел ушел. Дуг заплатил по счету и медленно двинулся по Набережной к мосту Ватерлоо, качая головой и размышляя, как обычно, о том, что направление этих бесед ему так никогда и не удается предсказать. Через десять минут у него завибрировал телефон — пришло СМС. От Найджела.
«Вот поди ж ты — народ *действительно* называет это Брекзитом. Спасибо за наводку!»
Апрель 2016-го
— Я иногда размышляю, — сказал Бенджамин, — какой была бы моя жизнь, не окажись я в той школе.
Чарли покачал головой и сказал:
— Не углубляйся в это, дружище. В эти «а что, если». Запрещено. Там таится безумие.
— Нет, но…
— Все складывается к лучшему. Приходится в это верить. Когда мы познакомились с Ясмин, к примеру, все вышло случайно. Рок, судьба, кисмет.
— Кисмет? — скептически переспросил Бенджамин. Отпил глоток гиннесса. Чарли уже прикончил свою пинту и ждал, пока Бенджамин его догонит. Бенджамин пил медленно.
— Да. Бывают такие моменты — такие моменты, когда все в жизни вдруг сходится воедино. Не обязательно это случается в Шангри-Ла или как там… Со мной это произошло в магазине «ИгрушкиЭтоМы», под Дадли. Не до жиру бывает, сам знаешь.
— Да наверное, — отозвался Бенджамин.
— Но ты подумай, сколько всего после этого получилось. Если б я там не работал, когда она пришла с Аникой, если б они не попросили меня достать набор для настольного тенниса с верхней полки, я бы с ними не заговорил. Никогда б не начал с Ясмин встречаться, никогда бы не начал водить Анику в школу и никогда бы не узнал, что в школе есть девочка по имени Кристэл, которая ненавидит Анику и завидует ей. Не узнал бы я, что у Кристэл есть отец по имени Дункан, который тоже работал детским массовиком и возненавидел меня просто за то, что я опекаю девочку, которую не выносит его дочка.
Чарли уже излагал Бенджамину эту историю во время одного из их совместных обедов — историю Дункана Филда, также известного как Доктор Сорвиголова, работавшего в той же профессии, что и Чарли, и последние пять лет всеми силами пытавшегося усложнить трудовую жизни Чарли. Заявлялся на выступления Чарли в театре при «Вудлендз» и саботировал их, стоя в кулисах и подзуживая или даже вылезая на сцену без приглашения. Выяснял, на какие детские праздники Чарли приглашали поработать (Чарли не удалось разобраться, как это можно выяснить), приезжал в тот же дом на двадцать минут раньше, заявлял, что приехал на замену, и подгребал под себя весь заказ. Стили у них были диаметрально противоположные: Барон Умник был тихим чудаком-просветителем, а Доктор Сорвиголова — горластым хамом, тяготел к химически опасным фокусам, зачастую нарушавшим правила техники безопасности и не раз приводившим к вызову пожарных. Эти двое яростно соперничали профессионально и глубоко презирали друг друга лично.
Корень их вражды — ненависть между Кристэл и Аникой в школе. Аника вообще-то не была падчерицей Чарли, хотя он иногда называл ее так. С матерью Аники Ясмин они общались больше шести лет, но у Бенджамина уже сложилось стойкое впечатление — по тому, что обо всем этом рассказывал сам Чарли, — что влюбленность была почти односторонней. Чарли проводил некоторые ночи дома у Ясмин, но переезжать к себе она ему не позволяла, а потому он вынужден был снимать свою квартиру. Ясмин была женщиной трудной, судя по всему, — раздражительной и вспыльчивой, все еще озлобленной после развода, мужчинам она не доверяла. Работы у нее не было, она зависела от финансовой поддержки Чарли; это само по себе было яблоком раздора, поскольку Чарли бросил работу в рознице, чтобы воплотить свою мечту и стать профессиональным детским массовиком-затейником, и с тех пор они еле сводили концы с концами. Аника, похоже, была многообещающей ученицей, уже в выпускном классе, и выказывала особое дарование в языках. Кристэл травила ее с первой же встречи, с первого дня седьмого класса, и все это время отец ни единым словом не одернул ее и не трудился скрывать свою ярость из-за того, что девочку из мусульманской семьи могут считать умнее или успешнее его собственной дочери.
Принимая все это в расчет и замечая, что в последние несколько месяцев от его старого друга, при всей его деланой бодрости, веяло постоянными и глубокими беспокойством и отчаянием, Бенджамин не мог целиком разделить убежденность Чарли в том, что случайная встреча в магазине игрушек в Черной стране[109] преобразила его жизнь к лучшему. Но, возможно, сегодня Бенджамин переменит мнение: его впервые пригласили в дом к Ясмин — на семейный ужин.
— Сначала только надо кое-что прикупить, — сказал Чарли. — Заскочу в «Сейнзбери» или куда-нибудь еще.
— Окей, — сказал Бенджамин и взялся допивать. — Я с тобой.
— Незачем. Ты оставайся тут и выпей еще.
— Честно, я лучше с тобой.
— Глупости. Жди здесь. Минут через двадцать буду.
Чарли так настаивал — почти физически удержал его, когда Бенджамин попытался встать, — что Бенджамин сдался и купил себе еще полпинты гиннесса, хотя пива вообще-то не хотел. Дожидаясь Чарли, сыграл пару партий в судоку на смартфоне, вполглаза посматривая на телеэкран в углу паба, работавший без звука. Человек в костюме говорил в камеру, внизу экрана виднелся титр: «По заявлению казначейства, Брекзит обойдется семьям в Ј4300 в год».
— Откуда они знают? — проговорил мужчина у бара. — Чепуха же, ну? — Его приятель с ним согласился.
Бенджамин вновь занялся головоломкой. Вся эта кампания перед референдумом — громадная и бестолковая трата времени, насколько он мог судить. Результат был известен заранее, и чем скорее все вернется на круги своя, тем лучше.
Возник Чарли с продуктовыми пакетами. Они вместе вышли на парковку, и, пока грузили пакеты в машину, Бенджамин заметил в багажнике спальный мешок. Но, как обычно, не придал этому никакого значения.
Дом Ясмин в Моузли оказался близко; то было скромное здание в середине ленточной застройки на боковой улице, отходившей от торговой, все еще многолюдной и залитой солнцем апрельского вечера. Пока Чарли с Бенджамином, нагруженные пакетами, стояли на пороге, дожидаясь, когда их впустят, Чарли (у которого, похоже, не было своего ключа) закрыл глаза от низкого солнца и проговорил:
— Выпить можем в саду, наверное. Довольно тепло. Как думаешь?
— Здорово, по-моему, — отозвался Бенджамин.
Ясмин открыла дверь и одарила их дружелюбной приветственной улыбкой.
— Чарли мне о вас много рассказывал, — произнесла она, вводя их в узкий коридор. — Не умолкает о своем звездном друге. Никс! — позвала она. — Никс, ты где? Чарли пришел со своим другом.
— Я занята, — раздался голос из соседней комнаты.
— Ну и что. Выйди, прояви воспитание.
— У меня руки в краске.
Ясмин повернулась к гостям.
— Видите, с чем приходится мириться? Ничего не желает делать, что ни попроси. Постоянно пререкается.
Чарли провел Бенджамина по коридору, и они заглянули в маленькую темную гостиную с окнами на веранду; в гостиной главенствовал раскладной стол, сейчас занятый баночками с красками и листом бумаги для рисования. Над бумагой нависала Аника — крошечная фигурка, она изо всех сил старалась сосредоточиться на работе вопреки густым черным волосам, спадавшим ей на лицо и закрывавшим его почти целиком, кроме сосредоточенной нахмуренности.
— Привет, милая, — сказал Чарли. — Это Бенджамин.
— Привет, — не поднимая головы, отозвалась Аника. Она возилась с рисунком женщины, кормившей грудью, над которой сложными многоцветными буквами выводила слово «Возлюбленная». Сам рисунок был сильным, простым и уверенным, но взгляд притягивала именно каллиграфия, выполненная с поразительной смелостью и вниманием к деталям.
— Помнишь, я тебе дарил книгу? Это он ее для тебя подписал.
Аника подняла взгляд. У нее были теплые карие глаза и пухлый выразительный рот.
— Ой, да. Тот Бенджамин. Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Я начала вашу книгу. Еще не дочитала.
— Это часть твоей курсовой?
— М-хм, — произнесла она и вернулась к работе — стала добавлять какой-то оттенок охры к нижней части буквы «е».
— Замечательно смотрится.
— Планируется как книжная обложка.
— Ну и вот, — сказал Чарли. — Сделай ему дизайн обложки на следующую книгу. — Затем стало ясно, что дальнейшего разговора не случится, и он добавил: — Ну, не будем тебя отвлекать.
— Ладно. Я все равно почти закончила.
— Выходи к нам в сад, выпьем.
— Скоро приду.
Они внесли пакеты с продуктами в кухню, выгрузили все на стол. Ясмин споласкивала стаканы под краном.
— Я думал, может, в саду выпьем, — сказал Чарли.
Она обернулась.
— В саду? Зачем в саду?
— Потому что вечер очень приятный.
— Я только что убралась в передней гостиной. Почти полчаса возилась. Мебель на веранде грязная. Ею с прошлого года не пользовались.
— Тогда давай мне тряпку, я все вытру. Запросто.
Чарли достал из кухонного шкафчика тряпку и направился в сад, насвистывая что-то веселенькое. Бенджамин увидел в окно, как Чарли переставляет пластиковую мебель. Садик был всего несколько ярдов, полностью мощеный. Оставшись наедине с Ясмин, тоже смотревшей в окно, Бенджамин все пытался придумать, что бы такого ей сказать, но тут она раздраженно щелкнула языком и швырнула на стол посудную тряпицу.
— Так не делают, — проговорила она. — Бестолковый.
Она решительно двинулась на улицу, и вскоре Бенджамин расслышал, как они ссорятся. А затем кто-то вошел в кухню. Аника.
— Не волнуйтесь, — сказала она о раздраженных голосах, доносившихся из сада. — Это норма. Наша норма.
Она ополоснула заляпанные краской руки в моечной воде, высушила бумажным полотенцем, а затем побрела к пакетам с едой на кухонном столе.
— Думаю, кому-то лучше бы все это убрать.
— Я все достану, — предложил Бенджамин, — а вы раскладывайте по полкам.
— Можно.
Вынимая банки и упаковки и передавая их Анике, он заметил нечто странное. Чарли сказал, что закупаться будет в «Сейнзбери», а еда была из многих разных магазинов. Попадались банки супа из «Теско», помидоры из «Сейнзбери», фасоль и тушенка из «Моррисонз» и «Лидла». Аника заметила, что он растерялся, но поначалу промолчала — пока не убрала еще несколько покупок в шкафы.
— Он вам, наверное, сказал, что купит в супермаркете, да? — наконец спросила она.
— Да. А он где покупал в итоге?
Аника вновь ничего не сказала. До Бенджамина постепенно дошло.
— Вы же не берете из банков продовольствия?
Аника открыла пакет риса и принялась высыпать его содержимое в банку.
— Мама — нет. Считает, что это слишком стыдно. Вот Чарли обычно за нее и ходит. — Вид у Бенджамина был такой, что она решила добавить: — Чего вы так шокированы? Мы уже пару лет этим пользуемся время от времени. Привыкаешь.
— Но…
— Я в семейные финансы не вникаю, но они довольно, бля, кошмарные. У мамы не очень получается удерживаться на работе, и, чего уж там, никто пока не разбогател, жонглируя кубиками Рубика на детских праздниках. — Ссора в саду по-прежнему была в полном разгаре. — Вот поэтому они вечно цапаются последнее время. Когда с деньгами туго, все на нервах.
— Но Чарли все еще ухитряется платить за свою квартиру, — сказал Бенджамин, а затем вспомнил спальный мешок в багажнике машины и задумался, все ли из того, что рассказывает его друг, — правда.
— Ничего про это не знаю. Мне известно, что, когда они с мамой познакомились, у него была постоянная работа. А затем в нашей жизни возник Барон Умник, и мама поначалу его терпела, но сейчас они с Бароном на ножах. Жалко… — Она взяла у Бенджамина из рук жестянку с грушами — но мама так устроена. Чарли — милейший человек. Думаю, он ее по-настоящему любит, как бы плохо она с ним ни вела себя, но она все время хотела себе богатенького. Душераздирающее зрелище, в общем.
— Грустно, — сказал Бенджамин. — Действительно грустно. Жизнь совсем не сводится к деньгам.
— Говорит человек, ни разу не обращавшийся в продовольственный банк. — Она встала на цыпочки, чтобы задвинуть банку с фруктами на верхнюю полку, а затем повернулась и посмотрела на него. — Вы же не прям богатый, так?
Бенджамин растерялся.
— Все относительно.
— Короче, держите ухо востро с ней, вот и все. Она сделает на вас стойку и деликатничать не будет. Прямо у Чарли под носом вся такая «о-ой, я всегда хотела познакомиться с писателем, почему бы нам не встретиться и не выпить как-нибудь?»
Бенджамин, уже задумавшийся, из чего будут состоять «напитки» в саду, спросил:
— Вы, значит, пьете?
— Я? Алкоголь? — Вопрос показался до странного личным, но Аника поняла, что Бенджамин задает общекультурный вопрос.
— А, в смысле, мой… народ. — Глаза у нее засияли тихой издевкой. — Простите, не поняла.
— Я не хотел…
— Кто-то пьет, кто-то нет. — Она широко улыбнулась. — Я понимаю, все запутано, да? Жизнь в этой стране, пока смуглые не приехали, была куда проще.
Досадуя на себя, Бенджамин решил, что нужна быстрая смена темы.
— Мне понравилась ваша иллюстрация. Это для книги Тони Моррисон?
— Да. Не знаю, подходит ли картинка сюжету. Видимо, надо бы прочесть книгу как-нибудь.
— Возможно. Вы очень талантливая. И с языками у вас получается к тому же, как мне Чарли говорил. Французский и испанский.
— Да. Этим я хочу заниматься в универе. Где надеюсь оказаться месяцев через пять…
Позднее, когда они пили пиво в саду, пока Ясмин с дочерью готовили ужин, Бенджамин пересказал Чарли их с Аникой разговор. И Чарли (который вечно удивлял Бенджамина прежде неведомыми глубинами чувства) вперился вдаль (уж как это позволяли расстояния до окружавших их трех кирпичных стен) и промолвил:
— Я готов на что угодно, лишь бы сбылись мечты этой девочки. Абсолютно на что угодно.
Бенджамин глянул на него и увидел, как затуманились у Чарли глаза. Собрался откликнуться на сказанное, но тут зазвонил телефон.
— Нужно ответить, — проговорил он. — Это Софи, моя племянница. Она сегодня у отца.
Софи звонила сказать Бенджамину, чтобы срочно ехал в Реднэл. У отца, похоже, инсульт, «скорая» уже на подходе.
Последние пять месяцев получились у Софи тихими. Никаких официальных уведомлений со своего факультета о том, дан ли ход той жалобе на нее, она не получала, но руководство, судя по всему, пока действовало по принципу «виновна, пока не доказано обратное». Ее адрес изъяли из факультетской электронной рассылки, а сама Софи числилась в бессрочном оплачиваемом «отпуске». Обещали дисциплинарное слушание, но его отменили уже дважды: первый из-за забастовки в лондонской подземке, второй — по болезни профсоюзника, представлявшего интересы Софи.
Она изо всех сил старалась занимать себя, но это давалось нелегко. Трудилась над книгой — адаптацией своей докторской работы — и пыталась ежедневно проводить по нескольку часов дома за рабочим столом (кухонным). Писала она и новый цикл лекций, хотя не знала, удастся ли их когда-нибудь прочитать. Однако время тяжко обременяло ее — просто в смысле чем его занять, — и Софи не без желания помогала матери и дяде, навещая Колина как можно чаще. Накануне вечером она предложила приехать часам к шести и приготовить деду ужин. Через десять или пятнадцать минут натужной беседы она ушла в кухню чистить картошку и ставить мясо в духовку. Вернувшись и спросив Колина, не хочет ли он хереса, ответ она разобрать не смогла.
— Прошу прощения, дед? — переспросила она, подходя поближе, и тут заметила, что лицо у него словно бы обвисло с одной стороны, а когда он вновь попытался заговорить, из него полился поток условных звуков, совсем не похожих ни на какую осмысленную речь, понятно было лишь, что его охватили паника и боль. Софи набрала «999», «скорую» пришлось ждать двадцать минут, за это время она позвонила Бенджамину, тот приехал прямиком от друга, из Моузли. Бенджамин и «скорая» прибыли с интервалом в несколько секунд.
Колина положили в специализированное отделение для инсультников, у него диагностировали преходящее ишемическое нарушение, или мини-инсульт. Оставили на ночь. Наутро Бенджамин позвонил Софи и объявил голосом громадного, пусть и временного облегчения, что симптомы у отца устранены и он, кажется, уже выздоравливает.
— Я так рада, — сказала Хелена в тот вечер, когда они сидели втроем за столом, ждали, когда подадут закуски. — Волнуюсь я за твоего деда иногда, между прочим. Конечно, любой хотел бы оставаться у себя дома как можно дольше, но я вот думаю, не подходит ли пора, когда твоей матери стоит решить, не перевезти ли его…
— Она понимает, что надо что-то менять, — отозвалась Софи. — Они с Бенджамином собираются это обсудить.
— Для тебя, конечно, это тоже травматично. Надеюсь, ты успела сегодня отдохнуть.
Явился официант с двумя бокалами шампанского на серебряном подносе. Первой предложил бокал Хелене, и она было собралась его взять, но вдруг сказала:
— Ой… но мы же просили красное. По крайней мере, я.
— Это за счет заведения, — сказал официант. — Комплимент от управляющего.
— Батюшки! — Сконфуженная — как всегда, если случалось что-то неожиданное, — Хелена взяла бокал и обратилась к сыну за разъяснениями: — Не ты ли это подстроил?
— Я тебе говорил, — сказал Иэн, — этим местом управляет Лукас.
— Лукас?
— Муж Греты. Девушки, которая у тебя прибиралась, помнишь? Я, когда бронировал столик, сказал, что у тебя сегодня день рождения.
— Ну… Очень любезно с его стороны.
— С днем рождения, Хелена, — сказала Софи, поднимая бокал. — Семьдесят семь лет юности. Невероятно.
Они с Хеленой отхлебнули шампанского. Иэн отпил из стакана воду. Он уже сообщил им, что у него день сложился ужасно, и вид у него был как у человека, которому очень надо выпить, но к алкоголю он, когда был за рулем, не прикасался.
— Они все еще живут у вас в деревне? — спросила Софи.
— Кто, милая?
— Грета и Лукас.
— О. Ну… да, наверное. Видела их у магазина неделю или две назад. Она несла ребенка в этом, как его… В котомке — или как он называется. На вид были очень счастливые. — Она помедлила, очень кратко, и Софи поняла, что последует далее. Ну разумеется: — А вы-то, как я понимаю, не очень-то… думали на эту тему?..
Софи покачала головой.
— Последнее время нет.
— Главный парадокс в том, — сказал Иэн, — что сейчас вообще-то самое время заводить. Софи уже так долго без работы.
— Красота, — проговорила Софи тоном сплошного сарказма. — Кому нужен декретный отпуск, если можно оказаться в полностью оплачиваемой временной отставке, совершенно неожиданно и без всякой причины?
— Я в смысле…
— Ты действительно так считаешь? Что сейчас самое время вклинить сюда ребенка, пока университет решает, допустить меня вообще когда-нибудь до преподавания или нет?
Она сердито смотрела на него, пока он не вынужден был отвести взгляд. Перед тем как отпить воды, Иэн проговорил:
— Пусть из этого фиаско выйдет хоть что-то хорошее.
Повисло долгое молчание, а затем Хелена сказала:
— Может, и нет.
Софи подняла голову.
— Может, и нет — что?
— Не допустят до преподавания. — В ответ на ошарашенный взгляд Софи Хелена добавила: — Ну, уже прошло почти полгода. Почему ты думаешь…
— Все попросту медленно. Так оно происходит в академическом мире.
— Ты не рассматривала… — начала Хелена.
Софи посмотрела на нее вопросительно.
— Мы тут подумали, может, тебе рассмотреть возможность попробовать что-то еще. Другую сферу деятельности.
— Мы?
— Мы с Иэном обсуждали это недавно.
Софи умолкла. Слишком разозлилась, не могла слова вымолвить.
— Брось, мам, — сказал Иэн. — Я все это уже пробовал.
Тут своевременно прибыли закуски. Их молча поставили перед гостями. Официант, привычный к такому, тут же почуял охлаждение над этим столиком.
Начав с лососевого мусса, Софи повернулась к Иэну и сказала:
— Уму непостижимо — ты хочешь, чтобы я все бросила?
— Уму непостижимо, что ты хочешь продолжать в такой среде. Ты от этих людей ни грамма поддержки не получила.
Встряла Хелена:
— По-моему, ты собиралась попросить своего дядю, чтобы он связался с тем другом?
— Он связался. Тот сказал, что он никакого влияния не имеет на то, что делает его дочь. Они, насколько я поняла, почти не разговаривают.
— Надо было уже объяснить им, как делается их работа, — сказал Иэн.
— И что — спустить все псу под хвост? Я восемь лет добивалась своего положения.
— Я это ценю. Ценю твой труд, который ты в это вложила. Но эта среда, где ты работаешь, Соф, — она ядовита.
— Ядовита? Что в ней ядовитого?
— Атмосфера, то, как люди мыслят… бред же. Они оторвались от реальности.
— Это все недоразумение, не более. Бывает такое. Так или иначе, я не вижу ничего бредового в уважении к меньшинствам.
Иэн раздраженно швырнул вилку на стол:
— Да перестань уже быть такой, блин… ПК на эту тему!
Софи откинулась на стуле и улыбнулась:
— Вот, пожалуйста. Мне было интересно, много ли надо, чтобы в разговоре всплыли эти две буквы.
— То есть?
— Ты вообще понимаешь, Иэн, как часто в последнее время обвиняешь меня и всех остальных в том, что мы, на твой вкус, слишком «пэ-ка»? Ты одержимый стал. Я даже не уверена, понимаешь ли ты, что это «пэ-ка» значит.
— Я отчетливо понимаю, что оно значит. То, что ты называешь уважением к меньшинствам, по сути означает два средних пальца нам, всем остальным. Ладно, защищай своих драгоценных… трансгендерных студентов от ужасных гадостей, которые люди о них говорят. Обкладывай их ваткой. А если ты белый гетеросексуальный мужчина из среднего класса, м-м? Людям можно говорить тебе что, блядь, угодно.
Мать Иэна поморщилась от ругательства. Софи задумалась на миг, а затем сказала:
— Ты сегодня встречался с Нахид, так? Ежеквартальная отчетность.
— Ага.
— Как все прошло?
— О, фантастически. Если нравится, когда человек, с которым ты когда-то работал, обращается с тобой покровительственно и смотрит на тебя сверху вниз, — замечательно все прошло.
— И ты поэтому в таком паршивом настроении? Не пора ли уже забыть об ударе, нанесенном твоему мужскому эго, и жить дальше?
— Моему мужскому эго? Так я и знал. Почему не просто моему эго? Нет, тебе надо свести все к тому, что я мужчина. А дальше поговорить о моих «белых» привилегиях. Ну давай, расскажи мне, какой я, блядь, привилегированный. Расскажи мне, что подобные мне не становятся жертвами в собственной стране.
Софи глянула на Хелену — та смотрела на них в ужасе, к еде у себя на тарелке почти не притронулась. Софи внезапно стало стыдно.
— А вот сейчас ты несешь чушь, — проговорила она. — И нам не надо бы разговаривать в таком тоне на дне рождения у твоей мамы. Простите, Хелена.
— Не надо бы. — Хелена отложила нож и вилку. — С вашего позволения, отлучусь на минутку. Пойду поищу дамскую комнату.
Она отодвинула стул и медленно пошла вглубь ресторана. Иэн с Софи некоторое время ели молча.
— Тебе не кажется, что следовало бы пригасить это немножко? — наконец спросила Софи. — Ради нее — хотя бы сегодня?
— Она со мной согласна, между прочим. Она на моей стороне.
— С каких пор у нас стороны?
Иэн посмотрел на нее в упор и ожесточенно спросил:
— Ты понятия не имеешь, да?
— Понятия не имею о чем?
— Как нас злит вот это моральное превосходство вашей братии, которое вы постоянно излучаете…
Софи перебила его:
— Извини, пожалуйста, но кто они, эти люди? Кого — «нас»? Какая «ваша братия»?
Вместо ответа на вопрос Иэн задал встречный:
— Как ты думаешь, каков будет исход референдума?
— Не меняй тему.
— Я не меняю. Каков будет исход референдума, по-твоему?
Софи поняла, что Иэн продолжит настаивать. Надула щеки, выпустила воздух и сказала:
— Ну не знаю… «Остаться», наверное.
Иэн удовлетворенно улыбнулся и покачал головой.
— Ошибаешься, — проговорил он. — Победит «выйти». Знаешь почему?
Софи покачала головой.
— Из-за таких, как вы, — сказал он с тихим торжеством. А затем повторил, наставляя на нее палец: — Из-за таких, как ты.
* * *
Хелена вернулась из дамской комнаты, и им всем вместе удалось заполнить дальнейшие полтора часа безопасной, безобидной болтовней о мелочах. В конце трапезы явился сам Лукас с двумя стаканами портвейна — тоже за счет заведения — и маленьким бисквитом, который Грета испекла Хелене ко дню рождения. Они рассыплись в благодарностях, но пирог есть уже были не в силах, и Хелена забрала его домой. Иэн и Софи отправились обратно в Бирмингем.
В машине почти не разговаривали. Софи могла только догадываться, о чем думает Иэн. Она же размышляла о часах, проведенных за последние два года в компании Иэна и его матери: поездки в места, где Софи не чувствовала себя в своей тарелке, трапезы не в ее вкусе, мнения, с которыми она не соглашалась, разговоры, которые ей не нравились, знакомства с людьми, с которыми у нее ничего общего, и все это время — езда туда-сюда, туда-сюда по этим дорогам, этим однообразным дорогам, связывавшим Бирмингем и Кёрнел-Магну, туда-сюда в самом сердце Средней Англии, сердце, что билось вопреки всему в мерном, решительном ритме, тихо и неумолимо. Софи размышляла о часах, которые могла бы провести в других местах, с другими людьми, ведя другие разговоры. Думала о том, до чего иначе могла бы сложиться ее жизнь, если бы ее в тот день не поймали на превышении скорости по пути к станции Солихалл; до чего иначе могла бы сейчас быть ее жизнь, если бы она не отпустила в конце семинара ту неуклюжую шутку в адрес Эмили Шэммы. Эти усталые, более чем знакомые мысли удручили ее и наградили головной болью. А потому ей, возможно, следовало бы поблагодарить Иэна за то, что он попытался поднять им настроение, вдруг указав на проехавший мимо автомобиль со словами:
— Смотри-ка.
Софи подняла голову и открыла глаза.
— М-м?
— ИВВ, — сказал он. — Имейте в виду.
Ах да. Игра в автомобильные номера. Кажется, они уже много лет в нее не играли. Может, так оно и было. Софи попыталась явить улыбку, но ей это не удалось. А когда ей подумалось, что эти же буквы означают «Иэн, вали вон», ей стало грустно и стыдно.
Среда, 20 апреля 2016 года
Когда Бенджамин снял трубку, Лоис первым делом сказала:
— Ты слышал про Викторию Вуд?
Миг-другой он соображал, о ком вообще речь. Комик. Часто на телевидении. Очень смешная. Писала хорошие песни. Это она.
— Нет, а что с ней? У нее турне?
— Она умерла, Бенджамин. Виктория Вуд умерла.
— Правда? Сколько ей было?
Голос у Лоис дрожал.
— Шестьдесят два. Всего на пару лет старше меня. Я ее обожала, Бенджамин. Она была настоящей частью моей жизни. У меня будто лучшая подруга или сестра умерла.
Не в силах измыслить ничего утешительного, Бенджамин просто стал думать вслух:
— Что за год такой — 2016-й? Все помирают. Дэвид Боуи, Алан Рикмен…
Впрочем, как выяснилось, Лоис звонила не для того, чтобы сообщить ему эту новость. Она звонила сказать, что увольняется из библиотеки в Йорке и возвращается жить в Бирмингем.
— Вынуждена, — сказала она. — Нельзя больше сваливать на тебя всю ответственность по уходу за отцом. Это несправедливо. Я подала на увольнение, за месяц. Могу поискать новую работу, отсюда. Пафосно звучит, я понимаю, но у меня нехорошее предчувствие. Думаю, все станет хуже. Нам с тобой в такие времена лучше держаться вместе. Может, это последние дни.
* * *
Четверг, 21 апреля 2016 года
Когда Бенджамин снял трубку, Филип первым делом сказал:
— Ты слышал про Принса?
— Нет, а что с ним? Новый альбом записал?
— Он умер, Бенджамин. Принс умер.
Пылким поклонником Принса Бенджамин не был никогда. Тем не менее его потрясло, что 2016-й принес новость еще об одной «звездной» кончине.
— Принс? Умер? Шутишь. Сколько ему было?
— Пятьдесят семь. Нашего возраста, считай.
— Ужас какой. Что творится в этом году. Дэвид Боуи…
— Алан Рикмен…
— Виктория Вуд…
— Такое ощущение, что они все сматываются, пока могут.
— Будто что-то такое знают, чего не знаем мы.
Впрочем, как выяснилось, Филип звонил не для того, чтобы сообщить ему эту новость. Он звонил сказать, что одно крупное парижское издательство пожелало купить права на французское издание «Розы без единого шипа».
— Фантастика, — сказал Бенджамин. — Можешь связать их с моим агентом? Теперь все эти вопросы решает она.
* * *
Пятница, 22 апреля 2016 года
Дружить означает в том числе и быть откровенным — и донести до вас мои соображения. И, откровенно говоря, последствия этого решения представляют глубокий интерес для Соединенных Штатов, поскольку оно влияет и на наши перспективы. Соединенные Штаты желают видеть у себя в партнерах сильное Соединенное Королевство. И Соединенному Королевству лучше всего, когда оно помогает вести вперед сильную Европу. Единый рынок предоставляет Соединенному Королевству необычайные экономические преимущества… Мы все дорожим своим суверенитетом. Моя страна заявляет об этом во весь голос. Но США в то же время признают, что благодаря членству в НАТО мы укрепляем нашу безопасность. Мы укрепляем наше процветание благодаря участию в организациях уровня Большой семерки и Большой двадцатки. И я убежден, что Соединенное Королевство укрепляет и нашу общую безопасность, и безопасность во всем Евросоюзе… Мне кажется, справедливо будет сказать, что, вероятно, однажды станет возможным торговое соглашение между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, но совсем не скоро, потому что мы сосредоточены на торговых переговорах с крупным блоком — Евросоюзом. И Соединенное Королевство окажется в хвосте очереди. Не потому, что у нас нет особых отношений, а потому, что, с учетом мощи любых торговых соглашений, для нас гораздо эффективнее добиваться выхода на большой рынок, ко многим странам, а не пытаться достичь дробных торговых соглашений.
Президент Обама предложил свой комментарий на утренней пресс-конференции в Лондоне, стоя рядом с Дэвидом Кэмероном. Гейл Рансом должна была в тот же вечер произносить речь в Торговой палате Ковентри и Уорикшира и, когда сильно после обеда получила от своего аналитика Дэмона последний черновик, заметила, что он обильно цитирует американского президента.
Поначалу ей не удавалось поймать Дэмона. К тому времени, когда им наконец удалось поговорить по телефону, домой вернулся Дуг и сел в гостиной смотреть «Новости Четвертого канала». Гейл ушла в коридор и попыталась заглушить звук, приложив ладонь к уху.
— Дело вот в чем, — говорила она Дэмону, — по-моему, оно не сыграет так, как вам кажется.
— Не уверена, что так оно и есть. Да, я понимаю, мы оба любим Обаму. Но не все такие, как мы.
— Ну, по очевидным причинам, по крайней мере.
— Чего вы такой потрясенный. Это, как ни печально, правда.
— Я только что посмотрела на отклик в интернете, вот и все. Многие очень разозлились на вот этот «хвост очереди». Они считают, что это все подстроено — что Дэйв стоит рядом, и они оба такие друганы. Людям кажется, что это похоже на угрозу.
— Да, именно. Все это часть «Проекта Страх».
— Нет, я все равно хочу это упомянуть, но вы бы пригасили это чуть-чуть? Не надо цитировать слова «хвост очереди». И давайте как можно быстрее, мне надо выезжать через… — она глянула на часы, — двадцать пять минут.
Она как раз завершала звонок, когда услышала голос Дуга из гостиной — он проорал:
— ЕБАНЫЙ УЖАС!
Она вбежала к нему.
— Что случилось?
— У них сюжет, — сказал он, ставя на «стоп» картинку и перематывая ее на несколько секунд назад, — про крупнейших доноров кампании за выход. И ты глянь.
На экране замерло изображение крыльца, судя по всему, в состоятельном районе Центрального Лондона. Входную дверь обрамляли греческие колонны, по лестнице внушительного георгианского особняка спускались трое мужчин в костюмах. Один из них выглядел изможденно, кожа обвисла — как у человека, который когда-то был толстым, но сильно сбросил вес. Юркие, бдительные глаза за круглыми рамками дорогих очков в золотой оправе; человек полностью лыс.
— Я с этим мудаком в школе учился, — сказал Дуг. — Боже, мы все его ненавидели! И поди ж ты: вот кто смеется последним-то. Он теперь, надо думать, стоит миллионы.
— Сколько он пожертвовал?
— Пока два миллиона. Интересно, каковы его тайные мотивы. Жадный, коварный мудак.
— Я о нем ничего не знаю, — сказала Гейл, щурясь на титры, сообщавшие его имя прописными буквами: «РОНАЛД КАЛПЕППЕР (ФОНД ИМПЕРИУМ)».
* * *
Понедельник, 9 мая 2016 года
За столом в пабе их было девятеро, притиснутых друг к другу в неуютной, по мнению Бенджамина, близости. Ему нравилось прижиматься к Дженнифер — но не к ее тощему коллеге Дэниэлу, сидевшему справа от Бенджамина. Они собрались здесь, чтобы отпраздновать тридцатилетие Марины, новенькой сотрудницы в филиале у Дженнифер. Бенджамин уже начал жалеть, что явился сюда, пусть Дженнифер и настаивала.
Беседа состояла в основном из шуток и конторских сплетен, и слушал он поэтому не слишком внимательно. Бенджамин понятия не имел, на какой вопрос Дэниэл отвечал вот какими словами:
— Ну, очевидно, нам всем крышка, если выйдем из Евросоюза.
Тем не менее эта реплика привлекла его внимание.
— В каком смысле? — спросил кто-то, и Дэниэл пояснил, что в одной своей речи в рамках кампании Дэвид Кэмерон заявил, согласно какой-то утренней газете, что выход из ЕС может привести к Третьей мировой войне. Кто-то другой сказал:
— Вряд ли он подразумевал именно это. Просто имел в виду, что войны в Европе не было уже давно отчасти благодаря ЕС.
На что Дэниэл отозвался:
— В газетах сообщали не так.
Тут встрял Бенджамин:
— Его почти наверняка процитировали неточно.
Голос он подал так тихо, что его и услышали-то чудом. Но все-таки услышали, а поскольку это были едва ли не первые слова, которые этот застенчивый седовласый чужак произнес за весь вечер, за столом примолкли, чтобы послушать. Поняв, что внезапно оказался на трибуне, Бенджамин помедлил, а затем откашлялся и добавил:
— Неважно, что ты говоришь. Газетам интересно извлечь из этого историю, и все. А если история недостаточно сильная, они ее усилят сами. В публичном пространстве любая фигура, говорящая со СМИ, делает это на свой страх и риск. Я знаю не понаслышке, со мной тоже так было. До Дэвида Кэмерона мне обычно нет никакого дела, но в данном случае я ему сочувствую. Быть у всех на виду — штука нелегкая.
После того как эта речь была произнесена и разговор возобновился, Дженнифер сжала ему руку, а, повернувшись к ней, Бенджамин увидел, что она улыбается и глаза у нее сияют лукавством, но при этом и нежностью.
— «Быть у всех на виду»! — повторила она. — Ты такой славный. — Поцеловала его в губы. Рот у нее был влажен, на вкус — красное вино. — Люблю тебя, Тигр.
Она собралась в туалет, встала, по мере возможности осторожно протиснулась мимо сидевших. Бенджамин обдумал ее слова. «Люблю тебя». С одной стороны, миг, вероятно, знаменательный: может, она заявила о своей к нему любви — впервые. Но с другой стороны, она бы тогда, конечно же, сказала: «Я люблю тебя». Разве «люблю тебя» — не что-то гораздо более обыденное, просто формула, сокращенный вариант выражения симпатии к кому-нибудь? Непонятно.
Дженнифер оставила телефон на столе. Он лежал прямо перед Бенджамином, вдруг зажужжал, Бенджамин взял его в руку и увидел, что пришло сообщение: «Освобожу четверг, если удобно. Роберт ххх».
Тоже непонятно. Кто этот Роберт? Потом она ему объяснила, что это бывший клиент, который стал другом. Значит, все, наверное, в порядке.
* * *
Среда, 11 мая 2016 года
Соан сидел на диване в одной футболке. Ноги расставлены, на голом бедре покоилась голова Майка. Майк с нежностью смотрел на пока еще вялый Соанов член, пощелкивал по нему, чтобы тот зашевелился. Чуть погодя поцеловал его и взял в рот.
Тем временем на телеэкране Борис Джонсон в Корнуолле запускал боевой автобус кампании «Выйти». Запуск включал в себя обращение на камеры, в руке Джонсона — пинта доброго корнишонского эля, за спиной — здоровенный красный автобус, на котором была накрашена какая-то статистика. В таком вот духе парламентарий-консерватор от Аксбриджа и Южного Руислипа излучал свое фирменное самоироничное жизнелюбие, к какому британская публика, судя по всему, относилась с большой нежностью, но Соана сегодня — как и всегда — от него с души воротило.
— Триста пятьдесят миллионов фунтов на НСЗ? — проговорил он. — Ага… мечтай, БоДжо.
— Можешь выключить эту фигню? — спросил Майк. — Я собираюсь вложить в то, чем занят, много сил. Буду признателен за твое полное внимание.
Джонсон тем временем рассказывал интервьюеру, что следующей в Евросоюз войдет Турция, в результате чего миллионы мусульман, мужчин и женщин, вскоре получат неограниченный доступ к Объединенному Королевству.
Соан фыркнул:
— Мудня!
— Как скажешь, — отозвался Майк и принялся вылизывать Соану левое яичко. — Но мог бы хоть «пожалуйста» сказать.
* * *
Воскресенье, 15 мая 2016 года
— Тебе холодно? — спросил Бенджамин.
— Нет, — ответил Колин. — Не холодно.
— Просто подумал, зачем тебе плед, вот и все.
С тех пор как вернулся месяц назад из больницы, Колин не выходил из дома. Более того, он едва высовывал нос из гостиной, а то даже из кресла перед телевизором, хотя Бенджамин понимал, что отец время от времени отсюда все же удаляется — спать или в туалет. На коленях у него постоянно лежал полосатый разноцветный плед — плод творческой фазы жизни, которую Шейла прошла в свои шестьдесят с чем-то, пока недолго заигрывала с искусством вязания.
— Он мне нравится, — объяснил Колин. — Милый плед. — Там же, у него на коленях, лежал журнал «Санди телеграф» с фотографией Бориса Джонсона на полстраницы; вид у Джонсона был как у серьезного государственника, глаза прищурены против света, на челе — устремленные вдаль Черчиллевы думы. — Ты с ним в одном колледже учился, да?
Бенджамин вздохнул. Он уже порядком устал от этого мифа, который, казалось, распространяется все шире.
— Мы не были знакомы, — сказал он. — Наши пути пересеклись. Ненадолго.
— Я видел ту статью в газете, про тебя. Там говорилось, что вы были друзьями по колледжу.
Бенджамин еще раз осознал, что, судя по всему, отец запоминает или забывает без всякой закономерности, ритма или причины, потянулся и взял газету:
— Так-так, и что же он на сей раз говорит?
Джонсон на сей раз проводил аналогию между Евросоюзом и нацистской Германией. В обоих случаях, рассуждал он, замышлялось создание европейского сверхгосударства с Германией во главе, сейчас — экономическими, в прошлом — военными методами. Бенджамин, чей интерес к политике за последние несколько недель возрос экспоненциально, совершенно оторопел. Политические дебаты в этой стране вот во что выродились, значит? Это из-за кампании перед референдумом или так всегда и было, а он не обращал внимания? Любой ли британский политик мог бросаться подобными сравнениями и не сомневаться, что ему это сойдет с рук, или же это особая привилегия Джонсона с этими его милыми патлами, самодовольными итонскими манерами и иронической ухмылкой, неизменно таившейся в уголках рта? Бенджамин вернул отцу газету, и тот сказал:
— Кучу денег истратили, когда тебя отправили в Оксфорд. У него получилось гораздо лучше, чем у тебя, а?
— Серьезно?
— Он дело говорит. Чуть ли не единственный. Шесть лет нам понадобилось, чтобы остановить немцев. Хрен какой помощи мы от кого получили, кроме американцев, в последнюю минуту. А теперь ты погляди на них. Помыкают нами. Втолковывают, как и что нам делать. Смеются над нами у нас за спиной.
Тоска. Бенджамин уже не понимал, как ему быть, когда отец принимался вот так рассуждать.
— Чаю, пап? — предложил он от отчаяния.
— Нет, спасибо. Добудь мне почтовый бюллетень.
— Что?
— Для референдума. Из дома я, может, выйти не смогу, но меня это не остановит, я слово свое скажу.
Бенджамин кивнул.
— Окей. Конечно.
— Мне нужны бланк, конверт и марка. Устрой мне это, ладно?
— Запросто.
Бенджамин глянул на часы на стене. Приличия требовали, чтобы он побыл еще полчасика. Когда Лоис переедет, станет полегче.
* * *
Понедельник, 23 мая 2016 года
Аника уже была совсем взрослая, и из школы ее забирать не требовалось, однако раз в несколько дней Чарли все равно приезжал за ней, предполагая, что ей это нравится, если не просит перестать. Их с Аникой путь к дому Ясмин всегда складывался так, что Чарли поначалу терялся, а потом его это стало веселить, и он в конце концов попросту принял все как есть. Переполненная впечатлениями долгого дня, историями, которыми необходимо поделиться, и потаенными чувствами, требовавшими выхода, Аника изливала на Чарли потоп своего монолога, длившегося минут пятнадцать, бурную реку слов, какую не остановить и на самую малость.
Прекращалось все так же внезапно, как и начиналось. Аника не ждала, пока Чарли предложит какие-нибудь свои соображения, — она попросту умолкала, вытаскивала смартфон и весь остаток дороги хмурилась, глядя в него, время от времени прокручивая и щелкая. Завершали поездку в молчании. Чарли теперь уже понял, что ему полагалось быть всего лишь слушателем, необходимым бездеятельным сосудом для ее мыслей и секретов, и он эту задачу выполнял с радостью.
Сегодня она описывала перепалку с учительницей испанского на уроке перед переменкой — учительница славилась своей склонностью заводить любимчиков (Аника к ним не относилась) и бесстыдно обращаться с ними по-особому, — и тут:
— …и тут во время обеда Дискуссионное общество обсуждало референдум — немудрено — и говорила Кристэл — конечно, «Уйти» — и погнала про то, какая важная штука эта иммиграция — что это главная беда ЕС — свобода передвижения стала катастрофой для этой страны, говорит, — у нас тут битком, куда нам еще людей, — и если в таком случае британцам нельзя будет жить в Берлине, когда им нравится, или работать в Амстердаме, ну и ладно, такое по карману все равно только богатым мажорам — говорит, такую цену можно заплатить, чтобы сюда не лезли поляки и румыны — я то же самое от мамы слышала, только представь себе, — думаю, она проголосует «Уйти», потому что считает, если проголосуем так, чтоб сюда не приезжали люди из Европы, мы сможем перетащить сюда больше народа из Пакистана и все ее двоюродные смогут приехать — но дело в том, что я даже не уверена, что Кристэл вообще во все это верит — по-моему, она просто от отца нахваталась — в смысле, сам знаешь, какой он, ну? — ужас какой-то — неудивительно, что вы друг друга на дух не выносите…
* * *
Четверг, 26 мая 2016 года
Через три дня цифры, опубликованные правительством, показали, что ежегодная чистая миграция в Соединенное Королевство возросла до 330 тысяч — исторический рекорд. И Софи наконец отправилась в Лондон на свои сильно отложенные дисциплинарные слушания.
Столицу она не навещала уже несколько недель, а на гуманитарном факультете ноги ее не было почти полгода. Тамошний климат Софи глубоко ошарашил. Она шла по коридору к своему кабинету, и некоторые коллеги приветствовали ее коротким смущенным кивком. Были и такие, кто избегал встречаться взглядами и спешил мимо без единого слова. Ни один не остановился поговорить, спросить, как она поживает, чем занималась с тех пор, как они последний раз виделись. Все на факультете — от обстановки кабинетов, расположения картин и досок объявлений на стенах, даже игра солнечного света на паркете — казалось одновременно и чужим, и знакомым.
Дверь в свой кабинет Софи отперла и толкнула с любопытным чувством облегчения. Она была отчасти готова к тому, что замки могли сменить. Внутри было очень тихо и неподвижно. Все покрывал тонкий слой пыли: книги на полках, чайник на подоконнике, пустой письменный стол. Три цветка в горшках на полках давно пожухли и умерли. Софи упала в кресло — в нем обычно сидели студенты, когда ей разрешали проводить личные консультации, — но почти сразу встала. Слишком тут уныло. Лучше пойти в кафе, где они встречаются с ее представительницей из профсоюза, хотя та появится только через полчаса.
Через полтора часа Софи вернулась к себе в кабинет; ее академическое будущее нисколько не стало ей понятнее. Сотрудница профсоюза по имени Энжела оказалась холодной и насупленной чинушей, и отношение к случаю Софи у нее было такое показательно непредвзятое, что никакой ощутимой поддержки она вроде как и предложить не могла. На самом слушании Энжела и Софи сидели по одну сторону длинного стола, а по другую — четверо оппонентов, включая Мартина Ломэса и Корри Андертон, очная встреча с которой Софи решительно вывела из себя. (Девушка оказалась угрюмой и хамоватой, в глаза Софи не посмотрела ни разу, но ее знание университетских правил и закона о равных возможностях производило сильное впечатление.) Софи старательно изложила свою сторону истории, пусть это мало что добавило, хотя она настойчиво повторила, что ее слова — не более чем легкомысленное замечание, которое было превратно понято. Ее оппоненты делали пометки и задавали вопросы. Мартин сказал ей в конце сорокаминутных слушаний лишь вот что:
— Спасибо, Софи, мы вскоре с вами свяжемся.
Энжела покинула здание с предельно возможной скоростью, и Софи только и успела спросить, как все прошло, на что Энжела ответила кратко:
— Никогда толком не скажешь, на самом деле.
Вроде бы и все, видимо. Очередная неопределенность, очередное ожидание.
У себя в кабинете она задерживаться не собиралась. Хотела только забрать пару книг с собой в Бирмингем. Но пока искала их, услышала застенчивый стук в дверь. Обернулась и увидела в раме дверного проема Эмили Шэмму. Рыжие волосы отросли почти до плеч, бледность лица оттеняли два мазка кроваво-красной помады.
— Здравствуйте, — сказала она.
— Привет, — сказала Софи.
— Можно я войду?
— Конечно. Садитесь.
— Что вы. Я ненадолго. Узнала, что вы сегодня возвращаетесь, и… хотела вас повидать. — У нее был мягкий валлийский акцент, придававший ее словам тихую, певучую музыкальность. — Дело в том, что мне ужасно из-за всего случившегося. Когда пересказала Корри ваши слова, я не была расстроена или как-то. Я такая просто — «Ну как-то не алё». Не отдавала себе отчета, что она собирается раздуть из этого что-то.
Софи улыбнулась и пробормотала:
— А, ну… — Что тут еще скажешь.
— Мы даже не дружим с ней больше. В смысле, я терпеть не могу, что она так всех за все судит. Я себя такой виноватой перед вами чувствую — за все ваши хлопоты.
Софи шагнула было, чтобы обнять Эмили, но потом передумала. Все можно истолковать превратно.
— Они вас возьмут обратно?
— Надеюсь.
— Тошно думать, что вы просто сидите дома все это время.
— Ничего, я принялась за книгу. Не знаю, допишу ли. И у меня старенький дед, за ним нужно много ухаживать. Еще и кое-какая работа для телевидения возникла.
— Для телевидения? Здорово как.
— Я в прошлом году снималась для «Скай», мы поладили с режиссершей, и вот — на прошлой неделе буквально — она пригласила меня вести сериал.
— Обалденно.
— Вообще-то, это довольно проходная штука. Объехать много знаменитых европейских галерей и много болтать о знаменитых картинах. Вряд ли у меня получится придать этому что-то заметно личное.
— И все-таки…
— И все-таки… — Голос у нее сделался бодрее, и она спросила: — А вы как?
— Ну… Не очень-то, если честно. Весь этот процесс оказался для меня довольно трудным. Операция предполагалась в следующем месяце — точка невозврата, — но я ее пока отложила. И возьму перерыв на год. Обдумаю все хорошенько.
Стараясь говорить осмотрительно и невозмутимо, Софи уже было собралась сказать: «Кажется, это правильное решение», но затем выбрала формулировку побезопаснее:
— Уверена, вы все сделаете правильно. Удачи.
Эмили улыбнулась печально, тревожно.
— Спасибо.
Они постояли еще несколько мгновений — два человека, которые в другой жизни могли бы оказаться друзьями, а сейчас выдерживали безопасное расстояние, боясь обняться, боясь показать чувства, онемелые, неподвижные в скупом свете, какой пропускали в этот долгий, теплый, томный летний день покрытые потеками окна. А затем Эмили сказала:
— Мне пора.
Софи ответила:
— Спасибо, что зашли, я очень это ценю.
Они кратко пожали друг другу руки, и Эмили ушла.
В пять сорок Софи села в поезд с Юстона, домой добралась засветло. Иэн приготовил пасту, очень вкусно, и пока она рассказывала о слушаниях и о встрече с Эмили, сочувственно кивал. Но когда стало ясно, что ничего такого, что заметно улучшит положение дел, он сказать не в силах и никаких практических шагов совершить, чтобы ей помочь, — тоже, он расстроился и захотел обсудить статистику иммиграции, этими цифрами полнились все газеты и все телевизионные новости.
— Триста тридцать тысяч — это слишком много, — повторял он. — У нас тут битком. Страна битком. Что-то надо с этим делать — даже тебе это должно быть очевидно.
— Я где-то читала, — сказала Софи, — что просто стало уезжать меньше народу, а не приезжать больше. — Но ей этот разговор был скучен, и спорить дальше она не захотела.
Обнародование последних цифр иммиграции подействовало на кампанию референдума, вышедшую на финишную прямую, бодряще. Повестка дня изменилась. Меньше стало разговоров об экономических прогнозах, суверенитете и политических выгодах от членства в ЕС, теперь все сводилось к иммиграции и пограничному контролю. Изменился и тон дискуссии. Сделался озлобленным, с переходом на личности, сварливым. Половина страны словно бы сделалась яростно враждебна другой. Все больше людей желало, как Бенджамин, чтобы вся эта утомительная, мерзкая, сеющая раздор затея завершилась и забылась как можно скорее.
Между тем Лоис выставила свой йоркский дом на продажу и перебралась в Бирмингем. Вечером 13 июня 2016 года, через десять дней после ее возвращения, она пригласила Софи и Иэна на ужин. Приготовила лазанью, они выпили много монтепульчано, и все было очень весело, но после ужина Лоис исчезла из-за стола, пока они еще пили кофе, а через несколько минут Софи обнаружила ее в гостиной, одну — она слушала «Классик ФМ» и приканчивала остатки вина.
— Все хорошо, мам? — спросила Софи.
Лоис глянула на нее и улыбнулась.
— Да, я хорошо.
— Ты разве не хотела поболтать?
— Не очень.
Софи села рядом. На журнальном столике рядом с диваном лежала стопка газет и всякая прочая ерунда. Четыре листка А4 наверху стопки привлекали внимание. Софи взяла эти листки, оглядела их.
— Что это?
— А ты как думаешь?
— Похоже на рекламные листовки домов во Франции.
— Они и есть.
— Ты собираешься купить что-то во Франции?
— Твой отец собирается.
Софи пригляделась к буклетам внимательнее. Предлагаемая собственность, вся по цене около 300 тысяч евро, похоже, располагалась в идиллических пейзажах и имела щедрые размеры — такие обошлись бы покупателю вдвое дороже, находись они где-нибудь в Англии.
— И как, ты сама разве не рвешься? — спросила она у матери. — Ты же всегда хотела во Францию. Много лет об этом говорила. И папа уходит на пенсию через пару лет. Было бы здорово — для вас обоих.
Лоис кивнула.
— Да, было бы. — Но, кажется, без особого энтузиазма.
Софи занервничала.
— Ты же собираешься провести свою пенсию с папой, правда?
— Ну, больше мне ее проводить не с кем, — ответила Лоис, потягивая вино. — И в этом чертовом городе я ее проводить не хочу уж точно.
Софи положила руку матери на плечо. Лоис повернулась к ней. В глазах стояли слезы.
— Сорок три года прошло, как взорвалась бомба, — сказала она. — Сорок три года, четыре месяца и двадцать три дня. Что ни ночь, я ее слышу. Взрыв — последнее, что слышу, перед тем как уснуть. Я не решаюсь смотреть новости по телевизору — вдруг что-то напомнит мне. Даже в кино не могу пойти или посмотреть фильм на диске — вдруг там что-нибудь, что угодно, хоть какая-то кровь, насилие, шум. Любое, напоминающее, что люди способны друг с другом сделать. Политика способна заставлять людей творить ужасное… — Она смотрела на Софи в упор, голос сделался настойчивее. — У вас с Иэном нелады, да?
— Да не то чтобы, — сказала Софи, коротко помедлив. — Прорвемся. Разберемся.
— Политика способна разлучать людей, — сказала Лоис. — Глупо, да? Но правда. То же случилось с моим Малколмом. Вот что его убило. Политика.
Позади них послышался звук — скрипнула половица, женщины обернулись. Пришел Иэн — встал в дверях с чашкой кофе в руке.
— Все в порядке? — спросил он.
— Заходи, — сказала Лоис и, подвинувшись, освободила ему местечко на диване. — Садись, расскажи мне, что ты думаешь об этих домах.
* * *
— О, привет, Фил, — сказал Бенджамин. — Спасибо, что перезвонил.
— Сейчас удобно? У тебя голос немножко странный.
— Я в машине. Еду на станцию.
— Да? И далеко ли собрался?
— Забираю кое-кого. Моего друга Чарли.
— А, да. — Филу еще предстояло познакомиться с этим таинственным пришельцем из Бенджаминова прошлого. — Парень, который по детским праздникам.
— Приезжает на день-другой. Позвонил сегодня утром. Крик о помощи. Кажется, у него дела табак.
— Уместно ли сейчас сказать что-нибудь о слезах паяца?
Бенджамин безрадостно рассмеялся.
— Да не очень.
— Окей. Слушай, не буду тебя задерживать. Ты о чем хотел поговорить?
— Просто хотел твоего совета о материале, который сейчас пишу.
— О каком материале?
— Я тебе разве не говорил? Пишу кое-что о референдуме. — На другом конце линии повисло долгое молчание. — Ты еще тут?
— Тут я, да. Просто… офигел.
— Офигел? Почему?
— Ты пишешь что-то о референдуме? В смысле… ты собираешься занять какую-то позицию по какому-то поводу?
Ясности Бенджамин в этом отношении, кажется, не имел.
— Вероятно. Это для газетной статьи, короче. Они опрашивают уйму писателей, как те собираются проголосовать.
— Ну и расскажи им, — проговорил Филип. Но тут его настигло внезапное подозрение. — Ты уже решил, да?
— Мне казалось, что да. Я уверенно думал, что собираюсь голосовать за «Остаться».
Филип ждал.
— Но?.. — подтолкнул он.
— Ну, все же запутано, да? Столько всяких доводов за оба варианта.
— Верно.
— Я поисследовал вопрос в сети. Столько всего нужно принять в расчет. Суверенитет, иммиграция, торговые партнерства, Маастрихтский договор, Лиссабонский договор, Единая сельскохозяйственная политика, Европейский суд, Еврокомиссия — в смысле, у Еврокомиссии слишком велика сейчас власть, верно же? В европейских институциях настоящий дефицит демократии.
— Ты, как мне кажется, вполне разобрался во всем этом. С чем неувязка?
— Нисколько я не разобрался. Погряз в сведениях и противоречивых мнениях. Читаю об этом три дня подряд. Сорок семь вкладок у меня открыто на компьютере.
— Какой объем статьи они от тебя хотят? Тысячу слов, две?
— Нет, всего пятьдесят. Опрашивают десятки писателей, у них там места немного.
— Ох, господи ты боже мой, Бенджамин, ты три дня возишься с пятьюдесятью словами? Бред какой-то. Они тебе платят?
— Нет, вряд ли. Забыл спросить.
Филип терял терпение.
— Да просто делай как все — голосуй нутром. Хочешь быть на одной стороне с Найджелом Фаражем и Борисом Джонсоном?
— Нет, конечно же.
— Ну и вот, пожалуйста тебе.
— Да, но так не годится же? Несуразица какая-то — это дело. Все так запутано. Как вообще решать-то? — Осмысляя абсурдность происходящего, он утратил сосредоточенность и проскочил на красный — в ответ прозвучал гневный хор клаксонов. — Ой, блин. Ладно, я уже почти на станции, мне пора.
— Ладненько, — отозвался Филип. — Рад был помочь.
* * *
Выглядел Чарли ужасно. Не брился, голову не мыл, не спал, зубы не чистил и пил без передыха полтора суток. К Бенджамину домой они приехали, когда уже перевалило за одиннадцать. Чарли схватил в кухне бутылку вина, сорвал крышку, не дожидаясь разрешения, и забрал ее с собой на террасу. Бенджамин последовал за ним с бокалами. Если и была какая луна в ту ночь, она пряталась в толщах густых облаков; по мнению Бенджамина, пить на улице было слишком холодно.
— Она меня опять вытурила, — сказал Чарли, когда они уселись за стол. — И говорит, что это в последний раз.
— Можешь пожить здесь пока, — предложил Бенджамин.
Чарли, кажется, его не услышал.
— Придется найти, где жить, — сказал он.
— Можешь остаться здесь, — повторил Бенджамин. — Места навалом.
— Как я найду себе место, где жить? Я сейчас зарабатываю всего пятьдесят фунтов в неделю. И никаких пособий мне не дадут, пока я работаю.
— Можешь жить здесь, сколько захочешь, — сказал Бенджамин.
— Я всегда хотел, чтоб мы были семьей, понимаешь? Всегда представлял нас семьей. Троих. Ничего большего мне и не надо. Но она это себе так не представляет. И раньше никогда. На дух не переносит, что мы с Никс так близки. Думает, что это у нас такой заговор против нее или… Не знаю. Что похуже. Она параноик, воинственная, ужасно несчастная и, как обычно, вымещает это на мне.
— А ей помочь нельзя как-то? — спросил Бенджамин. — Профессионально?
— Этому никак не бывать, — сказал Чарли. — Она и слушать меня не будет. Даже на порог меня не пустит.
— Она не сможет помешать тебе видеться с Аникой и помогать ей, если ты сам этого хочешь.
— Никс будет в университете, и оглянуться не успею. Глазго, вот она куда подалась. В Глазго! Блядь, за много миль отсюда.
— Тогда, возможно, ты ей больше не нужен. Может, пора отпустить все это.
— Блядская… СУКА. — Чарли взял свой бокал, но стиснул его в неверной руке так крепко, что тот лопнул. Во все стороны брызнула кровь, и Бенджамину пришлось сбегать за аптечкой. Он уговорил Чарли, что пора уже лечь, а когда заглянул через полчаса в спальню — увидел, что Чарли рухнул на кровать и уже спит без задних ног, полностью одетый и с включенным светом.
Назавтра спозаранку, в среду 15 июня, начался мощный ливень. Чарли не показывался из своей комнаты до часу дня. Бенджамин приготовил ему то-се на обед, но не смог Чарли отыскать. Сумка по-прежнему стояла у него в спальне, но самого его нигде не было видно. Через час Чарли прислал СМС, что ушел гулять, вернется к ужину, пусть Бенджамин не беспокоится. Дождь лил безостановочно. Бенджамин сидел на подоконнике и смотрел сквозь залитое дождем стекло, как река принялась подниматься, вода плескалась и сердито перла по мельничному рукотворному каналу, словно толпа раздраженных пассажиров, пытающихся протиснуться к турникетам на запруженной станции. Шум дождя и шум реки сделались громким, неутихающим фоном его мыслям, он мысленно писал и переписывал свой фрагмент для газеты и волновался за Чарли. Ближе к вечеру попытался отвлечься приготовлением затейливого карри.
Чарли вернулся к шести часам — мокрый насквозь, что немудрено. Ушел наверх и долго отсиживался в горячей ванне, переоделся. За ужином был гораздо спокойнее, чем накануне вечером. Бенджамину начало казаться, что Чарли даже чересчур спокоен. Он был явно глубоко подавлен, говорил очень мало. А когда говорил, то о деньгах.
— Думал, прогулка поможет мне все обмозговать, — сказал он, — но все упирается в деньги. Без денег я выхода не вижу. И так было много лет. Ебаных лет. Они все говорят, что станет легче. Что есть свет в конце тоннеля. Какой он длины, этот ебаный тоннель? Где, блядь, свет? Я пашу уже шесть лет. Шесть лет в праздниках. Ебаный Дункан Филд зарабатывает втрое больше, чем я. Вчетверо. Детям интереснее его дурацкие дымовые бомбочки и взрывы, хоть каждый день подавай. И чего я вообще лезу. — После долгой-долгой паузы он умоляюще посмотрел на Бенджамина и попросил: — Можно мне выпить, дружище?
— Тебе не кажется, что вчера принял достаточно? — проговорил Бенджамин.
— Ой, да ладно тебе. Всего одну.
Бенджамин кивнул:
— Да пожалуйста.
Чарли налил себе виски.
Спать Бенджамин собрался рано. Чарли сказал, что тоже готов ко сну, но сначала хотел позвонить Ясмин. Даже из своей спальни Бенджамин слышал, что разговор пошел плохо и быстро превратился в свару. Все завершилось громким стуком (Чарли жахнул трубкой по столу?), открылась и закрылась дверь. Бенджамин распахнул окно и выглянул наружу. Стояла безлунная ночь. Дождь продолжал низвергаться. Бенджамин различил высокую, громоздкую фигуру-тень Чарли, тот метался внизу туда-сюда. А затем одним внезапным, решительным движением взобрался на стену террасы до самого верха. Встал под проливным дождем и поглядел вниз, в бурлящие, прущие, яростные воды, что бились под ним.
Бенджамин завопил:
— Чарли! Ты какого черта делаешь? А ну спускайся оттуда!
Чарли не шевельнулся. Забыв о дожде, секшем его с головы до пят, он стоял на стене, а затем раскинул руки, словно удерживал равновесие — или, может, изготовился прыгнуть.
— Чарли!
Прошло двадцать или тридцать секунд.
— Чарли! Спускайся!
Медленно, словно услышав голос Бенджамина впервые, Чарли повернул голову. Взглянул на друга. Лицо бледное, измученное, запачканное.
Они вперялись друг в друга минуту или даже дольше, Бенджамин умолял, Чарли глядел слепо, словно лунатик, у которого все это происходит во сне.
А затем он осторожно развернулся, пригнулся и спрыгнул обратно на террасу. Остался сидеть на корточках, уткнув голову в ладони, пока Бенджамин не пришел, гремя по металлическим ступенькам, не обнял его за плечи и не помог вернуться в дом.
* * *
Наутро Чарли проснулся и оделся к девяти часам. Когда он появился на пороге кухни с собранной сумкой и в пальто, Бенджамин жарил яичницу.
Чарли проговорил:
— Пора мне оставить тебя в покое, по-моему.
Бенджамин отозвался:
— Куда ты поедешь?
— Думаю, поживу пока у мамы.
Бенджамин кивнул.
— Позавтракай, и я тебя отвезу на станцию.
— Не беспокойся, я прогуляюсь в деревню. Сяду на автобус. Дождь хоть прекратился.
— Верно.
Они обнялись.
— Спасибо за все, дружище.
Когда Чарли ушел, Бенджамин включил телевизор. Канал «Новости Би-би-си». Все утро Бенджамин держал его включенным, фоново. Показали эпизод с Найджелом Фаражем — он презентовал новый плакат кампании «Уйти. ЕС». На плакате извивалась длинная очередь молодых людей, в основном мужчин, в основном темнокожих. Очевидно, мигрантов. Поверх этого изображения красными заглавными буквами значились два слова: «ПЕРЕЛОМНАЯ ТОЧКА». Ниже, шрифтом помельче: «ЕС подвел нас всех» и «Нам необходимо освободиться от ЕС и вернуть себе власть над нашими границами».
Бенджамин по-настоящему содрогнулся от грубой беспардонной ксенофобии этого образа. Самое уродливое из всего, что он видел в этой уродливой кампании. При первом же взгляде на этот плакат Бенджамин понял, что все решил. Постановив не тратить больше времени на свои публичные декларации, он выкинул из головы изощренные, уравновешенные слова, с которыми возился последние несколько дней, набрал стремительное, целеустремленное заявление из пятидесяти слов и отослал его в газету.
Зазвонил телефон. Отец. Хотя после мини-инсульта произношение у него сделалось невнятным, непривычная живость в голосе слышалась однозначно.
— Угадай, где я был? — спросил он.
— В каком смысле — где ты был? Ты же не выходил из дома, да?
— Выходил.
— Зачем?
— Голосовать. Я взял тот бланк, который ты мне оставил, заполнил и отправил.
Бенджамин ужаснулся.
— Пап, тебе нельзя ходить одному до почтового ящика. Лоис или я могли бы это за тебя сделать. Врачи велели беречься.
— Это ж несколько недель назад уже.
— Как ты проголосовал? — спросил Бенджамин, хотя и так почти не сомневался в ответе.
— Уйти, конечно. — И с вызовом добавил: — Ты и так знал, верно?
— А как же Софи?
— А что Софи?
— Сам знаешь, она хотела, чтобы ты проголосовал иначе. Это ее будущее, между прочим. Это ей здесь быть дольше всех нас.
— Она милая девочка, но очень наивная. Я это ради нее сделал. Она мне еще когда-нибудь спасибо скажет.
— Ты как себя чувствуешь после прогулки, скажи мне?
— Немножко устал. Думаю, посижу.
— Окей. Лоис приедет ближе к четырем, хорошо?
— Отлично. Я посплю, а потом мы выпьем чаю.
— Окей. Пока, пап.
— Пока, сын.
Удрученный этим разговором, Бенджамин вновь посмотрел в телевизор. Фараж стоял теперь перед плакатом, сиял, скалился и шутил с телевизионщиками. По низу экрана бежала подборка утренних твитов. Попался один от романиста Роберта Хэрриса[110]. Он гласил: «До чего же мерзкий этот референдум. Самое раздорное, раскольническое, расчетливое политическое событие за всю мою жизнь. Лишь бы в последний раз».
Воистину, подумал Бенджамин.
* * *
В тот же день после обеда 16 июня 2016 года — Лоис составляла в кухне список покупок. Собиралась позвонить в лонгбриджское отделение «Маркса и Спенсера» по дороге к отцу. Работал приемник, настроенный на «Радио Два», но Лоис почти не обращала на него внимания. Музыка звучала пресная, а слушать новости Лоис бросила, референдум ей уже наскучил — как, похоже, и всем вообще.
Однако вскоре после двух пополудни в срочных новостях прозвучало нечто, из-за чего остаток дня у Лоис парализовало. В ее избирательном округе напали на женщину — члена парламента, прямо на улице; женщина шла в местную библиотеку, где собиралась вести прием избирателей.
Лоис об этом парламентарии ни разу не слышала. Ее звали Джо Кокс. Она представляла Бэтли и Спен, избирательный округ в Йоркшире. Молодая женщина. Нападение, судя по всему, оказалось ужасным. Кокс подстрелили и пырнули ножом. Нападавший вопил какие-то дикие, почти бессвязные слова, которые позднее истолковали как «Главное Британия. Это за Британию». Прохожий бросился на помощь, его тоже пырнули ножом. Нападавший удалился как ни в чем не бывало, но через несколько минут сдался полиции. Джо Кокс привезли в госпиталь в критическом состоянии.
Прослушав новость, Лоис ощутила ужасную слабость и головокружение, ее накрыло измождением. Выключила радио, ушла в гостиную и легла там на диван. Через несколько минут ее охватила бешеная жажда, началась головная боль. Она вернулась в кухню, выпила стакан холодной воды и две таблетки обезболивающего, затем вновь включила радио. Никаких дальнейших новостей о раненой женщине-парламентарии не поступало — если не считать того, что после пяти обещали пресс-конференцию с полицией.
Неудержимо трясясь, Лоис поставила ноутбук на кухонный стол, включила его и погуглила Джо Кокс. Замужняя, мать двоих детей. Сорок один год — на той неделе сорок два. Популярный местный парламентарий, выбрали впервые чуть больше года назад, увеличила лейбористское большинство. Основательница общепарламентской группы «Друзья Сирии». Поддерживает «Остаться». Работает над докладом «География антимусульманской ненависти».
Лоис знала, что не надо ей пытаться представлять себе подробности нападения, но ничего не могла с собой поделать. Обычный день — в той мере, в какой обычен любой день в эти необычайные времена, — будничная задача: дойти до библиотеки по знакомой улице, в компании своего управляющего и соцработника. И тут — удар ножом, стрельба, суматоха. И вдруг отменена повседневная жизнь, она лишена смысла непредсказуемым, убийственным насилием. В ту ночь в ноябре 1974-го… Лоис быстро встала — слишком быстро, — но тут же закрыла глаза и почувствовала, что теряет сознание, падает… Кухня постепенно вернулась в фокус. Лоис оперлась о стол. Судя по тому, как нападение описали по радио, выжить в нем никому не удалось бы, но невозможно же, что кого-то в таких обстоятельствах могут убить. Местный парламентарий, занимается своими повседневными делами, обычный четверг, обеденное время — не могло такого случиться. Лоис цеплялась за надежду — полностью осознавая, до чего это иррационально, — а минуты ползли мимо, и Лоис ждала, что скажет полиция.
Телевизор она включила ровно в пять. Пресс-конференция началась несколько минут спустя. Офицер полиции, дама в годах, с жидкими рыжеватыми волосами, сурово зачесанными на лоб, мрачно и монотонно бубнила поверх постоянного шума фотовспышек.
— Сегодня около часа дня, — начала она, — Джо Кокс, член парламента от Бэтли и Спенборо, подверглась нападению на Маркет-стрит, Бёрстолл. С глубокой скорбью вынуждены сообщить… — Лоис охнула и туго зажмурилась, — что от полученных ранений она скончалась.
— Нет-нет-нет-нет-НЕТ! — взвыла Лоис и бросилась на диван. Ее сотрясали рыдания. — Нет! — твердила она вновь и вновь. — Нет-нет-НЕТ! — Она встала и завопила телевизору: — Вы тупицы! — Подошла к окну, выглянула на тихую улицу и закричала, громче прежнего: — Вы тупицы — вы это допустили! — Подошла к журнальному столику, схватила газету, скомкала ее в шар и швырнула им в телеэкран; в последующие минуты она пинала мебель, швырялась подушками, колотила в стены кулаками. Разбила вазу и залила ковер водой. Сколько длился этот припадок, она не знала. В конце концов Лоис отключилась.
Примерно без десяти шесть она взялась прибраться. Эта работа оказалась до странного успокаивающей, и она почти все успела до того, как домой пришел Кристофер.
— Что тут случилось? — спросил он, заметив первым делом состояние дома, а затем состояние самой Лоис. Обнял ее крепко, и ее вновь затрясло, когда она спросила его:
— Ты слышал?
— О парламентарии? Да, слышал.
Поцеловал Лоис в макушку, вдохнул запах ее волос, упиваясь непривычным удовольствием: жена льнет к нему.
— Как же грустно-то, а? Понимаю, каково тебе. Понимаю, что́ оно тебе напоминает.
Они обнимались еще несколько минут, пока Лоис более-менее не взяла себя в руки. Села за кухонный стол, а Кристофер все еще стоял над ней, гладил по волосам.
— Как отец? — спросил он наконец. — Я не предполагал, что ты так рано вернешься.
— Отец… — проговорила Лоис. — Ой, блин, я вообще про него забыла.
— Правда? Он не звонил?
— Нет. Поеду-ка я к нему поскорее.
— Я с тобой. Не надо тебе вести в таком состоянии.
— Я собиралась еды купить по дороге.
— Давай сперва доедем к отцу. Я в любой момент могу отскочить и добыть что-нибудь.
Лоис пошла за пальто в гардероб и сказала рассеянно:
— Уму непостижимо, как я могла о нем забыть. — Последний раз глянула в телевизор, прежде чем выключить. — Бедняга… Бедные дети…
— Может, стоит ему позвонить?
— Что? — Она обернулась. Смысл вопроса дошел до нее не сразу. — Нет, я ему из машины позвоню.
Но ответа не было. Когда они подъехали к дому в Реднэле, Лоис заглянула в окно гостиной и увидела, что Колина в его привычном кресле нет. Она отперла входную дверь — и вот он, лежит вытянувшись на полу в коридоре, лицом вниз, совершенно неподвижный и — она это мгновенно поняла — совершенно безжизненный.
Добила его прогулка к почтовому ящику. Вот так он пролежал, как Лоис впоследствии выяснила, примерно с часу дня. Смерть наступила через несколько часов. Это означало, что она, вероятно, могла бы его спасти — если бы не забыла приехать к назначенному времени.
Вот что меня удивляет вновь и вновь во время поездок по моему избирательному округу: мы гораздо более едины и у нас гораздо больше общего, чем того, что нас разобщает.
Сентябрь 2017-го
Здесь, на вершине Бикон-Хилла, краски в листве деревьев о приходе осени не возвещали. Леса, окружавшие лысую макушку холма, словно тонзуру монаха, — ели, сосны и другие вечнозеленые. И только если пройти по тропе до самого обрыва и глянуть вниз, по-над лужайками и фервеями муниципального гольф-клуба, можно приметить проблеск верхушек платанов, кленов и дубов, блеск багрянца и золота, провозглашающих конец лета и постепенную смену времен года. Здесь в тихое, почти безмолвное пятничное утро в сентябре, под небесами безоблачной синевы, Бенджамин и Лоис стояли торжественно, готовясь отдать последнюю дань памяти матери и отцу.
О том, как следует поступить с его останками, Колин выдал очень подробные указания. Прах жены он хранил в урне на каминной полке у себя дома более шести лет и в своем завещании велел смешать его со своим и развеять с вершины Бикон-Хилла, высочайшей точки холмов Лики, чуть дальше мили от дома в Реднэле, где он провел всю свою супружескую жизнь. Он также велел развеять прах в день годовщины свадьбы — 15 сентября. Год, впрочем, не уточнял, и, на беду, 15 сентября 2016 года Бенджамин застрял в шотландской глухомани, в разгар мучительной недели, проведенной в компании из десятка начинающих поэтов и романистов, расставшихся с приличными деньгами ради того, чтобы впитать Бенджаминову писательскую мудрость. По счастью, в 2017 году этот день (а также еще примерно тридцать по обе стороны от даты) у него в дневнике был пуст. Лоис же, поскольку наконец устроилась библиотекаршей при каком-то оксфордском колледже и ежедневно моталась туда-сюда, решила, что по такому случаю ей полагается отгул.
И вот они, брат с сестрой, стояли на холме, переполненные воспоминаниями, оглядывали пейзаж, за сорок один год почти совсем не изменившийся — с тех пор, как Бенджамин привозил сюда Лоис на долгие прогулки, забирал из больницы во внешний мир, рассказывал ей путаные школьные байки и все пытался выманить из нее отклик, помочь ей забыть, пусть на несколько часов, ужас взрывов в бирмингемских пабах. Что правда, то правда: теперь на далеком горизонте, облаченные в белый алюминий, высились три башни новой больницы имени Королевы Елизаветы, чего не было в 1976-м, и, что ощущалось еще острее, не существовало больше Лонгбриджского завода, кое-где его заместили жильем, магазинами и зданиями колледжа, а кое-где попросту снесли, и остались в пейзаже обширные уродливые шрамы. Но в остальном вид был прежним — вид на Загородный парк Уэйзли и Френкли-Бичез, на Клент-Хиллз, Хэгли и Черную страну за ними. Это постоянство успокаивало: оно напоминало о недвижимости и преемственности в мире, который, казалось, менялся быстрее, чем Бенджамин с Лоис успевали понимать. Какими бы молодыми ни ощущали они себя изнутри, для постороннего наблюдателя они были уже в годах: Бенджамин с серебристой шевелюрой, Лоис в седых прядях и намеком на сутулость. Несколько месяцев назад ей исполнилось шестьдесят.
Бенджамин извлек из кармана пальто переносную колонку, поставил ее на деревянную скамейку и воткнул в панель свой айпод-классик. В предвкушении этого мига Бенджамин уже прокрутил до нужной песни, оставалось лишь нажать на «плей». Музыка включилась громко: Бенджамину было плевать, кто ее сейчас услышит, кто станет свидетелем этой церемонии. Почти сразу вознеслись мягкие ладовые аккорды, безошибочно английские. Бенджамин закрыл глаза и на несколько секунд потерялся в музыке — в той музыке, которую слышал тысячи раз, но никогда от нее не уставал, в музыке, что говорила с ним тончайше, настойчивее всего прочего о его корнях, о его самости, о чувстве глубокой привязанности к этому пейзажу, к этой стране. Он повернулся к сестре, надеясь на миг их единства, на некий знак, что она чувствует так же. Но у Лоис на уме были дела попрактичнее.
— Я не могу снять эту чертову крышку, — сказала она.
— Неудивительно, — проговорил Бенджамин. — Вряд ли ее открывали с тех пор, как навинтили. Ну-ка дай, я попробую.
С некоторыми усилиями ему удалось сорвать крышки с обеих урн. Лоис держала в руках Шейлину, Бенджамин — Колина, хотя вообще-то стопроцентной уверенности, что не наоборот, не было, поскольку предоставляло их одно и то же похоронное бюро и выглядели они неразличимо. Ну так и неважно это было на самом деле.
— Ну что, окей? — спросил он, держа отцовы останки наготове.
— Мы ничего не взяли с собой почитать, — отозвалась Лоис.
— Ты что, собираешься весь остаток дня здесь провести?
— Нет, в смысле, почитать прямо сейчас. Стихи или что-то.
— О. Ну… Просто подумай, что бы ты сказала сама. Попробуй импровизировать.
— Окей, — проговорила Лоис нерешительно.
Бенджамин переключил айпод — на начало той же песни. Вновь взлетели аккорды, скрипка начала свой неспешный путь к небу.
— Ну вот, — сказала Лоис. — Прощай, мам. Ты была нам всем чудесной матерью. Дала нам все, чего мы только могли желать.
Сильно и широко Лоис взмахнула урной и выбросила ее содержимое в воздух. Бенджамин быстро произнес:
— Прощай, пап, — проделал то же самое, а затем, в чудотворной единомоментности, какая редко благословляла жизнь семейства Тракаллей, налетел порыв ветра, подхватил прах и понес его вверх, в небеса, где перед взорами Лоис и Бенджамина он заплясал, завихрился и слился в единый витой мазок, а затем его забрал с собой следующий порыв ветра, размел, развеял во все стороны, осыпал им дрок, вереск, высокую траву, тропу или просто утащил из вида; прах полетел к родным местам с чутьем зверя — или к дому, где Шейла была так счастлива, или к исчезнувшему заводу, где Колин провел столько плодотворных часов. И все это время струилась музыка — спокойно, решительно, скрипка взмывала, возносилась, как сам прах, пока тоже не стала лишь песчинкой в синем небе, слишком мелкой и далекой, более незримой для двух людей, стоявших у скамейки.
Наконец они оба сели и послушали музыку еще две с чем-то минуты, поначалу не стремясь разговаривать.
А затем:
— Как красиво, — сказала Лоис, промокая глаза салфеткой. — Как называется?
— «Взмывает жаворонок»[111].
— Здорово ты придумал, — сказала Лоис, голос у нее дрожал, накатывали слезы, — вспомнить, какая музыка у них была самая любимая.
Бенджамин улыбнулся.
— Нет, это у меня она самая любимая. Или одна из. Ты помнишь, чтобы кто-то из родителей хоть раз сказал, что им нравится какая-то музыка?
Лоис задумалась, а затем покачала головой.
— Ты прав. Или что они прочли книгу. Или сходили в художественную галерею. — Но тут пришло воспоминание. — Отцу нравился «Танец маленьких утят» на самом деле.
— Да, верно.
Они рассмеялись, и Лоис сквозь смех добавила:
— О боже, помнишь, как они эту песню ставили на рождественских праздниках и бегали по гостиной, размахивая руками, будто куры?
— Как такое забудешь? — сказал Бенджамин. Он в то время учился на втором курсе в Оксфорде, и наблюдать импровизированное выступление Колина даже в узком семейном кругу было одним из самых убийственных переживаний в его жизни.
— Ну, я рада, что ты решил эту музыку сегодня не ставить, — сказала Лоис. — Вышло бы не очень сообразно.
— Хотя… — сказал Бенджамин, вслушиваясь в вихри и фиоритуры скрипки, изображавшие причудливый полет жаворонка, — если вдуматься, это же тоже птичий танец. Просто выпендрежнее.
Они умолкли, и Бенджамин позволил мыслям идти вслед за музыкой. Он думал о Воне Уильямсе, о его представлениях о музыке как о «душе нации», о его многочисленных открытиях старинных английских народных мелодий, о том, как он помог спасти от почти полного забвения целую традицию, и все же не было, кажется, никакого противоречия, даже никакого напряжения между этим глубоким культурным патриотизмом и остальными политическими убеждениями Уильямса — вроде бы такими либеральными и прогрессивными. Бенджамин размышлял о том, как люто эта страна, эта терзаемая кризисом страна нуждается в таких вот фигурах…
Лоис же тем временем думала о совершенно других вещах.
— Хороший у них был брак, правда? — сказала она. — Этого у них точно не отнять.
— М-м?..
— У мамы с папой.
— О. Да, думаю. В смысле, не… не то чтобы пылкий, но это, наверное, и не было в их натуре.
— Лучше моего уж точно, — проговорила Лоис.
Бенджамин всмотрелся в нее. Ничего подобного ни разу от нее не слышал. Его это потрясло.
— Я себя такой виноватой чувствую, — сказала она, — и мне так жалко Криса. Он со мной застрял, на все это время. Прекрасно понимая, что он — не тот. Не надо было вообще за него замуж выходить. Я от Малколма так и не отошла. Никто мне его не смог заменить. Не надо было делать вид… У Криса из-за меня жизнь вышла говенная.
Бенджамин попытался слепить ответ. Слова не шли. Лоис повернулась к нему и сказала:
— Мы всегда считали, что это ты застрял в своей романтической одержимости. В семидесятых застрял. Но это я застряла, с самого начала я. Ты отпустил. — Захваченная судорогой внезапного плача, она склонилась вперед и сжалась в комок. — Мне надо отпустить, Бен. Мне надо отпустить.
Он положил ей ладонь на спину и робко поводил ею.
— Ну… у тебя же новая работа, так?
— Я не желаю больше прятаться по библиотекам до конца своих дней. Тошнит.
— Да, но уже какое-то начало.
— Начало? Мне шестьдесят. Уже не начало должно быть.
Она уставилась перед собой. Возможно, подумал Бенджамин, она ищет взглядом далекие очертания больницы Рубери-Хилл, где ее когда-то держали. Больницу снесли в 1990-е.
— Оно и правда получше, — проговорила Лоис. — В последний год, что ли. По-моему, с этой историей Джо Кокс я вроде как дошла до предела. Осознала, что не могу больше так реагировать. А то, что произошло сегодня утром в Лондоне… Слышала по радио. Справилась. Нормально мне было.
Бенджамин уже успел этому удивиться. Бомба рванула в поезде, на станции подземки «Парсонз-Грин», сегодня утром. Более двадцати человек получили увечья, в основном ожоги, им оказывали помощь. Такие вот несчастные случаи обычно расстраивали Лоис ужасно.
— То, что случилось с Малколмом — и со мной, — это сорок лет назад. Не хочу я больше… в этой тюрьме.
— Прекрасно, — сказал Бенджамин. — Молодчина.
— И это несправедливо по отношению к Крису. Его тоже надо отпустить.
Бенджамин впитал эти слова и торжественно кивнул. Всего этого оказалось сразу слишком много.
— Ты, похоже, уже все решила в любом случае, — сказал он.
— Решила. Легко не будет — не будет и быстро. И одна я не смогу. Мне нужна помощь.
Их взгляды встретились. В тот миг им вновь было девятнадцать и шестнадцать, они стояли на этом же холме, рука в руке, в другой осенний день — в день, который теперь, казалось, невозможно далеко в прошлом, но вместе с тем — для них обоих — навеки в настоящем.
— Твоя, — договорила Лоис.
От: Эмили Шэмма
Отправлено: Понедельник, 2 октября, 2017 11:33 AM
Кому: Софи Коулмен-Поттер
Тема: Следующая неделя
Дорогая Софи
Я очень рада, что вы вновь преподаете, и с нетерпением жду этого семестра, чтобы вместе поработать. Этим письмом сообщаю вам, что моя (долго откладывавшаяся) оп-я назначена на этот четверг (5-е). Поскольку они меня продержат по крайней мере неделю, похоже, я пропущу первый семинар
по американскому модернизму, который 11-го. Прошу прощения.
Да, отн. даты нашего занятия один на один: я бы мощно и решительно предпочла 24 октября.
* * *
Через шесть дней, 8 октября, Софи тоже приняла решение, подчинившись порыву.
Воскресенья по-прежнему оставались самыми странными днями — днями, когда она предельно остро ощущала, что, похоже, скучает по Иэну и хочет поговорить с ним. Что парадоксально в самом деле, если учесть, как обижали ее эти одинокие воскресные утра в квартире, пока он играл в гольф и обедал с матерью. Но и в ту пору, впрочем, впереди всегда было его возвращение ближе к вечеру и совместный ужин. Здесь, в Хэммерсмите, ничто не прерывало день, воскресенья тянулись словно бы вечно, пустые и бесформенные. Обычно Софи рвалась убраться из крошечного дома в ленточной застройке, который она снимала еще с тремя людьми (и все равно платила за это целое состояние). В ее комнату — аккурат того размера, чтобы в ней помещались кровать, стол и комод, и никакого пространства между ними, — до двух часов дня не заглядывало солнце, и Софи по утрам уходила гулять вдоль реки, если погода позволяла, или сидеть в каком-нибудь «Старбаксе» или «Прете», если нет. Читальные залы Британской библиотеки чаще всего закрыты, там пристанища не найти. Раз или два она пыталась добраться до самого университета, но гуманитарный факультет по воскресеньям казался местом безлюдным, безмолвным и заброшенным. Иногда она навещала Соана и Майка, но они частенько бывали заняты, и она стала замечать, что, при всей ее любви к этому городу, друзей у нее тут немного. Ее соседи оказались милыми людьми, но у нее с ними было мало общего, и все они лет на десять младше. Софи в свои тридцать четыре ощущала, что ей уже поздновато снимать жилье с кем бы то ни было вместе, но жить в Лондоне самой по себе, на лекторскую зарплату, можно только вот так.
В это воскресенье Софи не покидала мысль, что Эмили Шэмма приходит в себя после большой операции в больнице всего в нескольких сотнях ярдов от ее дома. У Эмили, несомненно, нет недостатка в посетителях, но стоило Софи задуматься, не навестить ли ее, эта затея окрепла и уже не желала уходить. Софи хранила теплое воспоминание об их последнем разговоре у нее в кабинете больше года назад, и они с тех пор не виделись. (Как и говорила Эмили, переходный период оказался напряженным, и она решила прервать учебу на год.) И вот в два часа пополудни Софи, вооружившись коробкой бельгийского шоколада, прибыла в больницу Чэринг-Кросс. Подошла к регистратуре, обратив внимание на то, что первые этажи британских больниц все больше похожи на супермаркеты, и из регистратуры ее тут же направили в палату к Эмили.
Эмили сидела в постели с закрытыми глазами. Выглядела бледнее обычного, рыжеватые волосы разметались по подушке, спутанные и влажные от пота. Дышала она тяжко. Софи решила, что Эмили спит, и уже собралась оставить шоколад на прикроватной тумбочке и тихонько убраться, но тут Эмили открыла глаза. Увидев Софи, она оторопела и вроде бы даже не сразу ее узнала. Но затем устало улыбнулась и, поморщившись, с усилием села повыше.
— Здравствуйте, — проговорила она. — Вот так… неожиданное удовольствие.
Софи положила шоколад на тумбочку и сказала:
— Я вот принесла вам. — Будто это было главной причиной посещения. — Все прошло хорошо? Как вы себя чувствуете?
— Я, блин, кошмарно себя чувствую, — ответила Эмили. — Но спасибо, что спросили. — Она заметила, что Софи колеблется, придвинуть ли стул, чтобы сесть. — Да, — поддержала ее Эмили. — Пожалуйста.
— Разбудила я вас? — спросила Софи.
— Нет, я не сплю по-настоящему. Толком не сплю, во всяком случае. — Улыбка у нее стала поувереннее, посмелее. — Я очень рада вас видеть. Надеюсь, вы пришли не домашнее задание мне дать или типа того.
Софи рассмеялась.
— Ничего такого. Я волновалась, хорошо ли вот так заявляться. Думала, у вас тут, может, прорва посетителей.
— Мама едет из Кардиффа, — сказала Эмили. — Скоро будет. Но врачи меня предупредили, чтоб гостей было поменьше. Говорят, отдых сейчас важнее.
— Я ненадолго.
— Рада вам, — повторила Эмили.
Софи потянулась к ней, сжала ей руку. Она оказалась очень холодной. То был миг близости, единства, какой она хотела разделить с Эмили с того дня, когда та появилась у нее в кабинете — извиниться и предложить поддержку. Софи подержала Эмили за руку несколько секунд; об этой привлекательной загадочной студентке, ненароком подпортившей Софи карьеру, было очень мало что известно.
— Вы сами оттуда? — спросила она. — Из Кардиффа?
Эмили кивнула.
— Вам интересно, откуда такая фамилия, да? Она арабская. Отец приехал из Ирака в восьмидесятые, учиться архитектуре. Они с мамой познакомились в Кардиффском универе — и вот. Поженились, и он остался. На самом деле меня зовут Аль Шамма’а. (Она произнесла это с сильным ударением на длинный последний слог.) Все произносят неверно. Я уже и не заморачиваюсь поправлять.
— Так вы, значит…
— Наполовину арабка, наполовину валлийка. Первое имя — Эмлин, до того, как сменила. Эмлин Аль Шамма’а. Язык сломаешь немножко.
Усилия, нужные для разговора, ее, казалось, утомляли. Она потянулась за стаканом с водой, Софи наполнила его и передала ей. Эмили отхлебнула совсем чуть-чуть и вернула стакан.
— Не рискую много пить, — проговорила она, — а то вдруг опять пи́сать захочется.
— Больно, наверное, да?
— Не только это — все разливается куда попало. В смысле, как вы… как вам удается… направленно?
Софи не ожидала, что ее так быстро втянут в подобную беседу.
— Тренировка, наверное. Рискну предположить, что вы привыкнете. — И далее осторожно спросила: — Еще какие-то…
— …связанные с влагалищем вопросы? Нет, не сейчас.
Софи заметила, что Эмили опять поморщилась.
— Ужасно болит, наверное.
— Это все потому, что у меня там два бужа, чтобы не смыкалось.
— О-ой…
— Приходится держать их внутри по двадцать минут, пять раз в день.
— О-ой… Бедняжка. Это все равно что…
— Давайте оставим тему моих новых гениталий, может?
— Отличная мысль, — сказала Софи.
— Я видела одну телепрограмму с вашим участием. Здорово. Вы очень хорошо держитесь перед камерой.
— Спасибо.
— Надеюсь, универ доволен? Повышает им престиж немножко, надо полагать.
— Кстати сказать, — проговорила Софи, — они вам сообщали, что жалобу Кориандр на меня в конце концов отставили?
— Нет.
— Мне тоже. Я просто получила сообщение, что слушание прошло в мою пользу и все мои курсы восстановили. Меньше чем через неделю после того, как я написала им, что собираюсь вести телепрограмму. Возможно, совпадение.
— Ух ты, — сказала Эмили. — Весь стыд люди растеряли.
— У вас усталый вид, — сказала Софи. — Может, мне пора.
— Я и впрямь в лоскуты. Такое ощущение, что уже никогда не сможешь ни ходить, ни есть, ни делать что бы то ни было нормально. Но приятно быть вместе с кем-то. Больницы — места очень одинокие. Вы первый человек, с которым я за весь день поговорила, если не считать медсестру, которая заходила сменить мне капельницу.
— Вы тоже первый человек, с которым я сегодня поговорила.
Получалось так, будто это не просто такой вот факт. Прозвучало это как предложение доверия, и Эмили, какой бы измученной она ни была, хватило чутья, чтобы это уловить.
— О? — заговорила она. — Я всегда думала… — Тут она побоялась зарваться. — Не знаю… что у вас семья или как-то. Муж, дети. Что у вас с этим все сложилось.
— Муж у меня как раз есть, — отозвалась Софи. — Он просто не живет сейчас со мной. Видимо, у нас с ним пробное расставание.
— А. Как жалко. Когда это случилось?
— Уже месяцев девять. Я говорю, что это пока пробно, однако, если честно, все больше напоминает постоянное положение дел.
— Вы пробовали терапию и всякое такое?
— О да. Очень специфическую терапию, скажу я вам. Пост-Брекзит-терапию.
Эмили коротко и растерянно хихикнула, но лицо ей тут же перекосило от боли, и она схватилась за пах.
— Блин, — проговорила она, когда спазм прекратился. — Очень больно было. Напоминание, что не надо мне пока смеяться. Смеяться вообще не стоило, но… серьезно, дело в этом?
— В нем, в нем.
— И вы расстались из-за этого с мужем?
— Более-менее. Бред, да?
Софи уже собралась развить эту мысль, но тут в палату вошла миссис Шэмма. Мастью — как дочь: рыжие волосы, бледная кожа. Софи задумалась, почему не явился отец, и устраивает ли его такое положение вещей, и не усилило ли родительское неодобрение стресс Эмили в прошлом году. Мать казалась бурливой, любезной и разговорчивой. Софи представилась и побыла положенные пару-тройку минут, а затем нашла повод попрощаться. Осмелев после разговора, она перед уходом поцеловала Эмили в щеку и шепнула ей:
— Сейчас, может, оно так не чувствуется, но вы будете красавицей.
* * *
Софи, погрузившись в раздумья, спустилась к реке и пошла на восток к Фулэму. Темза была полна, буро-серые воды сонно плескались о стенки набережной. Кружили и вопили чайки. Пыхтел ленивый речной транспорт. Софи толком не понимала, куда направляется и чем займется, когда дойдет. Эта бесцельность словно бы стала новой, но уже постоянной чертой ее жизни.
Софи обдумывала тот миг в разговоре с Эмили, когда их прервали. То, что она сказала, было правдой: со всех рациональных точек зрения повод к их с Иэном расставанию бредовый. Пара может решить расстаться по всевозможным причинам: измена, жестокость, домашнее насилие, недостаток секса. Но разница во взглядах на то, должна быть Британия членом Европейского союза или нет? Казалось бы, абсурд. Да попросту абсурд. И все же в глубине души Софи знала, что это не столько причина, сколько последняя капля. Иэн откликнулся (с ее точки зрения) на итоги референдума с таким злорадным детским торжеством (он постоянно употреблял слово «свобода», будто был гражданином крошечной африканской страны, которая наконец-то отвоевала независимость у своего колониального угнетателя), что Софи впервые по-настоящему осознала: она больше не понимает, почему ее супруг думает и чувствует вот так. В то же время ее в то утро охватило мгновенное чувство, что маленькую, но значимую часть ее самости — ее современной, многослойной, сложносоставной самости — у нее отняли.
Несколько недель спустя, во время их первой встречи с семейным терапевтом Лорной, та сообщила им, что среди пар, которые она консультирует сейчас, есть много таких, которые считают Брекзит ключевым фактором их крепнущей отчужденности друг от друга.
— Я обычно начинаю с одного и того же вопроса, адресованного каждому из вас, — сказала она. — Софи, почему вас так злит, что Иэн проголосовал «Уйти»? Иэн, почему вас так злит, что Софи проголосовала «Остаться»?
Прежде чем ответить, Софи надолго задумалась.
— Скорее всего, потому что это заставило меня решить, что он как человек не настолько открытый, как я считала. Что его базовая модель отношений сводится к противостоянию и соперничеству, а не к сотрудничеству.
Лорна кивнула и обратилась к Иэну, тот ответил так:
— Я подумал, что она очень наивная, живет в каком-то пузыре и не видит, что у людей вокруг нее может быть другое мнение. И от этого у нее определенная позиция. Позиция нравственного превосходства.
Тут Лорна сказала:
— Что интересно в ваших ответах, ни один из вас не упомянул политику. Словно референдум вообще не касался Европы. Вероятно, на самом деле происходило нечто гораздо более глубинное и личное. И поэтому решить эту задачку, пожалуй, будет трудно.
Она предложила курс из шести встреч, но это, как оказалось, ее оптимизм. На деле они пришли к ней девять раз, после чего она признала поражение и умыла руки.
День 24 июня 2016 года запомнился Дугу тремя событиями: было объявлено, что британский народ проголосовал за выход из Европейского союза; Дэвид Кэмерон покинул пост премьер-министра; Найджел Айвз перестал отвечать на звонки.
Шестнадцать месяцев спустя Дуг все еще пытался назначить встречу с неуловимым заместителем помощника директора отдела по связям с общественностью. В этом ему помогала и Гейл, она иногда замечала Найджела, спешившего по коридорам Вестминстерского дворца или штаб-квартиры Консервативной партии, но Найджел всегда очень умело избегал Гейл. Ей удавалось лишь докладывать Дугу, что вид у Найджела «очень затравленный».
Вот откуда взялось немалое изумление, когда утром 16 октября 2017 года Дуг получил от Найджела СМС. Содержалось в нем только это:
Встретимся в обычном месте в четверг? 11 утра?
* * *
К кафе на станции подземки «Темпл» Дуг питал чувства, очень похожие на те, что имелись у Бенджамина и Лоис к пейзажу вокруг Бикон-Хилла, — в том, что оно почти не менялось, было нечто глубоко успокаивающее. Столицу и, конечно, всю остальную страну продолжали заполонять однотипные сетевые кафе, а тут все еще подавали рулет с беконом, сэндвичи с солониной и пенный капучино — и никаких соевых латте без кофеина. Это место словно берегло некий уголок Британии, оставшийся еще с 1970-х или даже раньше, что придавало ему особое обаяние, в каком даже Дуг не мог этому кафе отказать.
— Доброе утро, Дуглас.
Приветствие показалось выдохшимся и пресыщенным. Дуг отвлекся от ноутбука и проследил, как Найджел занимает место напротив. Юношеский румянец исчез. На лице щетина, ей уже несколько дней. Щеки бледные, впалые, галстук повязан криво, поспешно, волосы выглядят так, будто их не расчесывали не одну неделю. Найджел с благодарностью отхлебнул кофе, который Дуг заказал ему заранее.
— Найджел, рад вас видеть, — проговорил Дуг. — Наконец-то.
— Давненько, верно? Когда мы в последний раз?
— Кажется, за месяц или два до референдума.
— Ах да… — Когда Найджел услышал эти слова, «до референдума», в глазах у него возник отстраненный, едва ли не возвышенный блеск, и он уставился куда-то Дугу за плечо, словно бы в далекое прошлое, в лучшие времена, до грехопадения, во времена беззаботной невинности и простых детских радостей.
— Шестнадцать месяцев плюс-минус.
— Правда? — переспросил Найджел. — Всего шестнадцать месяцев? Кажется отчего-то… дольше. Гораздо, гораздо дольше. — Он печально покачал головой.
— Что ж, — сказал Дуг, — чему я обязан этой редкой честью?
— Буду с вами откровенен, Дуглас, — что бы вы там обо мне ни думали, я всегда старался быть порядочным. Прошу вас оставить это строго между нами, но я, вероятно, уйду с работы. Подумал, что нам надо разок потолковать напоследок.
— Правда? Надеюсь, это означает повышение.
— Боюсь, нет. Думаю, пришло мое время уйти из мира политики. На новые пажити.
— Ну, вы проделали немалый путь.
— Наверное, — отозвался Найджел — не очень убежденно, впрочем. — Но прежде я бы хотел расставить кое-что по своим местам.
— Так-так, — сказал Дуг.
— Окей. С референдума, — продолжил Найджел, — вы сказали о Дэвиде Кэмероне несколько вещей, которые, с моей личной точки зрения и с учетом всего, а также говоря совершенно откровенно, видятся довольно несправедливыми.
— Быть того не может.
— Назвали его «худшим британским премьер-министром в моей жизни», например.
— Я такое сказал?
— Говорили, что он был «безрассудным неумехой, обложившимся богатством и привилегиями».
— Резковато, пожалуй.
— «Великой светлой надеждой современного консерватизма, оказавшимся слабым, трусливым, зловредным, самовлюбленным дураком».
— Да, в тот раз мне, видимо, платили пословно.
— Дело в том, — сказал Найджел, — что вы не правы. Годы Кэмерона будут считаться счастливой эпохой. Я в это искренне верю.
— Серьезно?
— Он был радикалом. Модернизатором. Человеком видения. Человеком великой личной и нравственной отваги.
— Уйти с поста в день референдума и предоставить другим разгребать завалы, которые он устроил, — отвага?
— Это показало его как человека принципиального. Человека, который верен своим обещаниям.
— Но он обещал не уходить с поста, если проиграет.
— А также человека, готового сменить свою позицию, когда того требуют обстоятельства.
Найджел говорил с большим пылом. Дугу внезапно стало его жалко.
— Вы все еще общаетесь с ним?
— Я предпочитаю не навязываться, — ответил Найджел. — Не считаю, что его стоит беспокоить. После ухода Дэйв стал совсем другим человеком. Очень смиренным. Созерцательным. Он осознал, что пришло его время принять кое-какие большие жизненные решения.
— Например?
— Ну, купить подсобку, скажем.
— Ах да. Про подсобку я читал.
— Покупка подсобки оказалась для него значимым шагом. Вы не поверите, как сильно эта подсобка его изменила.
— Не удивлюсь. Она обошлась в двадцать пять тысяч фунтов. Надеюсь, добротная.
— Дуглас, — проговорил Найджел, вперяя в собеседника серьезный взгляд, — это прекрасная подсобка. И то, что Дэйв в ней делает, тоже прекрасно.
— А именно?
— Пишет мемуары. Историю референдума. Правдивую историю референдума. Вот это будет подарок миру.
— Подарок? В смысле, он не собирается брать за это деньги? — Найджел улыбнулся. На миг показалось, что он отзовется на провокацию Дуга. Но в нем этого больше не было. — Насколько я понимаю, он уже читал лекции в Штатах на эту тему. Брал по сто двадцать тысяч долларов в час, как в газетах пишут.
— Уж кто-кто, а вы, Дуглас, должны понимать: очень немногое напечатанное в британских газетах содержит хоть какую-то правду. Как человек, много лет вбрасывавший истории в газеты, я знаю, о чем говорю.
В прошлом, подумал Дуглас, Найджел говорил такое, совершенно не отдавая себе отчета, до чего оно порочит говорящего, а теперь произносил это в таком тоне, будто просто озвучивал печальную истину. Вероятно, при таком вот исповедальном настрое из него можно было бы вытащить и другие откровения. С тех пор как по суматошным следам референдума премьер-министром стала Тереза Мэй, они виделись впервые. В то время мало кто из журналистов способен был постичь ее — мало кто вообще мог понять, как человек, так рьяно поддерживавший членство Британии в ЕС, ухитрился так гладко совершить разворот на сто восемьдесят градусов и повести страну к Брекзиту. Не выпадет ли сейчас возможность подобраться к сути этой тайны?
Дуг подался вперед.
— Ну же, Найджел, давайте, последнее одолжение. Расскажите мне, каково это. Расскажите, как это на самом деле.
Найджел глянул на него вопросительно.
— Как это?..
— Работать с Терезой. Какая она? Вот кто настоящая загадка. Никому из нас не разобраться, чего она действительно хочет, или что думает, или во что верит.
Услышав этот вопрос, Найджел резко переменился. Тут же облекся былой настороженностью и таинственностью.
— Тереза… очень отличается от Дэйва, — сказал он.
— Да?..
— Я бы сказал, что она — женщина… многих противоречий.
— Например?
— Ну, она очень амбициозная, но довольно осторожная. Крепка своим умом, но очень полагается на советников. Верит в сильное лидерство, но при этом следует воле народа.
— А, «воля народа». Мне интересно было, когда уже наконец всплывет этот оборот.
— Его в штаб-квартире партии слышно часто в последнее время. Очень часто.
Вид у Найджела вновь сделался подавленный. Дуг воспользовался возможностью и спросил:
— А боевой дух как? В общем и целом.
— Боевой дух… абсолютно тип-топ, — ответил Найджел, тяжко сглотнув. — Сейчас потрясающее время, что очевидно. Британия на перепутье, а мы — в самом эпицентре… в эпицентре водоворота, который… преображает политическую действительность того, что, со всей ясностью, очень… сейсмичность в котором… тектонические плиты нашей национальной истории смещаются… трансформационно, и быть этому свидетелем…
Он вдруг умолк. Во взгляде возникла пустота. Плечи ссутулились. С минуту или дольше он вперялся в пенную поверхность своего кофе. Наконец поднял взгляд, и слова, которые он произнес, оказались самыми прочувствованными из всех, какие Дуг слышал из его уст.
— Нам пиздец.
— Что, простите?
— Нам полный и безвозвратный пиздец. Полный хаос. Все носятся кругами, как резаные куры. Ни у кого ни малейшего понимания, чем они занимаются. Какой же нам всем пиздец.
Дуг быстро выхватил телефон и начал голосовую заметку.
— Это под запись? — уточнил он.
— Да кому какое дело? Нам пиздец, поэтому без разницы.
— В чем именно хаос? Кто носится кругами, как резаная курица?
— Во всем. Все. Никто такого не ожидал. Никто не был к этому готов. Никто не знает, что такое Брекзит. Никто не знает, как это делается. Полтора года назад они все называли это Брикзитом. Никто не знает, что означает «Брекзит».
— Я считал, что Брекзит означает Брекзит.
— Очень смешно. И что же это за Брекзит?
— Красный, белый и синий Брекзит, — процитировал Дуг и вновь пожалел Найджела — уж таким несчастным тот казался. — Но у них же должно быть навалом советников… экспертов?..
— Экспертов? — озлобленно переспросил Найджел. — Мы же больше не верим в экспертов, помните? Тут очень простая цепочка власти. Все получают указания от Терезы, а она — от «Дейли мейл». Ну и еще от парочки аналитических центров, которые настолько повернуты на свободной торговле, что их нельзя пускать…
— Эти аналитические центры… — У Дуга взыграло любопытство. — Уж не фонд ли «Империум» один из них?
— О боже, — проговорил Найджел, уронив голову на руки. — Они повсюду, эти ребята. На всех заседаниях. Заваливают нас таблицами. Какая там воля народа. Эти психи захватили власть, вот кто.
— А Кэмерон бы им противостоял лучше, как думаете?
— Кэмерон? — переспросил Найджел, и лицо ему перекосило. — Да он чмо. Первосортный, первоклассный, железобетонный козлина. Сидит в своей блядской подсобке, мемуары пишет. Вы гляньте, какой он бардак по себе оставил. Все друг другу в глотки вцепляются. На иностранцев на улицах орут. В автобусах нападают, говорят, чтоб валили откуда пришли. Любого, кто выделяется, обзывают предателями и врагами народа. Кэмерон разрушил страну, Дуг. Он разрушил страну — и удрал!
«Он и тебя разрушил, похоже», — подумал Дуг, доставая из кармана бумажный платок и протягивая его Найджелу; тот несколько секунд промокал им глаза. Руки у него тряслись.
Не понимая, правильно ли сейчас просить об одолжении, но почти не сомневаясь, что другой возможности, скорее всего, не выпадет, Дуг проговорил тихонько:
— У вас же, наверное, нет никаких бумаг на этих людей? На фонд «Империум». Ничего такого, что вы могли бы мне показать?
Лицо у Найджела не выдало почти ничего.
— Слить конфиденциальную документацию? Вы об этом меня просите?
Дуг, смутившись, отвел взгляд и тут же сменил тему:
— Так или иначе, я понимаю, почему вы хотите выйти из всего этого. Уверен, вы найдете себе подходящую нишу — может, в пиаре, в рекламе? В маркетинге, в подготовке кадров для СМИ — что-нибудь в этом духе?
У Найджела на лице начали происходить ошарашивающие перемены. Глаза вновь засияли — на сей раз уж точно весельем. Дугу показалось, что и его губ коснулась улыбка.
— Что такое? — переспросил он. — Это же все неплохие варианты, ну?
Найджел медленно покачал головой.
— У меня есть вариант гораздо лучше.
Дуг спросил:
— Желаете поделиться?
Найджел посмотрел по сторонам, глянул через плечо, а затем склонился к Дугу — близко-близко.
— Я собираюсь повидать мир. — И как раз когда Дуг уже собрался кивнуть и сказать: «Хорошая мысль», Найджел добавил: — На воздушном шаре!
Видя, что собеседник разинул рот, Найджел встал и принялся декламировать — сперва обращаясь только к Дугу, а затем и к остальным оторопелым посетителям кафе:
— О да! Такая жизнь — по мне! Пересечь высочайшие пики Французских Пиренеев! Проследовать за течением Ганга, текущего царственно к Бенгальскому заливу! — Тут Найджел принялся с некоторым трудом влезать в пальто, пытаясь просунуть руки в вывернутые наизнанку рукава. — Никакого больше вранья газетам! Никакой больше чепухи, которую самим политикам слишком неловко произносить вслух! Я свободен! Свободен, говорю вам! Свободен воспарить, как птица в небесах!
Гости кафе смотрели со все возрастающей тревогой, как Найджел распахнул дверь и вышел на свежий воздух. Дуг попытался махать ему вслед, но Найджел, похоже, уже не обращал внимания. Свой давний доверенный источник сведений Дуг запомнил таким: трепыхающаяся возбужденная фигура исчезает вдали, руки по-прежнему притиснуты к груди — Найджел так и не совладал с рукавами своего упрямого пальто. Почему-то — кто его знает почему — Дугу вспомнилась смирительная рубашка.
Октябрь 2017-го
Бен?..
…в жизни бывают минуты, за которые не жаль отдать целый мир[112], да, помню эту фразу, она из романа «Амелия» Филдинга[113], который никто не читал, кроме, очевидно, меня, и, разумеется, эта фраза мыслилась иронически, ибо ее произносит героиня, а Филдинг противоположен сентиментализму, но все равно есть в этой фразе нечто чудесное, нечто очень притягательное, но вот о чем я подумываю, старея: дарованы ли такие минуты лишь молодым, переживаешь ли такое, лишь пока ты подросток или тебе слегка за двадцать или в целом при созревании, что в моем случае, вероятно, затянулось гораздо дольше, более того, я, может, и не выбрался из него все еще, лучше не думать об этом, не стоит и соваться туда, но вопрос необходимо задать — переживу ли я еще такие минуты, что-то подобное утру после того, как мы с Сисили впервые переспали, например, когда я сидел в «Лозе» и допивал в одиночестве свое пиво, и столько мыслей носилось у меня в голове, и, оглядываясь назад, то была, возможно, вершина моего счастья, уж точно вершина моего счастья с ней, потому что после я не видел ее бог знает сколько лет, но, может, это была вершина моего счастья в целом, был ли я столь же счастлив в жизни, как в ту минуту, добрался ли я до вершины, иными словами, в свои восемнадцать, вот он, ключевой вопрос, но, может, все сложнее, тоньше, потому что есть разные виды счастья, правда же, есть виды счастья, вероятно, не такого яркого, но зато глубокого, оно длится дольше, а может, его-то я и ощущаю сейчас, стоя в Садовом дворе Бейлиола и глядя через Крокетную лужайку на свою старую лестницу и думая, окей, мне уже пятьдесят семь, но, вероятно, последние несколько лет были лучшими в моей жизни, я жил один, со всеми удобствами, вижусь с друзьями, больше не схожу с ума по Сисили, и у меня даже вышла книга, удачно, и отклики читателей, настоящих, всамделишных читателей, славших мне письма и электронные сообщения, они приходили ко мне на встречи, и восторг понимания, что некоторых людей, пусть самую малость их, тронуло то, что я написал, а следом странность заново встретиться с Дженнифер и еще страннее ходить с ней на свидания, нет, оно так не называется, когда вам за пятьдесят, состоять с ней в отношениях, хотя отношения вышли чудны́е, я бы не сказал, что наши чувства друг к другу сильны и впрямь, думал в некий момент, будто она сказала, что любит меня, но вышло недоразумение, теперь-то я понимаю, а к тому же и эта неудобная мелочь, что она, вероятно, спит с кем-то еще, с мужиком по имени Роберт, но странное дело, меня, оказывается, это почти не волнует, я не хочу проводить с ней все свое время, приятно видеть ее иногда, секс хорош, более чем, он даже отличный, в смысле, Иисусе, кто бы подумал, что лучший секс в жизни случится у меня в пятьдесят семь, чудеса все не кончаются, но при всем этом у меня с Дженнифер не то же самое, что у Дуга с Гейл, скажем, и вот это поразительно как раз — смотреть на них вдвоем, после стольких лет, когда Дуг увивался за этими пижонистыми дамочками из золотой молодежи, наконец-то он, кажется, нашел кого-то на одной волне с собой, оно и показывает, что влюбиться можно и в человека, с которым вы смотрите на политику по-разному, надо полагать, я поначалу то же думал о Софи с Иэном, но вот их потопило, верно же, не получилось у них в конечном счете, но, может, различия между ними просто слишком серьезные, а может, было и что-то другое у них, о чем я не знал, как ни крути, какая досада все же, что они расстались, я знаю, как сильно Софи хотела, чтобы все обошлось, я за нее волнуюсь, она теперь одна, считает, что любые ее отношения обречены, но наверняка же вскоре найдет себе кого-то еще, она сильная женщина, спору нет, посмотреть, как она пережила все эти неприятности на работе, кого-то, наверно, сломило бы, но Софи, она крепко сбита, она выкрутилась, и если вообще ссориться с Дугом, то как раз потому, что он толком так и не вмешался, чтобы помочь ей, пока все это тянулось, ему надо было приложить больше усилий с Кориандр, подумаешь, она его не слушается, но дочь же, господи ты боже мой, можно было все-таки как-то это устроить, какой-нибудь все еще открытый канал общения, прямо надо было заикнуться об этом в тот вечер, почему я никогда не говорю со своими друзьями откровенно о том, что считаю важным? — вечно так было, я трус, много в чем, нравственный трус, но вместе с тем, когда ты у кого-то дома, когда тебя позвали в гости, когда сидишь за их столом, ешь то, что они для тебя приготовили, выходило бы несколько вздорно, если порицать их методы воспитания, тем более Дуг с Гейл были за ужином такие любезные, так помогли мне с моей загвоздкой, да и тема была довольно скучная, я толком и не собирался ее поднимать, не было у меня в планах, чтобы все слушали, как я бубню о том, что мне через полгода сдавать новую книгу, а у меня ни малейших мыслей, о чем она вообще должна быть, кто угодно мог бы запросто сменить тему, быстренько двинуться дальше, но нет, они все проявили интерес — ну или сделали вид, — и разговор-то обернулся довольно увлекательным, ну или мне так показалось, разговор о том, что писателю следует делать в такое время, как сейчас, и чего не следует, должны ли писатели быть engagés[114], кажется, так оно по-французски, или им лучше оставаться во «внутренней эмиграции», уходить в себя, прочь от действительности, не просто сбегая от нее, но и отвечая на нее, создавая альтернативную действительность, нечто устойчивое, иногда утешительное, и когда я об этом заикнулся, Дуг посмеялся и сказал, ну конечно, этим ты и займешься, правда, Бен? — это тебя полностью описывает, и я, видимо, слегка заартачился, потому что он уже сорок лет трунит над моим нулевым интересом к политике, насколько он это понимает, и уж точно не таким интересом, какой у него самого, но на этом фронте Дуг всегда был несколько одержим, на мой взгляд, но, так или иначе, на сей раз я решил, что ему это просто так не спущу, и сказал, что на самом деле не хочу, чтобы моя следующая книга была похожа на предыдущую, полностью личную и автобиографическую, хочу написать что-то шире, что-то о состоянии, в которое эта страна себя загнала в последние несколько лет, и Дуг задумался и сказал, ладно, чего бы тебе не написать о том времени, когда ты познакомился в Оксфорде с Борисом Джонсоном, и я сперва решил, что он опять подначивает, потому что последнее время оно уже превратилось в анекдот — что в Бейлиоле я жил в одном коридоре с Борисом Джонсоном, недели три, осенью 1983 года, и мы ходили мимо друг друга по коридору в туалет и обратно, — и я сказал, ой, да, очень смешно, но Дуг подтвердил, что он всерьез, и сказал, нет, ты подумай про это, ты действительно стоял у истоков чего-то значимого, это было начало эпохи, когда Оксфордский союз, по сути, захватило целое поколение студентов-консерваторов, и они все передружились — и соперничали тоже, но в основном дружили, — и они еще отыграют свои мелкие политические заварушки в дискуссионной палате Оксфордского союза и поспорят о том, величайший ли в истории премьер-министр Маргарет Тэтчер и следует ли нам оставаться в Евросоюзе, и, конечно, многие из них вступили еще и в клуб «Баллингдон», а когда не игрались в управление страной в дискуссионной палате Оксфордского союза, они увлеченно надирались, крушили рестораны и предоставляли родителям покрывать их расходы, а теперь вы поглядите на них на всех, тридцать лет спустя, Дэвид Кэмерон, он был в Оксфорде в 1980-е, Майкл Гоув, был в Оксфорде в 1980-е, Джордж Озборн, был в Оксфорде на несколько лет позже, эти шалавы (Дугово слово, не мое) все знали друг друга, и вот теперь эти самодовольные, самонадеянные мудаки (Дугово выражение, не мое) правят страной, они все еще дерутся за власть и разводят свои жалкие заварушки, но уже не в Оксфордском союзе, а на общенациональной сцене, и жизнь наша очерчивается и направляется этими людьми и их дурацкими драчками, голосуем мы за них или нет, и вот как она тебе — такая тема для романа, и, конечно, у Гейл сделался слегка напуганный вид, потому что Дуг толковал о некоторых ее коллегах, но она не обиделась и даже много с чем согласилась, что неудивительно, и хотя с ходу отнесся ко всему этому скептически, я затем обдумал это какое-то время, и вот результат: прошло несколько дней, и я здесь, навещаю Оксфорд, город, который со студенческих лет мне успешно удалось посетить всего несколько раз, хотя, конечно, тут теперь живет моя сестра, она наконец ушла от Криса, снимает меблирашку где-то на Каули-роуд, мы с ней сегодня тут встречаемся, она того и гляди явится вообще-то, и вернуться сюда — особый опыт, должен сказать, горестный и сладкий, видимо, так это следует описывать, есть в этом городе нечто выдающееся, в том, как здесь сталкиваются прошлое и настоящее, такого я больше нигде не помню, видимо, оттого, что сетевые магазины, сетевые рестораны и сетевые кафе, какие видишь теперь по всей стране, куда ни подайся, из-за них все города смотрятся и ощущаются совершенно одинаковыми, оно тут все спрятано в этих милых старых зданиях, гнездится рядом с учебными постройками, они такие красивые, такие древние, так полны историей, вот что создает странный и сложный дух этого места, и потому, да, этот город идеально подходит, чтобы приехать сюда и предаться воспоминаниям, дать прошлому наводнить настоящее, и как раз этим я сегодня и занимаюсь пока что, осень, опять же, прекрасное время для этого, время, когда все начинает блекнуть и увядать, вот так многие на это смотрят, но здесь, в Оксфорде, если ты из академии, это время обновления, начало нового года, пора надежд и возможностей, и, стоя здесь, посреди Садового двора, глядя через Крокетную лужайку на мою старую лестницу, вот что я чувствую, во всяком случае, трепет, трепет творчества, но вряд ли двинусь в том направлении, какое предложил Дуг, не по мне оно, кому, как не ему, писать книгу о том, как этой страной заправляет ватага учеников частной школы, у которых зубки прорезались в Оксфорде, а мне надо писать о чем-то более личном, «писать о том, что знаешь», разве не таков первый и самый очевидный совет, какой получает любой начинающий писатель? — но я не буквально, не собираюсь я писать книгу о старике, окей, не старике пока, но о человеке, который уже начинает чувствовать, что подается в ту сторону, не о старике, стоящем на Садовом дворе, он оглядывается на свои студенческие деньки и задается вопросом «où sont les neiges d’antan?»[115] или чем-то в этом духе, надо искать не совсем уж под боком, и я знаю, за что попробую взяться — да, за Чарли! за историю Чарли Чэппелла и его ожесточенного соперничества с Дунканом Филдом, как он оказался в тюрьме, конечно, я все имена поменяю, и так далее и тому подобное, но, кажется, я нащупал кое-что, в этом есть книга, а если и нет, что ж, может, и не стоит мне писать вторую книгу, может, наша с Сисили история — единственная, какую мне надо было рассказать, и я просто верну выплаченный аванс и найду, чем себя занять, но мне придется хоть чем-то заниматься, не потому что у меня подходят к концу остатки денег, а потому что у меня настоящей работы не было, я не делал, что называется, осмысленного вклада, уже почти…
…Бенджамин!
* * *
Он обернулся и увидел рядом с собой Лоис.
— Ты меня не слышал, что ли? Я тебя тут обыскалась.
На мельницу в Шропшир в первую неделю ноября 2017 года Чарли приехал, чтобы обсудить замысел книги, основанной на его личной истории.
Его краткий тюремный срок завершился в июле, выглядел он теперь худее и старше, чем запомнился Бенджамину, но жизнелюбия в нем, похоже, не убавилось. Ему навсегда запретили работать с детьми на территории Соединенного Королевства, но и это его не сломило, хотя карьера клоуна для него завершилась. Что-нибудь подвернется, и, как ни странно, Чарли за эти три месяца взаперти стало получше. Выдалось время все обдумать, и его больше не разъедали ни гнев, ни ожесточенность, как это было прежде. Бенджамин осознал, что Чарли всегда воспринимал жизнь как череду случайностей, их не отвратить, ими не распорядиться, а потому остается лишь принимать их и использовать для своей выгоды, когда удается. Здоровый взгляд на жизнь, думал Бенджамин. Ему это пока так и не удалось.
Возможность увековечиться в беллетристике Бенджамина Чарли по-настоящему воодушевила. Чтобы помочь с изысканиями, он привез с собой целую папку бумаг.
— Я много чего записывал, — сказал он, — и пока шло следствие, и когда меня упрятали. А еще я время от времени вел дневник, несколько лет.
— Замечательно, — отозвался Бенджамин. — Это невероятно полезно. Но конечно, саму историю я изложу своими словами.
— Само собой, — сказал Чарли. — Это я понимаю. Но все же можно мне кое-что предложить?
— Конечно.
— Понимаешь, если бы эту книгу писал я, — проговорил Чарли, выуживая из папки листок бумаги, — я бы начал вот с этого. Чтобы подогреть в читателе интерес.
Бенджамин взял у него из рук листок и принялся читать. Вырезка из местной газеты «Бромзгроув эдветайзер» от 7 сентября 2016 года.
— Своего рода пролог, — добавил Чарли, — чтобы пояснить, что произошло, перед тем как открутить назад и изложить предысторию.
Бенджамин кивнул.
— Неплохо, — согласился он.
Текст в вырезке гласил:
ПОБОИЩЕ ПАЯЦЕВ
В эту субботу вечером на празднике в честь дня рождения потрясенные дети наблюдали неожиданный аттракцион ужасов — драку между артистами-соперниками.
Обожаемый среди детворы комик Доктор Сорвиголова (также известный как Дункан Филд) показывал свою фирменную клоунаду на гулянке в Элвчёрч, по случаю девятого дня рождения Ричарда Паркера, когда на ту же вечеринку заявился коллега Филда Барон Умник (также известный как Чарли Чэппелл). Судя по всему, произошло двойное бронирование артистов.
Свидетели заявляют, что клоуны удалились в кухню разбираться, но уже через несколько минут вцепились друг другу в глотку — буквально. Потеха быстро переросла в потасовку, вскоре вызвали полицию.
Мама Ричарда Сьюзен Паркер сказала: «Это было ужасно. Только что дети прекрасно развлекались бомбочками-вонючками — и вдруг этот кавардак. Дети закричали, и не успела я глазом моргнуть, как мне сломали два стула и побили кое-что из лучшей посуды».
Впоследствии мистер Филд, получивший перелом челюсти и другие увечья, прокомментировал: «Это было жестокое и неспровоцированное нападение со стороны человека, завидовавшего мне профессионально. Будьте уверены, я подам в суд и призову к действию полную силу закона».
Мистер Чэппелл сказал, что драка не имела никакого отношения к профессиональному соперничеству и возникла в результате «спора из-за Брекзита». Мистера Чэппелла держат под охраной.
Или лучше сказать… манежат?
Дочитав до шутки, Бенджамин поморщился.
— Фу… с этой строчкой не мешало бы поработать.
— Однозначно. И все же что скажешь насчет перепечатать эту вырезку — с этого начать?
— Думаю, это замечательная мысль.
— А затем отмотаешь назад, к истории, как я познакомился с Ясмин и Аникой, и о том, как мы с Дунканом начали друг друга ненавидеть.
— Да, понятно. С вашей встречи в магазине игрушек.
— Точно.
Бенджамин начал записывать что-то в блокнот, а затем замер, зажав ручку губами.
— Как ты думаешь, что такого было в Анике, из-за чего у вас с ней установилась такая связь? Ты бы мог это облечь в слова?
— Погоди, — попросил Чарли и зарылся в папку. — Я об этом что-то писал в дневнике. Это… — Он извлек очки из кармана рубашки и вгляделся в небрежно исписанные бумаги. — Это две тысячи пятнадцатый. Ничего, если я вслух прочту?
— Давай, — сказал Бенджамин, усаживаясь поудобнее.
— Окей. — Чарли прокашлялся и принялся читать: — «Завтра ей восемнадцать. Может, все оттого, что своих детей у меня нет, я начал считать ее дочерью. Может, оттого, что я начал считать ее дочерью, Ясмин так ревнует, когда видит нас вместе, и никак не может это скрыть. Об этом мы поговорить не можем. Вот что я точно понял за последние несколько лет: какими бы ни были благими твои намерения, нет никакой возможности тактично сказать женщине, что она недооценивает собственную дочь.
Три часа дня, солнечное сентябрьское воскресенье, она в саду. Солнце озаряет ее, сочится сквозь ветви сумаха, рисует подвижные, пляшущие узоры на ее волосах, прячет их черноту, окружает нимбом света, добавляет оттенки каштанового, темного и блеклого, темного, как туалетный столик красного дерева у мамы в старой спальне, блеклого, как песок на пляже при низкой воде времен моих давно забытых летних каникул».
— Мило. — Бенджамина подтолкнуло сказать это, когда Чарли остановился перевести дух.
— «Она читает томик поэзии Лорки, на испанском. Мне нравится слушать, как она говорит по-испански, и я прошу ее прочесть мне несколько строчек. Она читает: „Por las ramas indecisas, iba una doncella que era la vida. Por las ramas indecisas. Con un espejito reflejaba el día que era un resplandor de su frente limpia“[116]. Ее голос — странного рода музыка. Странного, потому что исчезает ее выговор — выговор, связывающий ее с Бирмингемом, ее домом, а возникает другой, незнакомый; на мой слух, он экзотичен и красив. Я прошу ее перевести эти строчки, она мимолетно хмурится, а затем, тщательно все обдумав, говорит: „Сквозь робкие ветви прошла девушка, что была жизнью. Сквозь робкие ветви. Она отражала свет дня крошечным зеркалом, что было красой ее безоблачного чела“.
Потом эти строки не идут у меня из головы. „Девушка, что была жизнью“ — именно так я думаю об Анике. Я думаю о женщине, какой она сделается, когда покинет дом, оставит свою мать, этот город и воплотит свою мечту — мечту о свободе. Свободе жить, где хочется, быть там, где хочется, говорить на языках, которые она любит. Я думаю об этой красивой мусульманской девушке, дочери пакистанцев, как она живет в Севилье, или в Гранаде, или в Кордове и говорит на безупречном испанском, и я думаю, какое яркое будущее у нас впереди, если мы решим стать такими — людьми, более не связанными тесными тюремными оковами крови, или религии, или национальности. Для меня Аника — символ такого будущего. Но в то же время я не хочу обуживать ее, сводить к символу, потому что она — нечто гораздо более важное: она человек мыслящий, чувствующий, любящий человек, вольный свершать свой выбор, идти своим путем, никому не подотчетно. Как та девушка в стихотворении. Женщина, „что отражает свет дня крошечным зеркалом, что было красой ее безоблачного чела“».
Чарли отложил блокнот и снял очки. На последних словах речь у него замедлилась, голос дрогнул.
— Черт бы драл, Чарли, — проговорил Бенджамин, помолчав. — Это прекрасно. Я и не думал, что ты умеешь… в смысле, я не предполагал… Где ты выучился так писать?
Чарли пожал плечами:
— Я всегда много читал, наверное. С самого детства. А что, как думаешь, хорошо получилось?
— Думаю, это обалденно. Так проникновенно. Интересно, что бы она сказала, если бы прочла это?
— Вряд ли она когда-нибудь это прочтет.
— Ну, ты не против… ты не против, если я это помещу в книгу прямо вот так, как ты это написал?
Чарли улыбнулся.
— Нет, конечно, не против, дружище. Это все тебе. Делай с ним что хочешь.
Время шло к часу дня, и они пошли в кухню обедать. На выходных заезжала Лоис. После их расставания с Кристофером она слегка свихнулась на стряпне, а раз кухня у Бенджамина была гораздо просторнее ее оксфордской комнатенки, Лоис повадилась приезжать при любой возможности, холодильник и морозилка были забиты ее супами и вторыми блюдами. Бенжамин наполнил две плошки острой чечевицей и томатным супом и, пока отпиливал ломти хлеба с отрубями (также испеченного сестрой), спросил Чарли:
— И как у нее дела в университете?
— Очень хорошо, по-моему. Хорошие оценки по всему подряд. А следующий год у нее в Испании.
— Фантастика. А с искусством?
— Ага, она все еще занимается понемножку. Помогла с фреской или чем-то таким, для студсоюза. Думаю, это сохраняло ей рассудок, знаешь ли, пока она с матерью жила. Когда такой талант, он помогает со всяким другим, верно же? С гневом, с раздражением и прочим. Дает тебе отдушину. Мне такое нужно самому. Всяко лучше, чем колотить людей. Не то чтобы мерзавец не заслужил.
— Ты готов рассказать мне, что произошло?
— Давай сперва поедим, — предложил Чарли.
Они послушали сводку известий на «Радио Четыре». Главная новость — поездка президента Трампа по Азии, он уже добрался до Южной Кореи и ухитрился обойтись без всяких серьезных дипломатических инцидентов, хотя президент, как обычно, получал удовольствие от того, что вся мировая аудитория из-за него словно на острие бритвы, ждет, затаив дыхание, какой-нибудь расчетливой провокации или случайной оплошности, которая ввергнет весь белый свет в хаос. Через несколько секунд Бенджамин уже собрался переключиться на «Радио Три», но спохватился: нет, подумал он, такое позволил бы себе старый Бенджамин, до референдума, до выборов Доналда Трампа. Мир менялся, все крутилось неуправляемо, непредсказуемо, и было важно оставаться в курсе всех дел, иметь мнение. Минуту или две они с Чарли слушали в чутком молчании.
Наконец Бенджамин произнес:
— Не нравится мне Трамп, а тебе?
— Не-а, — отозвался Чарли. — На дух этого чувака не выношу.
Бенджамин кивнул. Политическая дискуссия им не грозила, и он последовал своему исходному порыву и переключил радио — и полились первые аккорды Брамсова квинтета для кларнета. Остаток их трапезы прошел под этот успокаивающий аккомпанемент.
Вернувшись в гостиную, они с Чарли вновь уселись друг напротив друга, и Бенджамин спросил:
— Короче, нельзя нам уже откладывать этот вопрос. Вынужден спросить: что на тебя нашло в тот день? С чего вдруг насилие? Какова была последняя капля?
— Много кто в заключении меня про это спрашивал, — проговорил Чарли, зарывшись в папку. — У них у всех такое впечатление, будто я в глубине души человек мягкий и добросердечный, и поэтому пытаться объяснять это — им и себе…
— Может, ты про это писал?
— Как ни странно, да, писал.
Он извлек два или три листка бумаги и вновь вытянул из кармана очки.
— Тебя, похоже, не на шутку укусила писательская муха.
— Честно говоря, Бен, это твоя книга меня вдохновила, — сказал он. — Надо воздать тебе должное за это.
— Чепуха, — возразил Бенджамин. — Ну давай. Послушаем, что у тебя вышло.
Чарли подался вперед, прочистил горло и стал читать.
— «Семнадцатое сентября, — начал он, — 2016 года.
К дому я приехал с запасом в десять минут.
Можно считать это моим прирожденным пессимизмом, а можно профессиональным чутьем, но было жутковатое предчувствие, что Сорвиголова сюда уже добрался. Он уже дважды или трижды взламывал мою почту, отменял мое выступление и забирал его себе. Конечно, я припирал его с этим к стенке, но он беззастенчиво все отрицал. Однако сегодня я не собирался спустить ему это с рук. Как только завидел паршивый серенький „воксолл“, оставленный на подъездной аллее рядом с автомобилями родителей, я понял, что день наших давно откладываемых разборок настал. Я чувствовал, как во мне поднимается злость, но решил вести себя спокойно и с достоинством — хотя, так вышло, я уже облачился в свой костюм, и удивительно, сколько народу не воспринимает тебя всерьез, если на тебе тесный твидовый костюм, разноцветная академическая шапочка и красный пинг-понговый шарик на носу.
Позвонил в дверь и, должен признать, когда мать именинника открыла, церемониться я не стал. „Где он?“ — спросил я, протискиваясь внутрь. Двинулся в гостиную, там-то Сорвиголова и нашелся, окруженный скучавшими, судя по их лицам, детьми, занятый своими старыми фокусами — буквально, поскольку программу он не меняет уже лет пятнадцать. Я схватил его за лацканы дурацкого белого халата и сказал — стараясь пока не выходить из роли: „Елки-метелки, старина, ты какого беса творишь тут?“
Кое-кто из детей принялся смеяться, поскольку это явно было самое развлекательное за последние десять минут, и они наверняка решили, что наблюдают начало дуэтного выступления. Но Сорвиголове неохота было подыгрывать. „Отъебись, Умник“, — проговорил он, и тут даже бестолковые дети поняли, что эта реплика не из сценария детского праздника, хотя все равно засмеялись. „Эй! — сказал я, привлекая его ближе к себе. — Следи за языком. Тут дети, злобный ты паршивец“.
„Ты что тут делаешь?“ — спросил он.
„Это мое выступление, сам прекрасно знаешь“.
„Не понимаю, о чем речь. Иди отсюда. Дурака валяешь“.
„Ты хотел сказать, мне полагается тут валять дурака. Мне заплатить должны были за то, что я валяю дурака. Я этим на хлеб зарабатываю. Но каждый раз, как меня кто-нибудь зовет поработать, ты вечно лезешь и путаешься под ногами“.
„Вали уже отсюда, а? Эти юные дамы и господа желают развлекаться“.
„Им придется, бля, ждать очень долго, если кроме тебя у них больше никого“.
Это его не на шутку вывело из себя. „Ах так! — сказал он. — Пошли выйдем“.
Мы двинулись прочь из гостиной, но уже в кухне он на меня набросился. Сдернул с себя летчицкий шлем Второй мировой войны, а я стащил с головы шапочку ученого. Сорвиголова сдернул с моего носа пинг-понговый шарик и швырнул его через всю кухню. По случайности нос упал прямиком в пустую банку из-под варенья и, поболтавшись внутри, замер. Мы оба уставились на него.
„Черт бы драл, — сказал я. — Ловко. Спорим, у тебя бы не получилось, если бы ты намеренно кидал“.
Этот мелкий казус словно бы стравил напряжение. С его стороны, во всяком случае.
„Слушай, Чарли, — сказал он примирительно, раскрывая объятия, — чего мы все время воюем?“
„Не знаю… Потому что на дух друг друга не выносим?“
„Ты меня не бесишь, Чарли. Нет у меня этой зловредной жилки. Как раз наоборот. Мне тебя жалко“.
Тут голос у меня упал. „Да?“
„В глубине души ты милый парень. Всем это понятно. Просто из такой вот категории людей. Ну, ты понимаешь… пожизненных лохов“.
Тяжко дыша, я ждал продолжения.
„Такие вечно в проигрыше, так ведь? Тебе хочется, чтобы дети к тебе тянулись, как ко мне, но они не тянутся. Не знаю почему, но они тебя любят меньше. Вот так оно тут. Может, они тоже понимают, что ты лох. Может, нутром чуют. В смысле, ты вдумайся. У тебя толком нет семьи. У тебя толком нет дома. Ты через раз спишь у себя в машине. Дочка твоя сроду не была такой звездой в школе, как моя“.
„Она мне не дочь“, — сказал я.
„А, точно, я забыл. Все думаю, что она твоя дочь, раз вы так близки. Но, видимо, должна быть какая-то другая причина. Кто знает, какая, а, Чарли? Может, лучше и не вдаваться…“
Правая рука у меня начала подергиваться. Искушение привести ее в резкий внезапный контакт с лицом передо мной нарастало. Но что-то меня останавливало, даже сейчас. Я знал, что, если поступлю так, Дункан одержит верх.
„Кристэл и Никс не ладили никогда, верно? Штука в том, что заводилы и лохи ладят друг с другом редко. Это разные биологические виды, как ты понимаешь. Одни сильные, вторые слабые. Знаешь, чего Кристэл никогда не делала, сроду? Она не плакала. Никогда не плачет, так-то“.
Я ждал — поглядеть, куда все это катится.
„Никс в университет-то поступила, кстати?“
Я кивнул.
„У нее с испанским тема, да?“
Я кивнул еще раз.
„Чуток расстроилась из-за результатов референдума, как я понял“.
Я не ответил.
„Кристэл сказала, что Никс плакала наутро после. Плакала — в школе! Ты знал?“
Я сказал: „Немудрено. Она по своим взглядам всегда была очень европейским человеком. Всегда имела в виду, что, может, когда-нибудь окажется по работе в Испании, например. Теперь это все станет для нее гораздо сложнее“.
„Как я и говорил, — повторил Дункан, к моей досаде, — заводилы и лохи“.
„Да только вот, — сказал я, — в этом случае Кристэл тоже в пролете“.
Он нахмурился. „С чего это?“
„А вот с чего: все, что Аника потеряла из-за этого голосования, потеряла и Кристэл. Все одинаково, для всей молодежи“.
Тут Дункан разулыбался, и улыбка получилась подлейшая из всех, какие я в своей жизни видел, — и сказал: „А, нет, в том-то и дело. У Кристэл все будет в порядке. У меня отец был ирландцем, понимаешь ли. — Он еще поулыбался, подзуживая меня. — Ты не знал? Вот да. Мы все тут же подали на ирландское гражданство. На прошлой неделе получили. Паспорта и все остальное. У нас все улажено. Для Кристэл ничего не изменится. Будет гражданкой Евросоюза всю оставшуюся жизнь. — Он понаблюдал, как я на него вытаращился. — Стал бы я голосовать так, чтобы лишить этого собственную дочь, ну?“
Он сунул руки в карманы халата и замер — бросал мне вызов: что я ему отвечу? Задним числом надо отдать ему должное. Из всего, что он мог бы мне сказать, чтобы вывести из себя, это было, пожалуй, самым убойным. Прямиком по моим слабейшим, уязвимейшим точкам. Он ухитрился проявить безупречное, безукоризненное, мерзопакостнейшее сочетание зловредности, высокомерия и двурушничества, и сейчас, пока я смотрел на него, годы ненависти волной подымались во мне, закипали.
„Так или иначе, — сказал он, — с чего мы вообще заговорили про Брекзит? Тупее повода для ссоры не придумать. Все считают, что страна свихнулась. Ну-ка, говорят, тут в холодильнике сидр есть. Давай выпьем и забудем все наши разно…“
Видимо, он хотел сказать „разногласия“. Но завершить ту фразу Дункану оказалась не судьба. Первый мой удар пришелся ему в левую щеку, прямо посреди слова. Думаю, челюсть ему сломало четвертым или пятым. К тому времени кухню мы уже раскурочили. А потом первое, что вспоминаю, — полицейские сирены».
Чарли отложил записи и снял очки.
Бенджамин проговорил:
— Значит, вот так все и было — слово в слово?
— Слово в слово. Наверное, если коротко… я вышел из себя. Нанес телесные повреждения и получил за это по закону. Может, и еще разок такое устрою, кто знает?
Он вернул листки обратно в папку и попытался протянуть ее Бенджамину.
— Держи, короче. Это все твое. Если считаешь, что в этом есть книга, делай, что захочешь.
Бенджамин покачал головой и мягко подтолкнул папку обратно к Чарли.
— По-моему, ты ее уже написал.
— Что — это? Но это же просто… болтовня. Никакого ни ритма, ни смысла. Никакой формы, ничего.
— На это есть редактор.
— У меня нет редактора.
— Я тебе за него буду.
Суть этих слов впиталась не сразу. А когда впиталась, лицо у Чарли расцвело от благодарности. Слишком растроганный, он не смог посмотреть на Бенджамина в упор, но сказал:
— Ты ради меня готов на такое?
— Конечно.
Чарли встал и знаком попросил встать Бенджамина. Они прочувствованно замерли друг перед другом. А далее последовал маленький кризис мужества в отдельно взятом микрокосме. Чарли протянул руку, Бенджамин собрался взяться за нее, но Чарли уже подался вперед, Бенджамин в результате кисть руки не поймал и взял Чарли за запястье; другой рукой Чарли обхватил Бенджамина, и они попытались обняться, Чарли при этом все время бормотал, что Бенджамин не только его первый и старейший друг, но еще и друг лучший, лучшего друга человек себе и желать не мог бы. Они простояли вот так, обнимаясь и хлопая друг друга по спине, а потом осознали, что не вполне понимают, как это прекратить и отцепиться друг от друга, а потому проделали это очень медленно и одеревенело, а затем, чтобы выйти из положения, Бенджамин подался в кухню и сказал, что сварит кофе. Когда он выходил из комнаты, Чарли произнес ему вслед:
— А как же твоя следующая книга? О чем ты теперь напишешь?
Бенджамин счел эти вопросы хорошими и пока не решенными, и, вероятно, в тот миг, как раз в тот миг (как он понял погодя) стало ослепительно ясно: его кладезь творчества сух, описав свою любовь к Сисили, он изложил единственную историю, какую хотел, и больше сочинять ничего не будет. Но Чарли он сказал лишь:
— О, что-нибудь придумается. Обязательно. Как всегда.
Ноябрь 2017-го
Британия проголосовала. Вытурила Дэвида Кэмерона. Со всей ясностью заявила о своих взглядах на Евросоюз. И теперь, совершив этот эпохальный выбор, не желала более думать об этом и вернулась к повседневным заботам, оставив воплощение собственного решения в жизнь тем, кто традиционно с этими задачами справлялся, — правящему классу. В ноябре 2017 года Постановление о выходе из Европейского Союза все еще находилось на стадии рассмотрения в комиссии палаты общин. Многочисленные парламентарии-бузотеры выдвинули более четырехсот поправок и новых пунктов, и все их надлежало обсудить, по каждому проголосовать. Эти дополнения разработали преимущественно для того, чтобы не дать правительству присвоить себе слишком много безраздельной власти, но особенно сильно парламентарии-бунтари возражали против одной детали постановления — против решения премьер-министра утвердить жесткий срок (одиннадцать утра 29 марта 2019 года) выхода Британии из Европы. «Нет никакой необходимости, — говорил один из таких парламентариев, — так жестко сокращать наши возможности, когда мы еще не знаем, что произойдет, когда совершенно не исключено, что возникнет взаимовыгодная европейско-британская потребность продолжить переговоры, пока они не достигнут результата». Но некоторые представители прессы и определенные слои населения на этот довод не покупались. Они были убеждены, что у этих тори-диссидентов имелась другая, более зловещая цель: целиком саботировать итоги референдума.
Понять, как прижилась в народе эта расхожая фантазия, Гейл удавалось с трудом. Даже ее Ассоциация избирателей не осталась незатронутой: однажды в пятницу вечером в ноябре Гейл пришлось удостоить визитом председателя Ассоциации Денниса Брайерза — чтобы внушить ему спокойствие. Она застала его за кормлением свиней.
— До чего ладные создания, — проговорила Гейл, свиней не любившая.
— Красотки, верно? — отозвался Деннис, свиней обожавший чрезвычайно. — А станут еще краше, если нарезать их у вас на тарелке с грибами и омлетом.
Стоял серый унылый вечер, ветер с востока пронизывал до костей, и Гейл почувствовала, что ее легкий макинтош — плохая подготовка к этой встрече. Свиньям же, расселенным в тридцати или сорока обитых соломой загончиках, сверху обогреваемых светильниками, было, похоже, тепло. Деннис веровал в гуманное содержание свиней перед забоем.
— Чем вы их кормите? — спросила Гейл.
— Пшеница, ячмень, — ответил Деннис, рассыпая корм по земле под одобрительное хрюканье вечно голодных животных.
— Здоровая пища, похоже.
— Треонин. Метионин. Бетаин гидрохлорид.
— Наверняка очень питательно, — произнесла Гейл уже менее убежденно.
— Пустая трата чертовых денег, доложу я вам, — сказал Деннис. — В старые времена давали им помои, да и всё. Почти ничего не стоило. И для окружающей среды лучше, чем вот это.
— А, да, — согласилась Гейл, совершенно точно зная, что последует далее.
— Конечно, Евросоюзу было виднее, — как и ожидалось, сказал Деннис, — и он положил этому конец. Но есть надежда, что мы скоро опять станем суверенным народом и начнем жить по своим законам. Хотя ваша братия, кажется, не спешит с этим делом.
— К слову… — проговорила Гейл. — Я очень надеюсь, что Ассоциация понимает, почему я буду голосовать против правительства по некоторым дополнениям.
— У людей есть свои соображения, — сказал Деннис, переходя к следующему загончику.
— Как вам известно, — сказала Гейл, догоняя Денниса, — сама я голосовала «Остаться», но полностью уважаю результаты референдума.
— Так вы говорите.
Гейл ощутила, как под ногой что-то булькнуло, глянула вниз и увидела, предсказуемо, что ступила в обширную лужу жидкого свиного навоза. Продолжила двигаться осторожно, бок туфли вытерла о траву.
— Но, на мой взгляд, как член парламента я не выполню свой долг, — продолжила Гейл, — если не прослежу, чтобы законодательство соответствовало своим задачам.
— Большинство ваших коллег оно, кажется, устраивает.
— Да, но сама мысль… эта дурацкая мысль назначать конкретную дату и потом вынужденно ей подчиняться…
— Слушайте, Гейл, — произнес Деннис, оборачиваясь и временно отставляя оба ведра, — мы с вами в этом не единодушны. Никто из нас с вами в этом не единодушен. Хотите противостоять собственной Ассоциации избирателей, не говоря уже о ваших однопартийцах, и голосовать совестью — пожалуйста. Лишь бы готовы были иметь дело с последствиями.
— С последствиями? С какими последствиями?
— Поживем — увидим, — ответил Деннис.
Гейл опешила.
— Вы мне угрожаете? — спросила она. — И если да, то чем?
— Не забывайте, что вы зависите от нашей поддержки при выдвижении на следующих выборах. Могут и другие кандидаты подвернуться.
Таков был первый намек на непростые грядущие дни. Худшее ожидало вечером следующего понедельника, когда Гейл и ее собратья-бунтари вынуждены были высидеть долгое и бурное совещание в Лондоне с партийными организаторами, чьи угрозы звучали еще недвусмысленнее. Но ничто из всего этого не подготовило ее к тому, что случилось под конец той же недели.
* * *
Обязанности Гейл в Вестминстере требовали от нее быть по четыре дня в неделю в Лондоне — пока заседал парламент. Ее сын Эдвард учился в университете, а вот дочь Сара еще ходила в школу в Ковентри и потому обычно проводила эти четыре дня дома у отца. На этой же неделе, однако, отец уехал в командировку. В таких обстоятельствах Дуг (как и прежде уже бывало) вызывался пожить в эрлздонском доме, взяв на себя роль отца.
Эту роль он играл со смешанными чувствами. Удовлетворительные отношения со своей собственной дочерью ему не удались практически совсем, и поэтому он сперва отнесся к этой возможности с другой четырнадцатилеткой скептически. Но постепенно Дуг проникся Сарой, хотя насколько это было взаимно, понять было трудно. Самоуверенности, как у Кориандр, в ней не находилось нисколько. Тихая, послушная, прилежная, чуть старомодная. Сара носила скобки на зубах и очки в роговой оправе, из-за чего выглядела как мальчишка. Парня у нее не было, как не имелось и особого интереса им обзавестись, она, казалось, вполне довольна тихой домашней жизнью с матерью (и Дугом, когда тот был рядом). Несколько лет назад он, может, и забеспокоился бы из-за отсутствия в ней бунтарского духа, а теперь просто радовался возможности быть рядом с кем-то, от кого так мало хлопот.
Поутру в среду, 15 ноября, в самом начале восьмого, Дуг возился на кухне — готовил Саре завтрак и паковал обед в школу. На улице еще было темно, и Сара, хоть и проснулась, из постели себя пока не вытащила. Дуг как раз смешивал салат и холодную пасту в пластиковом контейнере, как вдруг зазвонил его телефон. Гейл, из Лондона.
— Ты это видел? — спросила она. Голос напряженный и неровный.
— Нет. Видел что?
— Газету.
— А что там?
— Я на первой странице.
— Правда? Что они там?.. Мне надо выйти и купить.
Газетный киоск был всего в тридцати секундах пешком. Покричав Саре вверх по лестнице, что хлопья уже готовы, Дуг поспешил на угол. Быстро понял, о чем говорила Гейл. Вести о ее встрече с партийными организаторами просочились вовне, и одна газета решила сделать из этого материал первой страницы. Портрет Гейл был одним из шестнадцати других, под общим заголовком «МЯТЕЖНИКИ БРЕКЗИТА».
Мерзкий заголовок. Фотографии этих парламентариев обнародовали с отчетливой целью: ткнуть пальцем, показать в лицо. В лихорадочной, поляризованной атмосфере, какая все еще царила в стране даже через год после референдума, это был опасный поступок.
Жутко безответственный на самом деле — такова была первая мысль Дуга, пока он шел обратно к дому с газетой под мышкой.
Сара была в кухне. Уже прикончила хлопья и мазала на тост «Нутеллу». Дуг позвонил Гейл из гостиной и заговорил с ней вполголоса:
— Ну, это довольно ужасно. Последствия начались уже?
— Еще б. Лента в твиттере у меня с катушек слетела. Почта тоже.
— Плохо?
— Худшие я переслала в кабинет, они считают, штуки четыре-пять надо предоставить полиции. Хочешь послушать?
— Не очень. Но давай.
— Окей, вот что у нас… «Ранцом ты сука, — Рансом через „ц“, понятно, — гори в аду за это. Смотри в оба, когда домой сегодня пойдешь. Прешь на людей люди попрут на тебя». О, и вот это еще милое: «Помни Джо Кокс повторится».
— Иисусе Христе. Ты окей? Ты… не знаю, хочешь, я приеду?
Гейл вздохнула.
— Нет, не стоит. Жизнь должна идти дальше, верно? Вряд ли кто-то явится к дому или что-то в этом роде. Просто пригляди за Сарой.
— Само собой. — Он вновь пробежал взглядом заголовок, разложив газету на журнальном столике. — Уму непостижимо, что они устроили вот такое.
— Не говори, — согласилась Гейл. — В смысле, взгляды этой газеты мне близки не были никогда, но она хоть была уважаемой. Что происходит, как думаешь?
— Не знаю. Страна свихнулась.
— Надеюсь, у Сары в школе все нормально. Надеюсь, никто ничего жуткого ей не скажет.
— Не волнуйся, — сказал Дуг, — я с нее глаз не спущу.
* * *
В такие вот времена подмывало думать, что британцев охватила некая причудливая истерия, что градус всеобщего безумия, до которого все поднялось во время кампании 2016 года, попросту еще не упал. Но Дуга это объяснение устраивало не целиком. Он понимал, что подобные заголовки хорошо просчитаны. Понимал, что ярость, которую они должны были, по замыслу, вызвать, подогревалась, поскольку в ней у кого-то был интерес — не у какого-то отдельного человека, разумеется, и даже не у отчетливо определяемого движения или политической партии, а у разрозненной бесформенной коалиции людей с корыстными интересами, старательно не заявлявшими о себе в открытую. Первым делом после того, как отвел Сару в школу, Дуг устроился за рабочим столом наверху и достал манильский конверт с сорока или пятьюдесятью листками А4, прибывшими по почте анонимно через три дня после их встречи с Найджелом Айвзом.
Никакой сопроводительной записки к этим листкам не прилагалось, никакого прощального письма от информанта-эксцентрика, с которым за последние несколько лет они провели столько причудливых окольных разговоров. Дугу просто предоставили эти бумаги, пусть сам извлекает из них пользу, как сумеет. Аналитические записки, черновики пресс-релизов, протоколы конфиденциальных переговоров, отчеты с пометкой «Секретно» и «Не для публикации». На многих значились инициалы «Р. К.» или подпись «Роналд Калпеппер». Большинство отпечатано на фирменных бланках фонда «Империум».
Эти бумаги Дуг читал много раз и точно знал, которая из них, судя по всему, точнее всего соотносится с сегодняшними событиями. Речь шла о документе в две с половиной тысячи слов, его совместно составили ученый и один хорошо известный журналист и комментатор. Название: «Пусть огонь горит: медиастратегии поддержания и укрепления энергий, заложенных в результаты референдума».
Дуг открыл подшивку на первой странице. Начиналась она так:
Результат референдума по Евросоюзу от 23 июня 2016 года предоставляет замечательную и неожиданную возможность достичь еще большего в том, что всегда поддерживал «Империум».
Победа с небольшим перевесом у кампании «Уйти» — показатель коалиции различных групп, от Брекзита все они хотели разного. Кто-то желал восстановить суверенитет и вернуть законотворчество на родину, кто-то — уменьшить иммиграцию и усилить пограничный контроль, кто-то надеялся восстановить самосознание Британии как независимой нации, а кто-то (небольшое меньшинство, вероятно, однако это группа, с которой «Империум» связывает себя ближе всего) голосовал за то, чтобы Британия освободилась от обременительных налогов и других ограничений Евросоюза и смогла стать по-настоящему свободно торгующей страной с ключевыми интересами на рынках Азии и США.
Таким образом, у нас есть возможность радикальных и необратимых перемен. Однако окно этой возможности узко. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы оно закрылось.
Идеальный исход — полный, незамедлительный, радикальный разрыв с Евросоюзом, но, с учетом небольшого перевеса в пользу «Уйти», доказать такую необходимость затруднительно. Правительство вступило в затяжной период переговоров, и пусть мы достигли некоторого успеха в продвижении обязательного срока выхода (пока назначен на 29.03.2019), за ним последует переходный этап протяженностью в два года или более. Серьезнейшая опасность такого постепенного пошагового процесса выхода из Евросоюза — в том, что общественное воодушевление Брекзитом может увянуть, если станут очевидны экономические последствия.
Данный документ описывает шаги, которые можно предпринять, чтобы минимизировать эту опасность, с особым упором на роль дружб и неформальных союзов с печатными и вещательными СМИ, тем самым позволяя Фонду влиять на редакционную политику и тон подачи. (По стратегиям в социальных СМИ будет подготовлен отдельный документ.) «Империум» уже имеет великолепные тесные отношения с редакторами многих крупноформатных газет и таблоидов, эти контакты следует регулярно обновлять и задействовать максимально плотно.
Наш ключевой довод состоит в том, что разнообразным и разрозненным видам недовольства, приведшим к тому, что 51,9 % населения проголосовало за Выход, нельзя давать затихать, пока процесс Брекзита не завершится. Это недовольство — энергия, которая будет питать наши программы. Если Брекзит питало в первую очередь чувство, разделяемое многими британцами, что политическая элита их предала, это ощущение предательства необходимо поддерживать. Более того, его можно направлять точнее, поскольку, если переформулировать обозначение этого небольшого перевеса в пользу Выхода как «волю народа», общественный гнев эффективнее всего удастся обратить на тех членов политической и медийной прослойки, о которых можно сказать, что они этой волей пренебрегают…
* * *
День прошел, в общем, тихо. Дуг с Гейл поговорили раза три или четыре, она получила несколько десятков твитов, которые можно было расценивать как угрожающие; то же произошло и с другими парламентариями, оказавшимися в газете. Полиция взялась за расследование и, возможно, чуть позже навестит Дуга. Дуг поблагодарил Гейл за предупреждение. Забирая Сару от школьных ворот, он не стал спрашивать впрямую, не было ли у нее сегодня неприятностей, — удовольствовался тем, что она ни о каких неприятностях не заикалась. После ужина она ушла к себе в спальню выполнять домашку.
Примерно в половине девятого в дверь громко постучали. Дуг открыл и обнаружил на крыльце двоих полицейских. Пригласил их внутрь, они объяснили, что визит этот совершенно формальный; что им доложили о немалом количестве сообщений с угрозами в адрес Гейл Рансом; что они просто хотели проверить, не замечал ли кто-нибудь чего-нибудь необычного вблизи этого дома, не принимал ли необычных звонков, СМС или электронных писем. В ходе этого разговора из своей комнаты спустилась Сара, встала у подножия лестницы и прислушалась. Полицейские отвели ее в сторону и расспросили, как прошел день в школе. Не упоминал ли кто-нибудь из ее друзей о газетных заголовках? Не обижали ли ее из-за этого?
Это посещение длилось всего минут пятнадцать. Когда оно завершилось, Саре, похоже, не хотелось возвращаться к себе. Она вела себя очень тихо. Села на диван в гостиной и, глядя себе между колен, уставилась в пол.
— Все нормально? — спросил Дуг из коридора.
Сара подняла голову.
— Как думаешь, можно мне поговорить с мамой?
Дуг глянул на часы.
— Она, скорее всего, еще в палате. Попробуй сперва ей СМС отправить.
Пока Сара набирала СМС, Дуг сходил в кухню. Судя по всему, сообщение возымело действие: через несколько минут Сара заговорила по телефону. Ушла с ним наверх, продолжая беседовать с матерью. Дуг вернулся к ноутбуку на кухонном столе — и к бумагам фонда «Империум».
Через несколько часов, сразу после полуночи, к дому подъехало такси, Дуг услышал, как во входной двери поворачивается ключ. Вышел в прихожую и увидел Гейл с командировочной сумкой, бледную и уставшую.
— Привет, — сказал он. — Ты что здесь делаешь?
Она поставила сумку и заключила его в объятия, а затем поцеловала в губы — яростно, пылко. Обнимала она жадно, едва ли не грубо. Он ее такой прежде не видел.
— Голос у Сары по телефону был жуткий, — сказала она, ослабляя хватку. — С ней все в порядке?
Дугу не хотелось признаваться, что, увлекшись, не заглянул к Саре и даже не пожелал ей спокойной ночи.
— Ты прямо из Лондона на такси ехала? — спросил он.
— Пришлось. Последнее голосование было в десять тридцать.
— Сколько отдала?
— Прорву. Обратно поеду поездом, рано утром. Не могла я ее одну бросить ночью. Ее сегодня тряхнуло не на шутку.
Гейл отправилась прямиком к дочери в спальню, через несколько минут Дуг заглянул к ним. Гейл сидела у Сары на кровати, гладила дочку по волосам и что-то бормотала — одну и ту же успокаивающую фразу, снова и снова.
Посмотрела на Дуга, прошептала:
— Спущусь через минуту.
— Окей. Выпить?
— Да, пожалуйста.
Он налил виски в два стакана и стал ждать. Гейл не было дольше предполагаемого, и, пока ждал, Дуг вынес мусор к бакам позади дома и вернулся. Когда вошел, все было тихо — за вычетом странного звука в гостиной. Поначалу Дуг не понял, что это. Высокий, слегка вибрирующий. Он затихал и возобновлялся, наплывал и исчезал в переменном ритме. Сперва Дуг подумал, что это какой-то электронный будильник. А затем понял: это Гейл, она плачет. Более того, «плачет» — не то слово; у этого звука есть более точное название: Гейл выла. Дуг вошел в гостиную и увидел Гейл, она сидела на диване, сотрясаясь, одна ладонь поддерживала лоб, а вторая сжималась и раскрывалась рядом на подушке. Гейл посмотрела на Дуга, лицо — маска горя и гнева.
Он сунул ей стакан с виски, она сделала большой глоток. А затем подалась вперед и уткнулась лицом в Дуга, он ее обнял. Погладил по волосам. Тут она отстранилась и выпила еще.
— Извини, — сказала она. — Ужас что ты сейчас обо мне думаешь.
— Ты что такое говоришь?
— У меня не бывает минут слабости. «Стальная женщина» — вот как меня, было дело, назвали в одной анкете. Помнишь? — Дуг улыбнулся. Он сам ту анкету на нее составлял, еще до их знакомства. — А теперь посмотри.
Что правда, то правда: Дуг никогда не видел, как она плачет. Горестное, душераздирающее зрелище. Ее было не узнать.
— Это не я, — сказала она, вытаскивая из коробки бумажную салфетку и промокая слезы и тушь. — Пусть мне говорят что хотят, черт бы их драл. Но когда твои дети… твоя собственная дочь думает, что ты в опасности…
Она привела себя в порядок. Дуг сел поближе, обнял ее. Она уютно устроилась рядом, подтянула под себя ноги, всю тяжесть головы благодарно опустила ему на плечо. Он прижался губами к ее макушке, вдохнул ее аромат, оставил на густых седеющих волосах долгий поцелуй.
— Я люблю тебя, — сказал он.
Она крепко прижалась к нему и отозвалась:
— И я тебя люблю. — Выдохнула слова ему в грудь. Через несколько минут уже заснула. Он чувствовал, как отсырела у него рубашка от ее слез.
Апрель 2018-го
Поезд отправился из Лондона и поспешил по плоскому невыразительному Бедфордширу, покатил по линкольнширским болотам и достиг Йорка, затем пересек просторы более дикие и зрелищные — Северный Йоркшир, и вот, наконец, миновав городки Тирск и Нортэллертон, Соан начал делаться все мрачнее и мрачнее.
— Ты посмотри на эти жуткие дома! — приговаривал он.
— Да просто дома, — возражала Софи. — Людям же надо где-то жить.
— Тут так… пусто. Мили и мили пустого места, одна трава и больше ничего.
— Это называется «поля». Фермеры на них растят всякую всячину.
— Ты не понимаешь. Меня вот это все будет теперь окружать. Ты, что ли, не улавливаешь этого ужаса?
— Но это же Англия. Англия тебя завораживает. Ты об этом книгу пишешь.
— И что? Раз я пишу про это книгу, это еще не значит, что я хочу в этом жить, господи ты боже мой. Думаешь, Оруэлл хотел жить в Военно-воздушной зоне № 1?[117]
— Он антиутопию писал. Страшный сон.
— Именно в это моя жизнь вскоре и превратится! — Он подался вперед и схватил ее за руку. — Мой муж — мой жених — тащит меня прочь от всего, что я люблю, и заставляет жить среди чужих, посторонних людей. В милях от цивилизации. Меня высылают в изгнание — как Овидия. Я изгой воспитанного общества.
— Овидия выслали в Томы, на далекие берега Черного моря. Ты едешь в Хартлпул. Едва ли это одно и то же.
— Это совершенно одно и то же!
— Ты будешь преподавать на факультете английского языка Дарэмского университета. У тебя будут учиться те же милые девочки с частным образованием, каким ты преподавал в Лондоне. Даже пафоснее, я бы сказала. Вряд ли тебе предстоят трущобы.
— Но Хартлпул? За что он так со мной? Почему он так меня ненавидит? Если ненавидит, зачем тогда женится?
— Вряд ли все так плохо.
— Ты здесь бывала?
— Нет.
— Это станция «Брекзит-центральная». Семьдесят процентов местных проголосовало за Выход.
— Тогда ты сможешь поправить равновесие.
— Они мартышек вешают.
Вот это уже смогло удивить Софи.
— Они — что?
— Это знаменитая история. Тут как-то раз после кораблекрушения на берег выбросило мартышку, и местные решили, что это француз, поскольку ни одного француза в жизни не видели, ну они ее и повесили.
— Это когда было?
— Не знаю… Где-то в восьмидесятые.
Она вскинула брови.
— Ладно, во времена Наполеоновских войн это было, — сознался он. — Но их все равно называют мартышкиными палачами.
— Тебе это пойдет на пользу, — проговорила Софи. — Побудешь вне лондонского пузыря. Пересмотришь свои столичные предубеждения. А может, даже подружишься тут с кем-нибудь.
Соан скроил гримасу, но Софи знала, что он втихаря вне себя от счастья. Майк недавно сделал Соану предложение за ужином в Плюще — на вторую годовщину их первого свидания. И вот полгода спустя они возвращались в графство Дарэм, где Майк вырос, — в первую очередь, чтобы заключить гражданский брак, а затем и осесть насовсем. Майк оставил работу в Сити, накопив личное состояние, которое Соан (не допущенный к Майковым выпискам из банка) не способен был даже начать оценивать; Майк сказал, что теперь желает воздать общине, которая его вырастила и которую на его глазах последние сорок лет ставят на колени зверской деиндустриализацией. С этими целями он учредил собственный благотворительный фонд — образовательный центр, где обучали навыкам в цифровых технологиях. Были закуплены площади, нанят персонал (хотя команда и близко не укомплектовалась целиком), разработан план курсов, которые должны начаться в 2019 году. Плата за учебу минимальная, всем местным любого возраста предложено обучение веб-разработкам, программированию, созданию цифрового контента и новейшим технологиям с нуля. Майк не сомневался, что при помощи хороших учителей даже в пятьдесят-шестьдесят лет людей — даже тех, кто десятилетиями не находил почти совсем никакой работы, — можно переподготовить и снабдить базовыми умениями и новыми навыками, необходимыми в цифровое время. Все дело, как считал Майк, в настрое.
— Это все надо выпотрошить и переоборудовать, — говорил он в тот вечер, проводя экскурсию для Соана и Софи по заброшенному городскому спортклубу, купленному для новой академии. — Его закрыли три года назад, и он с тех пор ветшает. Но я вижу тут обширный ресурс для рабочих помещений, цифровой лаборатории, кафе, даже для пары небольших лекционных залов.
— Чудесное место, — сказала Софи. — Огромный потенциал.
Соан молчал.
— Что такое? — прошептала она, когда они шли по парковке к месту, где их ждала Майкова «тесла модель-С». — Не можешь поддержать, что ли?
— Я ни единого чертова слова не слушал, — отозвался Соан. — Меня пугает сегодняшний вечер.
Софи и Соана грядущий вечер предстояло провести очень непохоже. Софи должна была вернуться в «Бьюис-Холл», местную гостиницу, где завтра состоится бракосочетание, смотреть телевизор и пользоваться обслуживанием в номере и мини-баром. Соану же предстояло знакомство с родителями Майка.
— Ты им понравишься, — убеждала она. — Ты кого хочешь очаруешь по уши.
— Шутишь, что ли? Они так и не смирились с тем, что он гей. И никогда не смирятся. И они оба, наверно, голосовали за ПНСК.
— Наверно? Тебе это Майк сказал?
— Нет. Но тут за них все голосуют, правда же?
Софи наградила его чем-то вроде укоризненного взгляда — как она надеялась.
— Да боже ты мой…
— Ну ладно тебе. Короче, я знаю, что они возненавидят меня с первого взгляда.
* * *
Наутро за завтраком она спросила его, как все прошло, и была приятно удивлена ответом:
— Хорошо. Они оказались очень доброжелательными, очень гостеприимными. Необычайно нервничали, конечно, так ведь и я тоже. После пива-другого преодолели. И еда была отличная. Я вроде как надеялся, что будет рыба с картошкой и толченый горох, а Майкова мама сделала малу мирисату — настоящее шри-ланкийское блюдо, а еще рыбное карри с красным перцем.
Софи обалдела.
— И как, блюда удались?
— Не знаю, — сказал Соан, пожимая плечами. — Я шри-ланкийскую еду не ем. С детства. Но мне понравилось.
Софи налила им обоим еще кофе и намазала варенье на бледный, безжизненный гостиничный тост.
— То есть им вся эта гей-история нормально?
Соан покачал головой.
— Нисколько. Но им, видимо, ничего не остается. Это их единственный сын, они не хотят его терять.
Во время церемонии в тот день Софи все смотрела и смотрела на родителей Майка — особенно на отца — и пыталась постичь их чувства. Отец Майка был крупным, крепким мужчиной слегка за шестьдесят, грудь — бочка, волосы сбриты почти под ноль; мать повыше, постройнее; Майк вышел сложением в нее, — ее стать подчеркивало длинное темно-синее платье без рукавов. Ни мать, ни отец, пока звучали супружеские клятвы, никаких особых чувств не выражали. Мистер Ньюленд смотрел прямо перед собой, сквозь панорамные окна гостиничного зала приемов, за поле для гольфа, но, кажется, пейзаж никак не воспринимал: взгляд у него был остекленевший, он словно пытался представить себя где-то еще — да где угодно, лишь бы не здесь. Взгляд его супруги сновал по залу, она нервно посматривала на других гостей, когда же Соан надел на палец ее сыну обручальное кольцо, на лице у миссис Ньюленд не возникло и тени улыбки, она попыталась перехватить взгляд мужа, но тщетно. Когда церемония завершилась, они похлопали вместе со всеми, неуверенно и с опозданием в несколько секунд.
Гостей было шестьдесят или семьдесят, однако Софи многих не знала, знакомы ей были всего несколько ученых коллег Соана. Ужин и дискотека после оказались настоящим испытанием. Софи поймала себя на частых мыслях об Иэне, хотя сказала себе, что это совершенно точно не означает, будто она скучает по нему конкретно, — скорее, на этом счастливом светском событии она скучает по парности вообще. В любом случае к одиннадцати вечера, потанцевав пару раз и с Соаном, и с Майком, и потаскавшись по танцполу с чрезмерно увлеченным, но косолапым специалистом по экокритицизму с факультета Соана, Софи решила, что с нее хватит. К тому же она осознала, что в последние полсуток крепко пьет, а потому, не исключено, скоро отключится. Добыла себе стакан воды в баре и как раз пила ее, когда мимо к выходу прошел Майк с родителями.
— Я тебя знакомил с мамой и папой, Софи?
— Да, мы сегодня разговаривали. — Разговор вышел непростой — отчасти потому, к ее смущению, что у родителей оказался неразборчивый акцент. — Пора отдыхать? — спросила она.
Мистер Ньюленд кивнул.
— Давно уже пора лечь.
— Надеюсь, вам было весело, — сказала Софи.
— Замечательно, — ответила миссис Ньюленд.
— Держат марку, — проговорил Майк, поглаживая мать по руке. — Не так они себе представляли свадьбу сына.
— Приходится идти в ногу со временем, верно? — сказал отец, с виду гораздо веселее, чем несколько часов назад.
— Думаю, мне тоже пора лечь, — сказала Софи. — Уже немного мутит.
— Тогда не двигайся, — сказал Майк. — Мне тоже хватит. Постой тут еще пару минут, мы тебе поможем подняться.
* * *
Софи была гораздо пьянее, чем ей казалось. Она помнила, как вышла из танцевального зала гостиницы, при поддержке женихов взобралась по лестнице — они вели ее под руки с обеих сторон. Но как попала к ним в комнату, сбросила туфли, рухнула на их двуспальную кровать и заснула полностью одетой, она не помнила. Однако, надо полагать, случилось все так, поскольку через несколько часов она проснулась от мучительной головной боли и с чудовищным томлением по стакану воды — и обнаружила Соана и Майка, спящих по обе стороны от нее.
— Какого черта тут происходит? — спросила она надтреснутым голосом.
Майк перекатился и открыл глаза.
— Ой, привет, — произнес он. — Ты, значит, жива.
— Что я тут делаю?
— Ну, ты отключилась, а нам лень было тебя перетаскивать.
— Но это же ваша первая брачная ночь. Мне нельзя спать в вашей постели в вашу брачную ночь.
— Не волнуйся. Ты нам никак не помешала.
— В смысле — пока я была здесь?..
— Нет. В смысле, мы с Со уже ту стадию вроде как прошли. Ты, возможно, заметила, что ни он, ни я не были в белом.
— Все равно…
— Завтра в это же время мы будем в Вероне. Уверен, нагоним.
— Мне нужно воды.
Софи встала, дошла до ванной, налила себе стакан холодной воды. В итоге выпила три. Затем вернулась в постель, но легла с краю, Майк — посередине. Он успел заснуть, левую руку забросил мужу на грудь. Софи смотрела на них в полусвете, они лежали с закрытыми глазами, дышали ровно, над полуоткрытым ртом Соана витал призрак храпа. Вместе они выглядели совершенно довольными, спокойными и расслабленными. Софи проняло завистью. Все должно было случиться не так. С чего это Соан в итоге счастливо женат, а она — сама по себе?
Четыре утра. Еще час-другой Софи урывками задремывала, но к шести уже полностью проснулась. Тем же утром женихам предстояло ехать в аэропорт Ньюкасла. Ее поезд в Лондон отправлялся чуть позже десяти. Чем ей занять это время?
Перспектива гостиничного завтрака с гостями свадьбы не прельщала совершенно точно. Софи втихаря выскользнула из-под одеяла, надела туфли и побрела к себе в комнату. Собрав вещи, спустилась, выписалась из гостиницы и вызвала такси.
Таксист отвез ее на вокзал Хартлпула, но открытого кафе там не обнаружилось — как и вообще признаков какой бы то ни было жизни. Стояло теплое утро, потоки солнечного света пытались пробиться сквозь перистые полотна серых, переменчивых облаков. Кофе можно было разжиться, судя по всему, только в «Макдоналдсе». Девушка, продававшая кофе, показалась вполне доброжелательной, и Софи спросила у нее, нет ли поблизости пляжа — посидеть и посмотреть на море. Не успела она спросить, как сразу устыдилась: выглядела как бестолочь южанка, но беспокоилась зря — девушка оказалась из Восточной Европы и сказала, что проще всего доехать автобусом номер семь до Хедленда. Софи поблагодарила ее и пошла на автобусную остановку, одной рукой таща за собой чемодан, а во второй неся кофе.
Автобус повез ее по пустому двухполосному шоссе мимо гипермаркета «Асда» и торгового комплекса, напомнившего ей тот, что построили на месте старого Лонгбриджского завода. Когда автобус добрался до Хедленда, Софи обнаружила вереницу когда-то изысканных магазинчиков под изящными коваными фонарями, но все это теперь пришло в упадок, многие лавочки пусты и заброшены. В ряду старых домов ленточной застройки, что смотрели на высокую стену, окружавшую доки, с равными промежутками попадались заколоченные окна. Сами доки тоже выглядели призрачно и безжизненно. Было чуть за восемь, воскресное утро — да, действительно, время, когда кипучи немногие городские пространства, и все же здесь все казалось противоестественно тихим.
Открыто было только одно заведение — универсам, где Софи купила себе сэндвич с яйцом и салатом, а затем отправилась к старой городской стене. По дороге не встретила ни души. Ни единой машины не проехало мимо. Усталая и с перепоя, Софи постепенно прониклась ощущением нереальности происходящего. Ей вдруг почудилось, что она не понимает это место, что нет у нее ощущения здешней жизни. Разумеется, это не так: дом ее детства — менее чем в ста милях отсюда, и в любом случае здесь Англия, ее страна, однако этот угол был Софи, как ей казалось, совершенно чужд. В последние десять лет, несмотря на то что некоторое время провела в Средней Англии, сердцем Софи всегда была в Лондоне. Теперь уже считала себя лондонцем, из Лондона могла добраться поездом до Парижа или Брюсселя даже быстрее, чем сюда, и, более того, чувствовала себя как дома на бульваре Сен-Мишель или на Гран-Пляс даже больше, чем на этой скамейке, глядя по-над угольными водами Северного моря на краны, танкеры и высившиеся на горизонте ветряки.
Софи вновь задумалась о Соане и Майке, угнездившихся в обнимку в сонной супружеской постели, и ощутила пронзительный укол одиночества. Коротко вспомнила об Иэне. А затем кое о ком еще и не успела осмыслить, до чего безнадежно это предприятие, как уже отрезала себя от созерцания окружавшего ее безмолвного сурового пейзажа. Извлекла телефон и взялась просматривать цены на авиабилеты до Чикаго.
От: Софи Коулмен-Поттер
Отправлено: Понедельник, 9 апреля 2018, 11:49 PM
Кому: Эдам Тёрнер
Тема: На Чикаго
Дорогой Эдам
Ух, давно же мы не выходили на связь! (Хотя, не сомневаюсь, ему так не кажется.) Пересматривала старые письма и поняла, что последний раз получала от тебя вести в апреле 2016-го. Я тебе с тех пор отправила пару е-мейлов, но, возможно, они улетели в спам. (Нет, не улетели, ему просто не хотелось отвечать.) Тяжкая это работа — поддерживать виртуальную переписку (особенно когда один из ее участников не очень-то заинтересован в ней), но, надеюсь, назревает возможность вскоре увидеться лично. Об этом чуть погодя… (Будем томить до полусмерти, да.)
С тех пор как я тебе писала в последний раз, у меня в жизни произошло одно заметное событие, а именно: мы с Иэном разошлись.
Летом 2016 года вообще много чего подошло к развязке, и, после того как мы несколько недель пробовали парное консультирование, я решила съехать. Оглядываясь на это, я думаю, что в некотором смысле поразительно, как нам удавалось заметать всякое под ковер так долго. Я о-очень не склонна размахивать своими выдающимися политическими взглядами — сейчас это довольно непопулярный вариант в наших краях, где модно нарываться на драку и орать на оппонентов как можно громче, — но когда делишь с кем-то жилое пространство и 24 часа в сутки общаешься, рано или поздно помалкивать становится непрактично. Взгляды у нас не сходились слишком на многое.
Между тем я думала о том, как ты сбежал с корабля науки несколько лет назад, и осмысляла, насколько то решение было спонтанным. Зрело ли оно какое-то время — недели, месяцы или даже годы? Спрашиваю, потому что с некоторых пор тоже ощущаю искушение свернуть лавочку. Со вчерашнего дня на самом деле. Выходные провела в основном на свадьбе у друзей, а для этого пришлось выехать из Лондона и пару дней пожить в чуть более мягком ритме. Особенно вчера у меня было достаточно времени и покоя просто посидеть и осмыслить жизнь, пересмотреть приоритеты. Впрочем, принимать судьбоносные решения на основе суточных раздумий — это же чокнуться, правда? И все же чем дольше я это кручу в голове, тем больше оно мне кажется осмысленным. Моя работа — уже не то, чем была, или, по крайней мере, не то, чем, как я когда-то думала, она должна была стать.
Все теперь похоже на сделку. Студенты (или их родители) платят громадные суммы вперед и ожидают за свои деньги качественный продукт. Молодые лекторы пашут до упаду, а старшее поколение при этом рассиживается да ждет, когда вступит в действие их пенсионная программа, — и тем временем делают все от них зависящее, чтобы жизнь текла спокойно. Я до сих пор не могу простить своего декана за то, что он ради меня и пальцем не шевельнул, пока творилась вся эта трансфобная кутерьма.
Ну вот, самовлюбленный бред сплошной. (А вот это, дорогая моя, первое и единственное честное высказывание за все это ебаное письмо.) Позволь сказать откровенно. (Ладно, насколько масштабным сейчас будет вранье? Давай уже, ври напропалую.) В этом году в Чикаго перебралась одна моя подруга, и она все канючит, чтоб я ее навестила. Ну и я забронировала билеты (нет, не забронировала — пока), приеду на длинные выходные, которые с пятницы, 20-го. Как думаешь, найдется у тебя свободный час-другой (ночь-другая, вот что я на самом деле хочу спросить) в эти выходные? Здорово было бы повидаться после стольких лет. Со времен Марселя много чего произошло! Не терпится послушать, как ты выживаешь в Трамповой Америке. (Ага, именно это мне и не терпится. Лучше уже отправить это письмо, пока я не написала чего-нибудь еще более идиотского.)
* * *
От: Эдам Тёрнер
Отправлено: Среда, 11 апреля 2018, 07:22 AM
Кому: Софи Коулмен-Поттер
Тема: Re: На Чикаго
Дорогая Софи
Всегда здорово получать от тебя вести, и уж как я рад, что ты собралась в мои края. Остается только извиняться за мою жалкую неспособность поддерживать переписку. Свалим это на тяготы отцовства, если хочешь. (Что? ЧТО???)
Да, такова вот моя главная новость с тех пор, как мы последний раз общались. Мы с Пэт поженились предыдущим летом (Пэт? Кто, БЛЯ, эта Пэт?), и через несколько месяцев — с почти неприличной поспешностью, стесняюсь сказать, — у нас родилась дочь. Мы назвали ее Элис — ловкое единение оммажей, если угодно: моего — Элис Колтрейн и Элис Уокер — у Пэт. Я теперь уже 16 месяцев как отец и не стану надоедать тебе отцовыми воздыханиями о том, до чего разнообразно Элис, на мой взгляд, умилительна, — однако фотографию приложу. Уж это-то ты мне позволишь? (У меня что, есть выбор?)
(И, блин, кажется, мне нужна еще одна чашка кофе, прежде чем я смогу это читать дальше.)
(Окей, вываливай и остальное тогда уж.)
Мне очень жаль, что у тебя все было непросто, и в личной жизни, и в профессиональной. Помню, когда мы познакомились в Марселе, ты еще совсем недавно вышла замуж и казалась такой счастливой и вдохновленной. Ну, видимо, всякое бывает… Не слишком глубокое замечание, это да, но что тут еще скажешь? (Действительно, примерно к этому все и сводится.) Во всяком случае, по профессиональной части у меня получится поддержать тебя: уход из академии совершенно точно оказался одним из лучших решений за всю мою жизнь. Конечно, мне повезло: компания компьютерных игр, которая взяла меня к себе, процветает, им нравится моя работа, и у меня теперь есть даже доля, и все здорово; однако важно еще и то, что я добываю себе на хлеб своим творчеством. Я люблю свою работу, ее хватает, чтобы платить по счетам, и пусть вырос я на другой музыке, заниматься ею можно по-всякому. Мы с друзьями собрали трио и играем в свободное время — скажу больше, у нас концерт 21-го, и если у вас с подругой не возникнет планов на вечер, приходите послушать нас, и вот это будет замечательно! Бесплатно — сразу по гостевому списку.
На этом фронте все гладко, но относительно последней фразы в твоем письме — не могу сказать, что картина в целом мне нравится. Как и все остальные балбесы в Америке, мы с Пэт не ожидали, что Трамп станет президентом. Элис родилась дней за десять до выборов, и чувство было страннее некуда: у нас десять дней чистой радости, а потом эти чертовы результаты, и мы такие: что за х**ня вообще? В тот день будто туча на наш дом опустилась и, сказать тебе честно, не поднялась до сих пор — и не поднимется, пока у нас президент не сменится, как бы оно ни случилось, сколько бы времени ни заняло. Не то чтоб Хиллари была безупречна, вовсе нет, но это хоть какая-то компетентность и устойчивость темперамента, каких ждешь от главы государства. Утром 9 ноября я в основном злился и недоумевал, но с Пэт было хуже, она почти весь день провела в слезах. Невероятно, как быстро и сильно сменилась эмоциональная температура. Накануне мы смотрели на Элис и исключительно восторгались ее свежестью, невинностью и хрупкостью, а теперь глядели на нее и не могли даже осмыслить, до чего смутное у нее будущее, до чего наша страна в одночасье сделалась, по ощущениям, неустойчивой, коварной и опасной.
Ну да ладно, поговорим обо всем этом, когда увидимся — всего через неделю, верно? Вы с подругой можете прийти на концерт в субботу, а в воскресенье ты, если не будешь занята, заезжай к нам на обед. Уверен, Пэт будет счастлива с тобой познакомиться, и, конечно, я рвусь похвастаться милой Элис.:)
Сообщай о планах — и звони, как только окажешься в городе.
À bientôt[118] (одна из немногих полезных французских фраз, которые я помню).
Прочитав это письмо, Софи легла на узкую кровать в крошечной комнате, свернулась в клубок минут на пятнадцать. С их встречи с Эдамом в Марселе прошло почти шесть лет, но с тех самых пор грёза, глупая, нежизнеспособная фантазия застряла у нее в уме, и этим утром Софи разъярилась на себя не только потому, что цеплялась за эту выдумку, но и — что еще глупее — потому что решила пойти у нее на поводу и показать ее Эдаму так откровенно, да еще и вызвать такой вот милосердный, тактичный, убийственный отклик.
Как тут писать в ответ?
Через три дня она отправила еще одно сообщение — после восьми или девяти черновиков — и пояснила, что у подруги внезапно скончалась мать, подруга летит домой в эти выходные, и Софи придется остаться и поддержать человека. Отправка этого письма — возможно, самое постыдное действие в ее жизни, но как поступить иначе, Софи не понимала. Ответ Эдама она отыскала в себе силы лишь пробежать взглядом и стремительно сбросить вниз компьютерного монитора, в конец списка электронных писем, помеченных флажком. Ну хоть сэкономила на билете в Чикаго — такие расходы она себе сейчас могла позволить с трудом.
Вот так и получилось, что в пятницу 20 апреля 2018 года она садилась в поезд до станции «Мур-стрит» в Бирмингеме, а не в самолет до чикагского аэропорта О’Хэйр. Выходные с отцом, а не выходные с Эдамом. Вечер пятницы, индийская забегаловка, четверик пива, обмен семейными новостями. Софи одолела тоска и оставила всякая надежда, она едва могла разговаривать.
Отец же, напротив, был нехарактерно общителен.
— Я выставляю этот дом на продажу, — сказал Кристофер. — Ты же не против, верно? — Софи покачала головой. — Мне всегда казалось, что он тебе все равно не очень нравился.
— Не нравился, — согласилась она. — Куда собираешься переехать?
— Ну… — Он задержал дыхание. — Это другой вопрос. Я тут встречаюсь кое с кем.
— Кое с кем?
— С женщиной. Ты же не против?
— Ты с ней съезжаешься?
— Да.
Софи это и впечатлило, и обескуражило. Даже у ее отца любовная жизнь здоровее, чем у нее.
— Быстро же ты, — сказала она.
— Не говори. Но ты же не против?
— Хватит уже спрашивать, не возражаю ли я. Чего мне возражать? Я хочу одного: чтобы вы с мамой были счастливы.
— Хорошо. Ну, я счастлив. Очень счастлив.
— Как ее зовут?
— Джудит.
— Чем она занимается?
— Она бракоразводный юрист.
— Очень кстати.
Кристофер улыбнулся.
— Как там мама?
— В смысле?
— Она себе кого-нибудь нашла?
— По-моему, она никого не ищет. Зато вроде бы ищет домик во Франции.
— Да? — Его это, кажется, ошарашило. — Когда я это предлагал, ей, мне помнится, не понравилось.
— Они с Бенджамином поговаривают о том, не переехать ли им вместе. Он выставляет на продажу мельницу. Хотят купить что-то большое, чтобы принимать гостей.
— Немалые перемены для них.
— Перемены буквально в воздухе.
— Ну хоть ты сидишь на месте, — сказал Кристофер. — Какая-никакая стабильность в нашей жизни.
— Я собираюсь уйти с работы, — объявила Софи. — Подаю заявление.
Кристофер чуть не уронил свой луковый бхаджи.
— Что? Почему?
— Похоже, — ответила она, — это не та работа, о какой я всегда мечтала. То, что мне в ней нравилось, постепенно стало мельче по сравнению с тем, что я в ней терпеть не могу. — Тут она потянулась к отцу, погладила его по руке и добавила жизнерадостнее: — Не волнуйся за меня, пап. Я кое-что придумала. Все будет хорошо.
* * *
Назавтра, пока ехала утром на автобусе в центр Бирмингема, Софи задалась вопросом, когда это она успела завести привычку врать всем и каждому. Ни минуты не верила, что все будет хорошо, и ничего не придумала. За много лет до этого, на выпускных экзаменах, Софи рассуждала о том, что станет психотерапевтом. Этот план засел у нее в голове вплоть до сдачи диссертационной работы. Лорна, женщина, у которой они с Иэном проходили парное консультирование, сильного впечатления на Софи не произвела: Софи показалось, что у нее самой бы получилось лучше, хотя их с Иэном отношения — не то чтобы эталон успеха. Но по силам ли ей переподготовка на этом этапе жизни? Годы низкооплачиваемой (или даже в основном неоплачиваемой) работы? Перспектива не очень заманчивая. Проще найти работу в музее, галерее, Национальном фонде. Не совсем то, к чему Софи стремилась всю жизнь, но все равно же в некотором роде общественно полезная деятельность…
Приехав в центр города, Софи вышла из автобуса и побрела наугад по людным улицам, в толкотне среди энергичных покупателей. После нескольких месяцев невыразительной погоды температура в последние пару дней ошеломительно поперла вверх, и солнце потащило людей на Нью-стрит, Брод-стрит и Корпорейшн-стрит целыми толпами. Бледные, веснушчатые девочки-подростки в куртках-безрукавках и джинсовых шортах — оголенные руки и ноги, странный контраст с черными силуэтами женщин в глухих никабах. Софи расслабилась в толчее, с удовольствием потерялась в ней.
Но ходить по магазинам ее не тянуло, и она не очень понимала, зачем сегодня сюда приехала. Ее уже некоторое время занимала мысль, не связаться ли ей с Иэном и не обсудить ли формальный развод; на самом деле она думала об этом несколько месяцев, но мысль эта, ее сокрушительная необратимость, отпугивала Софи. И все-таки трусливо было с ее стороны (с обеих сторон) просто оставлять все как есть. Сейчас Софи была всего в пяти сотнях ярдов от квартиры Иэна — от квартиры, в которой она обитала с ним вместе так долго, — позвонить нетрудно, встретиться и поговорить по-дружески в каком-нибудь кафе, посмотреть, куда этот разговор заведет. Кроме того, вообще приятно будет повидать его — в каком-то смысле…
Софи присела на скамейку на Кафедрал-сквер и подставилась солнцу. Здесь, в самом центре Бирмингема, она осознала, что окружена воспоминаниями об Иэне. Прямо напротив нее, на Колмор-роу, было конторское здание, куда она пришла на курс водительской сознательности. Позади Софи, на Корпорейшн-стрит, находилась кондитерская лавка, где Иэн во время летних беспорядков 2011 года вмешался в заваруху и получил увечья. Мысли о той неделе запустили сложную цепочку памяти… Самая яркая — даже ярче, как ни странно, чем те минуты в больнице, когда Иэн сделал ей предложение, — поездка в больницу с Хеленой и ощущение зияющего безмолвия между ними, когда Хелена произнесла непростительные слова: «Он был прав, между прочим. „Реки крови“. Ему одному хватало смелости такое сказать…» Поразительно, подумала Софи, есть люди, которые помнят ту речь, цепляются за нее, за слова, произнесенные перед бирмингемской публикой политиком — уроженцем Бирмингема, какое сильное впечатление эта речь произвела на них как выражение сущностной, однако непроизносимой истины и просидела тишком в их сердцах, словно рак, гноясь… Иисусе, уже пятьдесят лет. Полвека! Всего лишь на прошлой неделе Би-би-си показала ее еще раз — теперь ее читал актер, в честь пятидесятилетнего юбилея (словно этот юбилей, подумала Софи, заслуживает празднования), и она поймала несколько минут этой трансляции по радио, и пошлая безотрадность тех слов удручила ее, тогда как гнусавый голос и жутковатое интонирование Инока Пауэлла (в блестящем актерском воспроизведении) пробрали ее до костей, однако сегодня родилась мысль пободрее: осознание, что здесь, в этот солнечный апрельский день, люди Бирмингема — в основном молодежь — жили себе свою жизнь в счастливом и мирном принятии именно того смешения разных культур, которое в ограниченном, скупом уме Пауэлла способно было привести лишь к насилию. Софи вспомнила давний пренебрежительный отклик Соана, когда Лайонел Хэмпшир описал их сограждан как гостеприимных и доброжелательных — в прямую противоположность убийственно красноречивому породистому расизму Пауэлла, — но не могла расстаться с надеждой, что писатель прав, и не только применительно к англичанам, но и к людям во всем мире. Иначе на что вообще надеяться?
Софи двинулась вдоль Ватерлоо-стрит, по Виктория-сквер, мимо того места, где была Центральная библиотека, — теперь ее нет, мимо паба «Лоза» — тоже больше нет, пока не выбралась на Сентенэри-сквер, к зализанному исполину нового библиотечного здания. Всего сто ярдов до квартиры Иэна, но Софи продолжала идти — мимо Центра международных съездов на Бриндли-плейс, там постояла пару минут на мосту над каналом, глядя на поток покупателей, текший по бывшей бурлацкой тропе. Время обеда, люди выбирали, где бы поесть. Софи держала в руке телефон, руку — в кармане джинсов и раздумывала в который раз, не позвонить ли Иэну, и тут — словно знак — ощутила, что ее постукивают по плечу, обернулась и увидела двоих, кого не ожидала увидеть совсем, она их тут же узнала, но не разговаривала с ними с тех пор, как расстались они с Иэном. То были Грета, давняя горничная миссис Коулмен, и ее муж Лукас.
Увешанные магазинными сумками, одетые слишком тепло для такой летней погоды. Собирались в «Пиццу Экспресс» обедать. Позвали Софи с собой.
За обедом выбирали всякие необременительные темы — погода, ресторанный бизнес, новые магазины в центре города — и избегали говорить о причине (точнее, о человеке), благодаря которому они познакомились. Но когда трапеза завершилась и принесли кофе, Софи спросила, нет ли новостей об Иэне или миссис Коулмен. Вопрос, похоже, породил некоторое смущение.
— Честно говоря, — отозвался Лукас, — Хелену в деревне видно иногда, но мы сейчас не в тех отношениях. А Иэн…
— По-моему, его последнее время не видать, — сказала Грета. — Возможно, пару месяцев.
— Почему, как вы думаете? — спросила Софи. Ей показалось, что тут может быть какая-то конкретная причина.
Лукас ответил:
— В этом году кое-что произошло. Очень гадкое… Очень огорчительное для всех участников.
— Мы имели к этому отношение, — заговорила его жена. — Более того, мы были тому причиной. Из-за чего, надо сказать, я себя чувствую ужасно. Думаю, между Иэном и его матерью произошел разрыв, и мы, по сути, послужили поводом.
— Не надо так, — сказал Лукас. — Не вини себя. Не вини нас. Мы не виноваты. Жертвой оказалась ты, как сама помнишь.
Оба умолкли. Софи видела, что тема эта трудная, но любопытство в ней разыгралось неукротимое.
— Если не хотите рассказывать… — неискренне подала она голос.
— Нет-нет, что вы, — сказала Грета, — вам бы и впрямь надо знать про все это. В смысле, я не уверена, как у вас сейчас с Иэном, но… думаю, вам бы хотелось обо всем этом знать.
Софи кивнула и взглядом предложила Грете поделиться. Мгновение-другое — и та заговорила:
— Короче… вы, конечно же, помните деревенскую лавочку?
— Конечно.
— Ну вот, это случилось в лавочке в феврале. Суббота, обеденное время, день стоял, помню, холодный, и покупателей было немного — но в том магазине, сами знаете, людно вообще не бывает. Короче, неважно. Началось все вот как. В магазине нас находилось четверо. Двое за кассами и двое покупателей. Я — покупатель. Вторым же был мужчина лет двадцати пяти или тридцати. Думаю, он из паба пришел, мы все видели, что он выпил и пытался взять еще алкоголя — пива в банках. Я же просто покупала какие-то мелочи, зубную пасту, мочалки для мытья посуды, такое вот. Но, вынуждена признаться, вела я себя по-хамски и занималась тем, чего обычно не делаю, — расплачиваясь на кассе, разговаривала по телефону. Скажу честно, меня раздражает, когда другие так себя ведут, но звонила моя сестра, и я очень обрадовалась, потому что от нее давно не было никаких вестей, и я, по правде говоря, немножко волновалась. Ну и вот, пока я платила и выходила из магазина, все время мы разговаривали с ней. На нашем языке, само собой… Тем временем тот другой мужчина, молодой человек, был у другой кассы, и, похоже, у них там возникли какие-то трудности с оплатой. Он попытался рассчитаться карточкой, а машинка его карточку не приняла. Они с кассиршей повздорили. Наличных у него при себе не оказалось, только эта карточка, и пришлось в итоге смириться, что пива он купить не сможет. Но ему это не понравилось. Он выхватил карточку из считывателя и жахнул им по стойке, а затем, собравшись уходить, увидел меня. Или, вернее, услышал, скажем так. Заметил, как я выхожу из магазина, разговаривая с сестрой по телефону на другом языке, и мы встретились взглядами. Мне не понравилось, как он на меня посмотрел, и я отвела взгляд, но поздно. Вышла из магазина и увидела, что ко мне идет миссис Коулмен, приближается к магазину снаружи, но мы не успели поздороваться — тот человек закричал на меня. Он кричал: «Хорош, на хрен, трепаться по телефону», и как раз когда мы оба вышли за дверь, он схватил меня за руку и сказал: «Ты с кем говоришь?» и «На каком языке ты говоришь?» Я закричала: «Отпустите меня!» — но он все повторял: «На каком, на хрен, языке ты разговариваешь?» и следом: «Мы в этой стране говорим по-английски» — и назвал меня польской сучкой. Я ничего не сказала и поправлять его не собиралась, я уже привыкла, что меня считают полькой, просто не буду обращать внимания, думала, но он не остановился — вырвал у меня телефон, забрал, швырнул на землю и принялся его топтать.
Пока Грета описывала это происшествие, глаза у нее намокли, голос задрожал.
— Он все твердил «польская то» и «польская сё» — повторять слова, которые он говорил, я не могу — и сказал мне: «Нам незачем больше вас, публика, терпеть» (не «публика», а другое слово он произнес), а следом плюнул в меня. По-настоящему плюнул. К счастью, не в лицо, но…
Уже заметно трясясь, она прикрыла лицо ладонью. Лукас обнял ее. Софи потянулась через стол, взяла Грету за руку.
Некоторое время казалось, что Грета не сможет завершить рассказ. И потому продолжил Лукас:
— Ее это происшествие очень расстроило. Прямо-таки потрясло. Впервые — в смысле, с референдума — мы почувствовали, оба, легкую перемену в том, как люди — некоторые — стали с нами разговаривать, смотреть на нас, заслышав нашу речь, даже когда мы говорим по-английски, но что-то вот такое случилось впервые, такое враждебное или насильственное. В конце концов мы решили, что надо сходить в полицию и заявить о случившемся. Тот парень сел в машину и уехал, и мы не знали ни его номеров, ни чего другого, но подумали, что найти его будет довольно просто. А еще мы подумали, что полезно было бы привлечь свидетеля, и решили заглянуть к миссис Коулмен, поскольку она все видела. Мы отправились к ней на следующее утро, в воскресенье, и, когда подъехали, увидели машину Иэна рядом с домом.
— Честно говоря, я очень обрадовалась, — сказала Грета — она более-менее взяла себя в руки, — потому что с Иэном разговаривать всегда было чуточку проще — надеюсь, ничего, что я так говорю, — он немножко… приветливее, чем сама миссис Коулмен. В смысле, я на нее несколько лет проработала, провела в ее доме много времени и за все это время ни разу толком…
— Понимаю, о чем вы, — сказала Софи.
Грета благодарно улыбнулась и продолжила:
— Так вот, дверь открыл Иэн. Очень обрадовался нам, встретил тепло и по-доброму. Они с матерью как раз пили чай в кухне. С нами была наша детка, дочка Юстина, и мы решили, что, хоть она и очень послушная, не надо создавать хозяевам неудобства, Лукас забрал Юстину в гостиную и там с ней играл, пока я разговаривала с Иэном и его мамой. Иэн пригласил меня сесть и предложил чашку чаю, но я сказала, что не стоит хлопотать, я ненадолго. Села за кухонный стол между ними, но успела рассказать мало что, как миссис Коулмен принялась убирать всякое чайное со стола и складывать в мойку. Не то чтобы она не слушала, нет. Скорее, она уже поняла, что́ я собираюсь сказать, и хотела подготовить ответ. Я вкратце выложила Иэну, что случилось, — на самом деле они с мамой это уже обсудили, и он очень по-доброму откликнулся, очень сочувственно, — а затем я сказала, что мы собираемся сходить в полицию, и не могла бы миссис Коулмен выступить свидетелем и просто подтвердить, что все так и было… Хелена стояла у мойки, руки в воде, смотрела в кухонное окно. Иэн сказал ей: «Запросто, правда, мам? В смысле, ты же все видела…» Она сперва помолчала, а потом ответила: «Да, видела…» Мы ждали, что она скажет дальше. Довольно долго ждали.
Софи тоже ждала продолжения. Вокруг громыхали столовые приборы, как в любом оживленном ресторане, сновали люди, но Софи отчетливо слышала и видела, как все в той сцене происходило: полное молчание в той более чем знакомой кухне; вода в мойке тихонько журчит у Хелены под руками; глаза Хелены, голубые светлее некуда, влажные, красноватые, смотрят неотрывно на розовый сад, который посадил много лет назад ее муж, бутонам еще предстоит раскрыться, цветкам — расцвести. Софи помнила, как сама сидела в том саду в самый первый день их с Хеленой знакомства. Помнила, как сурово старуха схватила ее за руку, помнила пугающую силу и неотвратимость того взгляда.
— Наконец, — сказала Грета, — Хелена заговорила. Говорила она очень тихо, с грустью в голосе. С настоящей грустью. Из-за этой грусти в некотором смысле особенно больно. Хелена сказала… — Грета глубоко вдохнула. Повторять те слова ей было мучительно. — Она сказала: «Думаю, в общем и целом, лучше бы вам и вашему мужу ехать домой». Я, честно, поначалу не поняла. Решила, что она про наш дом на другом краю деревни. Но она не это имела в виду. «Боюсь, — сказала она (кстати, между прочим, меня всегда поражает, как англичане употребляют этот оборот, будто им действительно страшно сказать что-то плохое, когда на самом деле пугаться стоит тому, с кем они разговаривают, — странная штука, ни в каком другом языке такого нет, по-моему), ну, короче, — боюсь, — сказала она, — то, что произошло вчера, будет случаться и дальше, в том или ином виде. Так и должно было быть изначально. Это неизбежно»… «Неизбежно?» — повторила я. Но дальше она молчала. Я сидела и пыталась усвоить сказанное. Дар речи потеряла даже. И тут Иэн сказал что-то вроде: «Мам, она просит только об одном: чтобы ты рассказала людям, что произошло», но тут я встала и остановила его: «Не надо, Иэн. Ваша мама выразилась очень ясно. Я прекрасно поняла, что она хочет мне сказать. Я пошла». Я выскочила из кухни в гостиную, где Лукас играл с Юстиной. Взяла дочку на руки и сказала: «Идем, нам пора», — и понесла ее к двери. Он… — Грета глянула на мужа, — пошел за мной, не очень понимая, что творится. Иэн ждал нас у выхода, попытался остановить меня, но я протиснулась мимо и понесла Юстину прямиком к машине.
— Я тоже пошел к машине, — сказал Лукас, — чтобы хоть спросить, что случилось вообще. Но Грета не говорила. Пристегивала Юстину и молчала. Однако дверь в дом все еще была открыта, и я вернулся. Прошел по коридору в кухню, и там Иэн с матерью жутко ссорились.
— Что он говорил? — спросила Софи.
— Не помню. Они на повышенных тонах беседовали — не прям кричали, но… однозначно были очень рассержены. Ссорились. Но что говорили — не помню.
* * *
— Я осознал, что́ ее на самом деле взбесило, — рассказывал Иэн Софи тем же вечером, когда они лежали вместе в постели и он бережно вел пальцем вдоль мягкого контура ее оголенного плеча, — попросту то, что я ее не поддержал. Она хотела этого от меня. Ждала этого. Безусловной поддержки. — Иэн поцеловал Софи в плечо, а затем скользнул ладонью по прелестной равнине ее живота, нащупал легкую впадину пупка и оставил руку на дуге бедра. — Она все повторяла: «Ты на чьей стороне? На чьей?» Вот она как на это смотрит. Уму непостижимо, как я этого раньше не замечал, — что она так, по сути, прожила всю свою жизнь. В состоянии необъявленной войны.
Софи погладила Иэна по ноге. Приятно было вновь прикасаться к нему — ощущать эти мышцы, кожу, светлые пушистые волосы на внутренней поверхности бедер и волосы пожестче, потолще — если двинуться выше.
— Вы когда разговаривали последний раз? — спросила она.
— В то утро, два месяца назад. — Иэн поцеловал ее.
— Надо мириться.
— Рано или поздно, да. Но мы никогда… — он вновь поцеловал ее, — не вернемся к тому, как оно было.
— Да и мы, — сказала Софи, и сердце ее затрепетало: Иэн принялся чертить ладонью круги у ее груди.
— Зато ты вернулась, — произнес Иэн, целуя Софи, нежно скользя губами ей по скуле. — Правда?
— Посмотрим, — проговорила Софи.
* * *
— Что сейчас собираетесь делать? — спросила Софи, выходя с Лукасом и Гретой из ресторана к солнечному свету.
— Сейчас? — Лукас глянул на часы. — Видимо, еще пройдемся по магазинам, а потом…
— Я не про сегодняшний вечер, — проговорила Софи. — Я в смысле… Останетесь в деревне?
— На самом деле, — сказала Грета, — мы последуем совету миссис Коулмен.
— Нет! Нельзя же уезжать из-за такого вот.
— А дело не в этом, — сказал Лукас. — Мы просто чувствуем…
— Не то чтоб мы разлюбили Англию… — сказала Грета.
— Просто… Мы чувствуем, что есть другие страны, где жизнь для нас может быть легче.
— Какие другие страны?
— Мы пока не знаем точно. Времени решить у нас навалом. Мы выставили дом на продажу, но можно не уезжать до конца августа.
Они стояли рука об руку у канала, Софи смотрела на них и понимала: эта пара уже все решила.
— Это ужас как печально, — проговорила она.
— Не очень, — отозвался Лукас. — Всегда здорово двигаться дальше.
— А вы как же? — спросила Грета.
Они оба — и в самых настойчивых выражениях — призвали ее как можно скорее позвонить Иэну. Однако Софи выбрала даже более решительный подход. И вот так они попрощались у входа в Бирмингемский Реп[119], Софи посмотрела, как удаляются эти две фигурки, шагая мимо Зала памяти в сторону Парадайз-плейс, после чего направилась обратно к театру, шла не спеша, но с неослабевающей решимостью к жилому дому, где они с Иэном провели свою супружескую жизнь. Софи, конечно, помнила четыре цифры кода на общей входной двери. Ключ от квартиры у нее тоже по-прежнему был, но по этому случаю она им не воспользовалась. Позвонила в дверь, и когда Иэн открыл ей — с вопросительным, слегка огорченным видом человека, которого только что отвлекли от футбольного матча по телевизору, — попросту произнесла:
— Привет, незнакомец.
Май 2018-го
Кориандр сдала выпускные экзамены и ждала результатов. Вероятно, в попытке убить время — или, возможно, чтобы навести мосты между ними с отцом, — она согласилась наконец провести день-другой с Дугом и Гейл в доме в Эрлздоне. Посещение получилось обременительным, но непримечательным — натужно вежливым со всех сторон. Когда вечером 17 мая 2018 года оно завершилось, они с Дугом дошли пешком до станции Ковентри: Кориандр возвращалась в Лондон, Дуг собирался в Бирмингем (со смешанными чувствами, какие всегда сопутствуют подобным событиям) — на встречу с одноклассниками. Ранний летний вечер, ходу было минут двадцать по приятному солнышку, и Кориандр задала стремительный темп.
— Ты не хочешь сбавить шаг чуть-чуть? — спросил Дуг, когда она рванула вперед, обгоняя его на два-три ярда. — Кому угодно покажется, что тебе стыдно идти со мной рядом.
— Так мне и стыдно.
— Как мило.
— А чего ты хотел? — спросила она. — Это все твой наряд. Костюм пингвина. Ты смотришься как оплаченный член правящего класса. Позорище.
— Я ж не виноват, что дресс-код такой.
— Ой, да ладно. В былые дни ты бы просто послал их на хер, надел бы костюм с галстуком. Ты таким дезертиром стал в свои древние годы.
Дуг заспешил, догоняя ее.
— В свои средние годы, я бы попросил. Я не старый.
— Как скажешь.
Он взял ее под руку и с облегчением заметил, что она, по крайней мере, минуту-другую не пыталась вырваться.
— Бенджамин будет? — спросила она.
— Ага. А что, у тебя для него сообщение?
— Не-а.
— Потому что если ты передашь сообщение мне, я бы передал его Бенджамину, а он — Софи. — Дуг глянул на дочь, лицо у той не выражало ничего. — Может… ну не знаю… извинения или что-то такое?
— Если б я что-то сделала не так, — произнесла Кориандр, — я бы извинилась.
— Ты у нее год жизни отняла.
— За это время она написала книгу и выпустила телепрограмму. Семьдесят процентов транслюдей в этой стране помышляют о самоубийстве. Я знаю, на чьей я стороне. Брось, пап. Не будет такого.
На станции они расцеловались, и Дуг перешел по мосту на платформу в сторону Бирмингема. Поезд прибыл почти сразу, но потом несколько минут стоял. А значит, Дуг, сидя у окна, отчетливо видел на противоположной платформе свою дочь, ожидавшую поезда. Сила ее характера, упрямство, отказ от компромиссов ясно видны были и в ее настрое, и в позе — как стояла она на платформе, с какой полусердитой гримасой смотрела вдаль, как отчуждена была от остальных пассажиров. Дуг надеялся, что рано или поздно дочь преодолеет свой гнев на мир, а точнее — на мир, который его поколение завещало ее поколению. Разговор у них зашел об извинениях, но Дуг осознал, что это его гнетет постоянное чувство, будто он должен извиниться — перед ней в первую очередь, а следом перед всеми ее друзьями и сверстниками. Неужели Дуг и его ровесники так тяжко оплошали? Может, и да. Страна сейчас в прискорбном состоянии: вздорная, расколотая, она стонет под давлением жесткой экономии, которая, кажется, не закончится никогда. Может, это неизбежно, что Кориандр будет ненавидеть отца за его долю участия во всем этом, пусть и сколь угодно малую. Может, пришло время учиться у нее — напоминать себе, что есть принципы, которые ни за что нельзя отставлять или разбавлять, что тяготение к середине в стремлении к спокойной жизни — необязательно дело благородное…
Дуг машинально потянул за галстук-бабочку, удавкой завязанный на шее. Уже собрался отцепить его, но спохватился. Что-что, а пустой жест он распознать умел.
* * *
Дуг шел по подъездной аллее к школе «Кинг-Уильямс», с каждым шагом и с каждым взглядом по сторонам ощущая прустовский наплыв воспоминаний (справа — естественно-научные лаборатории, слева — когда-то запретное царство Школы для девочек), и тут в нескольких ярдах впереди увидел Бенджамина — тот припарковался и запирал машину. Дальше пошли вместе, пока не добрались до старой столовой, где пестрый транспарант объявлял, что «Школа „Кинг-Уильямс“ приветствует выпуск 1978 года», и не обнаружили, что Филип Чейз и Стив Ричардз уже ждут их в конце одного из выставленных длинных столов.
— Кто, к черту, все эти люди? — спросил Стив, оглядывая море редеющих шевелюр, очков в тонких оправах, сутулых плеч и отрастающих животов. — Никого не узнаю. Они все выглядят одинаково.
— Ожидалось несколько учителей. Мистер Сёркис говорил, что придет.
Стив рассмеялся:
— Какая прелесть — ты до сих пор зовешь его «мистером».
— Смотрите! — воскликнул Фил. — Это же Ник Бонд?
— Нет, это не он. Это Дэвид Нэйгл. Я его влет опознаю?
— Может, подойдем поздороваться?
— Я б не стал. Сорок лет назад у нас было мало общего. Сейчас, скорее всего, еще меньше.
— Тогда что мы тут делаем? Зачем явились? Могли б сесть в тихой китайской забегаловке.
— Вон там, — произнес Дуг, — объяснение, зачем я явился.
Остальные замолчали и проследили за его взглядом до дверей в столовую, где только что возник Роналд Калпеппер. Он был целиком занят разговором с нынешним директором школы, директор обращался к Калпепперу почтительно и вел его к центральному месту за главным столом.
— Ты приехал сюда в такую даль, — ошарашенно вымолвил Стив, — чтобы послушать, как это брехло болтает о… — Стив взял в руки распечатку программки, — о глобальных возможностях Британии пост-Брекзита?
— Нет, — ответил Дуг, — я приехал, потому что намерен по завершении вечера перекинуться с ним словечком наедине. А речь его паршивую я слушать не останусь, вы как хотите.
Верный своему слову, как только доели десерт и председатель фонда «Империум» собрался встать, Дуг произвел хорошо организованный демонстративный выход вон — всей компанией на их конце стола. За ним последовали Филип, Стив и Бенджамин — они покинули столовую под старательный грохот посуды и скрип скамеек в тот самый миг, когда Калпеппер принялся говорить. Остальные пятьдесят или шестьдесят гостей повернулись посмотреть, как эти четверо проталкиваются к дверям. Жест получился ребяческий, но принес глубокое удовлетворение. И облегчение: после столь обильной тяжелой пищи и дешевого красного вина хорошо было выбраться на свежий воздух и насладиться последними минутами вечернего солнца.
Они прошли по дорожке, вившейся по периметру вокруг школьных зданий, в основном краснокирпичных, межвоенной постройки, знакомых до боли, но некоторые возвели совсем недавно, и они были до странного чужими. Самым заметным оказался новый молельный дом, рассчитанный на тридцать процентов мальчиков «Кинг-Уильямс», ныне исповедовавших ислам. Вскоре добрались до травянистого склона — он спускался к игровым полям, где в летних сумерках необъяснимыми памятниками древней цивилизации призрачно и горделиво высились ворота для регби. Друзья сели на траву, как почти сорок лет назад жарким летним вечером в конце последнего семестра, когда Дуг притащил на всех баночного пива, но Бенджамин, благочинно памятуя о своем долге префекта, воздержался. Память о том вечере теперь заставила его улыбнуться и вывела на тропу дальнейших размышлений о былом.
— А помните, — проговорил он, глядя на север, где высокая стена, отгораживала открытый бассейн позади школьной часовни, — как нас заставляли плавать без всего, если мы забывали плавки?
— Ой, да, — отозвался Фил.
— Поразительное дело, — сказал Стив, — как наши родители спустили им это с рук. Нынче был бы повод для полиции и социальных служб. Ну или есть надежда, что так.
— И то правда, — сказал Фил. — Столько всякого, что мы в семидесятые считали нормой, теперь определяется как злоупотребление.
— Ну, нас это никак не задело в любом случае, — сказал Бенджамин, и Дуг коротко переспросил:
— Ой ли?
Этот вопрос какое-то время висел в воздухе — без ответа, безответный.
— Приятно иногда возвращаться к прошлому, — проговорил наконец Бенджамин задиристо.
— Ностальгия — английская болезнь, — сказал Дуг. — Одержимы своим чертовым прошлым англичане эти — и вы гляньте, куда это нас привело. Времена меняются. Хочешь не хочешь.
— Ну, ты — нет, — сказал Бенджамин.
— Что, прости?
— Ты не очень-то меняешься. Все так же делаешь громадные обобщения об английском национальном характере, как я погляжу. «Утонченность — английская болезнь» — вот что ты последний раз говорил.
— Что? Когда это я такое сказал?
— Ты сказал это здесь же, сорок лет назад, когда мы спорили о заголовке для школьного журнала.
— Я сказал, что «утонченность — английская болезнь»?
— Ага.
— Помню такое, — встрял Фил. — Это когда мы сочиняли заметку про то, как Эрик Клэптон на концерте в «Одеоне» стал весь из себя Инок Пауэлл.
— Как можно помнить что-то, случившееся так давно? — спросил Дуг. — Я как раз об этом — вы, ребята, одержимы прошлым. Вы помните его слишком крепко и думаете о нем слишком много. Пора двигаться дальше. Надо сосредоточиться на будущем.
— Согласен, — сказал Стив.
— Я содержу издательскую компанию, публикующую книги по истории, — заявил Фил. — Мне приходится думать о прошлом.
— А я очень сосредоточен на будущем, если хотите знать, — сказал Бенджамин. — Я принял большое решение.
Дуг фыркнул.
— Правда? Собираешься отныне покупать зеленые блокноты, а не синие, что ли?
Остальные засмеялись, но Бенджамин пресек смех, объявив:
— Мы с Лоис переезжаем во Францию. — Помедлив немного, чтобы насладиться их изумлением, он продолжил: — Лоис ушла от Кристофера. Не хочет быть нигде даже близко от Бирмингема. Не хочет в этой стране оставаться. Но и одна быть не желает. Вот я и сказал, что поеду с ней. Найдем что-нибудь в Провансе — у нас деньги от продажи и отцова дома, и моего. Она хочет что-нибудь побольше, чтобы принимать гостей. За деньги. — Он поочередно посмотрел всем им в глаза. — Вас всех ждем в любое время, — заверил их он. — Вам скидки.
На игровые поля стремительно наползала тьма. Из столовой долетели аплодисменты. Дуг встал на ноги, стряхнул с парадных брюк траву. Тронул Бенджамина за плечо.
— Кажется, ты правильное дело затеял, приятель, — сказал он. — Но сейчас вы меня извините. Речь, судя по всему, завершилась, и вряд ли Ронни задержится надолго. Пора нам с ним поболтать. Увидимся погодя, ребята.
И он поспешил на звук увядавших аплодисментов; Стив крикнул ему вслед:
— Не натвори глупостей!
* * *
Чутье не подвело Дуга. Роналд Калпеппер во всей своей поджарой славе уже ждал у выхода из столовой, летний плащ висел на руке, свет фонаря блестел на лысине; Калпеппер говорил по телефону, бормоча вполголоса. «Шофера вызывает», — подумал Дуг, предполагая — вновь безошибочно, — что столь выдающийся гость не стал бы приезжать в родную школу на собственных парах, не говоря уже об «Убере». За ним через несколько минут прикатит какой-нибудь «даймлер» или что-то в этом духе.
Калпеппер заметил и узнал Дуга, пока тот был еще в нескольких ярдах, и старательно изобразил на лице усталое презрение. Двое противников поприветствовали друг друга — без всяких рукопожатий.
— Роналд, — произнес Дуг.
— Дуглас, — отозвался тот.
— Уже покидаешь нас? Не останешься автографы раздать?
— Если завидуешь, — сказал Калпеппер, — что обратиться к этому собранию предложили мне, а не тебе, возможно, подумай, кто из нас лучше всего выражает ценности этой школы. Ну или, конечно, уговори своих дружков устроить жалкую выходку — мятеж. Никого это, кстати, не впечатлило. Всем неловко было, да и только.
— Мы удалились по медицинским причинам. Решили, что у нас давление не выдержит слушать тебя двадцать минут.
Калпеппер выдавил улыбку жалости.
— Все воюешь в старые войнушки, э, Дуг? Сорок лет прошло — и ничего не изменилось.
— Сорок лет — не такое уж долгое время, по большому счету. Да и войнушка не «старая». Та же самая войнушка. Она никогда не меняется.
— Может, для тебя. Некоторые из нас двинулись дальше.
Калпеппер глянул на часы. Шофер ехал дольше, чем Калпепперу нравилось.
— И к чему же ты теперь придвинулся? — спросил Дуг. — Расскажи мне чуток о фонде «Империум» и за что он борется.
Услышав это, Калпеппер на миг утратил самообладание, но довольно быстро оправился.
— Это очень почтенный мозговой центр, — ответил он. — Информация о нем широко доступна онлайн.
— Кто им управляет?
— Если ты пытаешься выявить тут какой-нибудь злодейский картель или заговор — не повезло тебе, — сказал Калпеппер, направляясь по подъездной аллее к школьным воротам. — Мы просто группа рядовых британских предпринимателей, пытаемся делать все возможное для своей страны. Даже ты уж точно не смог бы ничего на это возразить.
— И впрямь не смог бы. Если б хоть слову поверил, правда.
— Твоя беда, Андертон, — проговорил Калпеппер, внезапно замирая и оборачиваясь к Дугу, — в том, что ты ни разу не удосужился разобраться, как устроен бизнес, и не удосужился понять, что такое патриотизм. Как и весь остальной либеральный комментариат, прямо скажем. Если б ты утрудился — понял бы, что эти две вещи можно довольно удачно подружить. Я же читаю твои колонки, между прочим. Всегда интересно поглядеть, что там себе думает оппозиция. Но, боюсь, колонки твои на меня сильного впечатления не произвели ни разу. Анализ у тебя поверхностный, а после референдума всем стало ясно то, что некоторым было понятно и раньше: это ты и остальные фигляры, бузящие против правящей верхушки, — вот кто правящая верхушка-то, и народ на вас ополчился, а вам это не нравится.
Дуг задумался на миг, а затем покачал головой.
— Прости, Ронни, но это фуфло.
— Что — фуфло?
— Видишь ли, штука вот в чем: всякий раз, когда я слышу, как ты рассуждаешь о «народе», у меня детектор херни зашкаливает. По-моему, ты всю свою взрослую жизнь посвятил усилиям убраться от «народа» как можно дальше. Ты общественным транспортом или НСЗ пользуешься? А детей в государственных школах обучаешь? Нет, конечно. Да тебе что угодно, лишь бы с пролетариатом не сталкиваться. Зато на Брекзит ты дрочил много лет, по разным причинам, и теперь, когда «народ» обеспечил тебе то, на что ты молился, ты вдруг по уши в «народе». С радостью используешь его, как используешь кого угодно. Так устроены люди, подобные тебе. Но, надеюсь, ты осознаёшь, что на этот раз ты играешь с огнем.
— Играю с огнем? Господи ты боже мой, любите же вы накручивать-то.
— Я не накручиваю. Мы все знаем, что в этой стране сейчас много гнева, и чтобы получить необходимое тебе, нужно этот гнев подогревать. Но люди свой гнев проявляют по-разному. Некоторые бурчат за чаем, пыхтят над «Дейли телеграф» и голосуют за Брекзит, и тут все славно. А вот некоторые выходят на улицы в бронежилетах, набитых ножами, и закалывают до смерти своего местного члена парламента, и вот это уже не славно, а? И чем больше газеты раскуривают гнев словами типа «предательство», «мятеж» и «враг народа», тем вероятнее то, что нечто подобное произойдет еще раз.
Они дошли до конца подъездной аллеи. В некотором отчаянии Калпеппер глянул влево и вправо на основную дорогу, но машины не было видно.
— Не получается у меня понять, — проговорил он, — как это связано с…
Он умолк на полуфразе, потому что Дуг схватил его за галстук-бабочку и грубо потянул к себе, пока они не оказались лицом к лицу.
— Знаешь Гейл Рэнсом, Ронни? Знаешь, с кем она теперь живет? Да наверняка. Знаешь, каково это — смотреть, как женщина, которую ты любишь, рыдает у тебя в объятиях, потому что ей весь день шлют сообщения с угрозами? Рыдает, потому что ее дочь до усрачки напугана? — Он потянул галстук на себя и скрутил его так, что Калпеппер побагровел. — Ну? Знаешь? Знаешь?
— Отпусти меня, ебаное животное.
Слова получились задышливые, удавленные. Эти двое смотрели друг на друга, глаза к глазам, секунд десять или дольше, лицо Калпеппера делалось все багровее. Наконец, как раз когда к бордюру рядом с ним подкатил здоровенный черный «БМВ», Дуг ослабил хватку. Без единого слова Калпеппер дернул заднюю дверцу и залез внутрь, потирая круг болезненной красноты на шее, где врезался воротник. Злобно смотрел на Дуга, пока отъезжал автомобиль, но ни тот ни другой так и не смогли измыслить, чем бы пальнуть на прощанье. Зловоние ненависти висело в воздухе и после того, как машина исчезла из виду.
* * *
Тем временем Бенджамин выполнял свою личную миссию, но гораздо более созерцательного свойства. Встав на путь, запечатленный в его памяти вопреки многим десятилетиям, миновавшим с тех пор, как Бенджамин прошел этим путем в последний раз, он проник в главный школьный корпус и поднялся по лестнице в верхний коридор, где слева находилась небольшая арка, а за ней — пролет гораздо более крутых и тайных каменных ступеней. То был вход в коридор Карлтона, территорию школы, куда допускали в его время только шестиклассников, да и то не всех, а немногих избранных. Первая комната слева — для встреч самого клуба «Карлтон», где привилегированное меньшинство, избранное в эту элитную организацию (тайной комиссией, которая мотивы свои никогда не обнародовала), сиживало в кожаных креслах и знакомилось с «Таймс», «Телеграф», «Панч», «Экономист» и другими изданиями, считавшимися в то невинное время достойным чтением для будущих вождей страны. Ныне эта комната, похоже, служила более открытой гостиной для всех шестиклассников. Бенджамин все равно прокрался мимо и направился прямиком в конец коридора, где верхний свет уже включил какой-то более ранний гость. Здесь пятничными вечерами они с друзьями собирали воедино еженедельный выпуск школьной газеты под названием «Доска». Происходили воинственные редакционные дебаты, в которых Дуг вечно пытался пропихнуть все в более политически заряженном направлении, тогда как Бенджамин возился с вопросами культурных и литературных ценностей, которым предстояло занимать Бенджамина — без особого толка — всю его жизнь. В первой комнате главенствовал обширный приземистый прямоугольный стол, вокруг которого они все когда-то рассаживались. Бенджамин огляделся, а затем подошел к окну проверить, не пробудит ли вид каких-нибудь воспоминаний. Поначалу увидел только свое немолодое отражение, а потому щелкнул выключателем, из-за чего весь коридор неожиданно погрузился почти в полную темноту. Перейдя во вторую комнату, Бенджамин тут же разглядел кресло и стол, за которым писал свои театральные и книжные рецензии. Отсюда видны были крыши школьных зданий, а за ними — два высоких дуба по обе стороны Южного въезда; сегодня они стояли в безветренном летнем воздухе неподвижно и бдительно.
Бенджамин плюхнулся в кресло и поглядел в окно. Снаружи еще не совсем стемнело, неяркий свет был мягок, покоен, и через несколько секунд Бенджамин ощутил, как его охватывает знакомое умиротворенное удовольствие одиночества. Приятно, конечно, повидать друзей, но он всегда предпочитал уединение. Собственные мысли ему нередко наскучивали, но тем не менее убаюкивал уют их предсказуемых путей и закономерностей. Здесь, в этом самом кресле, он сидел один, после того как все его коллеги ушли, однажды студеным пятничным вечером в январе 1977-го; сидел он так, пока через несколько минут не осознал, что вовсе не один, что его в соседней комнате поджидает Сисили Бойд, — сидит, а вернее, присела у редакторского стола спиной к двери, босая нога подложена под зад, знаменитые золотые локоны стянуты в хвост длиной почти до поясницы. Первый знак, по которому он засек ее присутствие (ее судьбоносное, вскоре преобразившее всю его жизнь присутствие), — запах дыма ее сигареты. Воспоминание сохранилось такое сильное, а образ такой живой, — что Бенджамину показалось, будто он слышит запах дыма. Чуть было не показалось, что видит, как дым плывет по комнате, струится спиралями и завитками к столу, прямо у него на глазах…
Бенджамин охнул и резко развернулся. Позади кто-то сидел — в кресле, спиной к стене. Теневая, бесформенная фигура, единственная яркая черта — булавочная оранжевая точка на кончике сигареты. Фигура эта произнесла одно зловещее слово, тихо, но настораживающе подчеркнуто, — вместе с сигаретным дымом, который она выдохнула в комнату:
— Призраки…
Бенджамин узнал голос и, когда фигура подалась вперед, узнал и говорящего. Мистер Сёркис.
— Призраки, э, Бенджамин? — повторил он. — Память о том, что было[120].
Он потащил кресло вперед, пока блеклый свет из окна не упал на его морщинистое ободряющее лицо.
— Что вы здесь делаете? — спросил Бенджамин.
— То же, что и ты, видимо. Вспоминаю былые дни. Гоняюсь за призраками.
— Вы меня перепугали до ужаса.
— Прости. Сигарету?
— Нет, спасибо.
— Ты уже не школьник. Тебя не накажут.
— Я не курю. И не пробовал.
— Очень мудро, — проговорил мистер Сёркис. — Очень скучно, однако очень мудро. Мудрость часто скучна, не замечал? Лучше быть веселым идиотом, чем мудрым старым занудой. Я знаю, в кого превращаюсь. — Он встал и принялся неспешно расхаживать по темневшей комнате. — Вот где все начиналось, верно? Небось не приходило в голову, что вновь окажешься здесь со своим старым учителем английского?
— Ничто из происходящего меня уже не удивляет, — отозвался Бенджамин. — И никто не знает будущего. Я только что пытался это объяснить остальным.
— Верно. И все же я знал, что вы далеко пойдете. У меня сомнений не было никаких.
— Правда? Вы считаете, что мы далеко пошли? Дуг-то, может, и да… А вот насчет остальных я не уверен.
— Я твою книгу в итоге прочел, — сказал мистер Сёркис. — Когда ты выкинул оттуда весь мусор, получилась настоящая маленькая жемчужина. Маленькая, но безупречная по форме. Тебе есть чем гордиться.
— Этого немного, — печально произнес Бенджамин. — Невеликий останется след в итоге, верно? Книжечка, которую прочтет несколько тысяч человек.
— Будут и другие книги, — сказал мистер Сёркис.
— Вряд ли.
— Может, займет десять лет. Двадцать. Но ты еще напишешь что-то новенькое, будь спокоен.
— А в промежутке? Чем заниматься?
— А что ты хочешь делать?
— Мы с Лоис переезжаем во Францию.
— Отлично.
— Да, но чем мне там заниматься?
Мистер Сёркис затянулся напоследок и затушил сигарету в чашке на столе у Бенджамина.
— Ты не слушал, что ли, — проговорил он, — когда мы встречались в тот раз? В мрачном пабе.
— Конечно, слушал.
— Я тебе сказал, чем заниматься. Это последнее, что я тебе сказал. Я сказал, что тебе надо преподавать.
Бенджамин рассмеялся.
— Я думал, это шутка.
— Так и было. Серьезная шутка. — Ответом ему было молчание, и он продолжил: — Из тебя выйдет хороший учитель. Я всегда так считал.
— Чему же мне учить во Франции?
— Учи людей писать. Писать и редактировать. Ты умеешь и то и другое. А в наши дни все хотят быть писателями, ты не заметил разве? «У каждого внутри книга». Это заемная мудрость. Беда в том, что мало кто умеет эту книгу извлечь. И тут ты мог бы помочь.
Бенджамин задумался. Поначалу эта затея показалась безумной, но, может, в ней был смысл.
— «Писательская школа Бенджамина Тракаллея», — произнес он, думая вслух.
— Я попробую придумать название позвучнее, — сказал мистер Сёркис. — Более того, это будет нетрудно. — Он тронул Бенджамина между лопаток — то ли похлопал, то ли потер. — Ну, давай найдем твоих друзей. Может, в последний раз собираемся. Надо хоть селфи сделать.
Гостиница «Ленчфорд» стоит на западном берегу реки Северн, прямо у деревни Шроли в Вустершире. Во вторник вечером, в июне 2018 года, Бенджамин и Дженнифер встретились там выпить. Как выяснилось, то была их последняя совместная выпивка. Стоял ясный летний вечер, солнце неспешно опускалось в реку и покрывало ее глубоким медным глянцем, над водой сновали туда-сюда жаворонки и воробьи. Выпив, Дженнифер с Бенджамином двинулись на север по тропе, следовавшей за несмелыми извивами реки. За руки они не держались, не шли и под руку — не их стиль, — но очень рядом друг с другом, от чего становилось уютно, когда они случайно соприкасались то бедром, то плечом. Эти мягкие столкновения едва заметно и приятно напоминали им об их физической близости.
Наконец Бенджамин скрепя сердце сделал то, что уже нельзя было откладывать, — сообщил Дженнифер, что собирается переехать с сестрой во Францию. Дженнифер отнеслась к этой новости уравновешеннее, чем Бенджамин предполагал.
— Ух, здорово, — сказала она. — В смысле, я, конечно, буду скучать по тебе, но… Ну поздравляю. Уверена, ты знаешь, что делаешь.
— Надеюсь, ты приедешь в гости.
— Конечно, приеду. — Она посмотрела на него. — Прости, ты ожидал, что я отреагирую чуть драматичнее? Ты уже один раз меня бросал, не забывай, сорок лет назад, так я и тогда на самом деле не очень расстроилась. — Смотреть на него такого приунывшего все равно оказалось чересчур. — В любом случае, в этот раз ты же, строго говоря, никого не бросаешь, верно? Мы виделись-то примерно раз в месяц. А в последнее время и того реже.
— У тебя кто-то другой есть, да? — спросил Бенджамин.
Дженнифер пошла медленнее, вдохнула и искреннее заглянула ему в глаза.
— Ты давно про это знал? — спросила она.
Бенджамин шел себе дальше.
— Довольно-таки, — проговорил он. — Его зовут Роберт, кажется?
— Почему ничего не сказал, если знал?
— Наверное, потому что… потому что, как я понял, меня это не очень волнует.
Это, кажется, задело Дженнифер больше всего остального.
— Ну вот пожалуйста, — проговорила она, догоняя его. — Я как раз об этом. Если у тебя не находится сил даже на ревность…
— Я думал, что у нас… Думал, нас обоих это устраивает.
Дженнифер вздохнула и покачала головой.
— Какой же ты идиот. Вот правда. Я всегда хотела, чтобы у нас с тобой получилось нечто большее. В конце концов я поняла, что большего не получится, — поэтому и начала встречаться с Робертом, наверное, — но я все время ждала, что ты сделаешь какой-нибудь шаг. Примешь какое-нибудь решение. Что-то во мне все цеплялось за эту надежду. Поэтому я и не сказала Роберту «да», когда он позвал меня замуж.
— Он звал тебя замуж?
— Конечно. Раз двадцать.
— И ты отказала из-за меня?
— Ох, Бенджамин! Ты вообще ничего не понимаешь, что ли? Я на что угодно была готова, лишь бы с тобой сблизиться. Начала читать Флобера. Ограничила себя фильмами с субтитрами. Научилась любить симфонии Артура Хонекера.
— Онеггера, — поправил ее Бенджамин, не успев спохватиться.
— Я сказала, что люблю тебя, господи боже мой. Помнишь же, правда?
— Да, но я подумал… подумал, что это просто так говорят.
— Да, говорят, Бенджамин. Так оно и есть. Люди так говорят. Обычно когда именно это и подразумевают.
Сейчас они стояли у самой кромки воды, повернулись друг к другу, и Дженнифер впервые взяла его за руки. Глаза налились слезами.
— Я через это уже прошла, Бен, не волнуйся, — сказала она. — Или, вернее, я уже над этим всем. На самом деле мы виделись с Робертом на прошлой неделе, он опять сделал мне предложение, и на этот раз я не отвергла его. Сказала — подумаю. Оно того стоило — уж так это его обрадовало.
Бенджамин попробовал улыбнуться, но вышло натужно и жалко. Попытался обнять Дженнифер, она тоже обвила его руками, но расслабиться в этих объятиях не смогла. Он ощущал ее сопротивление.
— Я сделал тебе больно, — проговорил он. — Прости меня.
Вытирая глаза о его плечо и бережно отстраняясь, Дженнифер сказала:
— Не бери в голову, Тигр. Как уже говорила, я над всем этим. Сколько-то я себя обманывала, что, может, мы родственные души, но… Ты-то себе родственную душу нашел много лет назад, и никто никогда ее не заменит.
Бенджамин кивнул.
— Ты про Сисили.
— Да не про нее, — презрительно сказала Дженнифер. — Я про твою сестру, само собой.
— Ты про Лоис?
— Оглядываясь на прошлое, — сказала Дженнифер, — понимаешь, как же это очевидно. Даже в школе мы все видели, до чего вы друг для друга важны. Мило наблюдать такое между братом и сестрой. Такую преданность. Такую поддержку. У нас для вас даже общая кличка была. Бенджамин и Лоис Тракаллеи: Ракалии. Бент Ракалия, Лист Ракалия. Правильно же, так было?
— Да, но мне в голову не приходило… в смысле, я никогда к этому так не относился…
— Совершенно понятно, почему вы уезжаете вместе. Гораздо понятнее, чем тебе болтаться в Средней Англии и пытаться что-то там наладить со мной.
Бенджамин подался к ней, поцеловал в губы. Она отозвалась на поцелуй, но отклик опять получился осторожный, неохотный.
— Прости меня, пожалуйста, — повторил он.
Дженнифер повернула обратно к пабу, двинулась вперед и быстро перевела разговор на всякие практические темы.
— Сейчас подходящее время, чтобы в Европу переезжать? — спросила она. — Со всем этим Брекзитом?
— Мы про это подумали, — ответил Бенджамин. — Если уехать до 29 марта следующего года, ничего не меняется.
— Вы, судя по всему, вовремя уезжаете.
— Не знаю… Я к этому очень противоречиво отношусь. Буду скучать по этой стране. По своему дому. По жизни на реке. На этой реке… — Он тоскливо оглядел приветливый извилистый Северн, теперь окрасившийся в глубокий алый в умирающем свете солнца. Река бежала мимо паба в своем неспешном бесконечном странствии от дома-мельницы Бенджамина в сорока милях отсюда. — Всю жизнь я хотел жить на реке.
— У них там во Франции они тоже теперь есть, — сказала Дженнифер. — Я про это в газете читала на днях.
Бенджамин порадовался, что она опять шутит. Дженнифер улыбнулась ему и взяла его за руку. Так они шли по тропе несколько минут. А затем он обнял ее за плечи, она прижалась к нему. Так даже лучше. Это придало ему необходимой смелости.
— Я тебе еще кое-что хотел сказать, — начал он.
Она посмотрела на него вопросительно. Глаза заблестели.
— Да?
— Хотел тебя поблагодарить.
— Поблагодарить? За что?
— За… Ну, за секс.
Вопросительный взгляд сделался оторопелым. Кажется, Бенджамину все еще удавалось ее потрясти.
— Что, прости, пожалуйста?
— Я просто никогда не думал… В моем возрасте я, что ли, перестал надеяться. В смысле, я не то чтобы Колин Фёрт — и в постели я не очень.
Дженнифер хохотала — беззвучно, но долго. А когда вновь посмотрела на Бенджамина, губы у нее дрожали от веселья, и она проговорила:
— Видимо, я могла бы тебя за это наказать — просто согласившись с тобой. Но дело вот в чем: ты бывал в ударе.
— Правда? — Он притянул ее к себе, поцеловал и прошептал на ухо: — Повезло же Роберту. У тебя замечательное тело. Спасибо, что поделилась им со мной.
Они стояли, щека к щеке, прижавшись друг к другу, объятие длилось так долго, что рыбаки, сидевшие в нескольких ярдах от них, запросто сочли бы их супружеской парой, заново открывшей юношескую страсть, а не тем, кем они были на самом деле — парой горестных любовников, прощающихся в последний раз.
Сентябрь 2018-го
— Ну что, — сказала Лоис, — нашла я тебе реку.
И впрямь нашла. Дом стоял на берегу реки Сорг, и пусть этот конкретный водный поток и не имел того же символического значения, как у возлюбленного Северна, и не будил в Бенджамине тех же воспоминаний, Сорг был по-своему обаятелен. Их домом вновь будет мельница. Сколько все себя помнили, именовали ее попросту «Le Vieux Moulin»[121], она пристроилась в излучине реки недалеко от ее истока в Фонтен-де-Воклюз, и так уютно вода держала ее в своих объятиях, что, казалось, мельницу там посадили, а не возвели, чтобы росла она среди ив и магнолий, окружавших ее со всех сторон. Бенджамин и Лоис вступили в права владения в середине августа, и хотя дом был в приличном состоянии, последние три недели выдались занятыми и хлопотными: каждый день являлись рабочие и получали от новых хозяев задания на ломаном французском — задания часто приблизительные. После первой недели стало попроще: прибыли Грета и Лукас. Грета хорошо владела французским и согласилась взять на себя роль экономки. Лукас намеревался поискать работу по соседству, в Авиньоне, а пока был Бенджамину в помощь во многих технических делах, которые тому казались непосильными. Вместе с дочуркой Юстиной им предстояло поселиться в маленьком двухкомнатном домике на территории мельницы, всего в нескольких ярдах от основного здания.
В тот жаркий, душный вечер Лоис обнаружила брата у ржавой железной ограды, отделявшей их террасу от ленивой серо-зеленой реки. Бенджамин опирался на ограду с пивом в руке и производил полное впечатление праздности.
— У тебя передышка? — спросила она с легким оттенком раздражения. Стояла пятница. «Ле Вьё Мулен» должна была принять первых гостей в воскресенье вечером.
— Быстро пива выпить — и всё.
— Еще куча дел.
— Я знаю. Дай мне двадцать минут.
— На верхнем этаже ни в одной комнате по-прежнему нет электричества.
— Наверное, пробки. Разберусь.
— Я собираюсь закончить с заправкой кроватей.
— Окей. Не волнуйся. Я на двадцать минут всего.
Сестра удалилась, и Бенджамин присел за старый кованый стол — стол, который он тащил аж из Шропшира, стол, за многие годы ставший свидетелем стольких бесед родственников и друзей, стольких уединенных часов письма и раздумий. Оставить этот стол в Англии Бенджамин не мог бы. Отпил из стакана, тихо и удовлетворенно вздохнул. Вскинув лицо, ощутил полноту жара послеполуденного солнца. Чудесно. Такого в Средней Англии не перепадает. Бенджамин закрыл глаза и прислушался к реке — та мирно бежала себе мимо. Только успел он раствориться в этой нежной музыке, как его ушей достиг другой, менее баюкающий звук, он делался все громче и громче, — звук автомобиля, приближавшегося по длинной прохладной аллее, засаженной тополями. Вскоре машина вкатилась во двор, остановилась, и из прихожей донесся знакомый голос:
— Есть кто дома?
Софи. Быстро отыскала своего дядю на террасе, они расцеловались, она подошла к загородке, перегнулась через нее, глянула на реку и сказала:
— Ну здорово же?
— Я тебе все покажу через минутку. Выпей давай. Тебе жарко, я гляжу. Долго ехала от Марселя?
— Не ужасно. Часа полтора. В основном по трассе.
— Принесу тебе пива.
Бенджамин с Софи посидели на солнышке несколько минут, наслаждаясь напитками и обмениваясь новостями. Что сестра трудится наверху, Бенджамин забыл.
— Ну как, ты готов к первым ученикам? — спросила она.
— Не вполне. Еще предстоит кое-что сделать. Да и все равно у меня только один ученик.
— Всего один?
— Записываются пока не очень бойко, честно говоря. Видимо, поначалу всегда так должно быть. Уверен, дальше раскачается. Конечно, было б полезно, если бы на открытие явился Лайонел Хэмпшир. Спасибо, кстати, что связалась с ним.
— Он не приедет? Когда мне писал, мне показалось, что он заинтересован.
— О, да он будь здоров заинтересован. Я тебе покажу его письмо.
Бенджамин принес из кухни листок бумаги и вручил его Софи. Она сняла солнечные очки и принялась читать.
Уважаемый мистер Тракаллей!
Мистер Хэмпшир получил Ваше любезное приглашение быть почетным гостем на церемонии открытия Вашей писательской школы, переданное ему Вашей племянницей.
Он желал бы передать свою искреннюю благодарность за это приглашение и в принципе был бы рад участвовать. Как убежденный европеец, он огорчен тем, какую политическую линию избрала в последние два года его страна, и аплодирует жесту англо-французского сотрудничества, воплощенного в открытии Вашей школы.
Мистер Хэмпшир намерен посетить «Ле Вьё Мулен» и пробыть там три или четыре дня в даты около 16 сентября, как и указано в приглашении. Он готов провести единократные чтения своих текстов (продолжительность 45 минут), условия следующие:
— переезд первым классом по железной дороге из Лондона в Авиньон для него и его помощницы (это я);
— трансфер автомобилем из Авиньона до «Ле Вьё Мулен»;
— двухместный номер с видом на реку для него и такой же — для его помощницы;
— полностью обеспеченное питание, в том числе и неограниченные посещения местных ресторанов;
— все книги мистера Хэмпшира должны быть в наличии для продажи ученикам, и франкоязычное, и англоязычное издания; мистер Хэмпшир будет рад подписать их;
— экскурсии в Экс-ан-Прованс и Маноск за счет «Ле Вьё Мулен»;
— гонорар в 10 000 евро, перечислением на счет до выезда.
Если эти условия приемлемы, мистер Хэмпшир готов к визиту и ожидает Вашего скорейшего ответа.
Софи тихонько присвистнула и вернула письмо.
— И что, ты хочешь сказать, что условия оказались неприемлемыми?
— Увы, нет. Лоис, судя по всему, не показалось, что это интересная мысль — просадить весь наш годовой бюджет на один визит знаменитости.
— Не поспоришь. Кстати, о маме — пойду-ка я поздороваюсь. Она здесь?
— Наверху. Скажи ей, что я через несколько минут приду и разберусь с электричеством.
— Хорошо.
Софи уже собралась выполнить это поручение, как из кухни возникла Грета со шваброй и ведром. Они тепло поздоровались — как старые подруги.
— Ах, как прекрасно вы выглядите! — сказала Грета, отстраняясь от Софи на вытянутую руку. — Как никогда.
— Согласен, — сказал Бенджамин. Тут они обе повернулись к нему, и он добавил: — Ты немного набрала вес. Тебе идет.
Софи решила не обратить на эту реплику внимания; Грета спросила:
— Вы не устали от поездки?
— Не очень. А вы как? И Лукас с Юстиной?
— Очень хорошо, все очень хорошо. Кажется, нам тут очень понравится. Они только что уехали в город — в Авиньон, купить кое-что. Краску и всякое прочее. Лукас собирается начать красить сарай.
Со всей этой деятельностью вокруг — Грета мыла террасу, Лукас с Юстиной отправились в экспедицию за покупками, Лоис заправляла кровати, Софи распаковывалась — чудо, что Бенджамин вообще сумел расслабиться. Но, налив себе еще пива и подставив солнцу сомкнутые веки еще на несколько минут, он смог начать погружаться в приятный покой. Уже почти заснул вообще-то, но тут услышал, что по аллее подкатывает еще один автомобиль.
Через две минуты на террасе возникли Чарли и Аника.
— А! — воскликнул Бенджамин, вставая. — Нашли, значит.
— Привет, дружище! — Чарли обнял его. — Ага, запросто. Но от Кале далеко. Убиться как далеко. Зато какое место, а? Совершенно шикарно.
Аника топталась поодаль. Бенджамин пожал ей руку, внезапно оробев. Виделись они до этого всего раз, больше двух лет назад. Теперь она смотрелась куда более зрелой и стала настоящей красавицей.
— Ну, добро пожаловать на «Ле Вьё Мулен», — сказал он им обоим. — Мы вам здесь очень рады. Оставайтесь, сколько захотите.
— Ей во вторник надо быть в Сеговии, — сказал Чарли. — Отсюда, я прикидываю, это пара дней. Но мы останемся до понедельника, если можно.
— Не можно, а нужно. Пошли, дам вам что-нибудь выпить.
Он налил Чарли пива, а Анике — citron pressé[122]. Замечательная это удача, подумал он, что получилось предложить им место передышки в их долгом странствии: она переезжала в Испанию на год учебы, и Чарли решил отвезти ее туда — похоже, просто ради удовольствия побыть в ее обществе пять-шесть дней. Но все равно, судя по их виду, после целого дня пути они устали, и вскоре Бенджамин отправил их наверх, в комнаты.
— Моя сестра где-то наверху, — сказал он. — Не знаю, как она решила вас разместить, придется вам спросить у нее.
Он подумывал, не сходить ли ему в погреб и не проверить ли там электрический щиток, но вот правда, у него еще двадцатиминутный перерыв не кончился. Как ни странно, впрочем, пивной стакан у него опустел, он налил себе еще и вновь устроился у кованого стола. Солнце теперь уже чуть поблекло, и тень от самой большой ивы на речном берегу прокралась на террасу. В этот час дня температура воздуха была идеальная. Уж если Бенджамин и в этих условиях не обретет вдохновения на новую книгу, оно не придет к нему нигде. К счастью, Грета уже домыла террасу, и потоку мыслей Бенджамина больше ничто не мешало — и ничто не нарушало его покоя. Во всяком случае, пока он не услышал, как по тополиной аллее подъезжает очередной автомобиль.
Через несколько минут на террасе возникли еще двое. Клэр Ньюмен, одна из старейших подруг по «Кинг-Уильямс», и ее муж Стефано. Они приехали аж из Лукки, через Ла Специю, Геную, Ниццу, Канны и Экс.
Клэр с Бенджамином не виделись лет пятнадцать. Пригласить ее сюда на открытие Бенджамин решил, повинуясь порыву. «В конце концов, в европейских понятиях мы отныне будем, можно считать, ближайшими соседями», — шутя написал он ей по электронной почте, не ожидая, что этот довод на нее подействует. Но тем не менее вот она. И к тому же в точности такая, какой он ее запомнил: седые волосы подстрижены элегантно коротко, благодаря чему она выглядела моложе — гораздо моложе — и Бенджамина, и Лоис; безупречные скулы, гусиные лапки и смешливые морщины притягивали внимание к открытым и щедрым очертаниям глаз. Бенджамин нежно поцеловал ее в щеку, освободился от крепкого, продолжительного рукопожатия Стефано и ушел в кухню за бутылкой просекко для них. Позвал Лоис спуститься со второго этажа, но она, кажется, не услышала. Он все равно принес четыре бокала, хотя и оставил четвертый пустым, и затем, после того как Клэр, Стефано и Бенджамин чокнулись и пожелали друг другу «Santé!»[123], Клэр вперила в него пытливый взгляд, который был Бенджамину так памятен (и всегда немножко пугал его), и сказала:
— Ну что, Бен, выглядишь ты чудесно, однако вот что мы все хотим понять: что за чертовщина происходит сейчас в Британии? Итальянцы считают, что британцы окончательно спятили.
* * *
Утром Софи обнаружила Анику на берегу реки напротив дома. У Аники на коленях лежал открытый альбом для зарисовок, она как раз завершала прелестный изысканный рисунок старого мельничного колеса и обаятельного нагромождения дворовых построек, окружавших его, сухая каменная кладка светлых стен — в узорах плюща и бугенвиллеи.
— Красиво, — сказала Софи. — Мне говорили, у тебя такое хорошо получается.
— Бывает, да, — проговорила Аника, поглядела на рисунок, склонив голову набок, и про себя постановила, что вышло неплохо.
— У меня может найтись тебе работа, — сказала Софи. — Как думаешь, могла бы ты нарисовать для нас вывеску?
— Какую?
— Нам нужно чем-то заменить вот это. — Софи показала на арку над подъездной аллеей к дому, много лет назад кто-то прибил к ней деревянный прямоугольник, теперь уже обветшавший, со словами «Le Vieux Moulin» поблекшими прописными буквами.
— Правда? По-моему, в этом есть свое… обаяние времени.
— Я не про сам знак. Я про название.
— А что не так с названием?
— «Старая мельница»? Что может быть скучнее, чем название «Старая мельница» у старой мельницы?
— Верно. Придумалось что-то поинтереснее?
— Кажется, да.
Аника наморщила губы.
— Краски подходящие у нас есть? А кисти?
— Скорее всего, нету. Но я все равно хотела съездить сегодня в Марсель. Там наверняка что-то найдется, если ты мне скажешь, что нужно.
— Или я могу с тобой съездить. Прям до зарезу хотела туда. Можно?
— Само собой.
По правде сказать, Софи обрадовалась, что у нее будет компания. Как бы ни настраивалась вновь повидать этот город, позволить себе еще один томительный взгляд на Фриульские острова, она немного страшилась всего этого. А потому, оставив позади прохладу и тишину мельницы, преодолев жаркий и изнурительный полуторачасовой путь по оживленной трассе А55, Софи с облегчением прохлаждалась, потягивая свой напиток на Кур-Жюльен, возвращаясь к энергии большого города, привыкая к шуму и музыке отовсюду, к стенам, испещренным граффити, к детям на скейтах, к рэперам и уличным артистам, к пряному аромату североафриканских специй в воздухе, вспомнив все это и найдя за пятнадцать минут до его закрытия на выходные магазин, торговавший материалами для художников, — Анике хватило времени, чтобы добыть необходимое, — проделав все это, они вдвоем дошли до Старого порта и взбежали на борт наветт, который готов был отчалить, и Аника оказалась рядом очень кстати: с ней можно было разговаривать, показывать на достопримечательности и делиться с ней кое-чем из личной истории Софи с этим городом, не оставаться одной с меланхолическими мыслями о той летней неделе 2012 года и упущенной возможности, которую, как ей до сих пор иногда казалось, этот город воплощал.
— У меня такое чувство, будто я высадилась на Луне, — сказала Аника, пока они брели по бесплодным каменистым просторам Ратонно по дороге на Каланк-де-Моржире, где Софи с Эдамом плавали в лунном свете. Сейчас было пять часов вечера, жарило почти невыносимо. Солнце било в глаза с двух сторон — горело в безупречном блекло-голубом небе и плясало в узорах раздробленного, ослепительного света на поверхности моря.
— Станет отлично, когда мы в воду залезем, — сказала Софи, настоявшая на том, чтобы они обе взяли с собой купальники.
В тот день на пляже было полно отдыхающих. Войдя в воду, Софи направилась, как и в прошлый раз, к выходу из бухты, к самому дальнему ее краю, на глубину, а затем энергично поплавала туда и сюда от одной скальной стенки к другой. Аника — как и Эдам в свое время — осталась на мелководье, сидела в воде, просто наслаждаясь прохладой и, в общем, не пытаясь плавать. Потом они брели прихотливой тропой к гребню высоко над пляжем, и Софи узнала тот широкий плоский камень, на котором они с Эдамом сидели и разговаривали. Здесь они и устроились отдохнуть. Софи сидела выпрямившись, обняв колени, Аника вытянулась на камне во весь рост, прикрыв глаза от яростного солнца.
— Я к такому свету не привыкла, — проговорила она. — Но вполне смогу. Надеюсь, так же будет и в Испании. Но если вырос в Бирмингеме и последние два года провел в Глазго, такого солнца многовато. Воображаю, каково это — жить с таким светом все время. Хоть можно увидеть мир на самом деле, а не угадывать его в сером тумане от случая к случаю.
— Очень тебя понимаю, — сказала Софи. — И тем не менее я на следующей неделе переезжаю на северо-восток. Где свет серее некуда и мало кто лезет в Северное море, чтобы остудиться.
— Не очень-то ты воодушевлена, по-моему, — отозвалась Аника, ненадолго отнимая ладонь от глаз, чтобы оценить выражение лица Софи. — Чего это тебя туда несет?
— Новая работа, — ответила Софи. — Муж моего лучшего друга основал благотворительную организацию. Открывает новый колледж, пригласил меня завучем. Заниматься расписаниями, планировать порядок преподавания, все координировать. Замечательная возможность на самом деле. Меня очень прет.
— Ну, тогда хорошо, — сказала Аника. — И, кроме того, ты уже кого-то там знаешь. Не будет одиноко.
Софи улыбнулась:
— Я в любом случае буду там не одна. Муж переезжает со мной. Он в эти выходные пакует наши вещи. Поэтому и не смог приехать.
— Какое самопожертвование с его стороны, — сказала Аника. — Хороший парень, наверное.
— Да, — сказала Софи, — хороший парень.
Простая констатация факта — да и нетрудная, и Софи знала, что ее задача на ближайшие годы — возможно, и дольше, гораздо дольше, но оборот «до конца моих дней» ее слишком пугал — привыкнуть к этому факту, принять его, допустить, что его ей достаточно. За последние несколько месяцев после ее необъявленного прибытия в его квартиру тем вечером и последовавшего примирения эта задача оказалась довольно простой. Останется ли все так же — кто знает? Но пока она чувствовала, что ей нужно этому довериться.
— У него там тоже работа есть? — спросила Аника.
— Пока нет, — ответила Софи. — Может, снова начнет давать уроки вождения. Это его ремесло — водить.
— Кто-то же должен этим заниматься.
— Но пока дел у него будет навалом.
Она посмотрела на Анику и ощутила внезапный порыв сказать больше, поделиться. Сегодня Софи чувствовала удивительную близость к этой дружелюбной, сдержанной и явно очень талантливой женщине, ставшей ей неожиданной спутницей в этом сентиментальном путешествии-капризе. Как легко было б — и как освобождающе — излить душу такому вот человеку, сочувствующему постороннему, кого после этих выходных Софи, возможно, больше никогда не увидит.
Но ей удалось устоять перед этим порывом и держаться исходного решения: поделиться тайной только с матерью и пока больше ни с кем.
* * *
Ближе к вечеру в воскресенье произошло судьбоносное прибытие: на «Ле Вьё Мулен» появился первый ученик Бенджамина.
Александр, невысокий серьезный молодой человек, приехал поездом аж из Страсбурга. Лоис поздоровалась с ним, он нервно улыбнулся и растерянно понаблюдал за лихорадочными финальными хлопотами: Лукас тащит три доски через прихожую, Софи и Клэр на четвереньках в кухне, красят плинтус. Лоис увела его подальше от этих красноречивых недоделок, гостеприимно показала его комнату и пригласила на общий ужин в девять вечера.
Итого их теперь стало десятеро, и с началом сумерек все расселись вокруг продолговатого дубового стола на второй террасе, попросторнее, с видом на реку. Над столом виноградные лозы переплетались с лавандовым и огненным кампсисом, тугими петлями обвивали кровлю древней беседки. Лоис, Грета и Бенджамин приготовили громадные плошки салата нисуаз, далее последовали горячие кастрюли рататуя со свежими провансальскими кабачками и баклажанами. Запасы красного вина тоже, казалось, неисчерпаемы. Были потом и калиссоны, и «тарт тропезьен», а следом и десертные вина с сыром, и кофе для желающих, и бренди, и коньяк, и даже пастис — тем, кто хотел продолжать пить, и все это в таком изобилии, что конца трапезе не было видно далеко за полночь.
Когда разговоры сделались беспорядочнее и приглушеннее, а свечи на столе и на стенах почти прогорели, Клэр повернулась к Александру и спросила:
— Так чему же вы надеетесь научиться здесь за неделю?
Александр, непривычный к незнакомым людям, вел себя весь вечер тише всех, но теперь откашлялся и сказал:
— Я привез с собой подборку рассказов — неопубликованных, конечно, — и надеюсь, что мистер Тракаллей сможет прочитать их и посоветовать, как их улучшить. Для меня честь услышать мнение автора «Розы без единого шипа». Или «Rose sans épine», как она называется во Франции.
— Прекрасная книга, правда? — сказала Лоис.
— Больше всего в книге вашего брата меня трогает, — отозвался Александр, осторожно подбирая слова, — что она дает почувствовать безнадежность жизни, построенной целиком на промахах. Для меня это история человека, промахнувшегося в своей жизни во всем, и потому все свои грёзы о счастье он сводит к этой единственной женщине, к этому любовному увлечению, а оказывается, что это самый большой промах. Это жизнь, в которой нет никаких достижений, никакого знания себя, а потому в конечном счете никакой надежды.
Когда эта речь завершилась, на стол низошла краткая, но бездонная тишина. Кто-то из гостей нервно хохотнул.
— Простите, — проговорил Александр, — я сказал что-то смешное? Английский у меня не годится?
— Английский у вас безупречный, — сказала Клэр. — Вы просто дали самую безжалостную оценку жизни Бенджамина из всех, какие ему, вероятно, доводилось слышать.
— О, но я не хотел…
Молчание воцарилось вновь, но на сей раз его прервал сам Бенджамин:
— Вот сижу я в этом изумительном месте, — сказал он, — в вашей компании, ребята, и мне трудно счесть свою жизнь промахом. Более того… — Он шатко встал на ноги. — Думаю, тут будет уместен тост.
Лоис и Клэр спрятали лица в ладонях. Бенджамин пил уже несколько часов подряд и, если судить по его виду, уже не был способен связно рассуждать о чем бы то ни было. Впрочем, остановить его не представлялось возможным.
— Одним прекрасным сентябрьским вечером шестеро англичан, — начал он, — двое литовцев, француз и итальянец отужинали вместе. Как ни печально, это не зачин для анекдота. А жаль. И это не начало моего нового романа. Тоже жаль. Если честно, жаль, что у меня нет нового романа, для которого эта фраза была бы началом. Но что она воплощает — если вообще воплощает, что она символизирует, скажем так…
— Мы поняли, — сказала Клэр, когда стало, в целом, ясно, что Бенджамин запнулся и застрял. — Чудесный пример европейской гармонизации.
— Именно, — проговорил Бенджамин, стукнув кулаком по столу, чтобы подчеркнуть свою мысль. — Именно это я и пытаюсь сказать. Не найти более вдохновляющей, более мощной… метафоры… духа сотрудничества — международного сотрудничества, — что побеждает все, что всегда побеждал — и должен был победить, если… если бы мы как нация не совершили этот… прискорбный, но понятный — в некотором смысле понятный…
— Сядь и заткнись, — встряла Лоис.
— Нет, — воспротивился Бенджамин. — Мне есть что сказать.
— Тогда будь любезен, скажи покороче?
— Краткость, — сказал Бенджамин, — английская болезнь.
— Ну, ты, судя по всему, излечился и полностью выздоровел, — заметила Клэр.
— Ладно. Могу сказать то, что хочу, двумя словами. — Бенджамин примолк и оглядел круг внимательных лиц. А затем с воинственным торжеством произнес: — На хуй Брекзит! — После чего сел под аплодисменты.
— Правда? — переспросил Стефано, коротко поразмыслив. — Здесь шестеро англичан, и ни один не голосовал за Выход? Не очень репрезентативная выборка.
— Я едва не проголосовал так, — признался Чарли, сидевший рядом с ним. — До того мне тогда было фигово, что я так чуть не поступил — лишь бы врезать Кэмерону по яйцам. Мы с Бенджамином виделись на той неделе. Он знает, как у меня все было наперекосяк. Без денег, спал в машине. Кэмерон и эта его ебаная жесткая экономия. Но решил, что так свою точку зрения заявлять глупо. И близко не так приятно, как съездить ему по физиономии, если б мне выпала такая возможность. — Стефано уже начал посматривать на Чарли с опаской и слегка отстраняться от него. — Ой, нет, не поймите неправильно, — проговорил Чарли. — Я не буйный. В смысле, был когда-то, но тюрьма из меня это вышибла.
На вид Стефано увереннее не сделался и сказал лишь:
— Конечно. Понимаю.
— Кэмерон — все равно лишь часть всей истории, — продолжил Чарли. — Как я себе это вижу, в Британии все поменялось в мае 1979-го. Сорок лет прошло, а мы все еще расхлебываем. Понимаете, мы с Бенджамином — дети семидесятых. Мы тогда были детьми, но в том мире мы выросли. Государство всеобщего благоденствия, НСЗ. Все наладилось после войны. А с семьдесят девятого разваливается. Разваливается до сих пор. Такая вот настоящая история. Не знаю, симптом ли Брекзит или он просто чтобы отвлечь внимание. Но процесс, в общем, уже почти завершен. Скоро ничего не останется.
На другом конце стола заговорила Аника:
— Не хочу я обратно в семидесятые, нет уж, нет уж.
— Не поспоришь, — согласился Чарли. — Для таких людей, как ты, то десятилетие — барахло. Но попробуй представить, что в нем было хорошего. Такого, что теперь утрачено. Что-то громадное.
Тут встряла Клэр и заспорила с толкованием истории, которое предложил Чарли, — заметила, что в десятилетие, которое он стремится идеализировать, случилась рекордная инфляция, экономическая нестабильность и непорядки в промышленной среде. Беседа между четверыми англичанами средних лет сделалась накаленной, захватила Брекзит, Доналда Трампа, Сирию, Северную Корею, Владимира Путина, фейсбук, иммиграцию, Эммануэля Макрона, «Движение пяти звезд»[124] и возмутительные результаты «Евровидения» шестьдесят восьмого года[125]. Всем за столом нашлось что сказать (во всяком случае, как это запомнилось Бенджамину), но народ все же начал потихоньку расходиться спать. Оставшиеся выпили еще вина и перестали следить за очень поздним временем, пока наконец не остались лишь Бенджамин и Чарли. И Чарли почти спал.
— Слушай, — проговорил Бенджамин. — Хочу поставить тебе песню.
— А? — отозвался Чарли, медленно открывая глаза.
— Ты вот говорил сегодня — про мир, в котором мы жили в детстве, про то, что его больше нет. У меня песня есть. Она вся об этом.
— Ладно. Включай.
— Сейчас схожу за айподом.
Найти в спальне айпод удалось легко, переносную колонку — труднее, а вот батарейки для переносной колонки — почти невозможно. Когда минут через десять Бенджамин вернулся к столу, Чарли там уже не было.
— Ой, — сказал Бенджамин вслух. Сел за стол, хлебнул вина и огляделся. Где все?
Тишина. Нарушал эту тишину лишь плеск скользившей мимо воды. Бенджамин посидел, послушал ее несколько минут. Звук был странный, не такой, к какому он привык. Чужой. Французская река. Бенджамин ощутил болезненный припадок тоски по дому — и по стране, в которой он вырос, и по стране, которую оставил, хотя эти две страны — совсем-совсем не одно и то же.
Включил колонку на полную громкость и нажал на «плей», и вскоре в ночи зазвучал призрачный, зычный голос Шёрли Коллинз — она пела балладу, которую Бенджамин не решался слушать со дня материных похорон.
Старой Англии след уж простыл,
Сотни фунтов, прощайте навек,
Если б кончился мир, пока молод я был,
Своих горестей я бы избег.
Отхлебнул напоследок вина, хоть и понимал, что сегодня выпил слишком много и пора бы уже трезветь.
Было время, бренди и ром
Я пивал, каких мало кто пьет,
Нынче рад родниковой воде,
Что из города в город течет.
Прослушав этот куплет, он вспомнил маму, как она сидела, выпрямившись, в постели, смотрела в серое небо за окном спальни и слабым голосом пыталась подпевать. И вновь он спросил себя: узнала ли она эту музыку? По каким-нибудь детским воспоминаниям?
Бывало, я ел добрый хлеб,
Добрый хлеб из доброй муки,
Нынче черствой да затхлой корке я рад,
Рад, что есть хоть такие куски.
А затем он подумал об отце, об ужасной смерти его, о той странной поездке на старый Лонгбриджский завод в разгар зимы, об отцовой горечи, об обиде, что разъедала его в те последние месяцы, а затем о дне, когда они с Лоис развеяли прах родителей с вершины холма. Бикон-Хилл в начале осени…
Бывало, на доброй постели,
На пуху доводилось мне спать,
Нынче я рад и чистой соломе,
Не на хладной земле бы лежать.
Бикон-Хилл. Пейзаж детства. Санки зимой. Прогулки по лесу воскресным вечером, мамина рука в перчатке крепко держит его руку. Бежать вперед по тропе среди деревьев, спрятаться и поджидать родителей в диковинном полом кусте рододендрона у дорожки, в этом кусте было как в домике хоббита, как в пещере троглодита. Рядом на корточках таилась Лоис. Всегда Лоис, Пол — никогда.
Бывало, катался в коляске,
Прислуга со мною всегда,
Нынче в темнице, в крепкой темнице,
Не знаю, деваться куда.
Хватит ли им с Лоис друг друга здесь? Проживут ли они вместе десять лет, двадцать? Бенджамин всегда считал, что постареет и умрет дома, что жизнь его неизбежно завершится возвращением в страну его детства. Но он уже начал наконец понимать, что это место существует лишь в его воображении.
Старой Англии след уж простыл,
Сотни фунтов, прощайте навек,
Если б кончился мир, пока молод я был,
Я б напастей не ведал своих.
Дозвучала заключительная строфа, последнее эхо уплыло за неторопливые воды, и Бенджамин услышал, как открываются ставни. Поднял взгляд и увидел, что на него со второго этажа своего домика смотрит Грета.
— Очень хорошая песня, — сказала она. — Поется так, как я чувствую. — Бенджамин промолчал, просто кивнул смутно — и здороваясь, и соглашаясь. — Можно дальше без музыки, пожалуйста? Мы хотим поспать.
Ставни закрылись. Бенджамин выключил айпод и колонку и закрыл глаза.
Следом он почувствовал, что над ним нависает Лоис. Уже было не так темно. Сколько он проспал, Бенджамин не понял.
— Знаю-знаю, — проговорил он. — Иду в постель.
— Я пришла тебя будить, — сказала Лоис. — Проводить Софи. Она скоро уезжает в аэропорт.
Он пошел за сестрой в кухню, она уже сварила кофе.
— Ты всю ночь не спал? — спросила она.
— Кажется.
— Довольно глупо. У тебя через несколько часов занятие с Александром.
— Я про это подумал, — сказал Бенджамин, выхлебав чашку жизненно необходимого эспрессо. — Не могу я читать его рассказы.
— Почему?
— Они на французском.
Лоис уставилась на него. И тут на пороге возникла Софи с чемоданом.
— Позже потолкуем, — зловеще проговорила Лоис.
* * *
Бенджамин тихонько отворил входную дверь, и они втроем вышли во двор. Уже появились первые проблески рассвета. К плеску реки начали примешиваться крошечные обрывки птичьих трелей. Но громче всех были их шаги по подъездной аллее и рокот чемодана на колесиках, который тащил Бенджамин. Машина Софи стояла в маленьком закутке чуть подальше по аллее, примерно в двадцати ярдах после арки.
Перед тем как они миновали саму арку, Софи остановила их и сказала:
— Вы же новую вывеску еще не видели, да?
— Какую новую вывеску?
— Мы с Аникой приготовили вам маленький подарок. И переименовали вам дом. Надеюсь, вы не против.
— Переименовали? — спросила Лоис. — Зачем? Что плохого в «Старой мельнице»?
— Ничего, — ответила Софи. — Я просто придумала кое-что получше.
Бенджамин с Лоис настороженно прошли под аркой и обернулись посмотреть, что имеет в виду Софи. Света было ровно столько, чтобы прочесть надпись, и, разглядев ее, Лоис громко охнула. Бенджамин же просто расплылся в улыбке — широкой, гордой, неторопливой — и сжал племяннице руку.
— Нравится? — спросила она.
— То, что надо, — сказала Лоис.
— То, что надо, — согласился Бенджамин.
Аника превзошла саму себя. Каллиграфия получилась смелая, броская и обманчиво простая на первый взгляд. Но стоило приглядеться, как проявлялась поразительная проработка деталей — смена текстур, намек на трехмерную перспективу и тонкие оттенки цвета в каждой отдельной букве. Все вместе эти буквы читались так:
Бенджамин и Лоис молча разглядывали вывеску. Так же молча Лоис протянула руку и обняла брата за талию. Бенджамин прижался к сестре. Птицы пели все громче. Все больше солнечных лучей сквозило между деревьями.
— Пошли, — проговорила Софи, — не хочу опаздывать.
Они проводили ее до машины, погрузили чемодан в багажник и расцеловались на прощанье.
— Береги себя, сокровище, — сказала Лоис. — И передавай большущие приветы Иэну. Будьте осторожны оба на ледяном севере. Там драконы.
— Чушь какая, — сказала Софи, крепко обнимая маму.
— Спасибо за все, — сказал Бенджамин. — Приезжай скорее еще. Пожалуйста. И не сбрасывай вес, какой набрала. Тебе идет.
Машина Софи покатилась вдоль долгой тополиной аллеи, Лоис повернулась к брату и сказала:
— Ты действительно такой бестолковый или просто прикидываешься?
— В каком смысле?
— Софи не набрала вес. Она беременна.
Бенджамин разинул рот.
— Что?
— Почти три месяца.
Он обернулся и посмотрел вслед автомобилю, все еще не вернув себе дар речи.
— У нее в конце марта. Двадцать девятого.
Когда эта новость завладела усталым мутным сознанием Бенджамина, сердце у него заколотилось, а душа взлетела к седьмому небу, Бенджамин вскинул руку и принялся быстро и лихорадочно махать вслед удалявшейся машине. Но племянница назад не смотрела. Взгляд ее вперялся в дорогу впереди, она поддавала скорости, катясь по аллее, одна рука на руле, вторая — на округлившемся животе: тут пока обитает осторожная вера Софи и Иэна в их неоднозначное, непостижимое будущее — их прекрасное дитя Брекзита.
Многие персонажи этой книги — из моего романа «Клуб Ракалий», у которого есть продолжение, оно называется «Круг замкнулся». Я много лет не собирался развивать этот цикл, но в 2016 году произошли два события, из-за которых я передумал.
Во-первых, я посмотрел прекрасную сценическую постановку «Клуба Ракалий» Ричарда Кэмерона в «Бирмингем Реп». Взгляд Ричарда на эту книгу и великолепная игра молодого актерского состава помогли мне увидеть, что у романа есть ключевая деталь, которую сам я прежде не замечал и совершенно точно не развивал в романе «Круг замкнулся», а именно любовь между Бенджамином Тракаллеем и его сестрой Лоис.
Во-вторых, писательница Элис Эдамз в своем интервью в интернете так тепло отозвалась о романе «Круг замкнулся», что мне настоятельно захотелось с ней поговорить. Я никогда не считал эту книгу выдающейся, а потому меня заинтриговало, почему Элис числит ее среди своих любимых. Мы списались, а затем встретились, и ее увлеченность «Кругом…» убедила меня еще разок навестить тех забытых героев. В то же время я обсуждал со своим редактором Мэри Маунт в издательстве «Пенгуин» возможность романа, основанного на событиях вокруг референдума по Брекзиту, и я вскоре почувствовал, что к этой теме способен подойти, лишь воскресив — и расширив — состав персонажей «Клуба Ракалий».
Следовательно, все эти люди сыграли решающую роль в рождении этого романа. Хотелось бы также поблагодарить Фиону Файлэн (за полезные сведения о работе инструкторов по безопасному вождению), Ралфа Пайта, Пола Дэйнтри и Кэролайн Хеннигэн (они стали для этой книги ободряющими читателями, когда она была написана всего наполовину), Шарлотт Стретч (она была одной из первых и лучших читательниц окончательного варианта, не говоря уже о многих годах участия и дружбы), Эндрю Ходжкисса, Роберта Коу и Джули Коу (за то, что обеспечили меня уединенными убежищами для письма) и — за разнообразную помощь и вдохновение — Стива Суоннелла, Анику Мунир, Ванессу Гиньери, Мишель О’Лири, Майкла Сингера, Питера Картрайта, Кэтрин Пауст, Эндрю Брюэртона, Энн Филипп Бессон, Джулию Джордан, Филлиппа Оклера и Джудит Хоули.
В конце 2016 года на аукционе в пользу благотворительной организации «Свобода от пыток» Эмили Шэмма выкупила лот, по которому ей в книге полагался персонаж, названный в ее честь, и Сэмюэл Мортон из «Свободы от пыток» позднее послал мне сообщение, в котором изложено происхождение имени Эмили. Я благодарен Эмили за эту покупку — и за то, что у нее такое интересное имя; надеюсь, ей понравится, как я с ним обошелся.
Многие детали глав девятой и десятой взяты из книги «Озверевшие толпы и англичане? Мифы и реальность беспорядков 2011 года» Клиффа Скотта и Стива Райхера («Mad Mobs and Englishmen?: Myths and Realities of the 2011 Riots», Cliff Stott, Steve Reicher, издательство «Robinson», 2011).
Часть «Веселая Англия» была преимущественно сочинена в Марселе во время творческого отпуска, оплаченного литературной организацией «Ла Марей». Хотелось бы поблагодарить Паскаля Журдана за приглашение меня в этот город и за дальнейшую дружбу, а также Фанни Помаред за столь уютное и гостеприимное место, где я написал те первые главы.
И наконец — но не в последнюю очередь, — моя благодарность Тони Пику, моему агенту последние почти тридцать лет, дорогому другу все эти годы, великолепному читателю и критику, человеку щедрому во всех отношениях, без чьей неизменной приверженности и поддержки этой книги — и большинства других моих книг — и не существовало бы.
1
Иэн Джек (р. 1945) — британский журналист и писатель, редактор «Индепендент он санди» и литературного журнала «Гранта», ныне постоянно пишет для «Гардиан». — Здесь и далее примеч. перев.
2
Национальный трест (осн. в 1895) — британская организация по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест, финансируется за счет частных пожертвований и небольших государственных ассигнований.
3
Габриель Форе (1845–1924) — французский композитор, органист, педагог, дирижер.
4
Джеймз Гордон Браун (р. 1951) — британский политик шотландского происхождения, лейборист, 74-й премьер-министр Великобритании (2007–2010).
5
A(ktiebolaget) Ga(sackumulator) — фирменное название чугунной кухонной плиты компании «Глинуэд груп сервисез»; производилась в Швеции с 1922 г., в Британии — с 1929-го, обрела большую популярность у англичан из верхушки среднего класса.
6
Название первой главы повести английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» (1937), пер. Н. Рахмановой.
7
Парафраз названия романа британского писателя и политика Джеффри Арчера (р. 1940) «Ни пенсом больше, ни пенсом меньше» (1976, пер. Ю. Бондаренко).
8
Графства, прилегающие к Лондону (Мидлсекс, Эссекс, Кент, Суррей; иногда к ближним графствам относят Хартфордшир и Суссекс).
9
Джон Констебл (1776–1837) — английский художник-романтик, особенно известен идиллическими пейзажами Саффолка, своей малой родины.
10
«XTC» (1972–2006) — британская арт-рок- и постпанк-группа. Уилсон Пикетт (1941–2006) — афроамериканский ритм-энд-блюзовый музыкант, мастер соул- и фанк-вокала 1960-х. Рейф Вон Уильямс (1872–1958) — английский композитор, автор опер, балетов, камерной музыки, светских и религиозных вокальных произведений; находился под сильным влиянием музыки эпохи Тюдоров и английского фолка, его работа обеспечила британской музыке отрыв от главенствовавшего в европейской музыке немецкого стиля XIX в. «Van der Graaf Generator» (с 1967) — британская прогрессив-рок-группа. Стив Суоллоу (р. 1940) — американский джазовый басист и композитор. «Steely Dan» (1972–1981, 1993 — н. вр.) — американская софт-, джаз-, яхт-роковая группа. «Stackridge» (1969–1976, 1999–2015) — британская фолк-, прогрессив-, психоделик-рок-группа. «Soft Machine» (с 1966) — британская джаз-, прогрессив-, психоделик-рок-группа.
11
Джералд Рафаэл Финзи (1901–1956) — британский композитор, наиболее известен своими хоралами, но писал и оркестровую музыку.
12
Институт искусства Кортоулда (в русскоязычных источниках Курто, осн. в 1932) — институт истории искусства в составе Лондонского университета; имеет собственную художественную галерею.
13
«The New Statesman» (с 1913) — лондонский еженедельный культурно-политический журнал. «Times Literary Supplement» (с 1902) — еженедельное лондонское литературное обозрение; первоначально было литературным приложением к газете «Таймс», но с 1914 г. публикуется самостоятельно.
14
Партия независимости Соединенного Королевства.
15
Речь о Дэвиде Уильяме Доналде Кэмероне (р. 1966), лидере Консервативной партии (2005–2016), 75-м премьер-министре Соединенного Королевства (2010–2016), и сэре Николасе Уильямсе Питере Клегге (р. 1967), лидере либеральных демократов (с 2007), кандидате от партии на должность премьер-министра на парламентских выборах 2010 г.
16
При резиденции премьер-министра Великобритании (Даунинг-стрит, 10) в 1736 г. обустроили розарий; в нем состоялась первая пресс-конференция коалиционного правительства Кэмерона и Клегга.
17
6 мая 2010 года состоялись очередные парламентские выборы в Великобритании, в результате которых впервые после Второй мировой войны и правительства Черчилля сформировалось коалиционное правительство.
18
Пер. названия О. Сороки.
19
Эрик Моркам (Джон Эрик Бартоломью, 1926–1984) и Эрни Уайз (Эрнест Уайзмен, 1925–1999) — английский комический дуэт (1941–1984), работавший в оперетте, на радио, в кино и на телевидении, стал знаменательной частью британской поп-культуры.
20
«The Sunday Times» — самая крупнотиражная британская общенациональная воскресная газета в категории «качественной прессы», издается с 1821 г., выражает умеренно консервативные взгляды. «The Observer» — старейшая воскресная газета в мире (издается с 1791), британский общенациональный еженедельник с умеренно либеральной позицией, обычно выражает социал-демократические взгляды.
21
«Stuff» (с 1999) — британский журнал, освещающий новости мира потребительской электроники и технологий будущего, адресован в первую очередь мужской аудитории.
22
Студии в Илинге — старейшая непрерывно работающая киностудия в мире; немое кино в Илинге снимали с 1902 г., звуковое — с 1931-го. С 1955-го по 1995-й студией владела Би-би-си.
23
«Практический идеализм» (нем.).
24
«Back to Black» (2006) — второй, и последний, студийный альбом британской певицы и автора песен Эми Уайнхаус (1983–2011); «Tears Dry on Their Own» — седьмая композиция альбома.
25
Это сообщение, разосланное в воскресенье 7 августа 2011 года, действительно получило вирусное распространение среди лондонских подростков.
26
«Би-би-эм» — «Блэкберри Мессенджер».
27
Двадцатилетний Марк Даггэн был смертельно ранен полицией в Тоттенхэме, Северный Лондон, 4 августа 2011 г.
28
Пять нулей — полицейские (жарг.); от названия американского полицейского телесериала «Гавайи 5–0» (1968–1980).
29
Дама Марина Сара Уорнер (р. 1946) — британская писательница, историк и мифограф, профессор Лондонского университета, член Британской академии, президент Королевского литературного общества.
30
Джон Инок Пауэлл (1912–1998) — британский политик, филолог-классик, лингвист. Член парламента от Консервативной партии (1950–1974) и от Ольстерской юнионистской партии (1974–1987), министр здравоохранения Великобритании (1960–1963). Большую известность ему принесла произнесенная в 1968 г. в Манчестере резонансная речь о проблемах иммиграции («Реки крови») — из-за нее он был отставлен с поста министра обороны в теневом кабинете Эдварда Хита.
31
Дороти Миллер Ричардсон (1873–1957) — британская писательница и журналистка из ранних модернистов, использовала поток сознания как повествовательный прием.
32
В Великобритании Слоани, или Слоан (от Слоан-сквер в Челси), — стереотипические представители молодежи из верхушки среднего класса, ведущие шикарный образ жизни. Ныне люди из этой категории распространены в Лондоне шире, чем прежде, но считается, что в основном они попадаются на Кингз-роуд, Кензингтон-Хай-стрит, Фулэм-роуд и в других кварталах Кензингтона, Челси и Фулэма.
33
Дама Шёрли Вероника Бэсси (р. 1937) — британская джазовая и блюзовая певица, исполнила песни к трем фильмам о Джеймсе Бонде: «Голдфингер» (1964), «Бриллианты навсегда» (1971) и «Мунрэйкер» (1979).
34
«Can’t Get You Out of My Head» — песня из восьмого студийного альбома Кайли Миноуг «Fever» (2000).
35
«I’m Still Standing» — песня с семнадцатого студийного альбома «Too Low for Zero» (1983) Элтона Джона.
36
Старый порт (фр.).
37
Четырнадцатый ежегодный семинар Александра Дюма (фр.).
38
Зал Фернана Пуйона (фр.). Фернан Пуйон (1912–1986) — французский архитектор, градостроитель, писатель.
39
Уильям Хенри Пауэлл (1823–1879) — американский художник; портрет, о котором идет речь, Пауэлл написал в гостях у Дюма в 1855 г.
40
«Карл VII среди своих крупных вассалов» (фр.) — пьеса А. Дюма (1831).
41
Дарьюс Мийо (1892–1974) — французский композитор, дирижер, музыкальный критик, педагог, один из самых плодовитых композиторов XX в.
42
Скотт Брэдли (1891–1977) — американский композитор, пианист, аранжировщик и дирижер. «The Two Mouseketeers» (1952) — короткометражный мультипликационный фильм Уильяма Ханны и Джозефа Барберы.
43
«Лучистый город» (фр.), строился с 1947 по 1952 г.
44
Джон Хардкасл Долтон Мэдин (1924–2012) — британский архитектор и градостроитель, автор проектов многих зданий в Бирмингеме.
45
Заточение как метафора психологического паралича (фр.).
46
Морской челнок (фр.).
47
Артюр Онеггер (1892–1955) — швейцарско-французский композитор и музыкальный критик.
48
Дэниэл Бойл (р. 1956) — британский режиссер кино и театра, продюсер, сценарист; сценарий церемонии открытия Олимпийских игр-2012 был заказан ему.
49
«God Save the Queen» — сингл 1977 г. британской панк-рок-группы «Секс Пистолз», выпущен к серебряному юбилею Елизаветы II. «Eastenders» (с 1985) — одна из самых популярных и живучих британских мыльных опер, посвящена повседневной жизни простых людей в вымышленном районе Восточного Лондона Уолфорде.
50
«Иерусалим» («На этот горный склон крутой», пер. С. Маршака) — стихотворение Уильяма Блейка из предисловия к его эпической поэме «Мильтон» (1804); в 1916 г. его положил на музыку композитор Хьюберт Пэрри, стихотворение обрело известность как гимн «Иерусалим» и стало неофициальным гимном Англии.
51
«Пандемониум, 1660–1886. Пришествие Машины как его видели современники» (1985) — сборник наблюдений современников Промышленной революции за тем, как она возникла и развивалась в Великобритании. Сборник составил британский кинодокументалист Хамфри Дженнингз (1907–1950), книга издана посмертно; название заимствовано из «Потерянного рая» Джона Мильтона: в первой части поэмы идет речь о сатанинском городе Пандемониуме (по пер. А. Штейнберга).
52
Холм св. Михаила (Гластонбери Тор) — естественное возвышение с вырубленными в склонах уступами, значимое место в кельтской мифологии, связанное с легендами о короле Артуре, часть культурного наследия Великобритании.
53
Строка из государственного гимна Соединенного Королевства «Боже, храни королеву».
54
«The Spy Who Loved Me» (1977) — десятый фильм «бондианы», где Бонда в третий раз сыграл Роджер Мур.
55
«Tubular Bells» (1973) — композиция с одноименного дебютного альбома британского композитора и музыканта-мультиинструменталиста Майкла (Майка) Гордона Олдфилда (р. 1953); альбом состоит из двух почти полностью инструментальных композиций по 20 минут каждая; почти все партии исполнил сам Олдфилд.
56
НСЗ — Национальная служба здравоохранения Великобритании.
57
«Motown Records» (с 1959) — американская звукозаписывающая компания, ныне в составе «Universal Music Group», изначально специализировалась на продвижении чернокожих исполнителей из мировой поп-музыки; в 1960-е гг. сложилось особое направление ритм-энд-блюза — так называемое мотаунское звучание.
58
Густав Теодор Холст (1874–1934) — британский композитор, аранжировщик и музыкальный педагог, наиболее известен своей симфонической сюитой «Планеты» (1914–1916); «Марс, вестник войны» — первая часть этой сюиты.
59
Сэр Саймон Денис Рэттл (р. 1955) — британский дирижер, в разное время руководил Борнмутским, Бирмингемским, Берлинским, Лондонским симфоническими оркестрами.
60
«Chariots of Fire» — композиция греческого композитора Вангелиса (Эвангелос Одиссеас Папатанасиу, р. 1943) из одноименной британской спортивной драмы (1981) Хью Хадсона.
61
«Frankie and June say… thanks Tim!»; эта часть сценария — оммаж британской поп-культуре начиная с 1960-х; происходящее на арене сопровождается музыкой из культовых британских кинофильмов того времени, далее следует танцевальная композиция под попурри из британской популярной музыки разных десятилетий. Фрэнки — из названия «Frankie Goes to Hollywood» (FGTH, 1980–1987, 2004–2007), британской дэнс-поп-, синт-поп-, нью-уэйв-группы; Джун — главная героиня британской полуфантастической любовной драмы «Вопрос жизни и смерти» (1946; в российском прокате «Лестница в небо») Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера. «Плетеный человек» (1973) — британский фильм ужасов, реж. Робин Харди. О том, кто такой Тим, см. далее по тексту.
62
Дилан Квабена Миллз (р. 1984) — британский музыкант, рэпер, грайм-исполнитель, музыкальный продюсер с нигерийскими и ганскими корнями. Больше известен под сценическим псевдонимом Диззи Раскал (Dizzee Rascal).
63
«Brookside» (1982–2003) — британская мыльная опера, снятая в Ливерпуле, выходила по ночам на Канале 4.
64
Сэр Тимоти Джон Бернерз-Ли (р. 1955) — изобретатель протоколов URI, URL, HTTP, HTML, создатель Всемирной паутины (совместно с Робертом Кайо), действующий глава Консорциума Всемирной паутины.
65
«The Daily Telegraph» (с 1855) — британская ежедневная консервативная и правоцентристская газета.
66
Стэнли Уильям Трейси (1926–2013) — британский джазовый пианист и композитор, последователь Дюка Эллингтона и Телониуса Монка. Энтони Джордж Коу (р. 1934) — британский композитор и джазовый музыкант-мультиинструменталист. Композиция «A Rose Without a Thorn» — из альбома «Stan Tracey Now» (1983).
67
Отсылка к английской колыбельной «Row, Row, Row Your Boat»: «Веди, веди, свою лодку веди / Пусть по реке плывет / Весело, весело, весело, весело / Жизнь, как сон, пройдет».
68
Ийяд эль-Багдади (р. 1977) — писатель, предприниматель, правозащитник, обретший всемирную известность во время Арабской весны, «исламский либерал», выраженный критик и исламского фундаментализма, и гражданских диктатур.
69
Николас Хоксмур (ок. 1661–1736) — английский архитектор, ведущая фигура английского барокко.
70
Мятные конфеты «Поло» британской кондитерской фабрики «Раунтриз» (Йорк) были разработаны в 1939 г., но запущены в производство лишь после войны, в 1947-м.
71
Речь о бирмингемском футбольном клубе «Астон Вилла».
72
Корабль Ее Величества.
73
Долли Ребекка Партон (р. 1946) — американская певица и киноактриса, «королева кантри».
74
«Beau Travail» (1999, в российском прокате «Красивая работа») — кинодрама французского режиссера и сценаристки Клер Дени (р. 1948).
75
«Daily Mail» (с 1896) — британский ежедневный консервативный таблоид, знаменит своей сенсационностью и ненадежностью.
76
Сэр Клифф Ричард (Гарри Роджер Уэбб, р. 1940) — британский поп-музыкант, один из первых британских исполнителей рок-н-ролла.
77
Сэр Джеймс Уилсон Винсент «Джимми» Сэвил (1926–2011) — английский диджей, телеведущий и благотворитель; через год после его смерти полиции стали известны многочисленные сексуальные преступления сэра Сэвила, жертвы — преимущественно несовершеннолетние.
78
Андреас Зигфрид «Эндрю» Сакс (1930–2016) — британский телевизионный и голосовой актер, родом из Германии (его семья переехала в Лондон в 1938 г., спасаясь от нацистов).
79
Политкорректно.
80
Женский институт.
81
«Финляндия» (1899) — симфоническая поэма финского композитора шведского происхождения Юхана Юлиуса Христиана Сибелиуса (1865–1957).
82
«Zulu» (2013) — англоязычный французско-южноафриканский кинодетектив, реж. Жером Салль (р. 1971).
83
Растус — одно из пренебрежительных обозначений чернокожих людей в США, восходит к книгам о Дядюшке Римусе Дж. Ч. Харриса.
84
Королевская шекспировская компания (в ее нынешнем виде существует с 1961 г.).
85
Эдвард Сэмюэл Милибэнд (р. 1969) — британский политик, министр по делам энергетики и изменения климата (2008–2010), лидер Лейбористской партии и парламентской оппозиции (2010–2015).
86
Вестминстерская деревня (Вестминстерский пузырь) — собирательное название людей, имеющих отношение к властным околопарламентским структурам, подразумевающее, до чего «далеки от народа» эти люди.
87
«The London Evening Standard» (или «Evening Standard», с 1827) — бесплатная лондонская газета, выходит по будням. «The Londoner’s Diary» (с 1916) — колонка сплетен в «Ивнинг стэндард», остроумный обзор политических скандалов, литературных склок, закулисных интриг, кинопремьер, модных вечеринок и пр.
88
Сатирическая политическая партия в Великобритании, основанная британским музыкантом Дэвидом Эдвардом «Вопящим Лордом» Сатчем (1940–1999).
89
Партия независимости Соединенного Королевства.
90
С точки зрения вечности (лат.).
91
В двух бирмингемских пабах в центре города — «Малберри Буш» и «Тэвёрн ин зе Таун» — 21 ноября 1974 г. произошли взрывы, погибли 21 человек, ранило 182. Во взрывах обвинили боевиков группы «Красный Флаг 74» Ирландской республиканской армии, но полиция эту версию опровергла.
92
«Ladbrokes Coral Group» (с 1886) — британская букмекерская компания со штаб-квартирой в Лондоне.
93
Херберт Эрнест Бейтс (1905–1974) — британский прозаик и публицист. Лайонел Томас Касуолл Ролт (1910–1974) — плодовитый британский прозаик и биограф.
94
«Went the Day Well?» (1942) — британский фильм о войне, снятый по мотивам рассказа Грэма Грина, реж. Альберто де Алмейда Кавальканти (1897–1982).
95
Сэр Эдуард Уильям Элгар (1857–1934) — британский композитор-романтик, член ордена Заслуг, рыцарь Великого Креста, Мастер королевской музыки (с 1924). Джордж Сентон Кэй Баттеруорт (1885–1916) — британский композитор, известный в первую очередь оркестровой идиллией «Берега зеленых ив» и песнями на стихи А. Э. Хаусмана из сборника «Шропширский парень».
96
Глубинная (глубокая) Франция (фр.).
97
Здесь цит. по пер. С. Маршака.
98
«Hatfield and the North» («Хэтфилд и Север») — британская рок-группа кентерберийской сцены, существовавшая в 1970-е, неоднократно воссоединялась для разовых событий; название группы произошло от дорожного указателя, установленного на шоссе Лондон — Эдинбург. Название первого романа трилогии Джонатана Коу о взрослении воспитанников бирмингемской школы «Кинг-Уильямс» «Клуб Ракалий» — отсылка ко второму студийному альбому «Хэтфилда и Севера» «The Rotters’ Club» (1975).
99
Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (р. 1964) — британский государственный деятель, член палаты общин (с 2015), мэр Лондона (2008–2016), министр иностранных дел Великобритании (2016–2018), член Консервативной партии.
100
Чернокожие, азиаты, этнические меньшинства.
101
Филип Артур Ларкин (1922–1985) — британский поэт, писатель, джазовый критик.
102
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) — веб-приложение, виртуальная система управления обучающими курсами.
103
«The Spectator» (с 1828) — британский еженедельный консервативный журнал, посвященный политике и культуре.
104
Проходные Лонгбриджского завода получили буквенные названия во время Первой мировой войны; у ворот Q собирались репортеры, там их информировали о волнениях рабочих и других заводских новостях.
105
ЛСА-1 и ЛСА-2 — линии сборки автомобилей.
106
Отсылка к британской кинокомедии «I’m All Right Jack» (1959), в которой снялись многие звезды британского кино того времени. Фильм — сатира на будни британской промышленности, название — идиоматический оборот, означающий самодовольный высокомерный эгоизм.
107
От англ. exit — выход.
108
Майкл Эндрю Гоув (р. 1967) — британский политик, член парламента с 2005 г., министр юстиции Великобритании; лорд-канцлер (2015–2016), глава Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (с 2017).
109
Черная страна — территории Западной Средней Англии, к западу от Бирмингема, в основном включающие Дадли, Сэндуэлл и Уолсэлл, а также частично Вулверхэмптон. Во время промышленной революции в Англии эти места подверглись мощной индустриализации, здесь активнее всего добывали и спекали уголь, плавили железо, варили сталь и изготавливали стекло, и от этого сильнее, чем в других местах, пострадала окружающая среда.
110
Роберт Деннис Хэррис (р. 1957) — британский романист, в прошлом журналист и телеведущий, в основном пишет историческую художественную прозу.
111
«The Lark Ascending» — поэма (1881) английского поэта Джорджа Мередита; Рейф В. Уильямс положил эти стихи на музыку для скрипки и фортепиано (1914), премьера состоялась в 1920-м, в тот же год композитор создал версию для скрипки с оркестром; композиция обрела громадную популярность у британских слушателей.
112
Пер. А. Ингера.
113
Хенри Филдинг (1707–1754) — плодовитый английский писатель и драматург; прототип главной героини романа «Амелия» (1751) — жена писателя Шарлотт Филдинг.
114
Вовлечены (фр.).
115
Но где же прошлогодний снег? (фр.) — строка из «Баллады о дамах былых времен» (опубл. 1533) Франсуа Вийона, пер. Н. Гумилева.
116
«Сгибаются тонкие / ветки / под ногами девочки / жизни. / Сгибаются тонкие / ветки. / В руках ее белых / зеркало света, / на лбу ее нежном / сияние утра» (исп.). — Из стихотворения Ф. Г. Лорки «Пленница», сборник «Первые песни» (1922), пер. И. Тыняновой.
117
Пер. Д. Иванова и В. Недошивина.
118
До скорого (фр.).
119
Бирмингемский репертуарный театр.
120
Устаревший вариант английского перевода названия романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».
121
Старая мельница (фр.).
122
Лимонад из лимонного сиропа или свежевыжатого лимона.
123
Здесь: «Будем здоровы!» (фр.)
124
«Движение пяти звезд» (Movimento 5 Stelle, M5S, с 2009) — итальянская политическая партия, основанная популярным комиком Беппе Грилло и предпринимателем Джанроберто Казаледжо; партия известна своим популизмом.
125
На конкурсе «Евровидение» в 1968 г. в Лондоне победила испанка Массиэль, а Клифф Ричард с песней «Congratulations», представлявший Великобританию, занял второе место. В 2008 г. по испанскому телевидению показали документальный фильм, разоблачающий диктатора Испании Франко: он якобы подкупил некоторых судей, что помогло испанской певице обойти Клиффа Ричарда. Нынешний директор конкурса Бьорн Эриксен расследовать события 40-летней давности отказался, а Ричард выступил с обвинениями конкурсу.