Книга: Белая собака
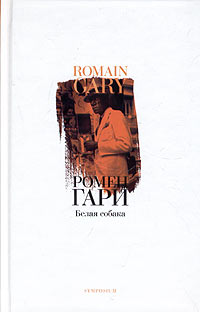
Белая собака
Сэнди
Это была серая собака с бородавкой, похожей на мушку, справа от носа. Шерсть вокруг носа у нее была рыжеватой, как у заядлого курильщика на вывеске «Курящей собаки» — бара с табачным киоском, в Ницце, недалеко от лицея, где я учился.
Слегка склонив голову набок, она смотрела на меня напряженным и пристальным взглядом. Такой взгляд можно встретить в собачьем приюте, когда животные провожают вас глазами с невыносимой, тревожной надеждой. У нее была борцовская грудь, и сколько раз мне приходилось потом наблюдать, как старик Сэнди дразнил ее, а она просто наседала на докучливого пса, как бульдозер.
Это была немецкая овчарка.
Она появилась в моей жизни 17 февраля 1968 года в Беверли Хиллз. Я приехал к своей жене Джин Сиберг, которая снималась в каком-то фильме. В тот день на Лос-Анджелес обрушился ливень неимоверной силы, как и большинство природных явлений в Америке, и за несколько минут превратил его в озерное поселение, по которому, захлебываясь, ползали полумертвые «кадиллаки». Город принял тот нелепый вид используемой вопреки своему истинному назначению вещи, к которому нас уже давно приучили сюрреалисты. Я беспокоился о Сэнди: накануне тот отправился в холостяцкое путешествие по Сансет-стрит и все еще не возвратился. Живя в атмосфере высокой нравственности, присущей нашей семье, Сэнди до четырех лет оставался девственником, пока ему не вскружила голову сучка Догени Драйва. Четыре года буржуазного воспитания и высокие моральные принципы в две секунды полетели коту под хвост. Сэнди — натура простоватая и легковерная: он не способен долго держать оборону в кинематографических кругах Голливуда.
Мы привезли из Парижа весь свой зверинец. У нас был бирманский кот Бруно и его подруга, сиамская кошка Мэй. На самом деле Мэй — кот, но мы, толком не знаю почему, всегда воспринимали его как существо женского пола, вероятно из-за той неиссякаемой нежности и ласки, которой он щедро оделял нас. Еще были старая кошка Биппо, дикая и склонная к мизантропии, на любую попытку почесать за ушком отвечавшая ударом когтей, и тукан Билли-Билли, которого мы усыновили в Колумбии. И только недавно я отдал в частный зоопарк Джека Кэрратерса в Сан-Фернандо Вэлли великолепного семиметрового питона по имени Пит-Удушитель, на которого я тоже наткнулся в колумбийских дебрях. Мне пришлось расстаться с Питом, так как друзья отказывались заботиться о нем, когда мне не сиделось на месте, и кожа, обтягивавшая меня, как будто вызывала приступы клаустрофобии — тут я начинал метаться с континента на континент в поисках кого-нибудь или чего-нибудь нового, даже не знаю чего. Наверное, мне следует сразу сказать, что в этих гонках я не обрел иного — разве что чудесные мадрасские сигары, которые стали одной из самых приятных неожиданностей в моей жизни.
Время от времени я навещал своего питона. Я входил в специальный вольер, который Джек Кэрратерс выделил ему из уважения к писателям, садился напротив него поджав ноги, и мы долго смотрели друг на друга — оцепенело, с безграничным изумлением. Ни один из нас не был в состоянии дать даже слабое объяснение тому, что с нами происходило, или передать другому возникавшие у него проблески понимания. Оказаться в коже питона или, наоборот, человека — перевоплощение столь ошеломляющее, что взаимное смятение соединяло нас поистине братскими узами.
Иногда Пит изгибался треугольником — питоны не сворачиваются в клубок, а складываются, как угломер, — и тогда мне казалось, что это некий знак, который я должен истолковать. Позже я узнал, что питоны ведут себя так в момент опасности, и понял, что у нас с Питом-Удушителем действительно было кое-что общее: предельная осторожность в отношениях с людьми.
Около полудня, когда на улицах еще бушевали потоки воды, я услышал великолепный баритонный лай моей собаки. Сэнди — большой пес желтой масти, возможно, дальний потомок какого-нибудь датского дога, но от ливня и грязи его шерсть стала цвета шоколадной крошки. Он стоял в дверях, опустив хвост и уткнув морду в порог, и с совершенством старого лицемера изображал постыдное возвращение и раскаяние блудного сына. Не знаю, сколько раз я запрещал ему шляться по ночам. Погрозив пальцем и несколько раз повторив: «Bad dog!»[1], я уже приготовился вполне насладиться ролью полновластного хозяина, которого обожают и боятся, как вдруг моя собака деликатным кивком дала понять, что мы не одни. Сэнди привел с собой приятеля. Это была немецкая овчарка лет шести-семи, с седеющей шерстью; прекрасное животное, производящее впечатление ума и силы. Я заметил, что на ней нет ошейника, — для породистой собаки это странно.
Я впустил своего мерзавца, но овчарка не уходила. Под дождем ее шерсть так намокла и склеилась, что она была похожа на тюленя. Она виляла хвостом, опустив уши и глядя на меня живым и просящим глазом, с напряженным вниманием, как смотрят собаки, когда ждут ласки или команды. Этот пес явно ждал приглашения, отстаивая свое право на убежище, которое соблюдают все цивилизованные люди по отношению к товарищам по несчастью. Я предложил ему войти.
Составить представление о характере собаки нетрудно. Исключением являются доберманы, от которых никогда не знаешь, чего ждать. Новый пес сразу поразил меня своим добродушием. И потом, каждый, кто жил среди собак, знает, что если одно животное проявляет дружеское расположение к другому, на его мнение можно положиться. Мой Сэнди обладал очень спокойным нравом, и его инстинктивная симпатия к этому гиганту, спасенному нами от ливня, была для меня лучшей рекомендацией. Я позвонил в Общество защиты животных, сообщил, что подобрал немецкую овчарку, и дал им свой номер телефона на тот случай, если объявится хозяин. Я с облегчением отметил, что мой гость с величайшим почтением относится к кошкам и вообще хорошо воспитан.
В последующие дни меня навещали многочисленные знакомые, и пес, которого я назвал по-русски, Батька, имел большой успех, хотя в первый момент и внушал им некоторые опасения. Помимо широченной груди и огромной черной пасти Батька обладал клыками, похожими на рога маленьких бычков, которых в Мексике называют machos. Тем не менее он был на удивление кроток: обнюхивал посетителей, чтобы вернее распознавать их в дальнейшем, и при знакомстве когда его гладили по голове, соблюдал ритуал shake hands[2], подавая лапу и как бы говоря: «Я знаю, что выгляжу страшновато, но, право, я славный малый». Во всяком случае, именно так я понимал его старания успокоить моих гостей, хотя, само собой, романист чаще, чем кто-либо, ошибается в природе существ и вещей по той простой причине, что он их придумывает. Я всегда придумывал всех тех, кого встречал в своей жизни и кто жил со мной бок о бок. Для профессионального выдумщика этот путь — самый простой и наименее утомительный. Вы больше не теряете времени, пытаясь лучше узнать своих близких, интересоваться их делами, по-настоящему уделять им внимание. Вы их измышляете. Потом, если случается что-то непредвиденное, вы страшно на них сердитесь — они вас разочаровали. В общем, они были недостойны вашего таланта.
За собакой никто не приходил, и я уже считал ее полноправным членом семьи.
У меня в доме в Ардене, разумеется, был бассейн, и фирма по техобслуживанию два раза в месяц присылала рабочего для проверки водоочистителя. В один прекрасный день, сидя за письменным столом, я вдруг услышал со стороны бассейна долгое рычание и частый прерывистый и яростный лай, каким собаки оповещают одновременно о присутствии чужака и о неминуемой схватке с ним. Зачастую это просто собачий вариант нашего: «Держите меня, а то я за себя не отвечаю»; но настоящие, хорошо обученные сторожевые собаки этим не шутят. Нет ничего тревожнее таких внезапных припадков бешенства, заставляющих вас замереть на месте, пытаясь надеяться на лучшее. Я выскочил из дома.
За оградой стоял чернокожий служащий, который пришел проверять водоочиститель, а Батька, брызжа слюной, кидался на ворота в таком диком приступе ярости, что мой храбрый Сэнди, подвывая, заполз под куст и сидел там тихо, как мышь.
Негр стоял неподвижно, парализованный страхом. Ему было чего бояться. Мой добродушный пес, всегда такой дружелюбный с посетителями, стал подобен фурии в зверином обличье, и в горле у него клокотало рычание, как у изголодавшегося хищника, который видит добычу, но не может до нее добраться.
Есть что-то такое, что подавляет и приводит в смятение, в этом резком превращении знакомого вам мирного существа в свирепого и как будто совершенно другого зверя. Это переход в иное состояние, чуть ли не измерение, — один из тех мучительных моментов, когда все ваши увещевания и ласковые слова разбиваются вдребезги. Испытание, которое привело бы в полное уныние приверженца четких категорий. Неожиданно я столкнулся с проявлением первобытной жестокости, затаившейся в глубинах природы. Мы предпочитаем не вспоминать о скрытом взаимодействии двух опасных явлений. Так называемый гуманитаризм вечно бился над этой дилеммой — любовью к собакам и ужасом перед собачьей сворой.
Я пытался оттащить Батьку и увести домой, но этот подлец явно считал, что исполняет свой долг. Он не кусался, но мои руки были все в пене, и он вырывался изо всех сил и с ощеренной пастью кидался на ограду.
Негр стоял за воротами с инструментами в руках. Он был молод. Я очень хорошо помню выражение его лица, потому что впервые увидел негра один на один со звериной ненавистью. Оно было грустным. Некоторые люди выглядят так, когда им страшно. Во время войны я часто наблюдал это выражение на лицах моих товарищей по эскадрилье. Однажды нам предстояло совершить бреющий полет над лагерем противника; накануне вылета, который обещал быть особенно опасным, полковник Фурке сказал мне: «У вас очень грустный вид, Гари». Мне было страшно.
Я отпустил молодого человека, сказав, что на этой неделе не буду чистить бассейн.
На следующее утро та же история повторилась со служащим из «Вестерн Юнион», который принес телеграмму.
Днем к нам зашли друзья, и, вопреки моим опасениям, Батька принял их с обычной приветливостью. Все они были белыми. Тогда я вспомнил, что служащий из «Вестерн Юнион» тоже был чернокожим.
Меня охватило тревожное ощущение, хорошо знакомое всем, кто чувствует, что рядом с ними со все большей очевидностью зреет какая-то ужасная правда, которую они, однако, отказываются признавать. Совпадение, говорил я себе. Но в голову приходит невесть что. Я одержим «проблемой чернокожих».
Тревога сменилась полнейшим смятением, когда Батька чуть не загрыз разносчика из супермаркета. Когда я открывал дверь, Батька лежал посредине комнаты. В одно мгновение, в той обманной, заранее продуманной тишине, которая сообщает элемент неожиданности любой атаке, он прыгнул вперед. Ему не хватило секунды, чтобы вцепиться человеку в горло: я успел пинком закрыть дверь.
Разносчик был негром.
В тот же день я посадил собаку в машину и повез в «Ноев ковчег» — питомник Джека Кэрратерса в долину Сан-Фернандо. Я хорошо знал Джека, типичного киношного ковбоя, с давних пор занимавшегося дрессировкой животных для киносъемок. Гордостью его ранчо был, среди прочего, ров со змеями, где вы могли найти едва ли не всех ядовитых рептилий Америки. Джек и его ассистенты добывали яд, необходимый для приготовления сывороток. Оказавшись на ранчо, я всегда старательно обходил этот ров: при одном взгляде на то, что там копошится, в памяти всплывает знаменитое коллективное бессознательное Юнга, то бессознательное рода людского, в которое мы погружаемся при появлении на свет, — угнетающее зрелище.
Джек, в голубой спецовке и неизменной бейсболке, сидел за письменным столом. Он был человеком крупным и отличался степенностью и плотностью сложения, характерными для некоторых людей, с возрастом утративших упругость мышц, но сохранивших силу. Он работал каскадером на съемках вестернов, что имело грустные последствия почти для всех частей его тела. Он всегда носил на запястьях кожаные ремешки, а на правом предплечье у него была татуировка в виде лошадиной головы.
Он выслушал меня в полном молчании, жуя одну из тех гнусных сигар, на которые Америка обрекла себя после разрыва с Гаваной.
— И чего вы от меня хотите?
— Чтобы вы его вылечили…
Этот Ной, Джек Кэрратерс, человек, что называется, спокойный; он обладает тем несколько ироническим спокойствием, которое зиждется на внутренней силе, уверенной в себе ровно настолько, чтобы не проявляться во внешней грубости. Быть может, только странная неподвижность этого массивного и плотного туловища наводит на мысль о некой преодоленной агрессивности — что-то вроде умышленного физического невмешательства. Но как раз это и говорит о самоконтроле, привычке все время держать себя как бы на веревке. Лично я раз и навсегда смирился с тем, что не в состоянии полностью обуздать зверя, сидящего у меня внутри, как водитель за рулем автомобиля.
Как бы там ни было, несмотря на холодность Джека, в Голливуде его все любили: он понимал, что доверенную ему канарейку нельзя заменить никакой другой канарейкой и человек, оставляющий на его попечении удава и умоляющий заботиться о нем как можно лучше, расстается с дорогим существом — дорогим, быть может, оттого, что ничего более на него непохожего он пока не нашел.
— Вылечил? — Джек взглянул на меня бледно-голубыми, как льдинки, глазами. — Вылечил от чего?
— Эту собаку специально приучили бросаться на негров. Клянусь, я не выдумываю. Каждый раз, когда к нашему дому приближается негр, она входит в раж. А с белыми — все в порядке, виляет хвостом и подает лапу.
— Ну так и что?
— Как «что»? Это можно вылечить?
— Нет. Для этого ваша собака слишком стара. — В его глазах вспыхнул насмешливый огонек. — В этом возрасте уже ничего не сделаешь. Вы должны были бы это знать.
— Джек, всем известно, что вы просто преображали «испорченных» животных.
— Тут дело в возрасте. Старые привычки слишком крепко укоренились, ничего не попишешь. Впрочем, большинство испорченных зверей испорчены сознательно за время дрессировки. Их систематически ломали. Ваш пес слишком стар.
— Это вопрос терпения.
— Слишком поздно. Ему уже лет семь. Изменить его мы не сможем: привычка чересчур сильна. Это называют профессиональной деформацией.
— Его нельзя оставить таким.
— Ну, тогда усыпите. Я бы на вашем месте поступил так.
— Я предпочел бы усыпить мерзавцев, которые его натаскали.
Джек рассмеялся. Он принадлежал к счастливцам, способным от всех проблем отгородиться смехом.
— Я даже не уверен, что смогу держать вашего пса у себя. Двое моих помощников — негры, и это им вряд ли понравится. Хотя оставьте его на время, а там посмотрим.
Я простился с Батькой. Он посмотрел на меня очень внимательно, слегка склонив голову и опустив уши. Я подошел к нему, сел на землю, долго гладил седую голову. До свидания, старик, не горюй. Мы их сделаем.
Я ехал через Колдуотер Кэнион, и на сердце у меня было столько камней, что хватило бы еще на несколько прекрасных храмов. Широкие проспекты без тротуаров, обсаженные пальмами, пустынны, только проносящиеся мимо машины кажутся обитаемыми островами. Я кружил в этой населенной машинами пустоте, все время возвращаясь на Уилширский бульвар, где есть тротуары. Они здесь как оазисы.
В конце концов меня вынесло к дому одного моего друга. Он выдержал три операции, и дни его были сочтены. Он стал жертвой чисток во времена «охоты на ведьм», при Маккарти[3], в начале пятидесятых, и в течение десяти лет ему не давали работать. Когда я вошел, он строил из детского конструктора выдуманный им самим город. Он сооружает его уже два года, этот долбаный город-солнце, и отвлекается только затем, чтобы наспех дописать сценарий научно-фантастического фильма для телевидения, которому он регулярно что-нибудь поставляет. Но вся его творческая энергия уходит на создание идеального города. Он строит его и разрушает, снова и снова шлифует детали. Он работает в сарае в глубине сада, за бассейном. Его город — смесь пластмассы и стали с мучительной мечтой, поиск красоты и совершенства, который гораздо сильнее болезни подтачивал его силы. Я было взялся за его Дом Культуры с видом на море, но через полчаса не выдержал и сбежал, оставив его онанировать в одиночестве.
В машине я включил радио и услышал о столкновениях на расовой почве в Детройте. Двое убитых. После бунта в Уоттсе, в результате которого погибли тридцать два человека, всю страну будоражит одна мысль: Америка всегда побивала собственные рекорды в более или менее короткие сроки.
Когда речь идет о людях, можно в крайнем случае утешиться Шекспиром, достижениями медицины или полетами на Луну. Но когда речь идет о собаке, найти алиби невозможно. Каждый раз, навещая Батьку, я читал в его глазах немой вопрос: «Что я сделал, почему меня заперли в клетку, почему я тебе больше не нужен?» Перед этим природным простодушием у меня не было другого ответа, кроме ласки и утешения. Уходя из зоопарка, я преисполнялся настоящей ненависти к самому себе и вспоминал знаменитую фразу Виктора Гюго, которую я долго и тщетно пытался найти, пока г-н Элу, нынешний президент Ливана, не напомнил мне ее: «Говоря “я”, я имею в виду всех вас, несчастные».
Каждый день я отправлялся в питомник.
Интересно было бы взглянуть на себя со стороны.
Было семь часов утра. Кроме зверей и ночного сторожа, в «Ноевом ковчеге» не было ни души. Цветы и листья баюкали на утреннем ветерке тяжелые капли росы, рожденные восходом.
Жирафа доктора Дулиттла смотрела на меня мягкими, женственными глазами сквозь тяжелые ресницы, которым позавидовали бы дамы от «Элизабет Арден»[4]. Почуяв меня издалека, Батька встал на задние лапы и приник к решетке. Я прижался щекой к железной проволоке, и он ткнулся в меня холодным носом, лизнул теплым языком. В собачьих глазах так легко прочитать выражение любви, и, подумав об этой любви и верности, я вспомнил свою мать. Но у моей матери глаза были зеленые. Еще я припомнил великолепную чушь, детище одного превосходного романиста, моего приятеля, сказанную тем тоном, который по-английски определяется хорошим словом supersilious, — смесь снисходительности, привередливости и душевного дендизма: «Я не люблю собак, — сказал он мне, — потому что не люблю покорной привязанности, которую они нам предлагают». Любопытно все-таки, куда может завести человека чувство собственного достоинства.
У меня не было ключа от клетки. Я присел на корточки с одной стороны решетки, а Батька улегся с другой, положив голову на вытянутые лапы и не сводя с меня глаз.
Небо было ясное и прозрачное — рассветное небо над Калифорнией, когда она еще не запружена миллионами машин, еще не запустила свои заводы и они не окутали город непроницаемой пленкой вредоносных испарений.
Я хотел уйти незамеченным. Мне не с кем и не о чем было говорить. Но я потерял всякое чувство времени; так бывает, когда минуты текут безмятежно, вы забываете себя и как будто растворяетесь в деревьях, свете и мягком воздухе.
Было, наверное, около десяти, когда появился чернокожий сторож; в зоопарке все звали его Киз. Это прозвище он получил оттого, что носил на поясе связку ключей и действительно был вроде ключника при клетках со львами, змеиных рвах, крокодильих бассейнах, обезьянниках и других милых уголках «Ноева ковчега». Он был в десятке метров от нас, когда Батька поднял уши, застыл на мгновение, потом вскочил и с рычанием бросился на решетку. В лицо мне полетели брызги слюны. Б ту же секунду я отчетливо представил себе образ, до сих пор не дающий покоя Америке: рабы, бегущие через хлопковые поля; но к нему добавилось и другое — внезапное преображение знакомого существа, мгновенный переход от дружелюбия к дикой враждебности.
Киз подошел к клетке, даже не взглянув на собаку, с сияющей улыбкой на лице — худощавый взрослый мальчик в рубашке с короткими рукавами и с маленькими усиками, прилепившимися над верхней губой, как бабочка. Смутное сходство с Малькольмом X.[5] Впрочем, мне на всех негритянских лицах видятся следы борьбы.
— Hello, — бросил он. — Хороший денек.
Я ответил, не вставая с земли, я избегал встречаться с ним глазами, а Батька кидался на решетку с хриплым рычанием. Изредка он замолкал и, повернув морду в сторону, обнажив зубы, косился на сторожа, а затем снова бросался вперед, с лаем требуя кровавой расправы. Чернокожий улыбался.
— No progress, — сказал я.
Киз посмотрел на собаку, потом вынул из кармана джинсов пачку «Честерфилда», не спеша вытащил сигарету, закурил и еще раз спокойно взглянул на пса.
— White dog. Белая собака, — произнес он.
Я помню, какое раздражение испытал в тот момент. Это действительно звучало несколько легкомысленно.
— Хватит, тут не над чем шутить, — сказал я.
— White dog, — настойчиво повторил он. — Понимаете?
Он продолжал буравить меня взглядом, как будто надеялся обнаружить во мне золотую жилу.
— Да нет, вы не можете знать. Это белая собака. Она откуда-то с Юга. Белыми собаками там называют специально обученных псов, которых полиция натравливает на чернокожих. Дрессировка что надо.
Во мне как будто что-то разорвалось. Потому что это я ее дрессировал. Знаменитые слова Виктора Гюго имеют и оборотную сторону: «Когда я говорю “вы”, я имею в виду и себя». Есть хорошая песенка: «Tea for two, and two for tea»[6], ее можно переиначить: «Я — это вы, вы — это я». Этому даже есть название: братство. В котором невозможно не состоять. Никакого запасного выхода.
Внешняя Монголия. Именно туда мне всегда хотелось удрать. Меня, конечно, прельщало слово «внешняя».
— Когда-то они преследовали сбежавших рабов. А теперь их натравливают на манифестантов.
Собака задыхалась. Я тоже, про себя.
— И потом, с таким сторожем жена белого человека может спать спокойно, когда мужа нет дома. Никто ее не украдет.
Киз затянулся сигаретой и с видом знатока посмотрел на Батьку.
— Прекрасный пес, — сказал он и покачал головой. — Но слишком старый. Лет семь. В таком возрасте их уже не изменить…
Он замолчал и, не отводя взгляда от собаки, о чем-то размышлял. Сейчас мне кажется, что именно в тот момент ему в голову пришла идея, которую он впоследствии осуществил, и под этим задумчивым видом крылся назревающий план.
— Be seeing you, — сказал он. — До скорого.
Он медленно пошел дальше; ключи позвякивали у него на поясе.
Батька тут же успокоился и принялся искать блох.
Я отправился в кабинет Джека, но никого там не нашел. Джек был в студии и наблюдал за шимпанзе, снимавшимся в обезьяньей телеверсии «Ромео и Джульетты».
Я вернулся домой. Моя жена ушла на собрание Городской лиги, которая занимается трудоустройством безработных чернокожих. Правда, среди них не очень-то много обычных безработных. Им просто не дают работу, вот и все. Профсоюзы безжалостно закрывают перед ними двери.
Днем в доме одного преподавателя драматического искусства состоялось собрание либералов, участвующих в борьбе за гражданские права, идти на которое я поостерегся. Я объяснил им, что мне и так стоило большого труда избавиться от дискуссий по поводу Вьетнама, Биа-фры, истребления индейцев в Амазонии, судеб советской интеллигенции, наводнений в Бразилии. В конце концов, надо знать меру. Знаете, что такое элефантиаз кожи? Это когда ваша кожа болит за других. Хватит, я отказываюсь переживать по-американски. Должен признаться, что я испытывал сильную антипатию к профессору, у которого проходило собрание борцов за права негров. Я видел в нем типичного калифорнийского phony, это примерно то же, что подонок. Один из тех «прогрессивно мыслящих» людей, которые возмущаются нашим потребительским обществом и занимают деньги для спекуляций недвижимостью. Я боюсь людей, чьи широкие взгляды основаны не на социологическом анализе, а на скрытых психологических травмах. Если молодежь совершенно справедливо упрекает некоторых последователей Фрейда в попытке «приспособить» его теорию к больному обществу, то и противоположный процесс, когда хотят «приспособить» общество к чьей-то больной психике, ничуть не лучше.
И потом, методы обучения этого профессора драматического искусства вызывали у меня отвращение. Я присутствовал на одной из его встреч с учениками, когда он заставил молодого актера, вовсе не гомосексуалиста и даже женатого, обменяться с ним долгим поцелуем. И знаете зачем? Чтобы научить его избавляться от «запретов», особенно тех, что воздействуют на актера, когда от него требуется смешать свою слюну со слюной другого человека. Поэтому я не был на собрании, хотя потом получил о нем подробный отчет.
Их целью было показать нескольким весьма состоятельным белым, от которых следовало получить необходимые для поддержания жизни «школы без ненависти» деньги, какое место занимает ненависть к белым в психике чернокожих детей. Для этого организовали небольшую демонстрацию, позвав нескольких чернокожих детей семи, восьми и девяти лет, родители которых тоже на ней присутствовали. И вот диалог между чернокожими детьми и белой женщиной, которая не только была их другом, но и приютила у себя эту семью негритянских активистов: отца, мать и пятерых малышей. За достоверность пересказа я могу ручаться. Представьте себе злополучных ребятишек, окруженных пятью десятками взрослых белых, в этом подобии анатомического театра.
— Am I a honky, Jimmy? Джимми, я белая дрянь?
— Yes, ma’am, you are a honky. Да, мэм, вы белая дрянь.
— Am I a blue-eyed devil? Я — голубоглазая бестия?
Отметим, что в библии чернокожих мусульман, Книге пророка Илии Мухаммеда, всякое существо с голубыми глазами считается врагом.
— Yes, ma’am, you are a blue-eyed devil. Да, мэм, вы голубоглазая бестия.
— Do you hate me, Jimmy? Ты ненавидишь меня, Джимми?
Здесь в отчете примечание: «Ребенок колеблется. Он беспокойно ищет глазами родителей». Не забудем, что несчастный мальчуган несколько месяцев был буквально осыпан ласками «голубоглазой бестии», которая его допрашивала. Отчет фиксирует: «Ребенок глубоко вздыхает».
— Yes, ma’am. Я вас ненавижу. I hate you… — Пауза. — … sort of. Вроде бы.
Здесь отчет заканчивается. Неизвестно, получил ли Джимми после этого номера конфетку. Но все пили чай с пирожными.
Мазохизм, эксгибиционизм, showmanship, а также старое доброе conning — такое типично американское надувательство, которое обессмертил Марк Твен, способ игры в gaming whitey, то есть в «заводного белого». Потому что на самом деле Джимми никого не ненавидит, и доказательством этому то, что он не удержался и добавил sort of, «вроде бы», и приходится признать, что он вынудил себя сказать: «Да, я вас ненавижу». Это sort of предвещает неотвратимое поражение всех будущих попыток насилия над природой.
По недавним опросам, восемьдесят процентов американских негров заявили, что ненависти ни к кому не испытывают, что подает определенную надежду даже для белых собак.
Все организаторы собрания (за исключением жуликов), каким бы ни был цвет их кожи, продемонстрировали, что роднит их в действительности глупость. «Yes, ma’am, I hate you… sort of»[7].
И шляпа идет по кругу. «Дамы, господа, будьте великодушны. Сын борца за права негров». Джимми гладят по головке. Конфетка.
Но вся надежда Америки — в двух словах: sort of.
Благодарение Богу, я не присутствовал на этом собрании. Я бы точно кого-нибудь укусил.
Это наводит меня на мысль, что надо срочно покупать более прочный поводок. Старый уже основательно поистерся.
После того как я ознакомился с отчетом, мне пришлось совершить часовую прогулку по Беверли Хиллз. Мои друзья думают, что я хожу пешком для поддержания формы. Вовсе нет. Это попытка бегства.
Я вернулся домой с чувством приятной опустошенности, но события вновь захлестнули меня с головой. В десять часов утра мне позвонил Джек Кэрратерс:
— Вы можете приехать немедленно?
— Что? Что случилось?
— Приезжайте.
Он повесил трубку.
Я поехал в питомник.
Джек сидел на своем обычном месте, за письменным столом. Сломанный нос, седые волосы ежиком, пятнышко голой кожи там, где в черепе стальная заплата. Как все те, чье лицо не один раз расплющивали удары, он похож на прусского солдата. Старый каскадер, на его счету более двух тысяч по заслугам отмеченных падений с лошади; на стене — профессиональный диплом в рамочке, между фотографиями Тома Микса и Рентентена. Сдвинутая на затылок бейсболка — как поднятое забрало. Он зажигает сигареты одну за другой и тут же их давит: именно это у него называется «не курить». В нем есть что-то от типичного американского пролетария — благодаря данной ему от природы исключительной физической силе. Он не поздоровался со мной.
— Ну вот что. Я требую вашего согласия на инъекцию. Put him to sleep.
— Почему так внезапно?
— Сейчас увидите…
Старый пес лежал на боку, с окровавленной пастью, и тяжело дышал. Он увидел меня и, не подымая головы, слабо вильнул хвостом.
Мы вошли в клетку. Джек нагнулся и пощупал судорожно вздрагивающие бока.
— Вы лишили меня лучшего помощника, — сказал Джек.
— Киз?
— Да. Двадцать раз в день он проходил мимо клетки, и каждый раз повторялось одно и то же. Приступ бешенства. Этот пес был прекрасно обучен. Видна порода. Киз вроде бы не обращал на это внимания, хотя мне и казалось, что он как-то часто вертится у клетки… Он как будто собирался с духом. Это рычание, понимаете, «La voix de son maоtre»[8], — оно каждое утро заводило его маленький механизм ненависти.
Собака лизнула мне руку, оставив на пальцах след кровавой слюны. Я хотел приласкать его, но колебался. Я знал, что Батька ожидает заслуженной награды. Видишь, я все сделал так, как меня научили…
Я погладил верную голову.
— А сегодня утром Киз надел защитный комбинезон и вошел в клетку. Он расставил все точки над i. Я услышал их вопли, и не знаю, кто вопил громче — собака или человек. Он ее чуть не убил. Бесполезно объяснять вам, что он метил не в собаку, а в тех, кто ее выдрессировал, просто их под рукой не оказалось. А потом…
— Что потом?
Ной рассмеялся:
— Он дал мне в морду. Наконец-то решился. Когда я помог ему подняться, он по одному снял все ключи, положил их мне на стол и ушел.
— Мне очень жаль, Джек.
— Мне тоже. В этой стране полно народу, который о чем-нибудь жалеет. Это ничего не меняет. Вы не сможете переучить вашу собаку, это ясно как день. Лучшее, что вы можете сделать для нее и для окружающих, это усыпить ее. Она непоправимо испорчена. Вы знаете, что я хочу сказать… — Он посмотрел на пса. — Никто не имеет права творить такое с собакой.
— Джек, я бы убил того, кто…
— Понимаете, я не верю в то, что вам удалось бы его перевоспитать, его — тоже. Такое это поколение. Оно уйдет само, по-хорошему. На то оно и поколение, чтобы исчезнуть. Я только не уверен, что у негров есть время и желание ждать. — Он устремил на меня враждебный взгляд. — Так как насчет инъекции, да или нет?
— Нет.
Он кивнул:
— Тогда вы сейчас же его заберете. Я не хочу держать его.
Он слегка прищурил глаза, и внезапно на его лицо со всех сторон набежали морщинки. Я увидел его полуулыбку, загадочно незаконченную, прерванную на полдороге, как всякое выражение этого кое-как залатанного после многочисленных травм лица.
— У меня есть идея. Я знаю один питомник, где нет негров. Они их не берут. Поместите туда своего пса. Я дам вам адрес.
— Идите к черту.
Джек снова слегка кивнул и пошел прочь, бросив только что зажженную сигарету.
Я остался сидеть в клетке рядом с Белой собакой.
Время шло — теперь уже было все равно. Один час, два, — не знаю. Я принял решение, но пользовался этой уверенностью, чтобы отсрочить исполнение.
Я достал из машины поводок, позвонил Чаку Белдену и попросил его одолжить мне револьвер. Потом я вернулся за Батькой.
Он последовал за мной, свесив язык и прихрамывая. Ему с трудом удалось забраться на сиденье. Вероятно, сломана пара ребер. Я помог ему. Мы проехали по бульвару Вентура и срезали дорогу по Лорел Кэнион. Когда мы останавливались на красный свет, люди улыбались славной собаке, смирно сидящей рядом с водителем и наблюдающей за дорогой. В Ван Нисе я проехал на красный свет, чтобы не останавливаться рядом с грузовиком, которым управлял негр.
Я запер Батьку в гараже.
В четыре часа дня Чак принес мне армейский кольт. Я налил себе стакан виски, но пить не стал. Я знал, что после виски не могу позволить себе разъезжать по городу с заряженным револьвером в руках. После спиртного я отпускаю поводок. Поэтому я вылил виски в горшок с бегонией и сел за руль. Я поднял все стекла, и мы поехали через Голливуд по направлению к Гриффитс-парку, в котором я когда-то совершал утренние пробежки, прежде чем отправиться в консульство на Аутпост-драйв.
Поросшие кустарником холмы тогда были избранным местом прогулок для влюбленных в природу и просто для влюбленных; теперь редко кто останавливается в этих безлюдных местах. В крупных американских городах количество преступлений каждый год возрастает на шестьдесят процентов. Один шанс на тысячу, что в вас воткнут нож, но в тех особых отношениях с судьбой, которые каждый себе воображает, мы всегда чувствуем себя под прицелом…
Я остановил машину недалеко от Креста Пилигрима и выпустил Батьку.
Я взял револьвер.
Батька смотрел на меня. Он знал. Ничего не поделаешь — инстинкт.
Он опустил голову.
Я прицелился ему в затылок.
Белая собака ждала.
Моя рука дрожала. На глазах появились слезы. Все поплыло перед глазами. Я выстрелил.
Осечка.
Собака не пошевельнулась и не взглянула на меня.
Я чувствовал себя неудавшимся самоубийцей.
Белая собака подняла на меня глаза, потом отвернулась и продолжала ждать.
Меня начало тошнить.
— Однако, мсье, столько переживаний из-за пса… А как же Биафра?
— Биафра? Вы надо мной издеваетесь?
— Короче говоря, если вам нет никакого дела до Биафры, то вы можете позволить себе так же относиться к собаке. Сейчас существует новая казуистика, которая, оправдываясь Биафрой, Вьетнамом, нищетой стран третьего мира и Бог знает чем еще, освобождает вас от необходимости перевести слепого через улицу.
Револьвер выскользнул из моей влажной руки.
— Иди сюда, Белая собака.
Батька с трудом поднялся, сделал шаг в мою сторону, понюхал дуло револьвера…
Нет, черт побери, никогда.
Какое мне дело до чернокожих? Они такие же люди, как все. Я не расист.
И потом, убить собаку — значит признать себя побежденным, мсье Ромен Гари. Это капитуляция перед противником. Такого со мной еще не случалось. Никому бы и в голову не пришло сдаться, имея в руках заряженный кольт.
На заросшие жестким кустарником холмы сошел голубой туман и смягчил колючий ландшафт. Но мягкость осталась снаружи.
Я закурил гаванскую сигару, стоимости которой хватило бы на то, чтобы одна индийская семья завтракала, обедала и ужинала в течение десяти дней.
Мне стало легче.
Я потрепал Батьку по загривку:
— Прорвемся.
Он вильнул хвостом:
— Они не пройдут!
Он дал мне лапу.
Жаль, рядом не было стены, на которой я мог бы нацарапать пару гуманистических лозунгов.
«Человек себя покажет!»
Когда можно уцепиться за надежду, мне нет равных. «Я — чемпион. Человек победит, потому что он сильнее!»
Короче, я мошенничал как мог. Но главное — я выиграл. Я снова взял Батьку на поводок и открыл дверцу машины. Он прыгнул на сиденье. Конец маленькой психологической драмы.
Я остановился у Шваба и позвонил в питомник. Никто не подошел. Я отыскал номер Джека в справочнике. И признался ему во всем.
— Почему, собственно, вы все это мне рассказываете?
— Подержите собаку, пока я не уеду из Штатов. Я заберу ее с собой.
— Идите к черту. Отвезите ее в питомник без негров. Есть отличный питомник в Санта-Монике. Просто роскошный. Даже мэр Йорти не сделал бы лучше[9].
— Тогда дайте мне телефон Киза.
— Что вы от него хотите?
— Хочу с ним поговорить.
— Знаете, он черный мусульманин. В лучшем случае вы поможете ему достать билет в Мекку. You’ll only help him to get his ticket for Mecca. Если не ошибаюсь, мусульмане имеют на это право, если приносят пророку Мухаммеду пять скальпов со светлыми волосами или пять пар розовых ушей.
— Если он вернется к вам, вы заберете собаку?
— It’s a deal. Договорились. Представляете, у меня две сотни змей, переполненных отличным ядом, и никого, кто мог бы его извлечь. Киз — специалист по ядам. В общем, здесь у меня нет его телефона. Позвоните мне завтра в контору.
На ночь я запер Батьку в гараже, оставив ему королевское угощение.
Джин я не сказал ни слова. Она не знала, что Батька вернулся.
В гостиной проходило очередное собрание активистов.
Джин Сиберг с четырнадцати лет принадлежит ко всевозможным обществам борьбы за равноправие. Из-за этого между нами возникают довольно серьезные разногласия. Мои метания в поисках равенства и братства проходили между семнадцатью и тридцатью годами, а так как у нас двадцать четыре года разницы, я категорически отказываюсь заново переживать эту медленную агонию. Я знаю слишком много случаев, когда подобные попытки заканчивались неудачей, и не хочу добавлять к ним свою.
Когда я вошел в гостиную, все умолкли. И правильно сделали. Так случается нередко. Достаточно взглянуть на меня, чтобы слегка поумерить пыл. Ибо я знаю, что в «хорошем лагере» мерзавцев и рвачей не меньше, чем в «плохом».
Обстоятельства того собрания, о котором я говорю, как будто нарочно сложились так, чтобы подтвердить мою правоту.
Через несколько недель один из присутствовавших на нем мерзавцев, облачившийся в черную кожу, если можно так сказать, по случаю, попытался немного пошантажировать, под благородным предлогом gaming whitey, игры в «заводного белого».
— Мисс Сиберг, у нас есть компрометирующее вас письмо, в котором вы соглашаетесь передать братский революционный привет африканским студентам Парижа… Там даже есть имя одного из лидеров «Черных пантер»… Если мы это опубликуем, ваша актерская карьера в Америке…
Джин ответила:
— Публикуйте.
Через несколько минут она уже плакала. Мисс Сиберг еще в том возрасте, когда можно в чем-то разочароваться.
Я подождал, когда она заплатит свою контрибуцию, то есть когда гостиная опустеет, и отправился спать.
На другой день я получил телефон Киза и позвонил ему. Детский голос сообщил, что папы нет дома.
— Вы не скажете, где я могу его найти?
Девочка с волнением спросила:
— Вы из-за животного?
— Да, это очень важно.
На другом конце провода перешептывались.
— Папа в «Блинном домике», в Фэйрфаксе.
Я добыл адрес «Блинного домика» и отыскал Киза, который сидел перед горой блинов с кленовым сиропом. На голове у него была одна из тех мусульманских шапочек, которые кажутся вырезанными из карпетов. Он очень приветливо поздоровался со мной и острием ножа указал на свободный стул. У него были необычайно белые и острые маленькие зубы. Я открыл было рот, чтобы приступить к своей защитительной речи, но Киз перебил меня:
— Знаю, знаю, просто в тот день я немного не выдержал. I’m sorry about that. Мне очень жаль… Это мои уши меня подвели.
— Ах, уши, — повторил я с понимающим видом, хотя не понял ровно ничего.
— У меня чувствительные уши. Я больше не мог выносить его воя. Я вздул его, ну, ну примерно как разбивают радио, от которого слишком много шуму…
Он задумался, не переставая жевать. Я помню, что снова поймал на его лице выражение, которое не могу назвать иначе как scheming, оно появляется у людей, исподволь разрабатывающих какой-то план.
— Отвезите его в питомник. Я сам им займусь. На это уйдет немало времени. Но я уверен: у меня получится. — Он разрезал на четыре части сочащийся янтарем блин. — У меня всегда получается.
— Вы хотите, чтобы я предупредил Джека?
— Не стоит. Я закончу с этим и вернусь к работе. Привезите собаку к полудню. — Ел он с аппетитом. — Прекрасный зверь. Жаль было бы его потерять. — Он улыбнулся мне своими острыми зубками. — Вы знаете, что после Уоттса белые платят за хорошую сторожевую собаку до шестисот долларов?
Я ничего не ответил, встал и ушел. Этот мерзавец явно принимал меня за белого.
Я отвез Батьку в питомник и объявил Кэрратерсу о скором возвращении его драгоценного помощника. Змеи снова будут отдавать свой яд на пользу человечеству. Джек как раз пил утренний кофе, прислонившись к решетке обезьянника. Какое-то существо с короткой черной шерстью, чуть крупнее уистити, пыталось у него из-за спины окунуть в кофе палец. Время от времени Джек протягивал обезьянке ломтик хлеба с маслом, от которого они по очереди откусывали.
— У меня тут полная непруха с кенгуру, — сообщил он. — Сегодня утром мать семейства устроила взбучку папаше — какие-то домашние неурядицы. Не могу понять, что происходит в этой семейке. Я не один раз пытался разобраться в психологии кенгуру, но у меня ничего не вышло. Говорят, что австралийцы похожи на американцев, но о кенгуру такого не скажешь. Ну что с ней такое, с этой заразой? У моего парня нет другой самки, так в чем же дело? Меня это злит, потому что сегодня днем они должны показывать бокс в пользу корейских сирот. А старик сейчас не в состоянии драться. Он жутко запуган. Понимаете, кенгуру — они все немножко с приветом. Несколько лет назад я держал одного, так он грохался в обморок каждый раз, как я впускал к нему течную самку. Он начинал быстро-быстро хватать ртом воздух, как кролик, а потом терял сознание. Впечатлительный. Самку это так оскорбляло, что она с разбега прыгала на нему всей своей тяжестью. Психология, приятель, доставляет одни неприятности. Кофе хотите? Нет? Так что, Киз возвращается и сам займется нашей собачкой?
— Да, Киз славный парень.
Ной отпил глоток кофе. Вид у него был задумчивый.
Мгновение он смотрел на меня своими бледными глазами, потом отвел взгляд.
Обезьяна протянула руку и вырвала у него бутерброд.
— Змеи его тоже очень любят, — сказал Джек. — Киз — настоящий чародей. — Он выплеснул остатки кофе на траву. — Никогда не видел такого злобного типа. — В его голосе послышалось уважение. — Приятно посмотреть, как… Ладно, пора идти поднимать моральный дух моему кенгуру. — Он искоса посмотрел на меня. — Зачем вы все это делаете?
— Что?
— С собакой.
— Я хочу спасти ее, вот и все.
— Как же… You bet. Что вы, собственно, пытаетесь доказать?
— Да, в общем, ничего.
— Да ладно, приятель. Знаю я вас, интеллектуалов. Вы пошли на принцип? Хотите доказать, что это излечимо?
— Да, это излечимо.
— Конечно, конечно. Но все придется начинать сначала. Вам понадобится лет сто. Хотя, если у вас будет Киз…
— Что, если будет Киз?
— Вы в хороших руках. Он спец по ядам. Be seeing you. Счастливо.
Он ушел. Обезьянка, повиснув на прутьях решетки, тянула ко мне руку и пронзительно кричала.
Я вернулся в Арден. Селия, наша испанская знакомая, сказала, что какой-то человек уже дважды приходил поговорить со мной и придет снова после полудня.
Шесть часов вечера. Я сидел в патио, перед бассейном.
Джин отправилась собирать пожертвования для школы Монтессори, которой она помогала вот уже год. Одна из целей этого учреждения — воспитать негритянских детей «без ненависти». Это написано черным по белому в проспекте. Воспитание без ненависти. Если именно в этом состоит их отличие от других школ, то у этой фразы глубокий подтекст.
До сих пор мне казалось, что там, где есть ненависть, нет воспитания. Только муштра и уродство.
Я говорил себе, что проблема американских негров затрагивает вопрос, который делает ее практически неразрешимой: вопрос Глупости. Во все времена она оставалась самой могущественной областью нашего сознания. История не помнит случая, когда разум преуспел в решении хотя бы одной из общечеловеческих проблем, если их основание покоится на Глупости. Ей удалось окружить их, заключить с ними договор, с помощью ловкости или силы, и в девяти случаях из десяти лишь только разум поверит в свою победу, как вновь у него на глазах пышным цветом расцветает бессмертная Глупость. Достаточно взглянуть на то, что сделала Глупость с победами коммунизма, или, например, на бурные последствия «культурной революции», или в нынешние времена — на подавление «Пражской весны» во имя «чистоты марксистской идеи».
К моей грусти и желанию отставного военного ни во что больше не вмешиваться добавилось раздражение гораздо более личного характера и довольно-таки смешное. С тех пор как я приехал в Голливуд, мой дом, то есть дом моей жены, стал настоящим штабом людей доброй воли, либералов из белых американцев. Либералы (в американском смысле слова — наиболее близкое по значению французское, наверное, «филантроп» или, скорее, «гуманист») проводили там по восемнадцать часов в сутки, даже когда Джин уезжала на киностудию. Это было постоянное дежурство прекрасных душ, и тому, кто думает, что в моих словах есть хотя бы капля насмешки, лучше немедленно закрыть книгу и убраться куда подальше. Уже сорок лет я таскаю по свету свои иллюзии, целые и невредимые, несмотря на все старания избавиться от них и отчаяться раз и навсегда, на что я органически не способен. Именно это делает меня таким воинственным по отношению ко всем «прекрасным душам», в которых я вижу собственное отражение. В такие минуты я подобен скорпиону, жалящему самого себя, или неграм, которые ненавидят друг друга, живя в одинаково тяжелых условиях, или евреям-антисемитам. Должен сказать, что меня все больше и больше раздражает количество паразитов, вертящихся вокруг Джин. Каждый день во имя борьбы за гражданские права создаются мелкие организации и группы, единственный вид деятельности и единственная цель которых — обеспечивать экономическую стабильность своему руководству. Они занимают выжидательную позицию и всегда готовы проглотить манну небесную, рассыпаемую различными фондами и федеральными властями. Я никогда не совал нос в денежные дела Джин Сиберг. Но с первого же дня в Ардене я наблюдаю с полдюжины con-men, вечных плутов и мошенников, которые с азартом играют — и выигрывают, — ставя на ее двойное чувство вины: во-первых, она кинозвезда, существо, возбуждающее самую сильную зависть и потому одно из самых презираемых, во-вторых — лютеранка, апофеоз «первородного греха».
Досадно, что сам я не признаю за собой «власти мужа» по кодексу Наполеона; честно говоря, я с удовольствием сослался бы на него, чтобы вышвырнуть из дома пару-другую чернокожих босяков, которые заставляют мою супругу платить налог на чувство вины.
Я еще раз убедился в том, что в Америке веду себя так же свободно, как во Франции. Я слишком люблю эту страну и слишком долго в ней прожил, чтобы ощущать себя чужаком.
Я позвонил своему агенту и поручил организовать для меня отчетную поездку в Японию. Я уже бывал в Японии, и, несмотря на краткость моего визита, она стала одной из тех редких стран, где я действительно ощущал себя чужим. Восхитительное чувство непосвященности; чудовищный языковой барьер держит вас на почтительном расстоянии от окружающих. Поездка была очень недолгой, но к японцам у меня появилась та симпатия, которую я испытываю только по отношению к абсолютно непохожим на меня людям.
Я всерьез сосредоточил всю силу воли на том, чтобы убедить себя сложить чемодан и бежать из Штатов куда глаза глядят, только бы не слышать каждый раз одну и ту же песню: «Конечно, этот чернокожий — прохвост, но не забывайте, что именно белые сделали его таким».
Мэй сидел у меня на коленях. Этот сиамский кот не расстается со мной и, устроившись на плече, во всех подробностях, полным бесчисленных оттенков голосом рассказывает свои непостижимые истории. И в этот раз он снова принялся поверять мне тайны кошачьего мира, в которые я тщетно стараюсь проникнуть. Чудесные сказания, которые только Пушкин умел переложить в стихи, быть может, вся кошачья философия, проходили мимо меня — настоящая катастрофа для филологии. Наконец-то сфинкс заговорил и обо всем вам поведал, а вы застыли на пороге великого откровения из-за незнания иностранных языков.
Вернулась Джин. С минуту побродила вокруг меня, но я был как камень. Мне нечего было ей прощать, но, наверное, я испытывал легкое раздражение, довольно забавное, — раздражение мужа, который видит, что его жена больше занята несчастьями своей страны, чем собственным домом.
В дверь позвонили, и я пошел открывать. Это были мальчик и девочка лет семи-восьми, лучезарные американские дети, словно эльфы из волшебной сказки.
— Excuse us, Sir[10] А Фидо у вас?
— Нет, его здесь нет.
Я побежал к холодильнику и вернулся с шоколадными пирожными, которые запрещает мне диета, но которые я храню там для услаждения взгляда.
— No, thank you, Sir.
Я с восторгом проглотил пирожные.
Дети обменялись взглядом, потом сурово взглянули на меня, с таким видом, как будто я заслуживал пяти лет тюрьмы без права на помилование.
— В Обществе защиты животных нам сказали, что Фидо точно у вас.
Наконец я начал понимать, кто такой Фидо. В это время из «шевроле», только что припарковавшегося перед домом, вышел пожилой человек, худой и сухощавый, с густой шевелюрой цвета «перец с солью». Сорок лет назад этот бодрый старик прыгал через изгородь в рекламе «Соли Крюшена, вечная молодость», и я с радостью отметил, что он до сих пор жив и в прекрасной форме. Упругим шагом он пересек газон. Далеко за семьдесят, если судить по количеству морщин на загорелом, веселом и открытом лице. По нему угадываются долгая счастливая жизнь, безбедная старость, до конца выплаченные залоги, страховка, рыбалка и утиная охота — список венчает традиционная рубашка в красную клетку из «Пендлтона». Он стоял между детьми, и руки его лежали у них на плечах.
— Good afternoon, Sir…[11] В Обществе нам сказали, что три недели назад вы подобрали собаку, очень похожую на нашу. Это немецкая овчарка с маленькой бородавкой на морде и с несколькими рыжеватыми подпалинами. Наш фургон сгорел в Гардении, пока мы были на прогулке, а собака спаслась и убежала неизвестно куда.
— Fido is the name. Ее зовут Фидо, — сказал мальчик.
Я услышал за спиной шаги. Моя жена. Я постарался не оборачиваться. Джин не умеет лгать.
— Входите, входите…
Они вошли. Дети не сводили с меня глаз. Наверное, они очень плакали, когда их любимый Фидо пропал.
Я приветливо улыбнулся, вид у меня при этом был самый искренний. Я уже давно был готов к такому повороту событий. Думаю, что мысленно я даже потирал руки.
— На вашей собаке не было ошейника?
Старик покачал головой:
— Нет, она потолстела, и мы были вынуждены снять ошейник, который ей давил, особенно когда нам приходилось привязывать ее. Мы как раз собирались купить новый, с личным номером, но вот видите…
Я поднял руку:
— Не имеет значения. Я уверен, что это та самая собака, с бородавкой, с рыжиной вокруг носа, как у заядлого курильщика, ха-ха-ха…
Лица белокурых ангелочков просветлели.
— Это точно она, — сказал папаша Крюшен.
— Мне очень жаль. У меня ее больше нет. Я обратился к защитникам животных, даже дал объявление в газете… Никто не отозвался.
— Мы здесь на каникулах, — сказал старик. — Мой сын приехал с женой в Лос-Анджелес, чтобы посмотреть, понравятся ли им эти места, и при случае подыскать дом. Потом он вернулся в Алабаму уладить свои дела, прежде чем окончательно здесь обосноваться.
— Алабама — красивое место, — сказал я любезно.
На лице старика появилась одна из тех улыбок, от которых в комнате делается как будто светлее.
— Самое прекрасное, — сказал он.
— Но и Калифорния тоже ничего, — добавил я.
Он согласился:
— Здесь больше возможностей найти выгодную работу. Мой сын двадцать лет отслужил в полиции, а теперь хочет завести собственное дело: открыть питомник. Ему только сорок семь лет. Да, он служил в полиции. Я сам был шерифом…
Я улыбнулся:
— Семейная профессия.
— Да, еще мой отец тоже был deputy sheriff и… «Сейчас он вытащит фотографии», — подумал я. За спиной я услышал дрожащий голос моей жены, которая сказала по-французски:
— Если ты отдашь им собаку, я уйду. Я улыбнулся еще шире.
— Заткнись, — сказал я с любезным видом. — Я просто валяю дурака.
Крюшен был в восторге:
— Так вы француз?
— Да, я родился в Вердене, его еще называют чудом Марны.
— Я был во Франции в семнадцатом году, — сказал он. — Добровольцем. «Мадлон»[12], маршал Фош… Сколько лет прошло…
— Без штампов он обойтись не мог, старый козел, — сказала Джин.
Когда Джин говорит на французском сленге с американским акцентом, это надо слышать.
— Мне очень жаль, но пес уже не у меня. — Я сделал паузу. — Он прекрасно выдрессирован…
Но я совсем забыл, что для славного старичка все это в порядке вещей и ему не в чем себя упрекнуть. Мой едкий намек пропал втуне.
— Это полицейская собака, — объяснил он. — Одна из лучших. Мой сын сам ее дрессировал. В полиции он занимался выучкой собак. Он всегда любил животных; он и родителей ее дрессировал. Фидо — полицейская собака в третьем поколении. Достигнув восьми лет, собаки уходят на пенсию. Их хорошо разбирают. Мой сын выкупил своего любимца. Никто не стережет дом лучше него.
— Ага, а то… — Джин неожиданно выдала реплику из своего диалога с Бельмондо в фильме «На последнем дыхании».
Я перевел:
— Моя жена просит прощения, она ни слова не знает по-английски… Она спрашивает, не выпьете ли вы чего-нибудь.
— А как насчет ушей? — спросила Джин.
Это наша любимая фраза. Я обязан ею актеру Марио Давиду. Однажды я увидел его за столиком в буфете мадридского аэропорта и кинулся навстречу, весь сияя от радости. По дороге я опрокинул бутылку вина, попытался ее поймать, наступил на ногу официанту, неловко повернулся и заехал Марио локтем в глаз; в то время как я рассыпался в извинениях, у меня выпала золотая коронка и угодила в суп. Марио Давид посмотрел на меня с интересом и спросил: «А как насчет ушей, Ромен, вы ничего с ними не делаете?»
Я предложил гостю скотч.
— Нет, спасибо, в самом деле… Вы кому-то ее отдали?
— Да. Видите ли, поскольку никто не отозвался… Так получилось, что один мой знакомый очень подружился с этим псом.
— У вас есть его адрес?
Я изобразил нерешительность.
Тон шерифа стал сухим и официальным:
— Я прошу дать мне адрес вашего знакомого.
— Послушайте, — сказал я. — Я прошу вас подумать. Я сам был поражен тем, что между ним и вашей собакой возникла такая сильная безотчетная симпатия. Это, наверное, какой-то животный инстинкт… Дело в том, что мой знакомый — африканец. Негр.
Папаша Крюшен остолбенел. Его кадык резво подскочил кверху, а рот так и остался открытым, хотя улыбка испарилась, что придало его лицу выражение полного изумления.
В жизни каждой супружеской пары есть моменты, когда долгие годы совместной жизни дают о себе знать довольно неожиданным образом: один из супругов внезапно начинает говорить на языке другого. Ибо нижеследующее выражение, прозвучавшее с оттенком уважения и даже восхищения где-то в глубине комнаты, я в свое время подцепил в Иностранном легионе и еще ни разу в жизни не слышал из прелестных уст моей подруги.
— Не хило! — сказала Сиберг.
После такого поощрения меня понесло:
— Мой знакомый — молодой африканский студент, который получил грант на год стажировки в Университете Южной Калифорнии. Когда он увидел вашу собаку, это была, я вам скажу, дружба с первого взгляда… Да, как удар молнии. Цепляющиеся атомы, домните? Вы мне не поверите, но не было никакой возможности их разлучить…
Папаша Крюшен медленно приходил в себя. Не знаю, как далеко он ушел, но своим видом он напоминал здорового парня с крепкой челюстью, который не желает признавать нокдаун. Все задатки первопроходца. Такие, как он, строили Америку. Голос у него несколько осип:
— Ваш знакомый увез собаку в Африку?
— Да. Я даже оплатил билет. Я не хотел их разлучать. Я не мог поступить иначе.
Девочка захныкала, прижав кулачки к глазам.
— I want Fido. Хочу Фидо! — захныкала она тоненьким, надрывающим душу голоском.
Спешу заметить, что это не более чем фигура речи.
Ее слезы растрогали меня не больше, чем «Несчастья Софи»[13] растрогали бы Чингисхана.
— Бедный зайчик, — сказала Джин, и, поверьте, в ее голосе послышалась неподдельная жалость.
Сразу оговорюсь: я люблю детей, с тех самых пор, как у меня появился собственный ребенок. И если мое сердце не дрогнуло при виде двух очаровательных малышей, горько оплакивающих потерю любимой собаки, то исключительно из-за того, что, глядя на бравого шерифа, я спрашивал себя, почему средний возраст жителей гетто, избиваемых полицией во время расовых конфликтов, — от четырнадцати до восемнадцати лет.
Наступила мертвая тишина. Шериф начинал понимать. Мы вообще начинали понимать друг друга.
— Вы не имели права распоряжаться этим животным.
Я попытался сгладить происходящее:
— Послушайте, я напишу в Африку. Уверен, с вашей собакой обращаются по-королевски. Ей ни в чем не отказывают. В Африке двести миллионов негров, так что, сами понимаете…
Он поднялся. Его большие корявые руки легли на две белокурые головки, как бы защищая их. Он был образцовым дедом, этот мерзавец.
Но самое ужасное, что он вовсе не был мерзавцем. Он был честным человеком.
— Мы будем искать адвоката.
— Поищите хорошенько. Потом расскажете, на что он похож.
Моя жена проводила его до дверей. Американское гостеприимство. Потом снова подошла ко мне, обвила мою шею руками и прижалась щекой к моей щеке. Некоторое время мы стояли молча. Затем я без особого успеха попытался продемонстрировать ей зрелость мышления, проще говоря, усталость:
— Брось, Джин. Настоящие люди — их миллионы — вне досягаемости, а остальные — лгуны и притворщики, причиняющие другим страдания, — являют собой слишком печальное и безнадежное зрелище. Существует барьер, не связанный с цветом кожи, но такой же непреодолимый: твоя профессия. Кинозвезда, пусть даже самая искренняя, самоотверженная и кристально честная, которая вдруг начинает заниматься всяческими язвами общества… она все равно остается кинозвездой. Вас окружает слишком много рекламы и фотографов, чтобы толпа могла увидеть в ваших действиях нечто большее, чем поиск рекламы и очередную позу для снимка. Или нужно завязать с кино и работать незаметно, наравне со всеми, но тогда никто из твоего теперешнего окружения о тебе и не вспомнит, потому что им нужна именно кинозвезда.
— Я знаю, и мне на это наплевать… Но школа… Тридцать детей, которых нельзя бросить… К тому же Билл Фишер прислал нам из Маршаллтауна чек на пять миллионов долларов и…
Я чувствовал, как у меня по шее скользят ее слезинки.
— Послушай, Джин. Давай поговорим об этой школе «без ненависти». Если бедные дети действительно будут воспитаны без ненависти в специально для этого созданной школе, они окажутся абсолютно безоружными и неприспособленными к жизни среди себе подобных…
— Я хочу им помочь. Я знаю, что звездной болезнью болеют не только кинозвезды. Я перестану сниматься.
— Если ты перестанешь сниматься, необходимость оправдывать то, что ты — Джин Сиберг, кинозвезда, исчезнет, а вместе с ней, возможно, и желание помочь…
— Ты думаешь, именно это мною движет?
Я встал:
— Не знаю. Это или не это, но с меня хватит. Я сваливаю. Я так больше не могу. Семнадцать миллионов американских негров в доме — это слишком даже для профессионального писателя. Все, что они могут мне дать, — еще один роман. Я уже протащил в литературу войну, оккупацию, свою мать, освобождение Африки, атомную бомбу — я категорически отказываюсь делать то же самое с американскими неграми. Но ты прекрасно знаешь, как это бывает: когда я натыкаюсь на что-нибудь, что не могу изменить, разрешить, переделать, я это уничтожаю: переношу в книгу. Депрессия проходит. Я начинаю лучше спать. Так что я сматываюсь. Я не могу писать о неграх. Я категорически отказываюсь. Я…
— Ты напишешь об этом в любом случае.
— Брось это, Джин. Ты десять лет прожила за границей. Ты вообще француженка по мужу.
— Я останусь американкой, пока не помру.
— Прекрасно, но я отказываюсь таскать Америку на своем горбу.
В дверь позвонили. Я пошел открывать. Их было пятеро, мужчины и женщины, все племенные черты налицо. «О нет, черт, хватит», — выкрикнул я по-французски, захлопнул дверь у них перед носом и вернулся к Джин. Не уверен, но, кажется, я рычал.
— Они здесь. Явились. Настойчивые, мерзавцы. Но раз они настаивают, я это сделаю. Ты сама знаешь, это сильнее меня. Я зашибу им книгу о страданиях негров, и, словно по мановению волшебной палочки, страданиям негров придет конец — точно так же, как пришел конец войнам после «Войны и мира» и «На Западном фронте без перемен». Сейчас книг, изменивших мир, считать не пересчитать, но если ты назовешь мне хотя бы одну, я облобызаю твои стопы. Так что или ты избавишь дом и меня от «проблемы чернокожих», или я избавлюсь от нее сам. Я вышибу твои семнадцать миллионов негров в книгу, и о них будет забыто. Это в порядке самозащиты.
Она подошла к двери и приоткрыла ее:
— Одну минуту, мой муж переодевается.
— Черт побери, — сказал я. — Я ухожу.
— Уходи.
Я пошел в гараж и сел за руль.
В знаменитой анкете Пруста есть вопрос: «Какому военному маневру вы отдаете предпочтение?» Я ответил: «Бегству».
Я много сражался в своей жизни. Больше не хочу. Свое дело я сделал.
Все, чего я теперь прошу, это чтобы мне позволили выкурить еще пару сигар в тишине и покое.
Только все это неправда. И нет ничего ужасней, чем неспособность к отчаянию.
Итак, бегство. Без промедления.
Сначала я поехал по Сансет-бульвар в сторону океана, но потом резко свернул на Кол-дуотер Кэнион и помчался к «Ноеву ковчегу» Джека Кэрратерса. Я пересек ранчо и вошел в питомник. Батька лизнул меня в лицо, встав на задние лапы, и я крепко его обнял.
— Прощай, Батька… — Я говорил с ним по-русски, чтобы никто нас не понял. — Слушай меня внимательно, приятель. Я не прошу тебя не кусать негров. Я прошу тебя не кусать только негров.
Думаю, он меня понял. Собаки умеют распознавать тех, кто одного с ними племени.
Я купил зубную щетку и сел на первый же самолет до Гонолулу. Потом Манила, Гонконг, Калькутта, Тегеран… Я проводил по нескольку дней то здесь, то там, чтобы выбить себя из колеи, потеряться, глотая вершки «местного колорита», «экзотики», «живописности», приправленные обычным для путешествий чувством отчужденности. Несколько дней здесь, несколько дней там, не уходя глубоко, не задерживаясь надолго, иначе я стал бы осознавать, что за всей этой маскировкой скрыта наша первичная данность, ущербная и непривлекательная, и я вот-вот столкнусь нос к носу с самим собой.
Я пишу эти строки на Гуаме, на берегу океана. Я слушаю, вдыхаю его смятенный шум, и он освобождает меня: я чувствую себя понятым и исчерпанным. Только океану известен голос, которым должно говорить от имени человека.
Мой самолет пролетал над ночными кхмерскими городами и рисовыми полями, когда ранним вечером в Лос-Анджелесе Сэнди, лежавший в ногах у Джин, поднял уши, встал и тихо подошел к двери. Он опустил морду и принюхался, а потом завилял хвостом, объявляя о радостном возвращении.
Это был Батька. Он удрал из питомника и пробежал всю долину Сан-Фернандо и холмы Беверли, чтобы наконец-то вернуться к своим.
Джин говорила мне позже, что не смогла выдержать его взгляда — столько в нем было любви. Она разрыдалась. Потому что и думать было нечего держать в доме собаку, которая для наших друзей-негров являлась воплощением веков рабства. «Всю эту паршивую ночь я пыталась примирить непримиримое. Что само по себе обнаружило какую-то дилетантскую изнеженность, душевную вялость. Времени-то на раздумья не было».
На следующий день она позвонила Кэрратерсу, чтобы предупредить его.
— А, так он нашел дорогу. Прекрасно. Слава Богу.
В голосе Кэрратерса было не просто облегчение, а настоящая радость.
— Да, вы явно не из тех, кто стремится перевернуть мир, Джек.
— Вот что значит жить с писателем, Джин. Вы подбираете пса и делаете из него целый мир… Знаете, что недавно произошло? Один из негров, здешних служащих, самый молодой, попытался отравить вашего копа. Он напихал ему в еду столько стрихнина, что можно было сдохнуть двадцать раз. Но пес к ней даже не притронулся: еда, поданная черным, — вы понимаете…
— Джек, не может быть…
— Конечно, не может быть. Половина того, что происходит на свете, «не может быть». Я не знал об этой истории со стрихнином. Я хозяин, поэтому мне ничего не сказали. На следующий день этот Терри — восемнадцать лет, сопляк, — пошел к Тэйтему. Билл Тэйтем — сторож, он кормил собаку, он самый что ни на есть белый, и это, видимо, чувствуется на милю вокруг, во всяком случае если судить по тем нежностям, которые ему расточал ваш коп. Как вы догадываетесь, Джин, мы, белые, обладаем особым душком, на любителя. Я докажу вам это dogs-in-hand, факты сами идут в руки. Терри попросил его отравить вашего расиста. Тэйтем ответил, что ему семьдесят лет и он не собирается кого бы то ни было отравлять, he didn’t have it in him. Он уже не такой принципиальный, как раньше, и не пойдет на это. Тут и возраст, и старческое слабоумие, в общем, у него не хватит духу. Я узнал о том, что замышляют у меня за спиной, только благодаря драке между Терри и Кизом. Киз ему наподдал как следует. Только не спрашивайте почему.
— Нелепо сваливать вину на бедного зверя… Киз достаточно умен, чтобы понимать это.
— Ошибаетесь, Джин. Киз гораздо умнее. Он настолько умен, что мне иногда кажется, он не думает, а высчитывает. Не размышляет, а замышляет. Так или иначе, он здорово отколотил мальчишку. Но это были цветочки. Позавчера я услышал крики рядом с гардеробом и пошел в ту сторону. Там был Терри, совершенно раздетый, и Киз с револьвером в руках. Револьвер был мой. Терри стащил его из письменного стола и спрятал под рубашку. Очевидно, парень хотел пристрелить вашего пса. Видите, до чего дошла эта страна. Вы понимаете, что, в сущности, стоит за этой историей? Это как растущий нарыв, потому что это уже не только расовая или политическая проблема: это безумие, психическое заболевание. Так что можете себе представить, как я обрадовался, когда ваш пес сбежал.
— Вы ничем ему не поможете?
— Я — нет. Возможно, Билл Тэйтем или еще какой-нибудь белый, во имя братской любви.
Если бы я в это время находился в Париже, я наверняка был бы вызван телеграммой в аэропорт «Орли», чтобы забрать присланную из Америки собаку. Но я был в Гонконге.
Проблема разрешилась неожиданным для Джин образом. Я не виню ее в том, что она попала в ловушку. Наверное, я и сам бы в нее угодил.
Было восемь или девять часов вечера. Джин, которая тогда играла в «Аэропорте» на студии «Метро Голдвин Майерз», готовилась к ночным съемкам. Батька и Сэнди только что слопали на кухне солидный ужин и теперь разлеглись посреди гостиной. Перед самым домом остановилась машина, и Батька моментально почуял цветного. Он вскочил и тихо прыгнул к двери, оскалив зубы, и внезапно залился воем, идущим, казалось, из недр первобытной природы.
Джин услышала шаги. Еще не прозвенел звонок, как вдруг с собакой произошло нечто странное.
Батька зажал хвост между лапами и начал пятиться.
Он не переставал лаять. Но его лай звучал по-другому: в нем появилось чувство страха и бессилия. Он то переходил в жалобное стенающее тявканье, то звучал с прежней силой и яростью.
Батька продолжал пятиться.
Джин приоткрыла дверь, не снимая цепочку: это был Киз, как всегда улыбающийся во весь рот. Непринужденные манеры, ловкие движения, сверкающие сжатые острые зубки, которые я так ясно перед собой вижу…
— Hi, there. Привет.
— Hi. Подождите минутку. Я запру собаку в гараже.
Его улыбка стала еще шире.
— Не стоит труда. Он меня не тронет.
— Послушайте…
— Я хорошо знаю животных, мисс Сиберг. Я вас уверяю, он меня не тронет. Мы еще не подружились, но дело продвигается. Небольшой прогресс уже есть. Если у вас найдется минутка…
Джин колебалась, но все же сняла цепочку. Гостеприимство.
— Вы уверены?
Киз открыл дверь и вошел. Батька зарычал с удвоенной силой. Но Джин, которая не один раз видела, как Батька прыгает на «врага», подчиняясь мгновенному рефлексу при виде чернокожего, была потрясена произошедшей в нем переменой. Киз прошел на середину гостиной, а Белая собака, не переставая рычать, ходила вокруг него, готовясь прыгнуть, но ее, казалось, удерживал некий барьер, который она не решалась преодолеть. Стоны отчаяния, прерывавшие яростное рычание, ясно говорили, насколько это идет наперекор тому, как ее дрессировали, чему учили, всей жизни верной Белой собаки.
Ей казалось, она идет на предательство. Джин стояла у двери, распахнутой в ночь, и замирала от страха. Киз оставался на середине комнаты; он вынул из кармана пачку, легкими щелчками выбил сигарету и взял ее в рот.
— Видите, перемена налицо, — сказал он. — Теперь они боятся.
Именно так. Я не выдумываю. Джин точно слышала эту фразу. Теперь они боятся. Если причины и подтекст такого обобщения недостаточно прояснили вам, что веками копилось в душе негра, в этом проявляется ваше безразличие не к неграм, а к душам.
Такие полицейские собаки, как Батька, на профессиональном языке называются боевыми. Как правило, за ними стоят несколько поколений животных, специально обученных нападать. Дрессировка, таким образом, способствует атавистическому развитию собачьей природы. Именно этому атавизму сейчас сопротивлялся мой пес…
Он был настороже. Он не перестал ненавидеть, но страх не давал ему атаковать. Время от времени Батька делал несколько маленьких шажков вперед, в такт собственному лаю, но тотчас же отступал. Шерсть у него на спине стояла дыбом, уши были прижаты к голове, а в его рычании теперь слышалось подлинное душевное раздвоение, отчаяние верного пса, чувствующего себя виновным в вероломстве.
Белая собака знала, что предает своих.
Киз зажег сигарету.
Джин потом говорила, что все это было как-то гнусно. «Во-первых, Киз смеялся: это был смех победителя. Победа все-таки бывает разной, и эта мало чем отличалась от любого триумфа террора. Первый вопрос, который пришел мне в голову: как он этого добился? Побоями? Мучительнее всего было смотреть на эту обезумевшую и растерянную собаку, пошедшую наперекор внутреннему рефлексу, сбитую с толку, запуганную, загнанную, в схватке с человеческим началом, исторической схватке. Это было невыносимо и унизительно. Тогда я почти ненавидела Киза, даже не его лично, а вообще все это. Нельзя без конца сваливать все на общество. В определенные моменты вы, и только вы, сами оказываетесь подлецом. Происходящее не имело ничего общего с благими намерениями “вылечить” собаку, дать ей “новую жизнь”. Здесь выяснялись отношения между людьми».
Она сухо произнесла:
— Я вижу, вы произвели на него неизгладимое впечатление.
— Самооборона, — сказал он. — Я лишь один раз побил его, когда немного потерял голову. Он привык ко мне, вот и все. Я иногда оставался в клетке по два-три часа, в защитной одежде, и в конце концов он смирился. Он начал понимать, что ничего не сможет мне сделать, что он от меня не избавится, вот так… Он знает, что я не боюсь его, а значит, он проиграл,
Позже, в свете последующих событий, я часто задавал своим друзьям вопрос: как бы вы поступили на нашем месте? Дело получило огласку, и много людей, по-разному к нам относящихся, звонили Джин и уверяли, что с радостью возьмут собаку себе. Об этом не могло быть и речи, потому что истинные причины этих предложений были шиты белыми нитками. Большинство моих знакомых говорили, что на нашем месте они усыпили бы собаку, «есть же, в конце концов, предел душевной чувствительности». Я не разделяю этой точки зрения. Напротив, мне кажется, вокруг нас полно доказательств того, что душевная чувствительность не имеет границ. Лично я отказываюсь покоряться современному приступу бесчувственности. Я отказываюсь нейтрализовать увеличение обесцениванием и не допускаю, что теперь на один франк приходится столько же страданий, сколько приходилось раньше на сто, другими словами, что сегодня вам нужно сто смертей там, где раньше хватало одной.
Джин колебалась. Единственное, что мне близко в великодушных людях, это необходимость доверять, которая может показаться слабостью, своеобразная манера доказывать свое доверие. Я не великодушный человек, так как я никогда не прощаю и еще реже забываю. Но однажды я стал жертвой мошенника только потому, что у него была гнусная физиономия и я испытывал необходимость оправдаться перед собой за свою инстинктивную антипатию и подписал с ним контракт.
— Конечно, — сказал Киз, — если вы его продадите, то выручите долларов восемьсот. Это же не просто сторожевая собака, а боевая. An attack dog. На них большой спрос.
— Перестаньте, Киз. Меня не нужно провоцировать. Вы знаете, что я с вами заодно.
Он принял почтительный вид и сказал без следа иронии в голосе:
— Я знаю, вы очень помогли нам. Такие люди, как вы, Берт Ланкастер, Пол Ньюман, Марлон Брандо… Я знаю.
Про себя он наверняка помирал со смеху. Но он был себе на уме, этот дьявол. Ненависть и мстительность обладают чудодейственной энергией, они сдвигают горы. Так возникла не одна благословенная страна. Это дело прочно.
Джин приняла решение. Она снова доверилась. Такой уж она человек, ничто ее не изменит.
— Хорошо. Вы можете забрать собаку на ранчо, вы ведь об этом хотели попросить? Если Джек согласен.
— Он согласится. В наши времена трудно найти квалифицированный персонал. Нужны годы, чтобы приобрести иммунитет. Гадюка может меня укусить, а мне ничего не будет. Во всей Калифорнии есть только два человека, которые не падают в обморок, когда им в руки дают кораллового аспида.
— Почему вы так упорны?
Он со смехом покачал головой:
— There, you’ve got me. Вы меня поймали. Я всегда любил зверей, с самого детства. Поэтому я выбрал такую работу. Скоро у меня будет собственный питомник. Я открою его за свой счет. Я настоящий профессионал. Если с этим псом все получится, я буду лучшим. Yes, ma’am. Лучшим.
Должно быть, эта сцена происходила в благоухании роз. Я, видимо, оставляю после себя странную пустоту, ибо стоит мне уехать, как мое место занимают десятки букетов роз. Их присылают отовсюду. С визитными карточками. Очень лестно сознавать, что, как только вы покидаете свою обворожительную супругу, немалое число народу устремляется в цветочные магазины, намереваясь возместить улетучившийся аромат.
— Вот что еще, Киз. Я знаю, что один из ваших служащих хотел убить собаку. Вы уверены, что он не попытается снова?
— Терри? Он все понял. Я расставил точки над i. Впрочем, он там, в машине. Я отвожу его домой. Хотите с ним поговорить?
Мальчик действительно стоял, облокотившись на капот автомобиля, и считал звезды. Восемнадцать лет. Подрастающее поколение.
— Не волнуйтесь, мисс Сиберг. Я сделал глупость. Это не повторится, обещаю. Никогда. Можете на нас положиться.
Вот так. На следующий день Джин отвезла Батьку на ранчо. На ее месте я поступил бы так же. Благодаря Джин мне иногда удается урвать частичку того чистосердечия, которое позволяет победить, несмотря на сознание своего поражения. Я имею в виду, что нужно по-прежнему доверять людям. Вы можете оказаться разочарованным, обманутым и осмеянным, но гораздо важнее, что вы не утратите веру в людей. Не так страшно в течение еще нескольких веков позволять другим злобным зверям за ваш счет утолять жажду из этого святого источника, как видеть его иссякшим. Не так страшно потерять, как потеряться.
В эти минуты я был, вероятно, где-нибудь между Пномпенем и Ангкор-Ватом.
Через два дня, по возвращении в Париж, я узнал от журналиста из «Франс Суар», что брат Джин погиб в автокатастрофе. Восемнадцать лет. Я тут же вылетел к Сибергам в Маршалл-таун, штат Айова. Это самое сердце Среднего Запада и самая «американская» часть Америки, «какой ее знали наши бабушки». Во время печальной церемонии среди друзей, пришедших выразить свое сочувствие семье погибшего, я услышал и о «другой драме», повергшей в глубокий траур этот маленький городок в двадцать тысяч жителей: девушка «из хорошей семьи», чьи родители — весьма уважаемые в городе люди, вышла замуж за негра. Это чуть не свело в могилу отца, да и матери не легче, и ведь такие достойные люди, such nice people… Мысль о том, что о «смешанном» браке можно говорить с таким же ужасом, как о трагической смерти, вывела меня из себя. Я пытался сдержаться, но молчание — знак согласия, я не мог сохранять скорбный вид и поддакивать, будучи надежно спрятанным под более или менее белой кожей. Моя любимая форма самозащиты — провокация. Я заявил своим собеседникам, что, как никто другой, понимаю их «трагедию», поскольку моя первая жена, на которой я женился в 1941 году, была негритянкой из Африки и ходила нагишом. Я почти не выдумывал; правда, в Шари во время войны такие браки были в обычае племени, и отец отдал мне свою дочь в обмен на охотничье ружье, двадцать метров ткани и пять банок горчицы. Друзья семьи погрузились в тягостное молчание: здесь думали, что Джин Сиберг вышла замуж за благовоспитанного человека. Но я, как всегда, шел до победного: я сказал, что от этой негритянки у меня есть сын двадцати шести лет, член компартии Франции. Кое-кто из моих слушателей попытался сбежать, но я произнес волшебное слово «де Голль», и они остались. Я чуть было не сказал, что и в де Голле есть африканская кровь, но совладал с собой: все-таки я не имею права оевреивать Францию; вы понимаете, что я хочу сказать. Я только сообщил, что де Голль был свидетелем на моей свадьбе в Банги и что он крестный отец моего чернокожего сына-коммуниста. Наступила мертвая тишина, и семья моей жены получила удвоенную порцию искренних соболезнований.
Все же я не должен был срывать на них злость: за их плечами не один век рабства. Я говорю не о неграх, а о белых. В течение уже двух веков они по рукам и ногам связаны готовыми идеями, предрассудками, благочестиво и неукоснительно передающимися от отца к сыну, их мозги сжимают колодки, как некогда особые башмаки деформировали ступни китаянок. Я старался сдержаться, когда мне в очередной раз объясняли, что «вы не можете этого понять, у вас во Франции нет семнадцати миллионов негров». Это правда; но зато у нас пятьдесят миллионов французов, тоже не сахар. «Поймите, мы не хотим притеснять негров, мы за то, чтобы они пользовались своими правами. Но смешение рас ни к чему хорошему не приведет».
В эту ночь я успокаивал жену, которая содрогалась от рыданий в моих объятиях, и в ее горе я чувствовал упрек, знакомый всем, в ком мужественность проявляется прежде всего в потребности оберегать, защищать и утешать. Никогда в минуты разочарования все мужское во мне не бунтовало с большей силой и тщетной яростью против того, что мы за неимением более грубого слова называем судьбой, — против этой заранее проигранной битвы, в которой нам даже не позволено сражаться.
Несколько дней спустя, сидя в гостях, я снова услышал о «другой драме», и случилось неизбежное: поводок лопнул, и я сказал хозяину дома, что, имея, как многие белые, лицо, похожее на вылизанную тарелку, он должен все поставить на черных, чтобы они поделились цветом с его потомством. В полной тишине я уходил по осколкам последнего ко мне доверия. Проезжая через кукурузные поля, я пытался напомнить себе, что мне уже пятьдесят четыре, мои тело и душа отмечены рубцами, так что пора бы уже научиться смирению. Я спрашивал себя, совместимо ли смирение с нормальной половой жизнью. Думаю, что оно, так же как мудрость, приходит после.
Психиатрические исследования давно показали, что на отношения между белыми и черными подспудно влияют сексуальные страхи. Легенды о сексуальных способностях негров не всегда обоснованны.
Когда я был генеральным консулом в Лос-Анджелесе, с 1956-го по 1960 год, мне приходилось составлять для посольства многочисленные отчеты о расовой проблеме в Калифорнии. Я столько раз слышал о том, что комплекс «несостоятельности» подогревает ненависть к черным, потому что белые чувствуют свою неполноценность в известной сфере, что в конце концов по моей просьбе местный Институт общественного мнения опросил более ста двадцати лос-анджелесских «девушек по вызову», и белых, и черных.
Результаты были столь же ошеломляющими, сколь и малодоказательными.
Большинство белых девушек на вопрос: «Случалось ли вам отмечать, что ваши черные партнеры “состоятельнее” ваших белых партнеров?» — ответили утвердительно, а большинство черных не находили особого различия между теми и другими: по их мнению, все зависит от человека. Наш тогдашний посол, г-н Кув де Мюрвиль, любил внятные и ясные отчеты, но я не мог представить ему ничего сколько-нибудь определенного по этому вопросу. Самый чудесный ответ дала одна молодая женщина, которую я потом попросил о встрече. В своей анкете она написала: «Дело не в количестве, а в качестве. И кроме того, есть чувство», В первой части ответа, вероятно, сказались профессиональная гордость ремесленника и любовь к хорошо выполненной работе, но фраза «и кроме того, есть чувство» меня пленила. Я уже спрашивал себя, не встретил ли я наконец женщину своей жизни. Поартачившись, работодатели назвали мне ее имя, и я пригласил ее пообедать «У Романовых». Это была красивая девушка двадцати трех лет, которая в свободное от работы время писала диплом по садоводству в Калифорнийском университете. Поскольку ничто так не потрясает интеллигента, как встреча с проституткой — студенткой Сорбонны или ее калифорнийским эквивалентом, я действительно почувствовал, что на меня снизошла милость Господня. Уже за дыней мы рассуждали о литературе, а за десертом было произнесено слово «экзистенциализм». Американские проститутки отстают лет на двадцать: у нас они говорили бы о структурализме и Мишеле Фуко. Я не спрашивал, почему она выбрала эту «профессию», потому что вовсе не это ее профессия. Все же я был несколько разочарован, узнав, что моя красавица замужем и у нее пятилетняя дочь и что ее муж — впоследствии он стал телевизионным продюсером в Нью-Йорке — сам возит ее от одного клиента к другому на машине. Меня охватило глубокое уныние: я не то чтобы пал духом, но почувствовал, что старею и молодое поколение обгоняет меня на полной скорости. Тогда же, за десертом, я был окончательно нокаутирован тем, что эта девушка, которая «цепляла» по десять клиентов в день, не курит и не пьет кофе. Она принадлежала к мормонской церкви, где кофе и табак запрещены. Было это в 1959 году. Эта пара опережала свое время лет на десять. Я спросил своего знакомого, профессора Гольдберга, почему, с его точки зрения, девяносто процентов белых проституток подтвердили, что чернокожие партнеры «сильнее», а их черные коллеги, примерно в том же количестве, не делали здесь никакого различия. По мнению этого видного психоаналитика, негритянки, из страха перед белыми, старались успокоить их волнения по поводу собственного потенциала, а белые женщины, наоборот, стремились их унизить. Может быть, и так. Но факт остается фактом: я не смог просветить на этот счет г-на Кув де Мюрвиля, который, спешу добавить, нисколько и не настаивал на разъяснениях.
Я не перестаю удивляться, до какой степени Америка обуреваема «комплексом несостоятельности», американские писатели особенно. От Мейлера до Джеймса Джонса, от Фолкнера до Хемингуэя и Филипа Рота проявление этой озабоченности взрослого американского интеллектуала своим пенисом заставляет думать о какой-то тотальной кастрации. Самым трогательным и самым удручающим примером является история о Скотте Фитцджеральде, рассказанная Хемингуэем в романе «Праздник, который всегда с тобой». Фитцджеральда, судя по всему, мучила мысль о собственной «скудости». Хемингуэй, изучив предмет его терзаний, заверил своего старшего коллегу в том, что природа его не обделила, и, дабы отмести последние сомнения, потащил приятеля в Лувр и показал ему размеры фаллосов греческих статуй. Как двое взрослых, двое самых прославленных писателей своего времени дошли до такого? Какая глубокая тоска скрывается за этим наваждением, которое я не встречал ни в одной другой стране? И потом, как справедливо заметил преподобный отец Шаррель, разве сам Хемингуэй не знал, что в состоянии покоя размеры ни о чем не говорят и значение имеет только состояние возбуждения?
Быть может, в этом беспокойстве следует видеть простое проявление американского пер-фекционизма в отношении всяких игрушек, стремление получить самую последнюю, самую мощную, самую лучшую модель?
Боюсь, однако, что причина куда глубже. Запутавшийся в хитросплетениях ускользающего мира, в движении беспощадных шестерней общества, которое становится все настойчивее и губительнее, американец, больше, чем кто-либо, вовлеченный в круговорот искусственного существования и теряющий почву под ногами, пытается обрести в самом себе некую уравновешивающую первичную силу. Сбитый с толку и бессильный укрепить свое положение человек, чьи действия ограничены всем, начиная с пешеходного перехода и кончая чиновничьим аппаратом, готовый продукт расчетливой выделки, выработанный социальной машиной и для нее, видит в эрекции единственную возможность подтвердить свою «силу». Поток порнографии, демонстрация половых органов в кино и на сцене — это вызов, ничтожное проявление желания «утвердиться» у того, кто, в полном смысле слова, с точки зрения идеологии, философии, морали противостоит всеобщей кастрации. В любом случае ясно одно: the American dream is becoming a prick. «Американской мечтой» теперь становится…
Эти «фаллические воззвания» говорят о полном смятении, тревоге и неуверенности. Когда рушится вся система ценностей, оргазм — это единственное, в чем можно быть уверенным. Я помню, что в самые черные дни войны, перед тем как идти на бойню, солдаты возвращались из борделей со словами: «Здесь бошам тоже не отколется». Видимо, в такой психологической ситуации «чернокожий гигант», король стадионов, гаревых дорожек, футбола и бейсбола, «африканец», за спиной у которого едва ли три поколения цивилизации, «тигр», «пантера», становится предметом зависти, а следовательно, ненависти и противостояния.
Сексуальный эксгибиционизм — одно из самых комических проявлений этого «возвращения к истокам», являющегося, вероятно, самой старой мечтой человечества, наряду с обретением рая. Чем труднее разуму найти решение и утвердиться, тем неизбежнее заменителем решения становится соитие. Достаточно почитать современную американскую литературу: такое впечатление, что все эти Филипы Роты, Норманы Мейлеры и множество других талантливых людей сидят в темноте и рассматривают свой пенис, бормоча: «Look, Ma, no hands!» — «Ma, смотри, у меня стоит!»
Джин нужно было срочно лететь на съемки в Вашингтон, и через три дня после похорон мы уехали из Маршаллтауна. Но погибший все еще среди нас, и так будет долго: он появляется вновь и вновь, в этих внезапных слезах, которые пробуждают во мне бессильную воинственность, как всегда, когда я сталкиваюсь с чем-то непоправимым. Прячущийся во мне идеалистичный поборник справедливости, всеобщий защитник, правая рука Правосудия, в очередной раз сжимается, уступая внутренней ярости, озлоблению и ненависти к самому себе, овладевающей всеми мятежниками, когда они вынуждены пробормотать: «Ну что ж, ничего не поделаешь».
Я взял ее за руку, желая утешить, и спросил, как там дома. Я узнал, что наш сын — ему еще нет пяти, но он, подобно своему отцу, уже проявляет тягу к интроспекции и, возможно, к совету Сократа: «Познай самого себя» — проглотил рулетку, пытаясь исследовать ее внутренность, и его пришлось отвезти в больницу. Кошки чувствуют себя превосходно.
— А Батька?
Джин помрачнела. Она сохранила непосредственность выражений и искренность в проявлении душевных состояний, с быстрыми переходами от улыбки к печали, как бывает только в детстве…
— I don’t want to talk about it… Я не хочу об этом говорить.
Я напрягся.
— Киз убил его?
— Нет.
Она молча смотрела вниз, на серые и красные горы.
— Послушай, Джин…
— Сначала он морил его голодом. То есть Батька отказывался от пищи, если… если ее приносил негр. Собака превратилась в скелет. Киз жутко поругался с Джеком Кэрратерсом, потому что один раз Джек сам ее покормил. «Либо она примет еду из моих рук, либо вообще жрать не будет» — вот позиция Киза. Кэрратерс позвонил мне, он буквально орал в трубку, я слышала, как он колотит кулаком по столу… Да, Джек Кэрратерс, который столько повидал и, по слухам, никогда не выходит из себя… как бы не так. Он орал в трубку, стуча по столу: «Заберите эту чертову зверюгу, или я ее усыплю сегодня же вечером… Вы поняли, Джин, положите этому конец…»
Положите этому конец…
Сомневаюсь, что можно депортировать семнадцать миллионов негров в Африку.
— Ну и?
— Я сказала: «Хороню». Села в машину и поехала в питомник. Это было совсем недавно. Киз собаку не отдает.
— Что ты говоришь?
— Киз не хочет отдавать собаку. Когда я приехала, Киз пришел к Джеку в кабинет. Я думала, они оба свихнулись. Джек Кэрратерс — не человек, а скала, айсберг — на грани истерики, можешь себе такое представить? Нет. Но я это видела собственными глазами. Киз был не лучше. Джек орал, у него начался жуткий нервный тик, хотя лицо у него наполовину парализовано, а Киз сначала только открывал рот, но изо рта у него не вырывалось ни звука, когда же ему удавалось хоть что-нибудь произнести, то из горла вырывался сплошной треск.
«Мы не имеем права морить его голодом, — орал Кэрратерс. — Только не у меня. Только не здесь. Во-первых, я не признаю таких методов дрессировки». — «А какие вы признаете? — вопил Киз. — Как на Юге, да?» Честное слово, я думала, Джека хватит удар. Его латаное-перелатаное лицо раздулось так, что чуть швы не лопнули, а голова стала как сжатый кулак. Он умолк, — знаешь, как бывает, когда человеку стоит неимоверных усилий сдержаться, — а потом заговорил глухо, как будто из-под земли: «Listen to me. Послушайте, Киз. Обвините меня в расизме, и я с вами соглашусь». Киз от изумления застыл с разинутым ртом. «Я расист. Только не такой, как вы, белые там или черные. Я расист, потому что весь ваш сучий человеческий род я в гробу видел, будь вы желтые, зеленые, голубые или в крапинку. Я уже тридцать лет как переключился на животных». Они оба немного успокоились. «Вы не можете отпустить собаку, — сказал Киз. — Сначала ее надо вылечить». — «Она “испорченная”, Киз, и вы прекрасно это знаете. Ее не вылечить и не изменить». — «Дайте мне попробовать». — «Она у вас подохнет от голода и жажды. Это садизм. Вы мстите собаке за хозяев». Киз посерел от ярости: «Мне не нужно искать собаку, чтобы отомстить хозяевам… Я найду их самих. Револьвер найдет». Я пыталась вмешаться, но куда там… Джек ткнул в меня пальцем: «Я хочу, чтобы она увезла пса. Прежде всего, он околеет от голода. Об этом узнают. Будут говорить, что Джек Кэрратерс берет животных измором. В меня вцепится Общество защиты животных. Их инспектор меня уже выспрашивал. Пришлось врать. Я сказал, что собака больна и ничего не ест. Моя репутация может погореть ко всем чертям». Очевидно, Киз принял этот аргумент — под угрозой бизнес — и жестом выразил согласие: «Знаю. Все, чего я прошу, это дать мне еще две недели. Собака не сдохнет. Она поразительно крепкая». Потом Киз произнес что-то совсем странное. Он сказал: «Прекрасная собака». Это прозвучало совершенно искренне, и Джек явно не нашелся, что ответить. «Ладно», — сказал он. После этого Киз ушел, а Джек повернулся ко мне: «Вы что-нибудь понимаете? Он на самом деле держится за эту собаку. Почему? Почему он так хочет ее вылечить? Киз — чернокожий мусульманин. Говорят, что им оплачивают поездку в Мекку за каждые пять “белых” скальпов. Ненависть чистейшей воды, так сказать. Ну ладно. Так что же он хочет доказать? Что можно вылечить ненависть, потому что она всего лишь результат выучки? Тогда почему бы ему самому не полечиться?» Я сказала: «Я думаю, что слово “ненависть” применимо только к клиническим случаям, но зло само по себе — тяжелый и заразный невроз…» В общем, ты понимаешь. Джек меня не слушал. «Эта собака всех отправит в психушку, вот что», — сказал он.
Я был полностью на стороне Киза.
— Убежден, что собаку можно вылечить.
Думаю, мне редко приходилось так ошибаться в людях. Я приписывал Кизу собственное вялое идеалистически-ностальгическое возмущение, со слезой и придыханиями, под лозунгом «Возлюби ближнего своего», включая собак и майских жуков, которых, если они перевернулись на спину, нужно поставить на лапки. Это вечная осанна душевной чувствительности, братской любви и доброте. Представляя, что когда-нибудь напечатаю этот рассказ и все прочитают вышедшую из-под моего пера сентиментальщину, я уже слышу смешки закоренелых и непоколебимых рационалистов, лишенных филантропической щепетильности, настоящих мужчин, — тех, кто построил этот мир, потому что, не будем забывать, именно сильные люди построили мир, а спасение может принести только женственность…
Мы приземлились в Чикаго. Два больших магазина типа «Bon marche´» горели на окраине негритянского квартала. Это был поджог. В зале ожидания несколько черных и белых пассажиров смотрели, как на экране телевизора подымается столб дыма. Молоденькая стюардесса за стойкой говорила со слезами на глазах: «Куда это все приведет? Наша культура рушится…»
«Культура» в смысле «цивилизация». Я увидел прежде всего положительную сторону дела: маленькая американка со Среднего Запада, за стойкой третьеразрядного аэропорта, говорит со мной о «культуре» и полностью отдает себе отчет в том, что происходит.
Мы смотрели на пылающие магазины. Это случилось утром, новость совсем еще свежая, и я радовался. Я радовался, оттого что любил Америку. Я был счастлив, что она зашевелилась, что ей больно, что она, может быть, наконец-то проснется. Вьетнам — худшее, что могло произойти во Вьетнаме, но лучшее, что могло произойти с Америкой: отсутствие уверенности и переосмысление устоявшихся норм говорит о грядущем преображении. Я не знаю, какой будет новая Америка, но знаю, что пожары в негритянских кварталах не дадут ей сгнить заживо в застое склеротических структур, незаметно подрывая их основы. Америку спасет вызов, брошенный ей чернокожими, тот самый challenge, который, по Тойнби[14], необходим перерождающейся цивилизации. В противном случае она погибнет.
Чернокожий носильщик в красной фуражке, стоявший рядом со стюардессой, покачал головой:
— Это опять их рук дело.
Их. Он держал дистанцию. Девушка вытерла слезы. Она посмотрела на меня с тем доверием, которое здесь инстинктивно оказывают носителям вековой мудрости — европейцам. Мне захотелось достать свою корону французского гражданина и чуть-чуть ее протереть, чтобы ярче блестела.
— Думаете, все уладится? — спросила девушка.
Я с некоторым недоверием отношусь ко всему, что «улаживается». От этого иногда проигрывает не один, а двое.
— Послушайте, — сказал я. — Можете спать спокойно: ничего не уладится. Война Севера и Юга, к счастью для Америки, еще не закончилась. Небольшая группа негров пытается освободить белых от рабства, а вырваться из тисков, сжимающих ваши мозги уже два столетия, ой как непросто. Одно из двух: или негры победят, и Америка изменится, или потерпят поражение, и Америка опять-таки изменится. В любом случае вы не проиграете.
В зале ожидания сидели шесть чернокожих и человек пятнадцать белых; они смотрели на горящие дома в полном молчании. Есть одно обстоятельство, о котором никогда не говорят в газетах: в Штатах никогда не было того, что во Франции на языке журналистов называется «спор, перешедший в схватку». В основе всех вспышек насилия — бестактность, или жестокость полиции, или недоразумение, или провокация. Но никогда спор…
— Я бы хотела съездить в Европу, — сказала девушка.
Моя жена тут же нацарапала ей наш парижский адрес. Сиберг занимается тем, что раздает наши адреса всем юным американским маргиналам, которые думают, что Атлантида на самом деле существует. Поэтому однажды я обнаружил у себя в квартире на улице Бак шестерых битников в спальных мешках; один из них еще четыре года назад получил наш адрес и решил «поделиться» им с друзьями. Есть люди, которые ничего не понимают в символических жестах.
Мы приехали в Вашингтон после полудня. Нас встретили цветущие вишни. Вашингтон, как и Лос-Анджелес, принадлежит к тем городам, которые всегда оказываются не там, где они должны быть. Это не города, а кварталы, разбежавшиеся в поисках города. Последний раз я приезжал сюда, когда был генеральным консулом в Лос-Анджелесе, а Кув де Мюрвиль был первым послом в Вашингтоне, с которым мне пришлось иметь дело, и, быть может, я был единственным в мире человеком, вспомнившим Кув де Мюрвиля при виде цветущих вишен. Краткий миг ностальгии. Не могу сказать, что мне его не хватает, — Кув де Мюрвиль не из тех людей, которых кому-нибудь может не хватать, — но я ценил его элегантную холодность и неприступный вид, маскировавший, возможно, внутреннюю взбудораженность и вспыльчивость, превосходно контролируемую, которую выдавали лишь мимолетные приступы раздражения.
В тот же вечер, когда мы ехали ужинать, по радио объявили, что убит Мартин Лютер Кинг[15]. Водитель такси был чернокожим. Джин так побледнела, что он показался мне еще чернее. Вцепившись в руль, он попросил меня повторить адрес ресторана. Я повторил. Он продолжал смотреть прямо перед собой, потом сказал придушенным голосом:
— What was the address again? Еще раз, какой адрес?
Отвечать было бесполезно. Я ждал, когда он придет в себя. Мы кружили среди цветущих вишен, залитых светом прожекторов и от этого похожих на застывших танцоров.
— Как вы сказали, какой адрес?
— Его убил белый? — спросила Джин.
Малькольм X. был убит чернокожими мусульманами, сторонниками этого сукиного сына Илии[16], который обрюхатил Бог знает сколько своих «прихожанок». Триумф Малькольма был для него опасен. По слухам, N., нефтяной миллиардер из ультраправых, воплощение и главный защитник белой расы в Америке, выделял значительные суммы мусульманам, верно рассчитав, что появление чернокожих расистов растормошит белых.
— Это был белый?
Шофер не ответил. Я попросил его повернуть назад к отелю. Глядя на его ссутулившуюся спину, я чувствовал, что он нас ненавидит — не нас лично, но просто мы первые белые, попавшиеся ему на дороге. В чудесном свете прожекторов, вишни вокруг нас теперь напоминали нарядных людей, по ошибке приехавших на праздник на день раньше. Шофер высадил нас у отеля. У меня было огромное желание дать ему слишком большие чаевые, просто потому, что он — негр и что убит Мартин Лютер Кинг.
— Теперь покатится, — сказала Джин.
«Покатилось» на следующий же день. Уже к двум часам пополудни насчитали семьсот пожаров, большинство — недалеко от Белого дома. Как всегда, бунтующая молодежь сожгла в первую очередь собственные дома. На одну разоренную «белую» лавку приходилось по пять обездоленных негритянских семей. На экране телевизора появлялся седобородый еврей — владелец выпотрошенного антикварного магазина.
— Я не держу на них зла. Их можно понять…
О евреях говорится особо: во-первых, потому что половина магазинов принадлежит им, во-вторых, потому что на них срывают злобу все, и негры не исключение.
Еще один белый, не то грек, не то итальянец, не то армянин, стоит перед разбитой витриной своего трикотажного магазина, в которой с выражением вызова болтаются длинные кальсоны. «Почему полиция не стреляла? Это же позор, полицейские даже из машин не высовывались, пока у них под носом грабили мой магазин!» Он хотел расстрелять подростков пятнадцати-шестнадцати лет из-за каких-то кальсон. Вероятно, кальсоны были высшего качества.
Мэр Вашингтона, чернокожий по фамилии Вашингтон, дал полиции разрешение стрелять, только если возникнет угроза для человеческой жизни. Из газет я узнал, что мой друг Сельвин Дресслер был избит в телефонной будке, когда пытался фотографировать беспорядки. Как ему пришло в голову искать убежища в телефонной будке, где даже повернуться негде! По телевизору показывают сцены ограблений, снятые чернокожими репортерами. Через несколько часов в городе началось что-то вроде «конголизации». Отель «Хилтон», в котором мы остановились, напоминал бестолково дрейфующий роскошный теплоход: его персонал почти целиком состоял из негров, а они не решались перейти собственный квартал, чтобы добраться до работы. Американские мегаполисы удивительно хрупки: в Нью-Йорке после снежной бури младенцы остаются без молока, жизнь парализована; теперь из-за отсутствия продуктов закрываются рестораны, кучи отбросов растут прямо на глазах. Горы мусора — первый симптом того, что цивилизация терпит крушение. Дым от пожаров застилает даже кварталы, расположенные достаточно далеко от «эпицентра», хотя и там ходят слухи о том, что «они вышли на улицы». На дорогах безумие: все, у кого есть машины, кинулись прочь из города, в котором белых меньше сорока семи процентов, а по окружности — «черный пояс». В столице резко вырос уровень преступности. Одна пятидесятипятилетняя дама из высших слоев общества, знаменитая хозяйка светских приемов, была среди бела дня изнасилована чернокожими в самом центре города, в скверике, где она выгуливала собак. Впоследствии неустрашимая женщина призналась послу, что очень боялась за собачек, которых эти три хулигана угрожали убить.
В вестибюле «Хилтона» сидели на чемоданах туристы, прилетевшие на Фестиваль вишен, и ждали, когда за ними приедут автобусы. Аэропорты охранялись с утроенной бдительностью. Все осунулись и нервничали гораздо сильнее, чем того заслуживала в общем-то не такая уж опасная обстановка. Что и говорить, Америка обрела новых краснокожих, но не новых первопроходцев… К счастью, прогуливаясь среди забытых вишен, я наткнулся на двух пожилых людей, мужа и жену, воплощающих самый дорогой моему сердцу тип американца. На двоих им было лет сто пятьдесят. Старушка фотографировала необычайно пышно расцветшую вишню, и, клянусь вам, дерево ей явно позировало. Ее муж сам был похож на сухое дерево с морщинистой корой, которое уже никакая весна не заставит цвести. Его веселые голубые глаза посмотрели на меня заговорщически.
— Понимаете, там вся эта неразбериха… with all that mess… а здесь так спокойно… we have it all to ourselves. Весь парк в нашем распоряжении.
Я сказал им: «I love you», — и оставил наедине с вишнями.
К вечеру ситуация ухудшилась (во всех смыслах) до такой степени, что в столицу направили двенадцать тысяч солдат федеральной армии. Был объявлен комендантский час. За несколько минут до этого я проходил мимо Белого дома, и моим глазам предстала историческая картина, которую все видевшие ее забудут не скоро: на ступенях здания стоял пулемет, стволом к улице; через несколько часов его убрали по личному распоряжению Джонсона[17], но я-то его видел. Ничто так ярко не свидетельствует о бессилии, как жалкий пулемет, направленный дулом на улицу, у входа в жизненный центр самой могущественной демократической страны мира. По крайней мере, в Америке еще может произойти что-то новое.
На улицах не осталось ни одной машины. Белые и черные ходят с виноватыми лицами и избегают смотреть друг другу в глаза — исключительно неприятное зрелище. Они и не подозревают, что им довелось пережить исторический момент, возвестивший, пока еще негромко, о зарождении новой цивилизации. Если бы я был русским или китайцем, я от всей души пожелал бы Америке скорейшего разрешения. Всем «желтым» и «красным», которые собираются «хоронить» Америку, я напоминаю: Америка — гигантский континент, и чтобы зарыть такой труп, нужно много места, если быть точным, вся земля. Кто роет могилу Америке, тот готовит собственные похороны.
В коридорах отеля было пусто. Проходя мимо какого-то номера, я увидел в открытую дверь на редкость безобразную сцену. На кровати сидела зареванная толстуха в трусах и лифчике и выла, обращаясь к кому-то, кого я не видел, но в ком почуял совершенный образчик американского мужа.
— I want to go home. I want to get out of here. Я хочу домой. Я хочу уехать отсюда.
— Sure, baby, sure. We’ll be all right, we are getting out tomorrow. We’ll be all right. Конечно, малыш, конечно. Мы уедем. Все будет хорошо.
Между тем все эти страхи — полнейший идиотизм. В вестибюле болтают, что черные собираются поджечь «Хилтон», закрыв все входы и выходы, чтобы клиенты задохнулись, как крысы. Мысль интересная как раз потому, что вполне крысиная. Внутренняя паника не была оправдана ни малейшей опасностью извне. Зато вышло на поверхность чувство вины, корень всех волнений. Но самое важное — это внезапное превращение знакомого в совершенно чужое. Америка неожиданно перестала узнавать «своих» негров и почувствовала страх перед ними. Вы знаете историю про матроса Дыбенко, который был дядькой последнего царевича Российской Империи? Он несколько лет заботился о маленьком наследнике с такой трогательной преданностью, что заслужил полное доверие царицы. После переворота царская семья была заключена под стражу. Кто-то из прислуги случайно зашел в комнату царевича и увидел матроса, развалившегося в кресле: грубо ругаясь, он заставлял перепуганного наследника стаскивать с него сапоги.
Вот так: никогда нельзя полагаться на слуг.
Как только начался бунт, я попытался связаться с человеком, которого здесь я назову именем его последнего, одиннадцатого, ребенка — Ред. Я познакомился с ним в Париже, сразу после Освобождения. Он тогда был сутенером и учился в Сорбонне. Правда, «сутенер» — не совсем то слово. Он скорее не содержал, а жил на содержании. Девицы с площади Пигаль не стали ждать «Черных пантер», чтобы оценить черный цвет. Физическая красота была главным богатством этого калифорнийского парня, которое ему, отвергнутому обществом, приходилось эксплуатировать. Точно так же общество поступает с цветными спортсменами, заставляя их работать мускулами до потери пульса, чтобы потом вздохнуть свободней. Нужно быть гнусным лицемером или преотвратным моралистом, чтобы иметь наглость винить Малькольма X. за то, что он был «котом», или моего друга Реда за то, что позволил себе жить на содержании у проституток. Прежде чем поносить черных африканцев за сутенерство, нужно вспомнить о тех тысячах белых африканцев, которые в течение целого века приказывали своему бою: «Приведи мне на ночь девку». Особенно если посмотреть, какие перспективы сейчас у африканцев, допустим, в Париже. Кто сталкивался с сексуальным колониализмом в Индокитае и Африке, тот двадцать раз подумает перед тем, как сказать, что эти европейские африканцы все сутенеры. То, что первые пятьдесят лет колониализм в общем был важным историческим этапом и бесспорно много дал неграм, не отменяет совершенного над ними насилия. Поэтому мы должны быть более осторожными в рассуждениях о нравственности. Появление «сосальщиков» — одно из гадких и позорных последствий колонизации — надругательство над душой чернокожего ребенка. В основе — полный отказ считать негров за людей. Несчастные, вынужденные искать выход в этой мерзости, сплошь и рядом даже не были гомосексуалистами. А что касается Америки, то стоит только почитать автобиографии Клода Брауна, Кливера и многих других, и вы поймете, что по сравнению с теми психологическими, моральными и экономическими условиями, в которых борется за жизнь, развивается или гибнет личность молодого чернокожего из гетто, не имеет никакого значения, что тот или иной негр, ныне адвокат, политический лидер или писатель, в пору бурной молодости был сутенером, уголовником, наркоторговцем или наркоманом. Мало найдется негров, чьи матери не были бы шлюхами. Мало детей, чьих бабок и прабабок белые не использовали в почетном деле лишения невинности своих прыщавых отпрысков. Сегодня любой негр совершенно спокойно скажет вам, что его мать была шлюхой. Главной шлюхой на самом деле была наша общественность. В такой ситуации стать «котом» — это просто значит приспособиться, чтобы выжить, подчиниться диктату «высшей» расы. Как евреи — на ростовщичество, чернокожие мужчины и женщины были обречены на занятие проституцией, спортом или на уголовщину — четыре пятых всех преступлений в Америке совершают чернокожие.
В Париже я помогал Реду, когда он был болен туберкулезом. Ред на десять лет меня младше. Я очень любил этого малого, потому что чувствовал в нем волнение океана, волнение моей собственной юности, проведенной вдали от родины. Он очень быстро выучил французский и говорил на отличном жаргоне, с уморительным американским акцентом. Ред, я помню твою пророческую фразу: в 1951 году на выставке Пикассо, когда накачанный пенициллином — за вредность профессии, — ты выкрикивал: «Рано или поздно молодежь будет обращаться с обществом так же, как Пикассо с реальностью: разделывая его на куски…» Твое здоровье! Один из его старших сыновей, близнецов, живет, вернее, прячется у меня дома, в комнате для прислуги.
Вы когда-нибудь замечали, что среди негров почти нет близнецов? Это потому, что для вас все негры — близнецы и похожи в ваших глазах до такой степени, что кажутся вам одинаковыми.
К трем часам я достал через лос-анджелесских знакомых телефон Реда. Комендантский час был назначен на полпятого. Я как раз успевал.
Я сразу узнал жаркий голос, не изменившийся за столько лет:
— Тебе нельзя приходить сюда одному, pale face, бледнолицый.
— Ред, мне срочно надо с тобой увидеться.
— Обязательно сейчас?
— Именно сейчас. Я не хочу сказать ничего особенного, и все-таки это действительно очень важно.
— Ладно, я пошлю за тобой ребят.
Американский акцент стал сильнее, но площадь Пигаль еще чувствуется.
Я ожидал увидеть двух гигантов. На раздолбанном «шевроле» подъехали два тщедушных паренька. Сколько им — пятнадцать, шестнадцать? Однако, судя по всему, они вполне годятся в провожатые: несколько юных cats, подбежавших было к машине с бутылками горючей жидкости, отошли, услышав: «Soul Brothers» — слова, которые звучат сейчас по всей Америке. Близкие души. Очень интересно это вторжение слова «душа» в язык американских негров. «На волне души»: радиостанция черных для черных.
«Музыка души»: музыка черных. Вспомните, что в России до 1860 года словом «души» называли крепостных. «Душа» — это единица купли-продажи; со времен «Мертвых душ» Гоголя цена одной души составляла примерно двести пятьдесят рублей, то есть около двадцати пяти тысяч старых франков. В России было запрещено продавать по отдельности членов одной семьи. В Америке чернокожих рабынь неизменно разлучали с семьей или выдавали замуж по воле хозяина, в целях размножения, как лошадей на конном заводе. Soul Brothers, Soul Brothers… Юноши отступают.
Горит дом, но никто не обращает на это внимания. Зато в пятидесяти метрах отсюда перед витриной стоят люди и смотрят, как горят дома на экране телевизора. Реальность — в двух шагах от них, но они предпочитают следить за ней по телевизору: раз уж вам решили ее показать, значит, она утешительнее, чем этот горящий дом. Изобразительное искусство достигло своей вершины.
Вопреки утверждениям ФБР, негритянские мятежи не зависят ни от «вождей», ни от провокаторов. Их порождают три психологические, или даже социологические, причины. Во-первых, — и в этом суть дела, хотя ее полностью игнорируют, — молодой чернокожий не знает, что принадлежит к меньшинству. Живя в гетто среди сотен тысяч других чернокожих, он видит вокруг себя только братьев по расе и напрочь забывает о численном превосходстве белых. Во-вторых, здесь царит смертельная скука. Каждому путешественнику приходилось наблюдать многочисленные группки негров, целые дни просиживающих на ступеньках домов. Безработица, теснота, бесконечные выходные без развлечений, без площадок для игр, без машины, без надежды выбраться, досуги, задохнувшиеся в давящем зное. Ожидание. Ожидание чего? Какого-нибудь хеппенинга. Жажда происшествия так сильна, что пожар превращается в чудесное зрелище. Burn, baby, burn. Гори, детка, гори. Неожиданно в нем просыпается то значение, которое человечество видело в нем с древнейших времен и до наших дней: нам дают представление. Кто из нас не переживал эти странные минуты удовлетворения и свободы при виде пожара, если, конечно, он бушует не в нашей трубе? Поджигают «белый» магазин, но горят-то дома чернокожих, их убогие жилища. А, какая разница! «Уплотнение» души, обде-ленность, ненависть и безысходность иногда заставляют по-скорпионски жалить самих себя.
Любование собственным аутодафе. Главная проблема элиты, лидеров американских негров, — презрение и ненависть негра к негру, которые по сути являются формой ненависти к их общей судьбе. Чтобы вырваться из небытия и безвременья, африканцы спят так, как не спит никто. Сон убивает пустое время. Мы говорили много и с возмущением о веселой жестокости убийств и пыток в африканских войнах: но ведь жертва, извивающаяся от боли, — прежде всего зрелище, развлечение. Замечательный фильм «Нагая жертва», несправедливо заклейменный как расистский, дерзнул показать нам это. Белый, обмазанный глиной и поджаренный на вертеле в дурацкой позе, как поросенок, вызывал всеобщее веселье, — просто спектакль Living Theater[18]. Что говорит только об одном, но зато это чистая правда: и африканский негр, и негр из американского гетто одинаково страдают от нехватки культуры.
У Реда сидит человек десять. Половина женщин — в африканской одежде и без париков. Я еще ни разу не видел в Америке чернокожую африканку без парика. Я любил чернокожих женщин, не подозревая, что их прекрасные гладкие волосы привезены из Азии, через Гонконг. Несколько поколений американских негритянок сокрушались и сокрушаются до сих пор по поводу своих курчавых волос, «которые и разглядеть-то толком нельзя».
Меня встретили с оттенком иронии. Во всем чувствовалась гордость. И что-то снисходительно-насмешливое: так принимают растерянного штатского в армейской столовке на передовой.
Ред пришел через десять минут после меня. Сейчас ему сорок шесть, но двадцать лет борьбы почти не сказались на его внешнем облике: сильный, широкоплечий, как в молодости, — его телосложение напоминало о веках тяжелого труда до седьмого пота, manpower, в буквальном смысле слова. «Человеческий материал»… Такой человек сам кажется как-то меньше по сравнению со своими широченными плечами и похожим на глыбу торсом. Черты лица стали чуть менее четкими, но не расплылись: просто теперь четкость была не в строении лица, а в выражении.
Ред встревожен; его жена должна родить, и он боится, как бы не подожгли клинику.
— Понимаешь, это же раз плюнуть: копы сожгут клинику, а свалят на нас.
Он говорит по-французски так же бойко, как раньше.
— Да нет, Ред, они все-таки этого не сделают.
— Они, возможно, этого не сделают. Но ведь идея, верно?
Идея — ничего не скажешь…
Он раздраженно смотрел на меня. Всем идеям идея. Я сел в обтрепанное кресло. Я тоже могу выдавать идеи:
— А если вы сами подожжете клинику и скажете потом, что это полицейская провокация?
— Только если бы это была клиника для белых.
Он протянул мне пачку сигарет. «Голуаз». Мы оба рассмеялись.
— Когда роды?
— Any time… С минуты на минуту. Это моя вторая жена и двенадцатый ребенок. Будем продолжать. — Он дал мне прикурить. — Понимаешь, для негра самый верный способ поиметь белых — трахаться до посинения. Это великая битва. Сейчас главное запретить жене контрацептивы. The more we screw, the more we screw them. Чем чаще мы будем иметь друг друга, тем больше их поимеем. Мы провели статистические подсчеты: если трахаться как следует, через десять лет нас будет пятьдесят миллионов. Четверть всего населения. Даже шлюхам запретить предохраняться. Через десять лет…
— Это от отчаяния.
Он посмотрел на меня с удивлением:
— Не отчаявшийся негр — хреновый негр.
Правда, английское слово desperate ближе к «разъяренный», чем к «отчаявшийся», — это единственное, что меня успокоило.
— Как ни крутись, решение может быть только одно: любовь или геноцид.
Я сказал:
— В богатой стране никогда не прибегают к геноциду.
— Единственное решение проблемы чернокожих — у белых женщин между ног.
— А почему не наоборот: решение проблемы белых у чернокожих женщин между ног?
— Всему свое время. Найди в этой комнате хоть одного человека, в котором не было бы белой крови. От этого не лечат… Но пока все это очень туманно. Никогда еще секс не был так бессилен, как сейчас.
Это правда.
Как ни парадоксально, вне зависимости от того, белый вы или черный, мужчина или женщина, чем вы либеральней, тем непоколебимей в своих убеждениях, тем последовательнее избегаете межрасовых сексуальных отношений, чтобы не играть на руку расистам, утверждающим, что белые женщины участвуют в борьбе за права негров из распутства. Каковое, впрочем, не может иметь генетических последствий из-за контрацептивов. Раньше смешение рас в основном было на совести черных женщин. Сегодня, мне кажется, белые женщины спят с неграми чаще, чем черные — с белыми мужчинами.
Кроме того, я отметил одну очень трогательную особенность: когда говоришь с чернокожими о тех белых, которые есть в роду у каждого из них, редко кто скажет вам: «У меня дед — белый», но почти всегда: «У меня бабка (или прабабка) — белая». Почему? Как же ты печальна, Правда, и как ты бываешь глупа, Психология! Ни один из молодых чернокожих не захочет признать, что мать «дала белому». Но им доставляет простодушное удовольствие утверждать, что белая дала их дедушке… Потрясающее посмертное мщение собственной крови.
Внезапно Ред похлопал меня по плечу:
— Слушай, ты понимаешь, что мы уже три четверти часа спорим и так и не поговорили друг с другом? — Он пожал плечами. — Ужас, да?
— Да уж.
Америка сейчас в том состоянии, когда белый и негр при встрече немедленно заводят разговор о цвете кожи, какими бы друзьями они ни были. Ральф Эллиссон в своей знаменитой книге охарактеризовал чернокожего американца как «человека-невидимку». Почему же сейчас он стал видим? Эта внезапная «видимость», становящаяся все отчетливее, в каком-то смысле скрывает от нас индивидуума. Странное возвращение к исходной точке. Раньше негр целиком превращался в цвет кожи, потому что сам фактически не существовал, теперь же — потому что он слишком мощно осуществился именно как чернокожий. Отчего, кстати, возникло такое социальное явление, как «профессиональный негр», живущий за счет цвета своей кожи в некоторых «белых» кругах.
Я сказал Реду, что заболела Мэй. Я каждый день звонил ей из Вашингтона в Беверли Хиллз.
— Мне кажется, она скоро умрет. Она так печально мяукала по телефону.
Он рассмеялся.
— Ты когда-нибудь слышал, чтобы кошка мяукала весело?
Я был рад, что среди творящегося насилия, всего через несколько часов после смерти Лютера Кинга, Ред не сказал мне: «Правильно, поплачься. Расскажи о своей больной сиамской кошечке. Самое время».
За моей спиной раздался треск: один из негров запустил бутылкой в телевизор. Тот захрипел и испустил дух.
— The bastards. Ублюдки.
Он прав. После убийства Кинга сплошным потоком полились дифирамбы — а ведь полтора месяца назад ныне и присно глава ФБР Эдгар Гувер перед журналистами назвал его «величайшим лжецом на земле». Телефон Мартина Лютера днем и ночью прослушивался федеральными властями по специальному распоряжению тогдашнего главы Министерства юстиции сенатора Боба Кеннеди, который теперь шел за гробом рядом с вдовой. Полтора месяца назад черный оппозиционер Кармайкл, бывший тогда на вершине популярности, назвал Кинга coon, что еще оскорбительнее, чем nigger. Движение проповедника ненасилия и его самого «похоронили». Оказалось, достаточно умереть, чтобы ожить. Телевизионщики ведут себя омерзительно: бесконечная галерея белых и черных физиономий, поющих хвалы человеку, который первый выкрикнул: «Черный цвет — это прекрасно!» Траурные лица дикторов, потоки розовых слюней по радио, по телевизору, в прессе. Старый способ умаслить свою совесть признанием вины и раскаянием. Никогда в жизни я не видел ничего похожего на эти посмертные воздаяния человеку, которого еще двое суток назад все поносили. Уж лучше откровенный цинизм той белокожей дряни в вестибюле отеля, заявившей сразу после убийства Кинга: «Ну вот, сделали хорошее дело. A good job well done».
Ред смотрел на подростков, которые неслись по улице, держа в руках бутылки с горючей жидкостью.
— Какова сейчас ваша тактика?
Он покачал головой:
— Нет никакой тактики. Все происходит спонтанно. Наши люди постоянно видят перед собой одну большую провокацию: благополучная белая Америка против двадцати миллионов негров, лишенных всех прав и покупательной способности. Думаешь, это мы устроили мятеж в Уоттсе, когда погибли тридцать два человека? Настоящие организаторы — белые коммерсанты, продающие свои товары в бедных кварталах на тридцать процентов дороже, чем в богатых… Нам не хватает общественного транспорта, поэтому чернокожий, у которого нет собственной машины, не может попасть на работу, даже если таковую находит…
— А ты?
— Вербую во Вьетнам.
Я не понял. Хотя сегодня абсурдность — постоянное свойство негритянского общества, на этот раз я потерял контакт с реальностью. Или с абсурдностью. Это одно и то же.
— Что ты мелешь?
— Я вербую молодых негров во Вьетнам. — Наверное, он заметил выражение испуга на моем лице, потому что кивнул и подтвердил: — Ты не ослышался.
Мы помолчали минуту, потом я все-таки спросил:
— Ну и как там вьетнамцы?
— А на вьетнамцев мне, честно говоря, сейчас наплевать. Пока идет борьба, мы думаем только о чернокожих. А на остальных я чихать хотел. С высокого дерева. Важно одно: благодаря Вьетнаму мы получим семьдесят пять тысяч молодых чернокожих, превосходно подготовленных для партизанской войны. Тактика американского командования — методы проникновения на чужую территорию, ведения боев на улицах и в лесу, — хочет оно того или нет, приведет к созданию профессиональной негритянской армии, которая даст, по самым скромным подсчетам, сорок тысяч «кадров». Впоследствии каждый из них сформирует здесь боевые группы. Так что теперь ты понимаешь, почему я считаю предателем каждого негра, который хочет помешать нашим ребятам идти воевать. Если бы война во Вьетнаме сейчас кончилась, это была бы катастрофа. Чтобы все сделать как следует, нам нужно года три-четыре.
— А дальше?
— Это уже отвлеченные размышления. — Он помолчал. — Но я тебе скажу. То, чего мы должны добиться и добьемся, трудно даже вообразить: независимое государство чернокожих, полностью финансируемое белыми в течение по меньшей мере тридцати лет. Представляешь? Мы вынуждены до последней капли крови бороться с белыми, без которых не можем обойтись…
Когда старый приятель вроде Реда начинает петь гимн Новой Африканской Республике, которая предположительно будет состоять из пяти южных государств, отобранных у белых, и возникнет лишь при условии ядерной ликвидации Соединенных Штатов и ста миллионов их граждан, это как нельзя красноречивей свидетельствует о «вынужденном» ожесточении умеренных и о росте фанатизма.
Я произнес:
— Рассказывай это другим. Твоя Новая Африканская Республика хороша только как способ давления на белых, и больше ничего.
Он и бровью не повел. Его выдавало лицо. Я знал, что он в это не верит, не может верить.
— Ты видишь другое решение?
— Да.
… Там, в Париже, я оставил в их распоряжении две комнаты для прислуги. Такая белая юная француженка и чернокожий американец двадцати двух лет. Он — один из сыновей Реда. Дезертировал из американской армии в Германии. Но вовсе не потому, что не хотел ехать во Вьетнам, как многие из его товарищей. Он дезертировал по любви. В Висбадене Баллард встретил маленькую француженку, которая работала прислугой в немецкой семье и теперь возвращалась в Париж. Через два месяца после того, как они расстались, он сбежал.
Я как сейчас вижу Балларда: он сидит на кровати, с каким-то хипповским значком на груди. И пока мы с Редом молчим, я слышу его слова, и тишина вдруг словно переполнилась голосом униженной и загнанной человеческой правды:
— Fuck them all. Пошли они все к черту.
Он повторяет это с дикой злобой на все неумолимые законы, которыми человек себя связывает, как будто законы природы недостаточно безжалостны.
— Fuck them dead. Чтоб они подохли. Во-первых, я не хочу идти убивать желтых, чтобы наловчиться убивать белых, и все потому, что я черный. У меня есть не только цвет кожи. — Он выбросил сигарету в окно. — А во-вторых, я сделал ей ребенка.
Мадлен стояла у окна и мыла посуду. У нее матовая кожа, как тень от солнца, если такое можно себе представить. Тонкие запястья и лодыжки и пышнейшие волосы. Она из тех алжирских француженок, которых так любил Камю.
Ее родители приехали несколько дней назад из Тулузы, у них там свой ресторан. Алжир, Испания, Овернь — все перемешалось в этой семье. Никто не предупредил их, что Баллард негр.
Я пригласил их к себе домой и сказал, что так и так, он негр.
«А», — сказал отец, а мать, у которой была нервная улыбка и полный рот золотых зубов, вроде не была ни удивлена, ни потрясена.
Затем отец Мадлен произнес фразу, окончательно вытеснившую со сцены цвет кожи:
— Мы бы хотели его увидеть.
Обычно и у нас, и в Америке одного слова «негр» достаточно, чтобы дать полное представление о человеке. Эти французы из Алжира были мужественней.
Они его увидели. Единственное, что их глубоко огорчило, — это дезертирство.
— У него в стране так не делают, — сказал мсье Санчес, которого, впрочем, зовут иначе.
У Балларда был несчастный вид.
Я почувствовал, что вязну в сплошном месиве противоречий. Европейцы, изгнанные из Алжира, объясняют молодому американскому негру, что нужно быть патриотом, а в то же время часть негров требует независимого государства, такого как Алжир.
Я сказал:
— У них будет амнистия. Как только кончится война…
— Да, но до этого?
— Я достану ему документы.
… Мы с Редом молчали. Неужели он так ни о чем и не спросит? Он не простил сыну отказ «тренироваться» на вьетнамцах, чтобы потом готовить Америку к партизанской войне за «черную власть». Точно так же старые вояки «стыдятся» и чувствуют себя опозоренными, когда их сыновья отказываются идти на войну.
Я спросил:
— От Филипа что-нибудь слышно?
Его лицо разгладилось, он улыбнулся, потом засмеялся, чтобы скрыть гордость.
— Он учится своему делу. Два года во флоте, теперь элитные войска, знаешь, вроде зеленых беретов.
У меня голова пошла кругом. Эта отцовская «гордость» была настолько абсурдна, нелепа и нелогична, что я разозлился, и мой гнев был тем более мучителен, что не имел цели. Мы сами — мишень для своего гнева. Различные идеологии все более и более настойчиво исследуют не свойства обществ, как им кажется, а свойства нашего мозга. Я уже давно понял, что наш разум — жертва врожденных отклонений, о которых и не подозревает. Но мозги Реда просто-таки вопят о помощи. Он горд тем, что его сын исполняет свой «долг» в «элитных войсках» и что этот прекрасный воин когда-нибудь возглавит борьбу против теперешних собратьев по оружию, обучивших его на свою голову. Такое фантастическое, кровавое самозабвение может быть рождено только в безысходности гетто…
Я еще раз посмотрел на окружающие меня лица, на африканскую одежду. Под этими масками — самое американское, что есть в Америке, — негры… Смесь идеализма и наивности, которая когда-то отличала «американскую мечту».
Мне хотелось сказать им правду. Потому что я знаю настоящую правду об этом «героическом» сыне Реда, одном из будущих вождей восстания чернокожих… Хорошо, он герой. Sure thing, he is a hero allright…
Но я не имею права. Я обещал. И это уничтожило бы остатки нашей дружбы, потому что в любом случае Ред отказался бы мне поверить.
В Париже я видел несколько писем Филипа к брату. Одно из них у меня перед глазами. Оно помечено сентябрем 1967 года, Баллард тогда еще был в Германии. В переводе это звучит так:
«Говорят, есть дезертиры. Но не у нас. Я не знаю ни одного. Наверняка необстрелянные новобранцы, У них кишка тонка. (They have no guts.) А у нас здесь только волонтеры. Сердитые ребята, не штатские слюнтяи».
В общем, Филип нацелен на военную карьеру. Он пишет об этом в каждом письме. Я не знаю, каковы были его первоначальные планы, но сейчас ясно одно: негр нашел свое место в американском братстве, убивая вьетнамцев. Это нормально. Братство — это понятно каждому. Те, кто убивал годами, вроде меня, знают, что братство достигается в боях. В отрядах Иностранного легиона нет ни французов, ни алжирцев, ни евреев, ни негров, ни греков. Есть только убитые и убивающие братья.
Я редко испытывал такую жалость и нежность, как тогда, когда Ред с гордостью говорил мне о своем сыне, который «учится своему делу» там, в Азии, чтобы, как знать, сделаться потом Че Геварой черной силы…
— Этот подлец почти мне не пишет, — сказал он. — Видимо, слишком занят. К тому же существует военная цензура, и он не может говорить всего, что думает… Его бы моментально уволили. Знаешь, о ком я вспоминаю в связи с Филом? О Бен Белле[19]. Офицер французской армии, пятнадцать лет верной службы, орден… И он вышвырнул вас из Алжира вверх тормашками.
Наконец он тихо спросил:
— А как там Баллард?
— Собирается жениться.
— Он кончит так, как я начинал, — глухо произнес Ред. — Котом.
— Не думаю.
Он пожал плечами:
— В итоге он пошлет эту девчонку на пляс Пигаль, и она будет его содержать, потому что в Париже найти работу… У этого идиота никаких шансов. Не hasn’t got a chance. Он проиграет.
— Родители жены ему посодействуют.
Кажется, он удивился:
— Они согласны?
— Да.
Больше он ничего не сказал. Франция. Франция неоднородна. Там есть не только подонки.
— Ты знаешь, что Филипа должны произвести в офицеры? — Он попытался улыбнуться цинично, но гордость взяла верх. Он разгорячился: — Среди нас еще есть дураки, которые клянут войну во Вьетнаме. Но ведь достаточно на секунду задуматься, чтобы понять: эта война — лучшее, что могло с нами произойти. Каждый раз, когда заходит речь о переговорах с Ханоем, мне делается дурно. Вьетнам — лучшая на свете подготовка, вот что это такое. Между прочим, это Джек Кеннеди делал акцент на партизанской войне и уличных боях…
Сейчас, когда я переписываю эти страницы, у меня перед глазами десять писем Филипа. Он все время пишет «мы». Я могу заверить, здесь нет ни капли вымысла. Я бы никогда не смог придумать это «мы»…
«Мы делаем все, чтобы помочь этим людям; если бы еще они сами себе помогали. Мы делаем их работу… Эти люди не делают ничего, чтобы иметь настоящее демократическое государство… Мы…»
Это говорит американский негр. Самая прочная в мире связь — смерть или убийство.
В этой маленькой раскаленной комнатке меня охватила паника. Опять моя загадочная клаустрофобия. Во мне живет что-то такое, что только по ошибке заключили в человеческую кожу.
— Я тебя отвезу.
Мы вышли.
На лестнице он спросил меня, посмеиваясь:
— Ну, как твоя Белая собака?
Я замер.
— Черт, каким образом…
— Джин мне рассказала, месяц назад, в Лос-Анджелесе… Бедный зверь.
— Мы его перевоспитываем.
Он спокойно сказал:
— В конце концов мы сами их перевоспитаем. — Он устало покачал головой. — Во всяком случае, это так просто не кончится. Залить собаку бензином и поджечь… Бедная Джин, она даже разревелась…
Я не понял, что он имеет в виду, но тогда было не время для вопросов. Не каждый день случается наблюдать, как цивилизация шатается на гребне своей славы и могущества. Вооруженные полицейские в машинах болтают, курят и смеются, а вокруг них под железными брусьями вдребезги разлетаются витрины.
Для любой вспышки расизма характерно одно общее явление: каждый за себя. Грабители всех возрастов сталкиваются лбами и периодически ругаются из-за товаров. Хозяйки бродят среди развороченных полок с таким видом, будто пришли за покупками. Матери семейств действуют с толком, по зрелом размышлении выбирая предметы первой необходимости. Все это на глазах у полиции, получившей приказ не вмешиваться.
Массовые грабежи — естественный ответ бесчисленных потребителей провокационному обществу, которое всеми способами побуждает купить, лишая возможности это сделать. «Провокационным» я называю всякое процветающее общество, которое постоянно выставляет напоказ свои богатства, подстегивает потребителя рекламой, роскошными витринами и соблазнительными лотками; при этом оно оставляет за бортом значительную часть населения, которую спровоцировало, в то же время отказав ей в средствах для удовлетворения и реальных, и надуманных нужд. Неудивительно, что молодой негр из гетто, окруженный «кадиллаками» и роскошными магазинами, оглушенный бешеной рекламой товаров, без которых он якобы не может обойтись, — последние модели «Дженерал Моторс» или «Вестингауза», одежда, видео — и аудиоаппаратура, тысячи других посезонно выпускаемых игрушек, пренебречь которыми может только совершенная деревенщина, — неудивительно, говорю я, что при первом удобном случае этот парень набросится на полки, зияющие за разбитыми витринами. В общем, чрезмерное процветание белой Америки действует на слаборазвитые, но хорошо осведомленные массы третьего мира так же, как эта шикарная витрина на Пятой авеню — на молодого безработного из Гарлема.
Итак, «провокационное общество» — это общество, чье богатство, превозносимое в эксгибиционистских рекламных шоу и неистовых призывах к приобретению, не соответствует средствам, которые оно дает людям для удовлетворения не только искусственно вызванных, но и самых насущных потребностей.
Никогда еще провокация не достигала таких размеров. Цивилизация просто требовала, чтобы ее изнасиловали.
В пылающем гетто тащат все, что попадется под руку. Вы можете сказать, зачем этому молодому негру голый восковой манекен, с которого другой уже сорвал одежду и уносит ее под мышкой? А этому — семь корзин для бумаг? Я гораздо лучше понимаю вот того, с грудой туалетной бумаги в руках: он укрепляет тылы. Перемазанные вареньем мальчишки разбивают банки с фаршированной рыбой и тут же поедают содержимое. Мощная старуха поднимает маленькие трусики из черного кружева и вытягивает руки, чтобы лучше их рассмотреть. А ее соседка замечталась над фальшивыми драгоценностями, какие валяются во всех лавках; наверное, похожие стекляшки помогали умилостивить африканские племена в эпоху Стенли и Ливингстона. А вот еще одна чудесная дама: она берет дыню за дыней, не спеша ощупывает, откладывает в сторонку и тянется к следующей.
Эти люди не грабят; они подчиняются. Они среагировали на потоки рекламы, команду покупать и потреблять, воздействующие на их психику восемнадцать часов в сутки. Коммерческие передачи по радио и по телевизору призывают к революции…
Ред, черепашьим шагом ведущий «шевроле», кивком показывает на подростков, которые швыряют дыни в витрину канцелярского магазина.
— А ведь они даже не знают, из-за чего все разгорелось. — Он резко затормозил. — Ты не веришь. Сейчас спросим.
Он приоткрыл дверцу и наклонился к одному из мальчишек. Шестнадцать, семнадцать лет? Тощий, как дворовая кошка, большой рот, толстые губы — такие, наверное, наводят белую женщину на неприятную мысль о поцелуе, но именно такой рот делает мысль об изнасиловании заманчивой…
— Sonny, ты знаешь, кто такой был Мартин Лютер Кинг?
Паренек занервничал.
— No, Sir.
— And you?
— No, Sir.
Третий сморщился:
— Его убили.
— Ты знаешь, кто он был?
Мальчишка заколебался, а потом — это вышло само собой, он просто автоматически повторил то, что слышал:
— Не was an Uncle Tom. Он был «дядя Том»…
Uncle Tom: это слово выражает полное презрение одного негра к другому. В романе «Хижина дяди Тома», сыгравшем определенную роль в движении аболиционизма, дядя Том — симпатичный раб, чья доброта вызывает у вас слезы, как маленькие сахарные девочки Диккенса. Сейчас «дядя Том» — такое же ненавистное клеймо, каким для нас во время Освобождения было слово «коллаборационист».
Ред с удовлетворенным видом захлопнул дверцу и отчалил. «Не was an Uncle Tom». Я вспомнил лицо Коретты Лютер Кинг, возможно, самое красивое женское лицо из всех, что я когда-либо видел. Для меня оно воплощает всю мифологическую женственность от Руфи до цариц Иудеи и Египта. Этот бессмертный облик был явлен миру в минуты, когда он выражал страдание и достоинство, равных которым никогда не смогли бы создать все эти несчастные Микеланджело, Беллини и прочие специалисты по изображениям Пьеты. Меня обуяла ненависть. Настоящая ненависть собаки, ищущей горла. Она охватывает меня каждый раз, когда я сталкиваюсь с проявлением величайшей нематериальной силы всех времен — Глупости.
— Ред, а ты веришь в то, что Мартина Лютера Кинга убил негр?
Он невозмутимо смотрел вперед.
— Возможно. Но тогда заплатили ему белые.
— А если его убил белый, подкупленный неграми?
— Тоже может быть. Ты же знаешь, это вы сделали негров такими…
— Вот те на, — сказал я.
— Что?
— Ты впервые сделал из меня «вы».
— Не надо понимать это так буквально.
Мы проехали еще один магазин, в котором полным ходом шел грабеж. Из дверей вышла компания подростков, нагруженных коробками гигиенических салфеток и тампакса. Я расхохотался. Ред косо взглянул на меня:
— Ничего смешного. С гигиеническими салфетками очень удобно делать коктейли Моло-това. Они удерживают бензин.
Теперь улицы пошли почти пустынные.
На одном из поворотов Ред внезапно затормозил.
То, что было потом, я бы назвал «правдой о Стокли Кармайкле»[20]. Я увидел его собственными глазами. Он стоял перед магазином, окруженный толпой чернокожих, и что-то выкрикивал. Я улавливал только интонации того, кто считался лучшим оратором среди оппозиционеров, единственным интеллектуалом, нашедшим общий язык с улицей. Светлокожий негр, один из тех, кто никогда не скажет вам: «Мой дед был белым», но не преминет рассказать о белых женщинах в своем роду, ибо в этой беспощадной борьбе не делают даже мелких поблажек, — ведь это значит, что «белая дала негру». Я был слишком далеко и не слышал, что он говорил. Но я сошлюсь на свидетельства кое-кого из видных чернокожих журналистов, которые там присутствовали.
Сценарий был следующий: Стокли Кармайкл появляется на улице в окружении молодежи. Он входит в большой магазин и приказывает персоналу покинуть помещение и запереть двери. Он выходит на улицу, вытаскивает небольшой револьвер и потрясает им на глазах у перевозбужденных юнцов:
— Почему вы стоите здесь с голыми руками? Идите домой и берите оружие!
Тогда один из молодых негров достает из кармана револьвер. Полицейские машины — в пятидесяти метрах.
Реакция Стокли:
— Нет! Я не хочу, чтобы хоть капля черной крови была пролита!
Этот эпизод исключительно важен для того, кто хочет понять чрезмерную словесную воинственность оппозиционеров. В своей парижской квартире я много раз слышал от них, что мир можно спасти, только освободив его от «белых дьяволов». На самом деле, прежде чем отвечать такой же ненавистью, необходимо учесть некоторые психологические факторы.
«Призывы к уничтожению» Рэпа Брауна, Кливера, Хиллиарда и других «вдохновителей», вроде Лероя Джонса, действуют как выпускные клапаны, через которые уходит излишек злобы семнадцати миллионов отверженных. Словесная жестокость сокращает потребность в жестокости физической и в то же время позволяет молодежи испытывать чувство гордости от слов, которые еще десять-пятнадцать лет назад были немыслимы. Я полагаю, что, не спровоцировав волны убийств, — где они, спрашивается? — зажигательные речи предводителей гетто помогли, возможно, избежать худшего.
Сила слова такова, что достаточно лишь собраться с духом и произнести его, чтобы освободиться… Риторика гетто порождена необходимостью осмелиться.
Тут есть африканский след.
Мои африканские друзья первыми признали, что на Черном континенте «сказать» часто заменяет «сделать», слово равно действию, желание разглагольствовать до сих пор бывает сильнее желания выполнить. Но в случае американских негров всепоглощающая ненависть, реализованная в слове, действительно является актом, словесный демарш возвращает чувство собственной мужественности и достоинства.
С этой точки зрения поведение Стокли Кармайкла очень типично. Сначала он входит в магазин и приказывает вывести белых и запереть двери. Потом призывает подростков вернуться домой и взять оружие, которого девяносто процентов из них не держит, что равнозначно приказу очистить улицу. Когда один из юношей внезапно достает пистолет, он говорит ему: «Нет, я не хочу, чтобы была пролита хоть капля черной крови» — и под этим предлогом предотвращает кровопролитие. Неимоверное многословие нашей эпохи, бушующее от полюса до полюса, свидетельствует о полном истощении нашего словаря. Быть может, за ним последует возвращение ныне утраченного соответствия между словом и истиной.
Переизбыток коммерческой рекламы и политической пропаганды уничтожил малейшую связь выброшенного на рынок товара, будь то дезодорант или идеология, с подлинной сутью вещей. Западной пасте, которая «защищает» зубы, вторит китайское «Бетховен — враг народа», да и Папа Павел VI, увы, недалеко ушел: разве он не объявил, что протест голландских священников против целибата — это «распятие Церкви»?
Куда уж больше?
Неужели действительно нужно напоминать Папе, что такое Голгофа?
Именно в этом безумном словесном бесстыдстве, в этой инфляции слов с усиленными поисками превосходных степеней, лишенных реального смысла, место «призывов к уничтожению».
Ред высадил меня у «Хилтона». Я чуть не сказал ему: «Ред, будь осторожен», но этот идиотский совет заставил меня вспомнить, как во время войны моя мать, когда я на краткий срок увольнения покинул небо, нашпигованное воздушными снарядами и «мессершмиттами», дала мне наказ: «Надевай шарф, когда садишься в самолет».
— Ред, где правда? Даже если вы завербуете двадцать тысяч черных профессионалов, против них будет восемьдесят тысяч белых профессионалов, оттуда же, из Вьетнама…
Он сидел с каменным лицом. Я никогда не видел его грустным — с грустью давно покончено. Грустила наша бабушка…
— Ну что ж, в случае провала… — Он немного помолчал. Думаю, он сознавал, что предает. Но мы дружили двадцать лет… — Может быть, мы и проиграем. Мы — это те, кого вы называете экстремистами… Но по крайней мере мы поработаем на умеренных. Без нас у них ничего не выйдет. Если начнется восстание чернокожих, экстремизм будет работать на умеренность…
— Пока.
— Пока.
Машина тронулась с места.
Я вернулся в гостиницу, и через десять минут мне пришлось призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы не дать под зад одному из величайших актеров Голливуда. Очередной сверхсамец, с головой погруженный в миф о себе и страшащийся только одного: что в течение нескольких секунд внимание будет сосредоточено на чем-нибудь другом. Съемки прерваны, и сорокадвухлетний jeune premier, который должен был играть вместе с Джин в моем будущем фильме, уже несколько дней ходит за ней хвостом, чтобы «обсудить роли». Он один из этих недоносков из театральной студии, где под предлогом обучения актерскому мастерству обрабатывают подопечных смесью психодрамы и психоанализа, с притворной заботой о правдоподобии и реализме. Результаты этого «метода» сказались на сотнях юнцов, в итоге порвавших и с искусством, и с реальностью. Вот уже несколько дней ему не дает покоя одна сцена, любовная сцена, и он хочет отрепетировать ее с Джин, «прожить» ее. Я обнаружил его у себя в номере пьяного вдрызг.
На экране телевизора друзья и соратники прощаются с Мартином Лютером Кингом. Но у сверхсамца другие заботы. У него тусклые и какие-то маслянистые глаза безнадежного алкоголика — голубой полупрозрачный студень.
Он жалуется. Он хочет прорепетировать эту чудесную любовную сцену без свидетелей и не понимает, почему Джин Сиберг настаивает на присутствии режиссера. Эпизод слишком интимный. Почему моя жена отказывается пойти к нему в номер, чтобы порепетировать наедине? Он объяснил мне, что для партнеров важно лучше узнать друг друга, открыть движения, которые каждый из них делает, занимаясь любовью, чтобы ответить на них как подобает. По его словам, священное правило актерской профессии требует «прожить» эпизод вдвоем, чтобы мысленно обратиться к нему в момент съемки. Не могу ли я, ведь я тоже «творческая личность», выступить посредником и уговорить Джин пойти к нему репетировать?
Короче, этот чертов сукин сын просил меня заставить мою жену переспать с ним.
На экране телевизора — мертвое лицо Мартина Лютера Кинга. Но сверхсамец не обращает на него внимания. В его возбуждении чувствуется страх перед половым актом и необходимость успокоиться. У меня чесались руки схватить бутылку виски и отделать этого придурка. Все это было бы смешно, если бы не мертвое лицо там, на экране, лицо чернокожего проповедника ненасилия. Рядом со мной этот ублюдочный сверхсамец, строящий из себя «прогрессиста», когда речь заходит о черных, опрокидывает еще один стакан виски. Он ни разу и не взглянул на Коретту и Мартина Лютера Кинга.
Он продолжал объяснять, что «это в интересах искусства», что исключительно важно, чтобы они с моей женой «порепетировали» в постели без всяких свидетелей. Я старался сдержаться. Ненасилие, ненасилие…
Мне стало трудно дышать. Я сжал кулаки. В этот момент я нутром понял оскорбленных негров, их желание ответить насилием на насилие. Пастор Мартин Лютер Кинг, неужели ты и в самом деле знал, какой животной силе так смиренно противостоял? Я не выдержал.
Право же, пинок под зад — не насилие. Это вполне добродушно. И ведерко льда, вытряхнутое в физиономию, только освежает.
Я сделал все, что было в моих силах.
После этого я даже помог ему подняться. Но моему фильму крышка. Наверное, это самый дорогой пинок под зад в мире: бюджет фильма составлял три миллиона долларов.
Я выключил телевизор. У меня было такое чувство, будто глаза мертвого меня видели. Сжав кулаки, я кружил по гостиной. Поводок был отпущен.
Когда я ложился спать, мне на память пришли загадочные слова Реда. Я повернулся к Джин:
— Что это еще за бред про собаку, которую полили бензином? Ты рассказала Реду по телефону.
Когда Сиберг делает виноватое лицо, ей можно дать восемь лет.
— Я тебе ничего не сказала, потому что ты бы в очередной раз взбесился…
— Так в чем дело?
Большинство наших знакомых знали о «задачке», которую мне подсунула Белая собака, и соседи в Ардене тоже были в курсе. Я был где-то между Индией и Таиландом, когда к Джин явилась компания юношей, их было четверо или пятеро. Главным был сын одного промышленника, чья роскошная резиденция поднималась из пальм и бугенвиллей дальше по улице. Джин пригласила их войти. Старое американское гостеприимство не позволяет говорить с людьми через порог. Их приглашают в дом. Поэтому здесь столько убийств.
— Мисс Сиберг, мы члены организации «Студенты за демократическое общество». Сейчас мы организуем по всей стране большую манифестацию против войны во Вьетнаме…
Говорил парень лет двадцати, с длинными светлыми волосами и в очках. Джин сказала, что он был довольно красив. Эта деталь может показаться незначащей, но не мне: она свидетельствует о манере Сиберг верить красоте и воображать, что тайные сокровища души иногда проявляются в благородстве черт. Остальные были похожи на хиппи, что, очевидно, тоже гарантировало духовность.
— Мы готовим очень зрелищную манифестацию, которая действительно потрясала бы воображение. Точнее, била на чувство. Если бы вы уделили нам несколько минут, мы в точности объяснили бы вам, о чем идет речь, поскольку, мне кажется, у нас возникла одна абсолютно новая идея, очень оригинальная, свежая…
— Присаживайтесь, пожалуйста.
Они сели. Сэнди крутился рядом, виляя хвостом и подавая лапу. Батьки не было, за несколько часов до того Джин отвезла его на ранчо. В любом случае эти белые ничем не рисковали. От них хорошо пахло.
— Вам известно, что многие студенты протестуют против войны во Вьетнаме. Совсем недавно один из наших товарищей облил себя бензином и поджег у дверей Пентагона. Это ничего не дало. К такому уже привыкли… Нужно что-то более значительное…
Он умолк, поправил очки и посмотрел на Джин. Она была уверена, что ей сейчас предложат облиться бензином и принести себя в жертву, как бонзе. Видимо, им нужно громкое имя, кинозвезда, чтобы произвести большее впечатление на массы, передовицы по всему миру. «Наверное, у них уже приготовлена канистра, осталось посадить меня в машину для последней поездки…» Она ошибалась.
— Насколько мне известно, у вас есть бешеная собака, от которой вы хотели бы избавиться…
Сэнди стоял возле белокурого красавца и вилял хвостом. Молодой человек погладил его. Сэнди подал ему лапу. Эта собака любит всех; ее могли бы упрекнуть в недостатке преданности.
— Я не вижу связи, — сказала Джин.
— Это несложно объяснить. В течение нескольких лет мы сжигаем вьетнамцев напалмом. Целые деревни. Люди читают об этом в газетах за завтраком, но воспринимают абстрактно.
Мы с товарищами хотим пробудить их, ударить по их чувствам. Миллионы людей, которые равнодушно смотрят на горящие деревни по телевизору, поднимут страшный крик, если сделать то же самое с собакой. Они взбунтуются. Так вот, мы собираемся взять нескольких собак, поджечь и пустить по городу перед телекамерами. Так как все страшно жалеют собачек, а к людям безразличны, мы наглядно покажем им то, что происходит во Вьетнаме. Мы знаем, что вы за мир, мисс Сиберг, мы решили, что вы поймете всю важность этой гуманитарной акции… Вы хотите принять в ней участие и дать нам свою собаку?
… Шел 1968 год, если вести отсчет от Иисуса Христа.
— Get the hell out of here, — сказала Джин. — Пошли все вон к чертовой матери.
— Вы не подумали…
— Get out. Вон!
— Мне думается, вместо того чтобы реагировать инстинктивно, нужно прежде всего проанализировать нашу идею. Вы не можете отрицать, что, если война во Вьетнаме закончится неизвестно когда, пожертвовать несколькими собаками…
— Я не исповедую марксизм-ленинизм, — сказала Джин.
— Мы догадываемся. Но мы только взываем к вашей человечности…
Джин поднялась. Жаль, меня там не было. Ее лицо совершенно не создано для того, чтобы выражать ненависть.
— Эта ваша идейка — те же сталинские процессы, казнь Сланского в Праге, казнь невиновных, которые сами объявляли себя виновными, — все «в высших интересах партии»… Вы ошиблись адресом. У меня для этого недостаточно твердые политические убеждения.
Они встали, и один из них произнес великолепную фразу:
— Вьетнам — это уже не политическая проблема. Это выбор души.
Вы, быть может, думаете, что это был дурацкий розыгрыш: студенты решили посмеяться над кинозвездой, которая нахально вмешивается в серьезные дела. Должен рассеять ваши иллюзии на этот счет. «Гуманитарная акция» впоследствии была объявлена во многих странах, и, хочу отметить, в последнюю минуту к ним присоединился Берлин. Газеты писали о ней в ноябре 1969 года.
Меня не было, так что юные гады вышли из дома невредимые.
На следующий день мы вернулись в Лос-Анджелес, и я прямо из аэропорта поехал в питомник.
Я сознавал, что лечение Батьки превратилось для меня в символ. Тот, у кого отсутствует идея аристократизма человеческой личности, в ответ на это насмешливо пожмет плечами. Но я принадлежу к демократам, считающим, что цель демократии — помочь каждому достичь благородства. А Америка — единственная в мире страна, которая начала с демократии.
Моя вроде бы крепкая нервная система начала барахлить.
Были такие ночи, когда я просыпался в ужасе, уверенный, что они — Киз или Джек Кэрратерс — в мое отсутствие из жалости усыпили Белую собаку, потому что она неизлечима. В эти минуты я вспоминал немца, с которым ехал в одном купе, возвращаясь из Швеции, в 1937 году. «Конечно, евреи тут не виноваты. Их такими сделали. После того как в течение двух тысяч лет их унижали и оплевывали, они стали омерзительны. Их, скажем так, убедили. Но только вот теперь они испорчены. Отравлены, извращены. И неизлечимы. Их нужно убивать из жалости и не огорчаться по этому поводу. Вы окажете им услугу». Я огрел этого типа пивной бутылкой — пять суток в дюссельдорфской каталажке.
Я каждый день надоедал Кэрратерсу звонками, и каждый день он отвечал: «Я им больше не занимаюсь, за него взялся Киз… Отвалите от меня».
Киз… Я редко встречал людей, которые были бы мне… Как бы это сказать? Так симметричны.
Воскресенье. На ранчо никого нет.
Сторож Билл Тэйтем, бывший акробат, сейчас ему шестьдесят второй год, успокаивает меня: собака чувствует себя хорошо, даже очень хорошо. Да, Киз по-прежнему ею занимается… Старик замолчал. Казалось, он хотел что-то добавить, но смутился, промямлил пару общепринятых фраз по поводу смога, который портит всю весну, и протянул мне ключи.
Батька сразу же узнал меня. Я с облегчением отметил, что выглядит он прекрасно: вид упитанный, шерсть блестит. Когда прошел первый приступ бурного восторга, он подбежал к поводку, посмотрел на меня и залаял, приглашая прогуляться. Я отвез его в Гриффитс-парк, где он целый час носился, упиваясь дикими запахами. На обратном пути я остановился у старого рынка, по воскресеньям открытого, чтобы купить еду. Пса я запер в машине.
Я управился минут за пятнадцать. С полными руками возвращаясь к стоянке, я увидел, что Батька выбрался из машины. Видимо, он опустил мордой окно, которое я закрыл неплотно, чтобы ему было чем дышать. У стены стояла детская коляска, судя по всему, оставленная одной из толпившихся на рынке молодых мамаш в цветастых штанах. Батька оперся на коляску передними лапами и с интересом смотрел внутрь. Я улыбнулся и подошел поближе…
Мне никогда в жизни не было так страшно. Я застыл на месте с пакетами в руках, и меня прошиб холодный пот.
Это был чернокожий ребенок. Батька пристально смотрел на него. Его морда была в десяти сантиметрах от детского личика.
А затем…
Батька взглянул на меня смеющимся глазом, снова повернулся к ребенку и завилял хвостом.
Я почувствовал такое облегчение и такую благодарность, что комок подступил к горлу.
Я приблизился к Батьке и тихо взял его за ошейник. Он опустил уши и продолжал вилять хвостом, глядя внимательно и с живым интересом, как будто нашел товарища для игр. Ребенок дрыгал ногами и смеялся. Батька обнюхал его, потом попытался лизнуть в лицо.
Я тихо повел его к машине, захлопнул дверцу и в полном изнеможении опустил голову на руль.
Потом я взял себя в руки и поехал в Сан-Фернандо Вэлли, время от времени поглаживая собаку, которая спокойно сидела рядом. Я рассказал о чуде старику Тэйтему, но тот не выразил никакого восторга. Он бросал на Батьку странные взгляды. В них чувствовалось недоверие и даже какой-то страх.
— Animals, — неопределенно сказал он. — Да. Я знаю. С ними можно сделать все, что угодно.
Я с нетерпением ждал, когда Джин вернется домой, чтобы сообщить ей новость: Белая собака явно выздоравливает. Конечно, это был еще не настоящий негр, это был просто ребенок, но все равно прогресс очевиден… Она совершенно не разделяла моего энтузиазма. Она выслушала мой рассказ, скинула туфли и сказала с легким раздражением:
— Ну да, такими темпами это продлится еще лет семьдесят. Кто будет столько ждать?
К моему величайшему удивлению, на следующее утро примерно то же самое мне выдал Джек:
— Если начинать с начала, то веселью конца не будет. There’ll be lots of fun.
Он был в медпункте и при моем появлении недовольно скорчил физиономию: «О shit, черт, опять этот». По-моему, мой вид действовал на него как большой глоток уксуса. Он сидел в приятной компании: перед ним на столе копошился выводок чихуа-хуа, размером чуть больше мыши и как будто сделанных из розового желе. Он кормил их из пипетки. В глубине комнаты ветеринар и ассистент возились со знаменитой шимпанзе Мисс Бо, которая каждый вечер по телевизору уговаривает вас брать с нее пример и чистить зубы новой, «улучшенной» пастой, с ферментами, разумеется. Мисс Бо высосала целый тюбик зубной пасты, и ей собирались промывать желудок.
— Хочу вам сказать, Гари…
Американцы всегда произносят мою русскую фамилию — императив от глагола «гореть» — так, что она превращается в американское имя. Поскольку здесь оно одно из самых распространенных, у меня было такое впечатление, будто мне дали кличку.
— Вы не любите животных. You have no use for animals.
— Спросите моих знакомых…
— Собака стала для вас абстрактной идеей. Я сразу это понял. И для Киза тоже. И заразы же вы, интеллектуалы.
— Идите к черту со своими интеллектуалами, Кэрратерс. Если вас от них так воротит, сделайтесь мэром Лос-Анджелеса.
— The son of a bitch, сукин сын! — сказал он с оттенком восхищения в голосе. — Он, судя по всему, совсем зациклился на этой идейке. Уже полтора месяца он каждый день вводит в клетку своего трехлетнего сына.
— Как это так?
— The first time, he scared the shit out of me… В первый раз я чуть в штаны не наложил от страха…
Кэрратерс подъезжал к ранчо по бульвару Магнолия, и хотя с этой стороны изгородь наполовину закрыта кустами белого и розового лавра, за ней виден питомник и большая клетка Батьки на переднем плане. Еще отсюда видно одинокую жирафу по имени Чучело — нет ничего более одинокого, чем реющая на горизонте жирафа, — и ворота перед змеиным рвом, на которых большими красными буквами сделана ироническая надпись: WE ARE A BUNCH OF DEADLY SNAKES AND WE DON’T LIKE YOU EITHER. KEEP OUT. «Мы — компания ядовитых змей, и вы нам тоже не по вкусу. Держитесь подальше». Жилище шимпанзе чуть дальше, направо; оно пышнее, чем другие резиденции этого городка, потому что большинство chimps Джека Кэрратерса значатся среди звезд кино и телевидения, и Джек чувствует себя обязанным обеспечить им какой-никакой комфорт.
На повороте Джек взглянул на Батьку — и чуть не наскочил на пожарный кран: перед собакой на середине клетки стоял чернокожий ребенок. Джек едва успел выровнять машину и поднять выпавшую изо рта сигару, свернул и понесся ко входу на ранчо. Через две минуты он был в клетке. Только тогда он понял, что ребенок не случайно зашел в клетку: кто-то его туда посадил. Собака была на цепи, а ребенок привязан к решетке ремешком. Никакая опасность ему не грозила. Джек не был знаком с семьей Киза и не знал, что этот малыш — сын его дорогого служащего. Он разразился дикими воплями. Когда Джек орет — это надо слышать. Тут следует говорить даже не о фольклоре, а о культуре, о широких познаниях в области религии и литературы и определенной тяге к описательности. Сбежались все, до кого долетели его вопли, и в первую очередь Киз. Его руку обматывала змея, не знаю, какого вида: он как раз брал яд и не успел отпустить ее в ров. Он так и стоял перед Джеком, а змея, крепко зажатая у него в кулаке, разевала пасть. Последовало бурное объяснение. Тогда-то Джек узнал, что уже целую неделю Киз сажал своего сына в клетку к Белой собаке.
Должен сказать, что первое объяснение, или, скорее, подозрение, промелькнувшее у меня в мозгу, пришло на ум и Джеку Кэрратерсу. Оно не делает чести ни ему, ни мне. На мгновение мы оба решили, что Киз «дрессировал» своего сына. Разъяренный Батька являет собой устрашающее зрелище, и, поддавшись извращенной игре воображения, к которой приводит неверное истолкование всего, на чем упражняется наша обезумевшая логика, я сказал себе: он хочет приучить ребенка смотреть в лицо ненависти. Хочет, чтобы он узнал. Не надо считать меня писателем, легко попадающимся на удочку своего неуправляемого воображения: та же мысль появилась у Джека Кэрратерса, почему он так и разгневался. А дело было совсем в другом. Киз хорошо разбирался в собаках и знал, как покровительственно и по-отечески большие собаки относятся к детенышам, и звериным, и человеческим. Ребенок ничем не рисковал, но тем не менее Киз из осторожности привязал их обоих и держал друг от друга на расстоянии.
— Сначала я поставил мальчишку снаружи, — объяснил он. — Пес сразу же проявил к нему дружелюбие. Я делал так несколько дней, чтобы до конца быть уверенным, а потом Чаку захотелось поиграть с собакой…
— Почему вы это сделали?
Киз, улыбаясь, смотрел ему в глаза.
Джек говорил мне: «Нет, смотрел — не то слово. Он в меня целился».
— К чему все это?
— Я хочу, чтобы собака привыкла к нашему запаху…
«Мне вдруг безумно захотелось дать ему в морду, — говорил Джек. — Я чувствовал, что меня оскорбили. Но не могу не признать, что эта идиотская мысль по поводу запаха когда-то привела к сегрегации, поэтому мне абсолютно нечего было ответить. Я проглотил все».
— Я этого добился, — заключил Киз. — Если хотите, можете войти в клетку и отвязать ее. Собака будет рада, и сын тоже. Ни малейшего риска. Беру ответственность на себя.
— Делайте это сами, если совсем сдурели.
Киз протянул руку:
— Держите.
Джек быстро схватил змею. «В такой ситуации, — объяснял он мне, — нужно действовать моментально, чтобы правильно ее взять. Я уверен: если бы я сделал вид, что колеблюсь, он кинул бы мне ее прямо в руки, вот так. Я был слишком поглощен змеей, чтобы одновременно удерживать этого черта, которому плачу восемьсот долларов в месяц. Поэтому я остался со змеей в кулаке, она извивалась всем телом, а Киз вошел в клетку. Кроме меня там было человек пять, и все мы застыли как статуи, ведь о том, что Киз уже поладил с Белой собакой, не знал никто. Кроме, может быть, Терри, который помирал со смеху. В общем, могу сказать вам одно: Киз вошел в клетку, отвязал собаку и ребенка, и ничего не случилось. Он добился своего. Ваш хвостатый коп подошел к мальчишке и стал дружелюбно лизать ему лицо, а тот смеялся, и Киз похлопывал собаку по крупу — короче, счастливая семейная сцена. После этого, как вы понимаете, мне больше нечего было сказать. Приходится признать: я ошибся. Я никогда бы не поверил, что можно переучить старую полицейскую собаку. Я думал, слишком поздно, это уже в крови. Я был не прав. Когда утром по дороге на ранчо я видел, как собака и ребенок расточают друг другу нежности, то чувствовал, что принадлежу к старому поколению дрессировщиков и новое нас опередило. Теперь в клетке сплошная идиллия. Возвращение в земной рай… В это не верят только змеи. И я тоже…»
Наверное, у меня был такой растроганный вид, как будто неожиданно под пение небесного хора на земле восторжествовали доброта и вселенская любовь.
— Да, ваш Киз — это что-то потрясающее.
Конечно, трудно утверждать, что можно читать мысли по глазам. Но красноречивый взгляд Джека недвусмысленно говорил: «Чертов мудак».
В глубине комнаты Мисс Бо застонала так, словно ее мучили родовые схватки.
— Ваш пес и Киз стали настоящими приятелями. Пойдите посмотрите сами. Я занят.
Он повернулся ко мне спиной.
Нужно ухитриться сохранить в себе неизгладимый след того блаженного времени, которое ушло с наступлением зрелости, чтобы испытать такое сильное радостное волнение, какое испытал я, подойдя к клетке, Киз сидел на земле и вытаскивал клещей, которых, видимо, Батька подцепил на давешней прогулке. Пес лежал на спине, задрав лапы, и нежился. Киз поднял голову, бросил мне: «Hi there» — и вернулся к своему занятию.
Мир и согласие. Солнце и эвкалипты. Сладость идиллии. Вокруг клетки с кудахтаньем бродят куры. Белые куры. В этой стране можно свихнуться.
Батька все еще лежит на спине и млеет, оттого что Киз жесткой щеткой трет ему пузо. Он приоткрывает один глаз и, увидев меня, вежливо виляет хвостом. Он улыбается. Кроме него, я только два раза в жизни видел собак, которые улыбаются. Они обнажают клыки, и губы у них при этом подрагивают. По-русски это будет «skalitsa», если вы предпочитаете точные обозначения.
— У вас получилось, — сказал я.
Он продолжал тереть псу живот.
— Пока не совсем.
— Лучше уже не станет.
— Станет, еще как. Sure you can. — Он посмотрел на собаку с видом специалиста. — Можно добиться большего, но понадобится время…
— Я как сейчас вижу Киза, стоящего посреди клетки. С тех пор прошел год и много чего случилось, но это воспоминание по-прежнему отчетливо и приобретает у меня в памяти почти эпический характер.
— Я не отваживаюсь забыть.
Он принадлежит к тем узкобедрым lanky Americans, которые вытягиваются в длину благодаря каким-то тайным свойствам американской почвы. Маленькие черные усики над узкими европейскими губами. Взгляд человека, который ничего от вас не ждет и сам ничего не может вам предложить — ни доверия, ни симпатии, ни злобы. Этот взгляд редко бывает обращен на вас и все держит в себе. Черты кажутся менее тонкими из-за своей жесткости, а отсутствие всякого выражения на лице придает ему какую-то гранитную незыблемость, которую воспринимают как «зверство» или как «римский профиль», в зависимости от того, о ком идет речь: об африканских дикарях или о римских легионерах и кондотьерах эпохи Ренессанса.
Руки усеяны рубцами от змеиных укусов. Тэйтем говорил мне, что этот странный человек обладает почти волшебным иммунитетом против яда всех американских змей. «Как знать, — сказал старик, подмигнув мне, — может быть, у него есть свой маленький секрет, который передается по наследству, особые травы…» Но это была просто выработанная невосприимчивость, достигнутая в равной степени с помощью сывороток и небольших доз яда. Я сам видел, как он стоял в змеином рву и голыми руками брал яд у гадюки, извивавшейся у него в кулаке. Жаль, что с людьми все настолько сложнее…
Он возвышался среди змей с безразличным видом, и как тут не понять, что своим видом он показывает, что одержал победу, что этого чернокожего в Америке больше не тронут…
Он наклонился к собаке и гладил ей живот. Батька в полном счастье закрыл глаза.
Я еле сдерживал слезы умиления, мне только не хватало старого доброго викторианского носового платка.
— С ним еще придется повозиться. Он и вправду меня принял. Я приношу ему пожрать, я его выгуливаю, чешу ему животик, ухаживаю за ним. Всячески угождаю. Вот он и старается быть со мной любезным. Я его house-nigger[21].
От моего умиления не осталось и следа.
Этот гад неисправим. У него определенно историческая память…
Помните, кто назывался house-nigger, хозяйским негром? Чернокожий слуга, который ластился к хозяевам, преданно служил им, играл с их детьми, а хозяева взамен простирали на него свою милость и давали ему преимущество перед другими рабами.
Сегодня активисты используют это выражение, говоря о чернокожих, которые преуспели в «белом» обществе и проложили себе путь в истеблишмент.
— I’m his house-nigger…
Киз вышел из клетки. Он зажег сигарету, мечтательно затянулся, бросил спичку… Спросил, не глядя на меня:
— Вы не хотите мне его отдавать?
Он что-то затеял, я это чувствовал.
— Почему вы так на этом настаиваете?
Киз отвернулся.
— You can’t give up on a dog, — глухо ответил он. — Нельзя кинуть собаку.
Поколебавшись, я осторожно сказал:
— Я посоветуюсь с женой.
Я ехал через холмы, по Колдуотеру, мимо эвкалиптов и пальм, и мне казалось, что взгляд Киза следует за мной по пятам, этот скрытный взгляд, так старательно следящий за тем, чтобы не выдать себя…
Хватит. Я не позволю загипнотизировать себя враждебностью, которую так хорошо ощущаю, точно она увязалась за мной…
Я остановился перед домом Стаса, модельера идеальных городов. Мне сказали, что дни его сочтены, но он проявляет чудеса стойкости. Я уверен, именно страстное желание закончить город-солнце придало ему сил.
Молодой чернокожий открыл мне дверь небольшого домика на сваях, зарывшегося в густую зелень Лорел Кэнион.
Стаса я нашел в сарае, он сидел перед своим «городом-солнце». Город вырос: Дом Культуры, Дворцы труда, музеи, университеты, центры развлечений, клубы, заводы, зеленые массивы, здание под названием «Свобода навсегда», кварталы писателей, музыкантов и художников, бассейны и стадионы выглядели великолепно. Только Вселенская церковь еще разрывалась между разными архитектурными стилями. Она изобиловала минаретами, куполами, стрелками, а ее символика объединяла крест, серп и молот, полумесяц и другие эмблемы более или менее туманного содержания. Настоящий склад, впрочем, совершенно пустой.
Стас страшно исхудал. Он сидел в кресле, в халате психоделических цветов, и грустно смотрел на свое творение. Он искал в нашем взгляде одобрения его маленькой персональной Бразилии.
— Очень красиво, — сказал я. — Чуть-чуть не хватает тюрем, и стадион надо бы огородить колючей проволокой. Сейчас почти все футбольные матчи заканчиваются кровопролитиями. Нужно оберегать мяч.
Я узнал, что за негром, которого он приютил, охотилась полиция.
Он как раз принес термос с чаем, и Стас выпил все одним духом, измученный обычной для его болезни жаждой. Парень держал в руках газету. Он сразу же затараторил без остановки, скорее чтобы выговориться, чем объясниться.
Предмет его негодования — две строчки сообщения, в которых говорилось, что утром был совершен налет на кассу винного магазина.
Преступников ранили и арестовали. В газете указали их имена, это оказались знакомые юного протеже Стаса. Он страшно возмущался: газета ни единым словом не дала понять, что нападавшие были неграми.
— Прессе приказали умолчать об этом, чтобы ни в коем случае не сделать нам рекламы. Они хотят показать нашу борьбу против гангстеризма бесцветной. Другими словами, кастрировать «черную силу», чтобы сделать нашу революционную деятельность бесплодной, скрыть, что мы перешли в наступление по всей стране. Мы будем настаивать, чтобы каждый раз, когда кто-нибудь из наших братьев совершит «преступление», газеты писали черным по белому: этот удар нанесли негры. Иначе мы будем взрывать редакции. Они боятся упоминать о цвете кожи. Пишут: «Джон Смит», и все. Зачем?
Он издал смешок. По лицу его струился пот. Сидя на ящике, он пил чай, чашку за чашкой. Я поймал себя на мысли, что впервые вижу негра, который дует чай, как русские. Наверное, его колотил нервный озноб. Мне знакомо это напряженное горячечное состояние, эта судорожная агрессивность: он боялся.
— Зачем? Чтобы утаить нашу силу от американских негров, которые были бы горды нами и воодушевлены и еще больше бы помогали нам; чтобы скрыть масштабы нашего дела. Шестьдесят пять процентов так называемых «преступлений» совершили наши братья. Об этом должны знать. Но «белая» пресса помалкивает: им всем прекрасно известно, что каждое из таких преступлений на самом деле — акт партизанской войны, и они хотят помешать нам заставить мир бояться.
Я слегка обалдел. Американская пресса всегда, по крайней мере уже много десятилетий, соблюдала один неписаный закон: ни в коем случае не указывать на этническую принадлежность, «породу» преступника. Если какая-нибудь реакционная газета нарушала этот закон и упоминала о цвете кожи убийцы, чернокожие руководители яростно протестовали. Это считалось пропагандой расизма.
Теперь все вывернуто наизнанку. Борцы за права негров хотят «аннексировать» преступников в политических целях; точно так же в XIX веке анархисты рассматривали любое преступление как бунт против общества. Гангстеризм получает имя «терроризм». Каждый чернокожий, изнасиловавший белую женщину, осуществляет идеологическую месть. Сам Кливер объявил во всеуслышание, что изнасиловал белую «в порядке идеологии», и объяснил это в своей книге. Впрочем, современная психиатрия склонна видеть во всяком преступлении социальную подоплеку. Убийство превращается в священную войну, больше нет негодяев, есть одни герои. Неплохая идея, но вот незадача: в глазах американцев, белых или черных, любой политический террорист, белый или черный, не перестает быть уголовником.
Иначе говоря, если уж правонарушителей возвели в герои, то представить редких истинных героев уголовниками проще простого.
Я быстро сказал Стасу по-польски:
— Этот тип бредит.
Мой бедный рыцарь светлого будущего пробормотал в усы, которые свисали, как желтые собачьи хвосты:
— У него сейчас неприятности.
Не слушая, я смотрел на несчастного паренька: руки его дрожали, он обливался потом, и вовсе не из-за чая, как я сначала подумал. Расширившиеся глаза, наоборот, остекленели.
— У него депрессия.
— Из-за чего-нибудь конкретного?
Стас молча глядел на Музей современного искусства в самом сердце его земного рая. Он вздохнул, но не ответил.
— Высочайшее доверие, — сказал я.
Ясно одно: человек безумно запуган. Внезапный сильнейший прилив страха захлестнул его.
— Может, тебе стоит дать ему транквилизаторы?
— Не говори глупости…
Он был прав. Представляете: белый дает транквилизаторы черному активисту? Тот счел бы себя оскорбленным. Это значило бы показать ему, что он несет вздор, поставить под сомнение справедливость его действий.
Когда человек психует, плохо то, что это заразно. Я почувствовал, как во мне поднимается беспричинный гнев. Я подчеркиваю эту фразу, поскольку она объясняет, каким образом необузданные страсти, набирая силу, подобно снежной лавине, превращаются в низость. Мое дыхание участилось. Надо было взять себя в руки.
Должно быть, он почувствовал что-то неприятное в выражении моих глаз и бросил мне в лицо восхитительную классическую формулу всех расистов и националистов:
— Вам не понять. Вы не американец.
— А вы, в конечном счете, несмотря ни на что, ощущаете себя американцем?
Он посмотрел на Стаса взглядом глубоко обиженного ребенка.
— Как можно быть таким недоброжелательным? — пробормотал мой друг.
— Я должен его пожалеть?
— Это вы обо мне говорите? — встрепенулся тот.
— Да, — ответил я. — Мне надоело обихаживать каждого негра, который порет чушь, как беременную женщину.
— А не пойти ли тебе прогуляться? — тактично спросил Стас.
Я сдержался. Вернее, сделал попытку. Но у этого психа лицо подергивалось от ненависти, и я от него заразился: по моему лицу побежала мелкая рябь, как будто его ненависть волнами перекатывалась на меня. Несколько секунд мы молча обменивались нервными тиками. Наконец я произнес резковатым тоном:
— Вы все заявляете, что ненавидите либералов, но тогда какого черта вы делаете в доме этого наивняка, ведь всем известно, что он либерал?
Он послал мне особенно выразительный тик, который я тут же отправил обратно. Потом сдавленным гортанным голосом выдал очередную классическую формулу, словно повторял урок:
— Это его проблемы.
Мы оба сглотнули.
— Если он хочет помочь нам, это его личное дело. И он знает, что мы его используем.
— Совершенно верно, — сказал Стас, смиренный, как ночной горшок.
— Вы, либералы, доставляете себе удовольствие тем, что помогаете нам. Это ваша манера получать удовольствие. Мы вам ничего не должны.
— Твой болван начинает всерьез меня доставать, — произнес я сквозь зубы.
Я просто окостенел от ярости. Я ощутил почти физическую потребность всеобщего расслоения, чудесного умопомешательства, волшебного избавления от человеческого, чтобы стать наконец этой недосягаемой мечтой — человеком.
И как всегда, мои мысли сделали вираж по спирали, и я внезапно подумал: «Никто не имеет права поступать так с собакой…»
Я думал не о Батьке, а обо всех нас. Кто поступил с нами так? Кто сделал из нас такое?
Только не говорите мне про «общество». Виновато устройство нашего мозга. Общество — всего лишь диагноз.
— Мальчику грозит смерть, — прошептал Стас.
— Копы?
— Нет.
Не знаю, был ли известен Стасу — мир его душе в сияющем городе, где он наверняка изобретает новый, более справедливый и благоустроенный рай с разумно распределенными кущами, — был ли ему известен весь ужас положения этого мальчика.
То, что на него якобы охотилась полиция, было хитрой выдумкой самой полиции, которой нужно было «внедрить» стукача. Я не могу этого утверждать. Возможно, я ошибаюсь. Я только раз слышал фамилию несчастного: может быть, и Рэкли, а может, Ригли. Но я точно знаю, что его звали Алекс. Весной 1969 года в Коннектикуте нашли труп некоего Рэкли, двадцати трех лет. На его теле остались следы пыток: ожоги от сигарет и кипятка, просверленные дыры. А в августе того же года Бобби Сил, предводитель «Черных пантер»[22], был обвинен в убийстве.
Алекс Рэкли был информатором ФБР. По сведениям полиции, Бобби Сил участвовал и в его казни, и в допросе с пристрастием, который велся по старинному методу, хорошо известному нашей армии в Алжире и тамошним партизанам. Рэкли был членом группировки «Черных пантер» около восьми месяцев: даты совпадают, и если это тот самый человек, то депрессия была легко объяснима. Наверняка его погубило предательство.
Но главное не личность убитого. С какой бы точки зрения мы ни рассматривали этот случай, здесь точно есть провокация, внедрение доносчика, страдание и страх. Очень характерно, что в историю был замешан еще один стукач, Джордж Сэмз-младший, двадцати трех лет. Он и выдал Бобби Сила. Это вызывает еще более интересные гипотезы… Бобби Сил был последним вождем «Пантер», все еще разгуливавшим на свободе. Как заполучить его шкуру? Сообщив, что среди них есть предатель… Дальнейшее развитие событий было бы предопределено. Выходит, Рэкли был сознательно принесен в жертву теми, кто его использовал?
Я уже предупреждал, и настаиваю на этом, что строю гипотезы только для того, чтобы передать хотя бы частицу той отравленной, дикой атмосферы, полной подозрений, опасностей, недоверия, взаимных провокаций и атак, в которой жили чернокожие активисты.
Я был взвинчен до предела и ушел оттуда с чувством отвращения и злобы на самого себя.
Проблема прав чернокожих потихоньку начала меня заедать, и мне в голову пришла одна маленькая, ну совсем маленькая мысль: а что же обо всем этом думают сами чернокожие? Я испытывал острую необходимость в сегрегации, радикальнейшем взаимном отчуждении в истории одиночества. С такой потребностью в сепаратизме впору создавать новый мир. Я взялся за это без промедления: весь оставшийся день я писал.
Теперь, приходя в питомник, я неизменно чувствовал себя лишним. У меня на глазах рождалась крепкая дружба. Как только дрессировщик входил в клетку, собака вставала на задние лапы, чтобы лизнуть чернокожего в лицо. Киз отворачивался, а она терлась об него с нежным урчанием. Я смотрел на эти излияния с умиленной улыбкой и чувством облегчения оттого, что никогда не бывает совсем безвыходных ситуаций. Я был горд собой. Я сделал благое дело и воспринимал эту картину как награду. Когда мы оказывались в клетке втроем, поведение Батьки было в высшей степени тактичным. Увидев меня, Батька подходил, приветливо скалясь и вихляя задом, и тут же начинал свою любимую игру: слегка покусывал мою бороду, как будто искал блох. Потом он подходил к Кизу, чтобы потереться о его ноги, и снова возвращался ко мне, и так несколько раз. Человек, одаренный воображением романиста, сказал бы, что таким способом собака призывала нас побрататься, пойти друг другу навстречу и заключить мир.
— Ну что ж, — сказал я Кизу во время одного из этих визитов, — я думаю, собака уже может расстаться со зверинцем и занять свое место в обществе… Она здорова.
— У вас еще могут быть неприятности. Она признает лично меня, в качестве исключения. Но как только Терри или любой другой негр приближается к клетке, на нее накатывает. Она брызжет слюной от ярости. Говорю вам, я ее house-nigger.
Он долго и тихо смеялся, сверкая зубами.
— Теперь он различает good niggers и bad niggers.
— Но вы все-таки не можете помешать собаке делать различие между знакомыми и незнакомыми людьми. Это нормально.
— Да, это нормально. Ненормально, что от запаха белых с ним ничего не происходит, а запах черных…
— Послушайте, приятель, честное слово…
Киз сидел на корточках. Он еще раз похлопал собаку по спине и поднялся.
— Я констатирую факт. Первое, с чем работает дрессировщик, особенно если речь идет о полицейских собаках, — это обоняние. Вот вам доказательство: мы научили собаку чувствовать своих.
Он говорил это без всякого вызова, а напротив, с чрезвычайным спокойствием. В литературе постоянно твердят о том, что негры «легковозбудимы». Однако правозащитников всегда поражало их хладнокровие. Часто они ведут себя так, будто их уже давно уничтожили.
— К чему вы, собственно, клоните?
— Я думаю, вам следовало бы реже сюда приходить. Собака не понимает, что с ней творится, достаточно на нее взглянуть. Вы можете сказать мне, каковы ваши планы? Вы рассчитываете увезти ее в Европу или как? Буду с вами откровенен. Я потратил на этого пса уйму времени. Я старался как мог.
— Знаю.
— Если все это для того, чтобы в один прекрасный день вы забрали ее, — спасибо и до свиданья…
Батька сидел между нами и мел хвостом по песку. Он переводил взгляд с Киза на меня, словно понимая, что решается его судьба. Я колебался. Я чувствовал свою моральную ответственность. И речи быть не может о том, чтобы таскать собаку за собой по всему свету. И все же если бы я сказал Кизу: «Забирайте ее», я чувствовал бы себя предателем.
— Я хочу знать, оставите вы мне собаку или нет. Я задал вам вопрос.
Я молчал. Сам того не зная, своим ультиматумом Киз разбудил во мне то, что я считаю восточной чертой своего характера: боязнь определенности, необратимости, точек над i. Вдобавок к этому — странный ход мыслей вождя племени или главаря банды, кондотьера или восточного сатрапа, уж не знаю: я не имею права бросить тех, кто от меня зависит. Любопытный атавизм, пришедший из тех далеких времен, когда мои азиатские предки брали с собой на тот свет лошадь, сокола и иногда любимейшую из жен.
— Ну так что?
— В любом случае собака останется в Америке. Если вы в самом деле настаиваете…
— Я настаиваю.
— Поговорим об этом позже.
Я вернулся в Арден и вновь погрузился в воображаемый мир: я стал писать любовный роман. С небес на землю меня спустила та, кого здесь я буду называть Клара; она приехала со своим любовником. Я долго избегал встреч с ней. Она мне очень нравится, но с ней очень тяжело. Она из тех существ, которым нельзя помочь и от которых бегают именно потому, что хотят спасти. Клара — «наполовину» звезда Голливуда и целиком и полностью звезда популярнейшего телесериала. Среди чернокожих активистов она известна как nigger-lover[23]. Этот безапелляционный в буквальном смысле слова приговор когда-то был в ходу у белых расистов, а сейчас употребляется и белыми, и черными в равной степени.
Никого так не презирают черные экстремисты, как белую женщину, имеющую любовника-негра. И все же пять-шесть лет тому назад, когда Клара только начинала свою правозащитную деятельность, в этом не было никакой сексуальной подоплеки. Я даже помню, как она с большим чувством юмора высказалась по этому поводу на одном собрании.
Речь шла о том, чтобы собрать некую сумму в поддержку некой организации; встреча была назначена в доме Клары в Бель-Эйре.
Она тогда была на вершине успеха, взрослая девочка с рыжими волосами и веснушками, которые придают детскость женскому лицу вплоть до сорока лет, после чего за них начинают молчаливо извиняться.
На собрание пришли несколько белых и человек двадцать чернокожих мужчин и женщин, некоторые — с мужьями или женами. Они сидели кружком в гостиной, почти все в африканских одеждах, женщины без париков. Своеобразная демонстрация расовой принадлежности и ностальгии по племенному братству, восходящей примерно к тем же временам, что и возникновение хлопчатобумажной промышленности в Манчестере. Боюсь, у этого стремления к истокам нет других перспектив, кроме колец в носу и прочих лицевых травм.
Клара похлопала в ладоши, чтобы призвать к тишине и вниманию. Ее речь была короткой и жесткой.
— Прежде чем мы перейдем к повестке дня, я хотела бы сделать небольшое сообщение. Оно касается всех присутствующих здесь мужчин. С тех пор как я вступила в движение, только ленивый не пытался со мной переспать. Каждый раз, когда я говорила «нет», мне устраивали небольшую сцену, из которой следовало, что подсознательно я так и не избавилась от своего грузинского расизма. Пусть так. Покончим с этим раз и навсегда. Если среди вас найдется тип, готовый доказать мне, что, переспав с ним, я внесу свой вклад в борьбу чернокожих, — моя комната к его услугам. Я лягу без разговоров. О’кей?
Все расхохотались, главным образом чтобы скрыть смущение. После этого перешли к обсуждению серьезных вопросов. Сама Клара подала другим пример, подписав в тот вечер чек на сорок тысяч долларов. После уплаты налогов американская актриса может располагать суммой в сорок тысяч долларов только в том случае, если она получает двести. Три четверти заработка этой женщины уходили на борьбу за равноправие.
Но нельзя жить и бороться рядом с людьми, чьей выдержкой и смелостью вы восхищаетесь, и не видеть в них просто мужчин и женщин. Клара влюбилась в чернокожего. Потом в другого. Я думаю, она даже не догадывалась, что они черные: работая среди них, она уже давно перестала различать цвет кожи. Но это были годы, когда после убийства Малькольма X. фанатизм доходил до безумства или слабоумия, на то он и фанатизм. Правилом активистов стало использовать сочувствующих белых, ни на минуту не забывая о том, что они враги. Это называется gaming whitey.
Трудно себе представить, чем могут обернуться ненависть, жажда реванша, желание запугать и сделать больно у негра-фанатика, который спит с белой или насилует ее. Кливер, бесспорный лидер экстремистов, сейчас находящийся в изгнании, объяснил свое отношение к насилию, которое совершил; он говорит об этом в своей блестящей биографии «Душа на льду». Клару использовали, имели и презирали.
И как часто бывает с протестантами, в чьем сознании существует идея какой-то туманной вины, прямиком ведущая к мазохизму, ее психика не выдержала. Она стала считать себя священной жертвой, которая искупает все преступления белой расы, в том числе двести лет надругательства белых мужчин над черными женщинами. Именно этот тип женщин чаще всего составляет несчастливые пары. Сейчас мне кажется, что знаменитая, полная юмора фраза: «Если кто-нибудь докажет мне, что, переспав с ним, я внесу свой вклад в борьбу чернокожих» — шла из глубин подсознания, уже обреченного на саморазрушение. Профессия писателя иногда воодушевляет окружающих на откровенные признания. Кларины пересказы «любовных диалогов» отличались ужасающей банальностью, свойственной взаимоотношениям всех садо-мазохистов: классические реплики типа «на, возьми, кретинка» — «хорошо, милый» были представлены во всей красе.
Мы поцеловались. Ее худоба превратилась в костлявость, в ее словах и жестах чувствовалось возбуждение, в котором легко угадывалось действие стимуляторов. Клара еще была красива, но в ее красоте уже проглядывала пергаментная сухость. Человек, чуткий к смене временных границ, смог бы определить, какой она станет лет через десять, когда ей будет пятьдесят. Ее сопровождал молодой негр в синем блейзере, вежливо-насмешливый, с непринужденными манерами. Первые двадцать минут, сдобренные двумя стаканами виски, по традиции были посвящены последним выходкам полиции и обвинениям, выдвинутым против Рона Каранги. А затем настал тот мучительный момент, когда бывшая кинозвезда — а на этом поприще примириться с тем, что ты «экс», особенно тяжело — заговорила о ролях, которые ей предлагали и которые она отвергла, о сменяющих друг друга агентах… Ее спутник разглядывал свои ногти. Нам было чрезвычайно неловко. Мы всё знали, и Клара знала, что мы знали… Недавно ей предложили двести тысяч за главную роль в фильме Алана Лернера «Paint your Wagon», с Ли Марвином. Бюджет — двадцать миллионов долларов. Джин бросила на меня отчаянный взгляд: она согласилась на эту роль две недели назад, и контракт был уже подписан. Марк резко повернулся к своей несчастной подруге.
— Why don’t you shut up? — крикнул он. — Да заткнись же ты!
— But, honey… Но, дорогой…
Он вскочил и отобрал у нее стакан:
— You had enough. С тебя хватит.
Зеленые глаза наполнились слезами.
— You are a bastard, — сказала она. — You are such bastards, all of you. Now that I have no money left… Все вы сволочи. Конечно, теперь, когда я на мели…
Марк повернулся к нам.
Это был неплохой парень. Оказалось, даже талантливый. Его первая пьеса, одна из лучших пьес «негритянской школы», которой сейчас наследует «еврейская школа», замечательна тем, что в ней нет ни капли ненависти.
Он сказал, что из тех трехсот тысяч долларов, которые Клара отдала за восемь лет, ни один цент не был истрачен на дело. Все осело в карманах членов сорока двух комитетов, специально созданных, чтобы утешать не черных, а белых. Есть такие небольшие негритянские организации, единственная цель которых — утешать белых, за их же счет убаюкивать их совесть. Они кладут деньги в карман, и белым становится легче. Скоро каждый состоятельный «виноватый» белый заведет собственную негритянскую организацию, чтобы иметь возможность чувствовать себя хорошим человеком. В этой стране не больше двенадцати стоящих негритянских организаций. Цель всех остальных — не действовать, не помогать людям, а кормиться самим. Так долго не продлится…
Я старался не смотреть на Клару. Впрочем, это была и не совсем она: транквилизаторы, помноженные на алкоголь, мало что от нее оставили. Я знал одну такую женщину, необыкновенно красивую; она была родом из Техаса, и звали ее Линн. Она играла в «Стреле и пламени». Однажды вечером она легла спать, накачавшись наркотиками, а через три дня нашли ее прекрасный труп, прижатый к стене сложившейся кроватью.
Клара истерически рыдала. Она говорила Джин:
— I’ll tell you, honey. You either work or them or you screw with them… Ты либо работаешь на них, либо спишь с ними… Или — или.
— Shut up, I’m telling you, — сказал Марк. — Заткнись!
— Дайте ей выговориться, — сказала Джин. — Ей станет легче.
— А если ты будешь заниматься и тем и другим, все решат, что ты ненормальная. They think you are gone pathological. Никто уже не верит, что ты работаешь с неграми ради идеи, а не ради секса. Give me another drink. Дай мне выпить.
Он отобрал у нее стакан:
— No, you won’t. С тебя хватит. Тебе вечером на собрание.
— Потому что, моя милая, если ты впутываешь сюда любовь, все летит к черту… Самая большая гадость, какую ты можешь им сделать, — это спать с ними. Именно этого от тебя ждут все черные и белые расисты. Ты играешь им на руку. Тогда они смогут сказать, что убеждения, правосудие и тому подобное — ширма для любовных утех. И вот еще что, моя дорогая. Чернокожий подонок не потому подонок, что он чернокожий. Он подонок, потому что он подонок.
— Аминь, — произнес Марк. — Ты точно пойдешь на это собрание?
— Естественно. Там будет Марлон Брандо. И Джек Леммон. Там будет весь Голливуд. Я не могу не пойти туда. Я не могу так с ними поступить. Мое имя нужно им для престижа.
И мы туда пошли.
Это происходило в доме одного продюсера в Бель-Эйре. Председательствовали Коретта Мартин Лютер Кинг и пастор Абернати, преемник Кинга. Собрался действительно весь Голливуд. И действительно, там был Марлон Брандо. И все остальные. Я вышел оттуда совершенно разбитый.
Целью был сбор средств для «шествия нищих» на Вашингтон. Организаторы рассчитывали повести на столицу около ста миллионов обездоленных — негров, мексиканцев, пуэрториканцев, индейцев, которых предполагалось поселить в «деревне бедняков», построенной в двух километрах от Белого дома.
Весь этот замысел, автором которого был Абернати, отдавал провинциальной любовью к картинкам из Библии, Девой Марией на ослике и Вифлеемской звездой над яслями. И это в то время, когда волхвы, если допустить, что они еще существуют, давным-давно приходят лишь затем, чтобы воровать и набивать карманы.
То же самое с этим словечком «бедняки» из лексикона дамы-патронессы. Благодаря ему борьба сознательно выводилась за рамки политического или идеологического контекста.
Представьте себе: восхитительный дом в Бель-Эре, самом богатом и шикарном районе Калифорнии; триста самых блестящих имен из списка голливудских знаменитостей; буфет, ломящийся от икры и шампанского, и почтенный Абернати, призывающий свою паству оказать посильную помощь беднякам, шествующим на Вашингтон. Только преподобный Джесси Джексон, пастор из «черных курток», осмелился обронить замечание: «Нельзя решить проблему двадцати миллионов американских негров, не изменив все американское общество в целом». Пастор Абернати долго рассказывал нам о последних минутах перед покушением — он делил с Мартином Лютером Кингом одну комнату в мотеле. Невыносимо патетическое стремление окружить эти минуты ореолом святости и дать им библейское бессмертие превратило жестокое убийство в историю распятия, полученную из вторых рук и лишенную повествовательного дара апостолов.
Замолчите, доктор Абернати. Вы поведали нам даже о том, каким кремом для бритья воспользовался Мартин Лютер Кинг за несколько минут до смерти. А потом он передал вам тюбик и предложил тоже им воспользоваться, потому что вы забыли свой. Да-да, я понимаю. Этот крем для бритья станет реликвией. Он будет благоухать святостью. Но вы забываете: в Библии нет свободных мест. Она уже давно отказалась от мирской суеты. Клянусь вам, Бог не явится на «черную встречу». Он уже продинамил столько других…
Мой сосед, чьего имени я не стану называть ради его правнуков, улучив минуту, шепнул мне на ухо:
— Как вам нравится этот зал? Здесь представление на тридцать миллионов долларов. Thirty million dollars of entertainment industry.
Это правда. Они все здесь, от Белафонте до Барбары Стрейзанд, и они слушают рассказы пастора Абернати о шествии нищих и креме для бритья, от которого уже исходит благоухание святости. В первом ряду сидит Марлон Брандо со своей супругой-таитянкой. Грубая кожаная куртка, львиная грива, воротник свитера выгодно подчеркивает линию подбородка… Он одним из первых стал щедро давать деньги на «дело» чернокожих. Я ставлю это слово в кавычки из стыдливости: оно слишком замусоленное, полумертвое.
Он подошел к микрофону и сурово взглянул на публику:
— Тем, кого сегодня нет, стоит поискать себе уважительную причину.
Все почувствовали себя неловко: уж слишком это было наигранно. Но худшее было впереди. Сказав несколько слов о голодающих детях, — Брандо с неустанной щедростью поддерживал ЮНИСЕФ, — он спросил, есть ли желающие войти в комитет, который следил бы за тем, как будет выполняться решение, принятое на сегодняшнем собрании. Из трехсот человек подняли руки тридцать: это явно более чем достаточно. Конечно, если на собрании триста, как тут обойтись без комитета из тридцати…
И вот внезапно в нескольких словах Марлон Брандо разоблачает самого себя и отношения некоторых защитников-негров с ними самими — я имею в виду с ними самими, а не с неграми — это больше чем психиатрическое заключение. Он пристально смотрит в зал на тридцать поднятых рук. Слегка передергивает плечами. Он играет.
— Те, кто не поднял руку, могут катиться к чертовой матери. Get the hell out of here.
Каждый раз, когда взрослый мужик ведет себя как малолетняя шпана, у меня такое ощущение, словно мне тоже подмочили репутацию.
Я прекрасно понимал, что таким образом Марлон Брандо пытался подражать непримиримости «Черных пантер».
Но миллионер, который не рискует получить даже пинок под зад, не становится от этого и «белой пантерой»; он больше похож на пуделя, написавшего на ковер в гостиной.
Было что-то ужасно неприятное в этой наглости, этом вызове, этом взгляде desperado. Кривляньем нельзя изобразить истинную ненависть, которая поднимается из негритянской крови, поливающей тротуары. Триста актеров, режиссеров и писателей, пришедших согласовать сумму, которую они собирались передать организаторам, совершенно не представляли себя членами комитета, «управляющими».
— Get the hell out of here.
Забудем о Марлоне Брандо и о том, как он неудачно косил под «Черную пантеру». Важно, что среди белых есть люди с психическими отклонениями, misfits, которые используют трагедию и протест афро-американцев, чтобы вывести свой невроз за пределы психики, на социальный уровень, тем самым оправдав его. Параноики передразнивают настоящих преследуемых, чтобы повернуться лицом к «врагу».
Люди, достигшие наибольшего успеха, часто испытывают тайное чувство неполноценности: им все время чего-то не хватает. Эгоманьяки всегда ощущают недостаток уважения и преклонения. Те, кто чувствует собственную ненормальность, пытаются убежать от психиатрического диагноза, оправдываясь ненормальностью внешней, социальной жизни общества, а не только психической.
Чернокожие прекрасно знают, что некоторые белые «помогают» им или подталкивают к экстремизму по личным причинам, как правило, не имеющим никакого отношения к американскому расовому конфликту. Один негр как-то сказал мне с улыбкой, глядя вслед удаляющейся голливудской знаменитости: «Мы здорово ему помогли».
Все-таки у нас есть право на пару-другую комических интермедий.
Каждый денежный вклад полагалось указывать на листочке и стыдливо прятать в конверт. Но не забывайте, мы были в столице шоу-бизнеса. Не все могли вот так просто согласиться пожертвовать двадцать тысяч долларов, не оповестив об этом публику. Не буду называть имя актера, который сделал первый взнос, но, передав конверт, этот симпатяга встал и произнес:
— Я жертвую все, что получу за свой будущий фильм.
Лавина пошла. То в одном, то в другом конце залы лопались цифры, раздавались аплодисменты, глаза у всех были на мокром месте, и даже пастор Абернати, который мирно дремал на эстраде, пока звучали речи, проснулся и засиял.
Великолепную фразу произнес один режиссер, муж знаменитой кинозвезды:
— Недостаточно просто давать деньги. Мы должны пойти в негритянские семьи, должны научиться понимать их…
1968 год, друзья мои. Неожиданно среди самого богатого и сильного в мире общества победоносно воздвиглось колумбово яйцо чудовищных размеров. «Мы должны пойти в негритянские семьи, должны научиться понимать их…» Повторяю, это 1968 год. Не знаю, видны ли все ошеломляющие последствия этого трагического в своей смехотворности крика души. Пробудилась не Америка наших бабушек, а другая Америка: ее творец — тридцатисемилетний режиссер. Он живет рядом с семнадцатью миллионами негров. В двадцати минутах езды на машине — Уотте. Колумбово яйцо росло у меня на глазах, как в пьесе Ионеско. Эврика! Новое открытие Америки самими американцами. Вот черт!
Сидевшие на собрании негры — Белафонте, Янг, преподобный Джексон — делали отчаянные попытки сохранить серьезный вид. «Мы должны пойти в негритянские семьи, должны научиться понимать их…»
Мне казалось, что Янга слегка трясет и он вот-вот разразится хохотом. Я убежден, что в колумбовом яйце прячется смех чернокожего, самый черный смех в мире.
Надо всем этим склонилось лицо необычайной красоты с печальной, едва намеченной улыбкой. Лицо Коретты Лютер Кинг. Возможность повториться — редкий случай, потому что редко в чем бываешь уверен. Так вот, я повторяю: за всю свою жизнь я не видел лица более благородного и прекрасного.
Обратно мы ехали с агентом Ллойдом Каценеленбогеном, его братом продюсером Сен-Робером и агентом Сеймуром Блитцем. На лицах всех троих было горестное выражение mea culpa[24]. Они только что не били себя в грудь, и мне захотелось предложить им горсточку сигарного пепла, дабы они могли посыпать им главу. Главный отличительный признак американского интеллигента — чувство вины. Если человек сознает свою личную вину, это говорит о его высоком моральном и социальном уровне, благонадежности, о его принадлежности к элите. Угрызения совести свидетельствуют о прекрасном рабочем состоянии этой совести и вообще о наличии таковой. Понятно, что я сейчас имею в виду не истину, а видимость. Любая цивилизация, достойная этого названия, неизменно будет считать себя виноватой перед человеком: именно в этом и узнается цивилизация.
Я слушал, как три моих спутника соревновались в самокритике. Наиболее терпимым и понятливым оказался Ллойд Каценеленбоген: он был литературным агентом нескольких выдающихся современных писателей.
— Духовное освобождение всегда должно быть вербализировано. «Почтение» к белым, которое внушали неграм, может быть оправдано только взаимностью. Это «десакрализация». Когда какой-нибудь Лерой Джонс поливает нас грязью, а чернокожие мусульмане мечтают кастрировать нас, когда Кливер похваляется тем, что изнасиловал белую, это, конечно, тяжело. Но ведь это реакция на страшное преступление, которое мы совершали в течение веков, с самого возникновения рабства. За каждым черным поджигателем, убийцей и насильником стоит преступление белых, наше преступление. Мы толпами грузили их на эти проклятые корабли, мы заковывали их в цепи в вонючем и душном трюме, отчего каждый второй из них умирал по дороге…
Вмешался Сеймур Блитц:
— Мы не имеем права забывать, что наши предки сделали с неграми, так же как немцы не имеют права забыть о преступлениях Гитлера. Мы совершили такое преступление против человечества, что по сравнению с ним бесчинства некоторых негров кажутся робкими. Мы…
Тут я расхохотался. Я никак не мог остановиться: в жизни я не слышал ничего более уморительного, хотя мне часто приходилось смеяться до колик…
— What the hell is the matter with you? Что на вас нашло? — тявкнул Блитц, у которого изо рта криво свисала сигара.
— Сейчас скажу, что на меня нашло… — Я вытер слезы. — Сейчас скажу. Вы трое — евреи из Восточной Европы, и если даже хоть один из вас успел родиться в Штатах, ваши отцы и деды еще гнили в гетто, от погрома до погрома, когда в Америке уже не существовало рабства. Тем не менее вы с наслаждением повторяете: «Мы, американские рабовладельцы…» — потому что это дает вам возможность почувствовать себя американцами до мозга костей. Вы пытаетесь убедить себя в том, что ваши предки были рабовладельцами, а между тем их убивали тысячами, как на душу ляжет — казакам, атаманам и царским министрам. Вы хотите доказать себе, что полностью ассимилировались. О неграх я не говорю, вам на них наплевать…
— Спасибо! — возмутился Каценеленбоген.
— … но это позволяет вам самим не ощущать себя представителями меньшинства, помогает притупить чувство отчужденности. Будь ваши деды рабовладельцами, вы были бы американцами на сто процентов. Меня тошнит от вашего покаяния. В тысяча девятьсот шестьдесят третьем году я сидел у своего адвоката-израильтянина в Нью-Йорке как раз в тот момент, когда по телевизору сообщили о смерти папы Иоанна Двадцать Третьего. Все присутствующие были евреи, и они ревели как белуги, как будто только что распяли их Господа Иисуса Христа.
— Он пьян, — торжественно заключил Сен-Робер.
И в этом была доля правды, хотя я никогда не притрагивался ни к спиртному, ни к марихуане, ни к ЛСД: я слишком погряз в самом себе, чтобы расстаться с таким приятным спутником, набравшись алкоголя или наркотиков. Меня опьянило негодование.
Впрочем, именно так становятся писателями.
Атмосфера накалилась, и мы решили поужинать в «Бистро», чтобы снова проникнуться друг к другу симпатией. Поначалу разговор в этом престижном заведении поддерживался на самом высоком уровне и не опускался ниже четырехсот тысяч долларов на десять процентов валового сбора. Потом Сен-Робер, еврей, как можно догадаться по его имени, принялся метать громы и молнии по поводу новых антисемитских выступлений в Гарлеме. Когда негритянский авангард атакует евреев не как белых, а именно как евреев, последние в свою очередь становятся расистами. Так называемый backlash, возвратный удар. Есть о чем плакать, как говорила моя мама, которая никогда не плакала.
В свой предыдущий приезд как раз у Ллойда Каценеленбогена я впервые встретил негра-антисемита. Это было сильно. Мой приятель Ллойд — непоколебимый либерал. Он понимает все. Понять значит простить. Передаю по памяти наш разговор:
Активист
Вы, евреи, захватили гетто в свои лапы. Вся недвижимость, все магазины — ваши. И ростовщики — тоже вы. Вы продаете нам свои паршивые товары на двадцать процентов дороже, чем в белых кварталах. Мы вам уши обрежем.
Каценеленбоген
Возьмите еще цыпленка.
Активист (кладет себе цыпленка)
Благодарю. Вы из нас всю кровь высосали.
Я (по-французски)
Этот фрукт у меня уже поперек горла стоит.
Каценеленбоген (по-французски)
Ты не понимаешь. Мы двести лет их угнетали. Им нужно самоутвердиться. Так что молчи в тряпочку.
Активист
Безусловно, я говорю не о вас лично, я умею видеть разницу. Я знаю, что вы, Ллойд, не из таких.
Я
Вот именно, Ллойд, вы — «хороший» еврей.
Активист
Возьмите soul stations, знаменитые радиостанции, передающие «соул»… Почти все они принадлежат евреям.
Я
Вы антисемит?
Активист
Вы не американец, вам этого не понять.
Я
Ну а вы, вы чувствуете себя вполне американцем?
Каценеленбоген
Слушай, ты стал расистом?
Я
Впрочем, мысль о негре-антисемите кажется мне очень привлекательной: я рад отметить, что неграм, как и всем, нужны евреи.
Этот антисемитизм отчасти возник благодаря комедии арабизма и исламизма, которую ломают чернокожие экстремисты в поисках духовного обновления. Из них девяносто девять и девять десятых процента понятия не имеют о том, что арабские завоеватели жестоко убивали их предков, были разрушителями традиций и истинной африканской религии — анимизма. Не знают и о том, что арабы обращали негров в ислам, грозя им мечом, носящим то же имя, и при этом оскопляли самых слабых и продавали этот живой товар португальским, английским или американским работорговцам…
Было бы несправедливо и недостойно винить за это современных арабов и предъявлять им претензии за преступления предков, которые и не подозревали, что совершают преступления. Нелепо и ошибочно судить о прошлом с точки зрения современности. Но чтобы увидеть в исламе воскрешение африканского духа, нужно преодолеть как минимум несколько световых лет, и когда Малькольм X. пишет по поводу белых: «Как же я могу любить человека, который изнасиловал мою мать, убил отца, томил в неволе моих предков?» — то не это ли он делает, вручая себя Пророку?
— А как ваш пес? — спросил Сен-Робер.
— Что «мой пес»?
— Все такой же расист?
Я промолчал. Остальные ничего не знали. Сен-Робер рассказал им эту историю с таким соболезнующим видом, словно говорил о члене моей семьи, записавшемся в СС. Я уткнулся носом в тарелку и стал есть за четверых: так бывает всегда, когда я подавлен. Единственное, что может меня взбодрить, — это еда, Я никогда не пью, особенно после того, как во время войны, выпив виски в армейской столовой, я провалил задание.
Каценеленбоген не сказал ничего, но казался заинтересованным.
Он позвонил мне на следующий день:
— Можно, я к вам приеду?
Он не был ни моим агентом, ни агентом Джин, но авансы делал.
— Приезжайте, — сказал я. — Мне терять нечего.
Через двадцать минут он прикатил к нам на модели «тандерберд» с откидным верхом. Я усадил его и приготовил «Кровавую Мэри».
— Я к вам по поводу собаки. Я всю ночь о ней думал и уже поговорил с женой. Мне кажется, мы могли бы вам помочь.
— Да ну? Каким образом?
— Собака не может просидеть остаток жизни в клетке, а вы не можете сами о ней заботиться, вы слишком много путешествуете.
Я чувствовал, чем это пахнет. Будь я собакой, шерсть у меня встала бы дыбом.
Ллойд на минуту умолк. Он на редкость хорошо одет: голубой блейзер, золотые пуговицы, тончайшее белье…
— Я просто хотел предложить, не отдадите ли вы собаку нам? Мы с женой живем в Бель-Эйре одни, дом несколько на отшибе, и…
У него был такой искренний вид, он с такой готовностью предлагал нам свою помощь, и он был поверенным стольких хороших писателей, что имел бы все шансы провести меня, если бы мое нутро не было оснащено радарчиком, который немедленно начинает работать в присутствии гада.
Немалую часть преступлений в городах совершают негры, и после Уоттса люди, относящиеся к ним «с самыми добрыми чувствами», приняли меры предосторожности.
Если же в доме есть такая собака, как Батька, то стоит ей подать голос — и в душе каждого находящегося поблизости негра шевельнется атавистический страх. Это объясняет, почему в негритянских семьях так редко держат собак. Охота на беглых рабов — излюбленный вид спорта плантаторов.
Меня слегка подташнивало. Человек, который объявляет себя «прогрессистом» и верным сторонником чернокожих активистов, просит у меня Белую собаку, чтобы защитить свой домашний очаг…
— Мне очень жаль, приятель. Но я уже пообещал собаку мэру Йорти.
Каценеленбоген выглядел слегка раздосадованным, как человек, которого ужалила оса.
Я встал.
— Но если у Батьки будут белые щенки, обещаю, я вас не обойду.
Он двинулся к двери яростным шагом, который спокойным натурам заменяет словесную или иную грубость.
В ту ночь я почти не спал. Лежа в темноте, я думал о том, что Дон Кихот был суровым реалистом, под внешней знакомой бытовой банальностью умевшим различать безобразных драконов. А Санчо Панса был мечтательным романтиком, неисправимым фантазером, неспособным постичь реальность, подобно слепцу, тридцать лет верившему, что Сталин — мудрый «отец народов», радетель о счастье человечества, а двадцать миллионов убитых во время чисток — это «капиталистическая пропаганда».
Дон Кихот знал. С поразительной ясностью он видел от рождения данных нам демонов и гидр, при всяком удобном случае высовывающих гнусные рожи изо рва со змеями, который есть внутри каждого из нас.
Я зажег свет, взял автобиографию Кливера и тут же наткнулся на цитату из Лероя Джонса: «Come up, black dada, nihilismus. Rape the white girls. Rape their fathers. Cut the mother’s throat». «Поднимайся, черная лошадка, нигилизм. Насилуй белых девушек. ’ Насилуй их отцов. Режь глотки матерям».
Черт возьми.
Я встал с постели.
Мысли мои бесцельно блуждали в голове, как мой «олдсмобил», за рулем которого был я сам, в этом зыбком городе. Я ехал в Малибу, чтобы услышать своего брата, Океан. Но он молчал.
Он спал.
Я отправился на ранчо и вошел в клетку Пита-Удушителя, который приветливо свернулся в кольцо, а затем тут же сложился в треугольник.
Мы созерцали друг друга.
Этот питон так пристально смотрит на человека своими круглыми глазками, как будто никогда не видел ничего подобного.
Мы просидели довольно долго. Нас снова объединяло отсутствие понимания, безграничное изумление. В каком-то смысле, мы обменивались впечатлениями. Это можно описать одним словом: чудовищно…
Потом я пошел к Батьке. Он встретил меня с восторгом, который всегда так радует живущего во мне восьмилетнего ребенка. Белая собака положила голову мне на колени и, пока я ел соленые огурцы с черным хлебом, купленные в Хьюз-маркете, с обожанием смотрела мне в глаза. Единственное место в мире, где можно встретить подлинного человека, — это взгляд собаки.
В таком блаженстве братской любви нас застал Киз.
— Доброе утро.
— Доброе утро.
Он вошел в клетку и покормил пса.
Батька подхалимничал, вихлял задом, лизал ему руки.
Киз мельком взглянул на меня.
— Ну что ж, — сказал я в качестве комплимента.
— Да. Он делает большие успехи. Не is coming along fine, just fine…
Он выпрямился, закурил сигарету и как-то странно посмотрел на меня.
— … Подлец. Никогда ему не прощу.
В Ардене меня ждала телеграмма от Николь Сэлинджер. Бобби Кеннеди прервал на пару дней предвыборную кампанию против Маккарти и приглашает нас в Малибу, к режиссеру Франкенгеймеру. Я знал его брата, когда тот был сенатором, и потом приходил к нему в Белый дом, но самого Бобби никогда не видел. Я знал, что он уже может рассчитывать на поддержку восьмидесяти процентов калифорнийских негров, но Сиберг тут же загорелась идеей свести через Кеннеди «умеренного» Брукера и активиста Реда. Она собрала свои буклеты и предупредила Брукера, а я позвонил Реду. Сначала он отказался, но потом передумал и приехал тем же вечером.
Он был раздражен и встревожен, insecure, как здесь говорят. После убийства Кинга ситуация настолько обострилась, что каждый лидер активистов, согласившийся на встречу с влиятельным политиком, боялся стать предателем, коллаборационистом. Я еще никогда не видел его таким: с очками на лбу и кипой бумаг на коленях. Полночи он изрыгал проклятия по адресу Кеннеди, «которые не сделали ничего». Он говорил вещи, тогда меня изумившие, хотя сейчас я бы нисколько им не удивился: уже опубликованы работы, с большим количеством документальных данных, о необычайном финансовом и политическом могуществе мафии, чей ежегодный доход сейчас оценивают примерно в сорок миллиардов долларов.
— Чернокожие позволили преступным синдикатам относиться к ним как к пустому месту. Синдикаты систематически лишают нас работы, а мы не обладаем необходимыми финансовыми средствами для того, чтобы на них воздействовать. Мафия ставит против черных, тем самым присоединяясь к благонамеренным, и играет на расистских чувствах «синих воротничков». Итальянская, ирландская и еврейская диаспоры обеспечили себе политическую свободу, организовав группы воздействия. А мы не сопротивляемся организованной преступности, мы недоразвитые… Положение чернокожих начнет меняться по-настоящему, когда Мафия сдаст свои позиции, а для этого нужно ударить по верхушке, по старикам.
Я сказал себе: «Это бред». Однако достаточно прочитать последние разоблачения политических интриг Коза Ностры, и станет ясно, что Ред просто был хорошо осведомлен.
Правда, около двух часов ночи он признал:
— Бобби — единственный либерал, от которого можно чего-то ждать. Маккарти ничего не смыслит в чернокожих, для него это умозрительная проблема… — Он произнес по-французски: — Для него это слишком отдает толпой…
Я спросил:
— А как Филип?
Гордая улыбка…
— Офицер. И две награды…
Ни дать ни взять американец «хорошего цвета», Гордящийся своим сыном, который покрыл себя славой на поле брани…
Его понесло:
— Он вернется через несколько месяцев. К концу войны у нас будет пятьдесят тысяч чернокожих солдат, прекрасно обученных, с отличным командным составом и, главное, дисциплинированных. Потому что как раз дисциплины нам не хватает. Слишком много одиночных безрассудств вместо хорошо организованной, продуманной акции…
— Взрыв?
— Необязательно. Мы используем их в первую очередь как политическую силу. Ну и, кроме того, чтобы захватить бастионы криминальных синдикатов… Вот если мы проиграем политическую борьбу…
— Ты скажешь об этом Бобби?
— Естественно.
Невыносимо. Как он не понимает, что его старший сын — до мозга костей американский герой, что он намерен делать карьеру в армии, что там он вступил в «братство», которому не важен цвет кожи, братство военных людей? Или он ломает комедию сам для себя? И как возвращение чернокожих солдат из Вьетнама может повлиять на расклад сил в Америке? Если у них будет пятьдесят тысяч «ветеранов» — подсчеты чисто теоретические, абсолютно не учитывающие личных решений, — то против них будет сто пятьдесят тысяч белых ветеранов…
Я смотрел на него с тяжелым чувством какого-то грустного недоверия. Я искал в его взгляде хотя бы намек на мечтательность. Этот глубоко практический, прагматичный в самом точном, американском смысле слова человек живет в ирреальном мире, воображаемом. Его поглотила несбыточная мечта, стремление к чудесному, которое неожиданно оказывается связано с древними африканскими легендами. Безумие и безрассудство часто надевают маску невозмутимости. Кто-то когда-то пустил в ход выражение «логический бред». Я колебался. Впрочем, тем хуже. Пусть заговорит реальность. Я сказал:
— Ты знаешь, Баллард хочет вернуться в Америку. У него ничего не вышло. Он не может обосноваться в Европе, он слишком американец…
Ред моментально замкнулся в себе. На два оборота. Снаружи осталось только выражение полного безразличия. Он пожал плечами:
— Он разболтанный. Хиппи. Нам не нужны такие бестолочи. Лучшее, что он может сделать, — это остаться во Франции.
Наверное, его терзала мысль о том, что по возвращении в Америку Баллард будет осужден за дезертирство.
Не глядя на меня, он тихо добавил:
— Передай это ему. Пусть остается там…
— Хорошо.
На следующее утро мы с Джин отправились в Малибу.
Бобби купался в океане. Я увидел, как его голова мелькает над клочьями пены: волны были очень сильные, и ему, кажется, это нравилось.
Через несколько минут он вошел в гостиную, раздетый до пояса, в цветастых бермудах, и уселся на полу.
Джин взяла его за руку, вытащила свои бумаги и засмеялась:
— Эй, у меня, между прочим, каникулы…
Тем не менее он все внимательно выслушал и пообещал принять Брукера и Реда.
Потом он снова сел между Николь Сэлинджер и мной. За несколько дней до того бывший лидер калифорнийских демократов адвокат Пол Зиффрин попросил меня письменно изложить свою точку зрения на проблему чернокожих. В качестве взгляда со стороны, мнения иностранца. Я написал, до какой степени удивительна и неожиданна идея «Черного Израиля», Новой Африканской Республики, такой, какую требовала «черная сила».
Бобби немедленно ухватился за эту тему:
— Неслыханный вздор. Чтобы добиться этого, нужна чудовищная ядерная война, сто миллионов убитых, многолетняя повсеместная анархия, как в средневековой Европе, или еще какое-нибудь извращение. И эта интеллектуальная капитуляция — следствие безоговорочной капитуляции американского демократического идеала…
Он сидел на ковре скрестив ноги, со стаканом апельсинового сока в руке. Что-то в его сложении еще было от юноши, от щенка с большими щенячьими лапами. Я подумал, что это лицо за спутанными прядями, с правильными крупными чертами, к старости станет суховатым и осунувшимся и будет похоже на типично американские лица Корделла Халла или директора «Дженерал Моторс» Уилсона, который сделался советником Трумэна[25].
Две недели назад, в присутствии Зиффринов, я сказал Пьеру Сэлинджеру:
— Ты, конечно, понимаешь: твой мальчик дождется, что его убьют.
Сэлинджер вздрогнул. Минуту помолчав, он ответил:
— Я живу с этим страхом. Мы делаем все, чтобы уберечь его. Но он ускользает, как живая ртуть, — то здесь, то там…
Мики Зиффрин спросил меня:
— Почему вы ждете покушения?
— Американский фольклор. Дух соревнования с повышением цены. После убийства Джона Бобби представляет собой непреодолимый соблазн для среднего американского параноика. Психический вирус: «кто больше». И еще одна причина. Бобби — провокация для всех неуравновешенных, гонимых, измученных своим ничтожеством… Bobby is too much. Он «слишком». Слишком молодой, слишком богатый, слишком обаятельный, слишком счастливый, слишком влиятельный, у него слишком много возможностей. У каждого параноика он пробуждает чувство несправедливости. Он действует на него, как шикарная витрина на бедолагу из Гарлема. В глазах третьего мира он как выставка американских богатств. Он весь «слишком».
Легко хвастаться своей «прозорливостью». Я рассказываю об этом потому, что речь идет об очень важном элементе спектрального анализа современной Америки. Страна, превзошедшая всех в изобилии, превзошла всех и в неврозе. В гигантской машине по размещению жизней человек все отчетливее чувствует себя монеткой, брошенной в щель, проскочившей по предназначенным ходам и выброшенной с другого конца в виде пенсионера или трупа. Чтобы выйти из небытия, можно либо заново объединяться в племена, как хиппи и сектанты, либо попробовать проявить себя громко в каком-нибудь смертельном хеппенинге, «отомстить» за себя. Я сознавал, что над Бобби нависла угроза паранойи. В Америке это опаснее, чем где-либо. Здесь культ успеха и благополучия подчеркивает комплексы неполноценности, обделенности, преследования и неудач.
Я спросил Бобби, какие он принял меры предосторожности против возможного покушения. Он улыбнулся:
— Нет никакого способа защитить кандидата во время предвыборной кампании. Нужно отдаться толпе, а там… Положиться на удачу. — Он засмеялся, тряхнув мальчишеской прядью, которая без конца падала ему на лоб. — В любом случае нужна удача, чтобы стать президентом Соединенных Штатов. Либо она есть, либо ее нет. Я знаю, что рано или поздно покушение произойдет. Даже не из-за политики — из-за хаоса. Мы живем во времена психического вируса. Здесь какой-то тип убил Мартина Лютера Кинга, в Берлине тут же пытаются убить одного из лидеров немецкого студенческого движения. Нужно тщательно исследовать, как травмируют личность масс-медиа, которые живут за счет драматических ситуаций, утрируют их и выжимают до капли, провоцируя постоянную потребность в ярких происшествиях. В этой области пока ничего не сделано. А между тем духовная пустота и на Западе, и на Востоке такова, что драматическое событие, хеппенинг, стало насущной необходимостью. От одного события к другому — цепная реакция. А еще демографический взрыв, особенно в городах, — молодежь буквально взрывается. Индивидуум, как мы видим на примере негритянских гетто, так этим зажат и подавлен, что не находит другого способа освободиться, кроме взрыва. Знаете, я спрашивал себя, не толкнет ли к насилию эта своеобразная потребность в творчестве тех молодых людей, которые не обладают артистическими способностями или другими средствами выразить себя… А потом еще был Хемингуэй. Я очень люблю Хемингуэя как писателя, но не могу не сказать, что он создал нелепый и опасный миф: миф об огнестрельном оружии и мужественной красоте убийства. Было абсолютно невозможно добиться от Конгресса закона, запрещающего свободную продажу огнестрельного оружия.
Мы заговорили о студентах, которые осадили университет. Его первая реакция была прежде всего реакцией политика: он стал приводить цифры. Он объяснил мне, что «возрастные группы» на выборах 1972 года отнимут у голосов нынешних активистов решающий характер. С чуть-чуть смущенной улыбкой, как бы извиняясь за «предвыборный реализм», он сказал: «И все же я не могу не колебаться в отношении к студентам». Не потому ли, что большинство из них поддерживают его соперника Маккарти? Он тотчас несколько грубовато согласился:
— Я охотно уступаю определенные университетские круги Маккарти. То, что сейчас происходит в Колумбийском университете, не позволяет мне безоговорочно опираться на молодых людей только из-за их молодости. Я приветствую все формы продуманной критики и продуманного протеста. Но в Колумбийском университете, как и в прошлом году в Беркли, произошла подмена: они разрушают кампус, потому что не могут добиться прекращения войны во Вьетнаме или освобождения Синявского.
Генерал де Голль еще не вернулся из Румынии, и Кеннеди с беспокойством расспрашивал меня о все усложняющейся ситуации во Франции. Собирается ли де Голль пустить дело на самотек, get out of hand, чтобы потом захватить врасплох противника, слишком уверенного в себе и поэтому забывшего осторожность? Я ответил, что ничего об этом не знаю, но Франция, как мне кажется, страдает от необходимости поражения силы во всех ее формах просто потому, что демонстрация в мире силы — военной, политической, ядерной, экономической, коммунистической, капиталистической — стала недвусмысленным tease, невыносимой провокацией.
— В любом случае де Голль — последний, — сказал Кеннеди. — Другого такого уже не будет. Вы не думаете, что наши отношения во время войны как-то повлияли на его нынешнюю политику в отношении англосаксонского мира?
— Вероятно, — ответил я. — Но не в смысле реваншистской враждебности — Рузвельт и Черчилль дали де Голлю урок силы, который он никогда не забывал. Он смог убедиться в том, что слово «Франция» не заставляет трепетать сердца союзников, так как страна разодрана на куски.
Видимо, Кеннеди слегка помешан на де Голле, как и брат, который постоянно расспрашивал меня о старике в Белом доме и слушал как зачарованный.
— Сколько, в точности, на него было покушений?
— Кажется, пять или шесть.
— Я же вам говорил — удача. Нельзя стать президентом без old good luck[26]…
Разговор окончен. Там были два его советника, Дик Гудвин и Пьер Сэлинджер, последний с женой Николь, актриса Энджи Дикинсон с мужем, драматург Алан Джей Лернер с женой, актер Уоррен Битти, режиссер Джон Франкенхаймер с женой, космонавт Гленн и еще три или четыре незнакомых мне человека из предвыборного штаба Бобби Кеннеди.
Когда мы уезжали, он пообещал Джин в тот же день поговорить с Брукером и Редом.
Он сдержал обещание.
Вечером Ред позвонил мне из аэропорта.
Слегка волнуясь, я спросил:
— Все в порядке? — Я почувствовал, что Ред пытается скрыть воодушевление, to play it cool.
— Я не доверяю ни одному из кандидатов в президенты. Они наобещают чего угодно. Поэтому он — единственный. Другого нет… — Он тут же спохватился: — Я сказал только то, что сказал: другого нет. Все. Будем судить по делам его.
Хорошо осведомленный приятель предупредил меня, что наш телефон прослушивается и в доме наверняка есть микрофоны. А почему бы и нет? Пусть они делают свое дело.
То, что говорится в Ардене, не добавляет ничего нового к газетным публикациям. Правда, все это без конца обсуждается, как всегда, когда нет возможности действовать.
Я пресытился проблемой американских негров. К счастью, что-то зашевелилось во Франции, и для меня это как глоток свежего воздуха. Нет ничего лучше для смены хода мыслей. Телевизор не умолкает. Взятие Сорбонны, тысячи студентов на баррикадах, угроза всеобщей забастовки. Я немного передохнул, потом уединился в кабинете и смотрел телевизор, а в это время в гостиной шло собрание «зеленой силы», доллара, иными словами. Темой было создание новой организации с целью заложить основы нового «черного» капитализма с «черными» банками, «черными» предприятиями, «черной» коммерцией — все сплошь черное. Настоящая капиталистическая революция. Войдя в гостиную, где Джин как раз подписывала чек, я наткнулся на типа, одетого во что-то вроде фиолетовой тоги, которая поддерживалась поясом с пряжкой в виде маски; на голове у него была кипа, на груди болтался пацифик, а в правом ухе — золотое кольцо. Он толкал такую чудесную речь, что я бросился обратно в кабинет. На экране — жандармы в позе «рыцари Круглого стола, отведаем-ка доброго вина», в касках, с дубинками и щитами, не хватает только Жуанвиля, Святого Людовика и Годфрида Бульонского[27]. Я схватил лист бумаги и карандаш и подошел к двери, чтобы не упустить ни одного перла из уст Сайда Мектуба, которого еще три месяца назад я знал под именем Питера Стюарта.
— И не говорите американским неграм о коммунизме; мы больше не собираемся ни с кем объединяться, с пролетариатом в том числе. Мы вовсе не хотим разрушить американский капитализм, наоборот. Мы хотим, чтобы нам вернули долг. Нам должны оплатить века эксплуатации, грабежа, работы на износ, и мы не намерены делиться с белым пролетариатом. Мы своими руками построили часть этой страны и теперь требуем платы. Белые вполне способны сделаться коммунистами, лишь бы не платить нам…
Питер Стюарт — Саид Мектуб не замолкал. Правая мочка у него чуть-чуть распухла: он занес опасную инфекцию, когда сам прокалывал ухо. Я тоже всегда мечтал носить золотое кольцо в правом ухе, но так и не смог найти уважительной причины. Вот если сослаться на татарских предков по отцовской линии… Но моя мать была еврейка. Это неразрешимая дилемма. Кроме того, мои татарские предки были гонители, а мои еврейские предки — гонимые. Так что у меня проблема. А если я не найду благовидного предлога, чтобы носить в ухе серьгу, меня обзовут эксгибиционистом. Мне вдруг вспомнились словесные путаницы типа «сын отца профессора бьет отца сына профессора, а профессор в драке не участвует». Когда я был в Израиле, я давал пресс-конференцию, которую транслировали по радио. Зал был полон, и какой-то почтенный еврейский журналист из «Маарив», похожий на Бен-Гуриона, но только гораздо старше, спросил меня: «Мсье Ромен Гари, вы обрезаны?» Первый раз пресса интересовалась моим членом, да еще во всеуслышание! Я не осмелился сказать «нет», я не хотел отрекаться от своей матери, не хотел плевать на ее могилу. Я сказал «да», в зале с облегчением вздохнули, по радио тоже, и тут я ощутил странное покалывание: это протестовала правда. И я немедленно добавил: «Мой сын обрезан».
«А, вы собираетесь воспитать из него еврея?» Я прежде всего за честность, тем более по радио. Поэтому я ответил: «Нет, мсье, у моего сына прадед монгол, мать американка шведского происхождения, бабушка еврейка, его родной язык — испанский, сейчас ему шесть, и он самый настоящий француз, гувернантка решила отдать его в католический пансион, но в три года у него было легкое воспаление препуция, и доктор Буттервассер, бульвар Рошешуар, 32, я вам его рекомендую, милейший, это превосходный педиатр, решил удалить препуций из медицинских соображений, без всякого вмешательства с моей стороны». Все это передавали по радио.
Расизм!
Но я не упустил ни единого слова из того, что говорил Питер Стюарт — Саид Мектуб, мастер своего дела:
— Коммунизм — наш враг, потому что он требует уничтожения классов, универсальности, всеобщей справедливости и пропускает стадию «черной» собственности, «черного» правосудия…
Уф!
В углу гостиной моя жена склонилась над чековой книжкой в компании еще двоих то-гоносцев. Ну а что же я? Когда я думаю о том, что положил глаз на спортивную модель «масерати» и мечтаю о двенадцати галстуках из норки…
Я вернулся к телевизору. В жандармов летят булыжники. Жандармы отвечают гранатами со слезоточивым газом, а при их сходстве с выбитыми из седла рыцарями это выглядит нелепым анахронизмом. Я устроился в кресле и закурил сигару. Как чудесно погрузиться в домашний уют, когда тебе подносят весь мир на блюдечке с голубой каемочкой.
Мне стало немножко стыдно за свою лень, ведь как раз той ночью я сообщил Джин о своем намерении бежать на следующий же день.
Она растерялась. Бросить семнадцать миллионов негров ради небольшой весенней прогулки в Париж — этот поступок подорвал мой авторитет. Правда, я приколол к пижаме крест за Освобождение и орден Почетного легиона за военные заслуги, но она прекрасно знает, что им уже двадцать пять лет. Я — has been. «Экс». Все-таки нельзя оправдывать войной желание смыться. Тяжело здесь, в Америке. В конце концов, в Париже — белые. Это нестандартное замечание несколько дней назад я услышал от Клары, когда рассказал ей, что от одного моего парижского друга ушла жена, потому что он лишился должности.
— На что он жалуется? Он ведь белый, правда? Ему не так тяжело.
Короче, я дезертирую. Мне надоели собрания, где люди притворяются, что сидящий перед ними Абдул Хамид — не стукач, что новую группировку, которую здесь представляет бритоголовый Бомбадия, не финансирует ФБР, чтобы внести разлад в движение «черной силы»; собрания, где никто не задумывается, почему стольких активистов убивают сами же негры и по чьему приказу. Я считаю, что моя совесть тоже имеет право на каникулы и весенний Париж с расцветающими баррикадами и рыцарствующей жандармерией — это как раз то, что доктор прописал.
Я собрал чемодан. Утром, перед отъездом, поехал с сыном в питомник, и мы посидели часок с Белой собакой. Моему сыну уже шесть лет, и мы можем вместе строить планы. Мы решили, что когда я вернусь, мы увезем Батьку во Францию и женим на француженке, и у них будет куча детей. Мой сын всегда дружил с чернокожими мальчишками и поэтому не знает о существовании чернокожих. Он ни разу не спрашивал меня, почему у этого человека, или у Джимми, или у его мамы черная кожа. Моего сына пока не дрессировали.
Дома я нашел на столе записку: «Не уезжай не простившись, у меня собрание в Крэнтоне, это по дороге к аэропорту». Я пожал лапу Сэнди, своей желтой собаке. Мэй прыгнула мне на плечо, потерлась о щеку и стала рассказывать длинную и сложную историю о птицах, о кошке из дома напротив, крайне вульгарной и несимпатичной, и о куске телятины, украденном с кухни, о котором она никогда в жизни ничего не слыхала.
Я ни разу не был в Крэнтоне и не без труда отыскал нужный дом. Я спросил дорогу у здорового бородача — бедный Лумумба[28] сделал для бород не меньше, чем для Конго… Адрес, который я дал, произвел большой эффект.
— Вы идете к Чарли?
— Я иду к Чарли.
Третья улица налево, пятый дом с правой стороны. Перед домом стояли два негра; я объяснил, что я муж, и для верности добавил, что жена сама попросила меня приехать.
Меня впустили.
Я сразу же понял, что это собрание не имеет отношения к «зеленой силе». Наоборот, это такого рода party, когда у каждого окна стоит человек и внимательно смотрит наружу. Из всех собравшихся я знал только одного парня, члена black deacons[29], и здесь он был в качестве умеренного. Обстановка — как у французских партизан во время оккупации. Кубинские береты и бороды и что-то неуловимо нацистское в кожаной одежде. Кастро почти провернул дело с американскими неграми, но те в последний момент заметили, что ни один из генералов и министров Фиделя, ни один из его приятелей не имеет черную кожу…
В чем дело, barbudo? На Кубе больше нет негров?
С ума сойти, какой Джин выглядит блондинкой по сравнению с остальными. Она как раз говорит. У нее дрожит голос.
«Самая плохая реклама для правозащитников — это когда все наблюдают, как вам пытаются помочь кинозвезды. Это Голливуд. Это кинематограф. Это мода. Всем известно, что такое кинозвезда, не правда ли? Только поза. Что бы вы ни делали, как бы искренни ни были, всегда кажется, что вы позируете перед фотографом, говорите “cheese”… Я сделала для школы все, что могла, но ведь вы каждый раз вредите себе, когда просите меня подписаться под манифестом…»
Можно подумать, я стал невидимкой. Надо было надеть свою красную феску и шаровары, синие с золотом.
«Не забывайте, что мы в пяти минутах от Голливуда, где снимался фильм о Че Геваре с Омаром Шарифом в главной роли… В общем, что бы я ни делала, все будут думать, что я играю…»
У нее сел голос. «Часовые» внимательно глядели в окна. Думаете, они боялись полиции? Не смешите меня. Полиция себя не утруждает. Она уже внутри. Нет ни одного политического движения, которое не было бы полностью сформировано ФБР. Каков лучший способ контролировать политическое движение? Создать его.
Наблюдатели нужны для того, чтобы вовремя заметить, если вдруг мимо проедет машина с вооруженными людьми из соперничающей группировки чернокожих. «Внутренние» убийства — трагедия активистов. Такое впечатление, что некая тайная сила манипулирует экстремистами, натравливая их друг на друга. Так были застрелены два студента Калифорнийского университета.
Я поцеловал Джин. Я чувствовал себя безутешной супругой, провожающей мужа в крестовый поход. Но для Джин будет лучше, если я уеду. Разница в возрасте ужасна, когда вы женаты на молодой женщине, которой на несколько веков меньше, чем вам. Тем более если у вас на загривке сидят Вольтер и Ларошфуко.
Мне удалось дотащить свою тоску до аэропорта и погрузить на самолет.
Я прекрасно знал, что наш телефон в Ардене прослушивается, — мне любезно сообщил об этом один из самых видных адвокатов Калифорнии. Но в аэропорту Кеннеди, когда у меня оставалось минут пятнадцать на то, чтобы добраться до терминала и сесть в «боинг», произошел небольшой инцидент, абсолютно выбивший меня из колеи.
Уважаемый сын экс-короля Востока, если вы читаете эти строки, не сомневайтесь, я не позволю себе утверждать, что вы оказались на моем пути по замыслу ЦРУ или ФБР. И вообще, ситуация вполне естественная: я с чемоданом в руке несусь вперед как безумный, чтобы не опоздать на самолет и не пропустить революцию в Париже, но меня перехватывает красивый молодой человек, которому никак не дашь его сорока лет, с аббревиатурой KLM в петлице. Ему поручено встречать в аэропорту иностранных пассажиров, объяснил он. Очень хорошо, спасибо, все в порядке, но у меня самолет через десять минут… Успокаивающее величественное движение рукой. Не беспокойтесь, вы не опоздаете, присядьте, у вас еще много времени… Я сел. Раз уж нужно быть встреченным или схваченным, пусть так и будет, может, так и надо. Все-таки из всех пассажиров, которых здесь прошло тысяч двадцать, обласканным оказался именно я. И почему он носит аббревиатуру KLM, если ему поручено встречать иностранцев? Он представился и протянул мне свою визитную карточку. Принц. В точности так: сын экс-короля Востока, ни больше ни меньше.
Что вы думаете об Америке, о бедности в Америке, о невероятной нищете американских негров? Вот так, в лоб, без лишних разговоров. Я был ошеломлен. Господи, принц, вы что, собираетесь мне рассказывать, что в Америке есть нищета, а у американских негров трудности? Вы понимаете, что у меня через пять минут самолет, а до терминала нужно брать такси? Он успокоил меня жестом аристократической (слово простолюдина) руки. Не волнуйтесь, вы будете вовремя. Итак, вы не особенно интересуетесь проблемой чернокожих в Соединенных Штатах?… Принц, ответил я, я голлист. Поэтому политически я приближаюсь к правым радикалам. Клянусь вам, Америка может спать спокойно. А что еще хорошенького в стране Киплинга?… Значит, за время вашего пребывания в Соединенных Штатах вы нисколько не интересовались этой суетой вокруг негров и не были в нее вовлечены?… Я взглянул на часы. Самолет только что улетел. Я пропустил свою революцию. Я встал. Он остался сидеть. Очень непринужденно. По-королевски. Идиотская ситуация.
— Ё-мое, — сказал я. Когда во мне начинают бродить провинциальные соки, на моих губах распускаются цветы просторечия.
Но августейшие уши умеют не слышать неизящных выражений.
— Вы верите в повстанческие движения в Америке?
— Послушайте, — сказал я. — Давайте fifty-fifty.
— В каком смысле?
— Предлагаю договориться. Пятьдесят на пятьдесят. Вы оставите меня в покое и дадите свой адрес. Я дам вам свой. Вы вышлете мне полный список вопросов, я обязуюсь на них ответить. Слово гол-листа. Вы же знаете, де Голль не заключает сделок с собственной честью.
Он без колебаний взял визитную карточку и надписал в уголке адрес. Но это был еще тот адрес. Он просто указал: передать через «Чейз Манхэттен банк». Абонементные ящики, что может быть проще.
Машинально я снова взглянул на часы:
— Я пропустил самолет.
Он встал, снисходительно улыбаясь, и сделал небрежный жест светского человека, уверенного в своих слугах.
— Вовсе нет, — сказал он. — Поезжайте. Вас ждет машина…
«Тысяча и одна ночь», честное слово! «Тысяча и одна ночь», взмах волшебной палочкой — и чудо произошло. Самолет меня дождался.
Принц, если вы читаете эти строки, знайте: я романист. У меня переизбыток воображения. Допустить, что вы тайный агент, было бы чудовищно и свидетельствовало бы о разнузданной и нездоровой фантазии. Вы просто живое доказательство того, что над нами все еще витает магия «Тысячи и одной ночи». Наследник Гарун аль-Рашида, вы — добрый гений, присланный какой-то благосклонной ко мне силой, чтобы задержать вылет на двадцать минут и подарить нам дружескую беседу.
Переполненный отбросами Париж вывернуло наизнанку от мощного приступа искренности. Как будто революция заставила город покаяться. Кравица, репортера станции KLX, которому я на время предоставил свою квартиру, дома не было, но всюду валялись его звуковые пленки и аппараты. Я поставил наугад одну и услышал взрывы и крики: «Сволочи! Сволочи! Бей его!» Кто-то стонал. «Мои глаза, мои глаза…» Кравиц коллекционирует записи. В его сонотеке в Магнолии я слышал последний вздох умирающего, записанный во Вьетнаме; на ленте было написано: «G.I. dying, Tet offensive, Battle of Saigon»[30]. Я поставил еще несколько пленок: крики чаек, шум волн, женщина в момент оргазма… Биафра, 1968: лента перематывалась, но я слышал только тишину. Ни одного звука, ни одного крика, полная тишина… Поверьте, это подстегивает воображение…
Парижская ночь испещрена взрывами. Я услыхал ритмичный звук шагов и подошел к окну. По улице Бак шли молодые люди, человек десять, и скандировали:
Сытые буржуи похожи на свиней:
Чем жирнее брюхо, тем они тупей.
Вполне возможно, но мне кажется, что тысячи граффити на стенах парижских домов, лозунги, процарапанные на афишах, и тому подобное увековечивают победу профессиональной рекламы. Представляю себе такую картину: господин Бланше-Блестен вручает стипендию за победу в конкурсе «Publicis» какому-нибудь студенту.
Я отправился ужинать к Липпу и на улице Севр наткнулся на Б., моего старого приятеля по юридическому факультету, ныне известного адвоката. Он стоял перед доской для афиш и созерцал надписи:
Де Голля на мыло!
Жандармы — фашисты!
Фашизм не пройдет!
Б. не заметил меня. Он задумчиво смотрел на доску; у него на лацкане была приколота ленточка ордена Почетного легиона. Вдруг он тихонько вытащил из кармана черный фломастер, быстро и осторожно огляделся, встал вплотную к доске и начал писать. Я читал:
Свободу Тельману!
Франко, по pasara´n!
Смерть Кьяппу!
Долой «Кагуль»!
Я похлопал его по плечу. Он подскочил на месте, но потом узнал меня, и мы пожали друг другу руки. Я взял у него фломастер и написал:
Свободу Димитрову!
Отомстим за Маттеотти!
Спасайте Эфиопию!
Со сверкающими глазами он вырвал у меня фломастер:
Ла Рок не пройдет!
JP — убийцы!
Всеобщее разоружение!
Они убили Роже Салангро!
Теперь моя очередь:
Свободу Карлу фон Оссицки!
Долой двести семейств!
Отомстим за Гернику!
Все на Теруэль![31]
Я выпрямился. Мы посмотрели друг на друга. Очень волнующий момент. Не так часто вам бывает двадцать лет. Он снова взял фломастер:
Требуем расплаты за убийства 6 февраля!
Все за единый Левый фронт!
Да здравствует Равноправие!
Сталин с нами!
Мимо медленно проехала полицейская машина, и мы сделали невинные лица. Б. почти прослезился.
— Прорвемся, — пробормотал он. — Мадрид не сдается.
— Блюм вышлет к ним самолеты, — поддакнул я.
Я взял фломастер, но, оказалось, он кончился. Ничего, уж черного цвета нам не занимать. Мы еще раз с чувством пожали друг другу руки и разошлись. Я шагал гордо и свободно, высоко подняв голову. Я тоже принял участие в борьбе.
Я разрывался между тушеной капустой у Липпа и рагу из бобов с мясом у Рене, но по случаю революции все рестораны были набиты битком. В конце концов я пристроился у Липпа. За соседним столиком молодая женщина рассказывала, что полицейские убили уже сотню студентов, а тела бросили в Сену, чтобы никто ничего не узнал. Она уплетала вареную говядину, в подробностях описывая, как в комиссариатах насилуют студенток и добивают раненых. На сладкое она заказала «наполеон». У меня потекли слюнки при виде пирожного, но от пирожных толстеют. Быстро прикончив «наполеон», женщина поднялась, и ее друзья тоже — ночь они проведут на баррикадах. Я спросил Роже Каза, как у них с провизией.
— Держимся, — ответил тот.
Я вышел успокоенный.
На какой-то стройке подожгли бочку с дегтем, и вокруг огня метались темные фигуры. На фоне вонючего и трескучего костра стоял негр в круглой нигерийской шапочке и замбийском burdaka. На спине психоделически сияла надпись: «Screw you». Он орал: «Burn, baby, burn! Гори, детка, гори!»
Этот воинственный клич американской «Черной силы» в районе Севр-Бабилон согрел мне душу и пробудил ностальгию, понятную только тому, кто оставил далеко-далеко, в Беверли
Хиллз, бассейн с подогревом, «олдсмобиль» с кондиционером и четырнадцать телеканалов, не считая «научно-популярных».
«Burn, baby, burn!»
Когда я встречаю в Париже американца, я каждый раз испытываю прилив симпатии. Он подымает руки: «Гори!»
И ведь он прав, этот американец, пляшущий перед французским огнем. Я нисколько не сомневаюсь: когда наши жандармы бросаются с дубинками в руках на Севр-Бабилон, они имеют дело с американским гетто, Вьетнамом, Биафрой и всеми, кто загибается от голода на этой планете. Восстание молодежи в Париже так естественно вписывается в это повествование, потому что касается не какой-то одной социальной коллизии, а всех существующих. Сжатые в кулаки руки французов — это руки не только белых, но и черных. С появлением телевизоров и радио мир, переполненный мерзостью, стал бесконечной провокацией, и вы атакуете все, что находится у вас под рукой, и крушите все — вы самовыражаетесь. Помпиду платит за убийство Че Гевары. Таким неожиданным способом парижские студенты возобновляют дело, на сей раз присовокупляя к составу почтенные «традиции французского гуманизма» и даже «мировую миссию». Если бы не было проблемы чернокожих, Вьетнама, Биафры и рабовладельческого прошлого, студенческая революция в Париже смахивала бы на бунт мышей в головке сыра. Но массированный удар трагедий мира на еще не опошлившееся сознание приводит либо к безволию и безразличию, которые позволяют показывать трупы, нищету и голод в восьмичасовых новостях, когда люди спокойно ужинают, либо к взрыву.
«Burn, baby, burn!»
Я подошел к нему:
— American?
— You bet. Chicago. Конечно!
Я пригласил его к себе выпить. Он задумчиво поглядел на меня из-за очков.
— No, thanks. Одно из двух: или вы педик, или вы из тех французов, которые вешаются на черных, когда нечего положить на зуб. Мне надоело быть жертвой благородной чувствительности белых. Чем вы занимаетесь в жизни?
Чудное выражение: «Чем вы занимаетесь в жизни?» Я сразу начинаю думать о тех, кто, наверное, горы воротит после смерти, когда можно заниматься всем, чем угодно.
— Я писатель.
— Oh, shit! Я должен был догадаться. Я тоже.
Теперь передернуло меня. Мы посмотрели друг на друга с отвращением. Нам вдруг показалось, что мы все друг о друге знаем.
Я спросил:
— Вероятно, вы приехали в Париж, чтобы спокойно поработать над романом о борьбе американских негров? Стипендия фонда Рокфеллера?
Он разыграл удивление:
— Ну и ну, как вы угадали?
— Потому что я занимаюсь тем же самым. Нельзя упустить такой сюжет.
Он рассмеялся. Негры всегда кажутся более смешливыми и радостными, чем все остальные, оттого что зубы у них сверкают гораздо ярче.
— У меня классный сюжет, — сказал он. — Белая женщина, мать семейства, может испытать наслаждение только с черными, потому что это происходит как бы в другом мире и ей не кажется, что она обманывает мужа.
По-моему, у него в глазах промелькнуло заговорщическое выражение. Неужели я встретил брата по расе? Я решил немножко прощупать почву:
— А потом ваша милая дама будет жить с черным, но обманывать его с белым, чтобы ее чернокожий любовник мог испытать восхитительное чувство равенства рас.
Несколько снарядов со слезоточивым газом разорвались где-то рядом с «Лютецией». Он кивнул:
— Примерно так. Негр — певец и миллионер. Он живет на Багамах. Он объясняет это тем, что больше не может выносить белых американцев. На самом деле ему осточертели чернокожие активисты, которые его поносят, считая, что он мало им помогает.
Говорю вам, брат. Брат по расе. Я узнал в нем священную искорку терроризма, который не делает исключения ни для кого.
Он поднял палец:
— Неожиданная развязка. Негр получает анонимное письмо: оказывается, его возлюбленная — трансвестит. А он ничего не замечал, потому что это была его первая связь с белой. Он не знал, как это делается.
Мы пожали друг другу руки. На стройке шланги тужились над остатками пламени. Мы решили выпить по кружке пива.
— Я приехал в Европу, чтобы написать роман о Лауре и Петрарке. Нет, не о «черных» Лауре и Петрарке — о подлинных, исторических… Наверное, я реакционер.
Я вернулся домой с легким сердцем. В мире еще осталась кучка настоящих бойцов сопротивления. Постоянное дежурство… Но нельзя не признать, что жажда абсолютной чистоты и подлинности изолирует вас, отдаляет от других, запирает в маленьком королевстве вашего «Я» и пресекает все попытки к объединению. «Я» слонялся из угла в угол пустой квартиры и слушал, как разрываются гранаты. Никогда еще Мадлен так не плакала.
Час или два я писал. Это способ забыться… Когда вы пишете книгу, допустим, об ужасах войны, вы их не отрицаете — вы от них избавляетесь… Я бросил ручку и поднялся на шестой этаж. Мадлен сидела у себя в комнатушке. Живых людей в Париже надо искать в комнатах для прислуги… Я поцеловал ее.
Ребенок должен родиться в конце июня. В ее темных глазах было странное выражение ожидания, как будто время для нее остановилось: я часто встречал такой взгляд у беременных женщин. Один психиатр сказал, что большинство неврозов по еще неизвестной причине во время беременности исчезают.
— Как дела, Мадлен?
Она мужественно улыбнулась, хотя дела шли плохо. Не хватает денег? Да нет, родители помогают. Но Балларду никак не прижиться во Франции.
— Понимаете, он совсем американец…
— Чего же ему не хватает? Здесь тоже можно найти расистов, если поискать хорошенько.
— О, это мелочи…
— The world’s series?[32] Бейсбол?
Внезапно я осознал свою агрессивность. Я из тех людей, которые признают право не любить Францию только за французами. Если лионец скажет мне, что Франция — страна дебилов, я ничего не буду иметь против, но если мне отпустит комплимент американец, я разозлюсь. Поди вот разбери…
— Ему не найти работу, — сказала Мадлен. — Он окончил курсы дамских парикмахеров, но это невозможно, вы же понимаете.
— Если нужно разрешение на работу, я все устрою.
— Не в этом дело. Никто не хочет брать на работу чернокожего дамского парикмахера…
— Во Франции?
Она смиренно развела руками:
— Даже на курсах, где он делал прически бесплатно, многие женщины не хотели, чтобы к ним прикасался негр…
Я издал злобный смешок. Рвущиеся вдалеке гранаты внезапно обрели яркий смысл. Я попытался успокоиться, я говорил себе, что Глупость — это святое, это наша общая мать, надо уметь покоряться судьбе. Чертовское идиотство, да еще с гинекологическими осложнениями. Эти сволочные бабы, не пожелавшие, «чтобы к ним прикасался негр», напоминают мне одну девицу, — я знал ее лет тридцать пять назад, — которая поначалу отталкивала мою руку, бормоча: «Нет, нет, если вы до меня дотронетесь, я упаду в обморок». На эзоповом языке это называется «приглашение на вальс». Видимо, рука чернокожего и впрямь действует на них необычно… Снаружи рвались гранаты, но все это фигня. Слезоточивый газ. Майская революция оказалась бутончиком. Я и не представлял, до какой степени последний месяц в Калифорнии издергал мне нервы. У меня сжимались кулаки, как у воинственного подростка. Я попытался расслабиться: закрыл глаза и принялся считать, скольких нацистов я убил во время войны, — но от этого приуныл еще больше. Вы хотите убить Несправедливость, а убиваете только людей. Камю писал, что к смерти приговаривают виновного, а расстреливают всегда невинного. Всегда одна и та же дилемма: любовь к собакам и ужас перед собачьей сворой. Я неприязненно взглянул на большой живот Мадлен.
— У Балларда ностальгия, вот что, — сказала она.
Я невесело рассмеялся. Негр, дезертировавший из-за любви и скучающий по родной стране, которую его братья по расе мечтают взорвать, — что может быть смешнее? Я чуть не сорвался с поводка.
— Он вырос в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, — сказала Мадлен. — А здесь, очевидно, все по-другому…
— Мадлен, вы знаете, что такое Уотте? Это в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Целый квартал, разгромленный во время бунта, и тридцать два погибших.
— Да, конечно, Баллард мне рассказывал. Но он не расист…
Я почти рычал.
— Что? Что он имеет в виду?
— Он думает, что это надо перетерпеть, а благодаря китайской угрозе…
«Желтая» опасность. Совсем о ней забыл.
— Боже правый, — произнес я в полном отчаянии.
— Он думает, что благодаря угрозе, которая нависла над Америкой, проблема цвета кожи исчезнет. Посмотрите, ведь во Вьетнаме белые и черные сражаются бок о бок, как братья…
Я сжал зубы. Однако тут была доля правды, хотя и дурно представленная. Чего не хватает американским неграм и белым, так это общности страдания… Недавно, я как раз правил корректуру этих страниц, на американский Юг, снося целые поселения, обрушился циклон Камилла. Центр помощи пострадавшим сделали в Геттисберге[33], штат Миссисипи, в городе, где превосходство белой расы не обсуждается. И вот — о чудо! — этот лагерь был действительно единым, спасенные негры и белые спали вместе, как в каком-нибудь Аушвице. А 1 сентября 1969 года в «Ньюсуик» напечатали прелестную, быть может пророческую, фразу одной белой женщины с Юга: «Я думаю, что в наше время стоит наконец задуматься о цвете кожи».
Я думаю, что Баллард трагически прав. Американским неграм и белым не хватает такого общего несчастья, какого они еще не знали за всю свою историю, но которое не раз переживали европейские страны, — примиряющего катаклизма.
— Баллард очень привык к американскому образу жизни, — сказала Мадлен и грустно улыбнулась. — Я даже купила американскую поваренную книгу…
Я стал автоматически перечислять:
— Fried chicken. Gumbo soup. Baked beans. Lemon and apple pie, the way Ma cooks them[34].
В коридоре послышались шаги, и вошел Баллард. Он похудел. Когда я видел его последний раз, ему было двадцать два. Самый что ни на есть нашенский американский парень. Красивые тонкие черты, как почти у всех негров с ямайскими корнями, длинная шея, выступающий кадык. Он был в такой растерянности, что едва заметил меня, и сразу сел на кровать. На нем были армейские сапоги. Он посмотрел на меня и кивнул в сторону окна.
— Can you tell me what’s all this about? What’s the matter with those kids? Что с ними такое? They don’t even have the problem. У них ведь даже нет «проблемы». Они тут все белые. Так в чем же дело?
В этом крике души обезоруживало одно чудесное признание: признание любви к Америке.
Для Балларда и, могу сказать не колеблясь, для девяноста девяти процентов американских негров их страна была бы самой прекрасной в мире, если бы не было расизма. Единственный недостаток этого земного рая в том, что он отвергает их.
Баллард сидел на кровати и разглядывал свои сапоги.
— You know somethin’? They lost me here. Я не могу идти за ними. У них нет своих проблем, только чужие. Вьетнам, расизм у нас, Биафра, Южная Африка, Чехословакия… Все у других…
Я торжественно сказал:
— Да, в этом Франция. Ничто человеческое нам не чуждо. Это называют мировым призванием Франции. Де Голль тоже таков.
Он взглянул на меня довольно зло:
— Мне обрыдли ваши абстракции. Что они там говорят о проблеме чернокожих, на бульваре Сен-Мишель, это надо слышать. Как будто им в жизни все удалось. Как будто проблема чернокожих — это классовая борьба и капитализм. Они понятия не имеют, о чем говорят. А чтобы понять, надо быть американцем.
В точности так говорят иностранцам южноамериканские политики…
— Ты жалеешь, что сбежал?
Он посмотрел на Мадлен и улыбнулся:
— Нет.
Она стояла перед газовой плиткой спиной к нам и плакала. Видели когда-нибудь плачущие спины? Мне хотелось встать, положить руки ей на плечи… Но она не моя. Я покосился на Балларда. Не идет ему этот баскский беретик. Неужели я ревновал?
Он покачал головой:
— Общество потребления, слыхали? Они хотят подорвать супермаркеты. Мы в Уоттсе их грабили… В этом наше отличие друг от друга. Шикарные цыпочки. Classy cats.
Внезапно я почувствовал что-то страшно нелепое в том, что здесь, в парижских стенах, сидит этот высокий чернокожий американец. Это из-за длиннющей шеи и гипертрофированного кадыка маленький баскский берет казался таким смешным. Хотел бы я знать, что Мадлен в нем нашла. Я вздохнул. Ну да ладно, любовь зла.
— All the cats here are communists, — объяснял он. — Все эти ребята — коммунисты. Завидев меня, они запевают все ту же песню коммунистической пропаганды. Они заводят со мной дружбу только потому, что я чернокожий. Их интересую не я, а мой цвет. Никогда не видел таких упертых ребят, даже у нас. — Он насмешливо взглянул на меня. — Say, what do you do when you are a black American and you are homesick? Crazy. Что делать, если вы негр из Америки и тоскуете по ней? Рехнуться.
— После войны будет амнистия.
Он ритмично притопывал ногой.
— Война может длиться годы. Мадлен повернулась к нам. Некоторые женщины плачут так, как будто и не плакали. Их лицо остается абсолютно безмятежным, и в этом скрыто напоминание о тысячелетнем покорном самопожертвовании.
— Он хочет сдаться добровольно.
Баллард притопывал ногой и в такт кивал.
— Здесь надо сделать еще две розетки, а то комната слишком темная.
Мы молчали. Гранаты рвались все дальше и дальше. Homesick… Ну конечно. Негры — самое американское, что есть в Америке. Они до сих пор недалеко ушли от начал американской цивилизации. Причина очевидна: отстраненные от развития культуры и образования, негры все еще верят в «американскую мечту», American way of life[35], в общее представление об Америке. И даже несмотря на то, что их до сих пор удерживают в низших слоях общества, американские негры еще верят в ценности, к которым их никогда не подпускал изощренный интеллектуализм. По-прежнему несвободные и малообразованные, чернокожие из бедных южноамериканских семей сейчас ближе всех к идеальной жизни первых поселенцев. Изумительная провинциальность пастора Абернати типична для зарождающегося «американизма», который еще не успели дискредитировать интеллектуалы и абстракционисты.
Баллард тихонько засмеялся и покачал головой.
— Удивительно, — сказал он. — Завидев меня, они начинают наперегонки поносить Америку. И при этом сами они хотят все взорвать, а ведь у них даже нет «проблемы». Если бы у нас не было «проблемы», кем бы они занялись? Где хуже? У русских? У китайцев? Это же смешно. Ваши французики видят во мне только «проблему». Мне иногда кажется, что я нахожусь среди расистов, только все гораздо сложнее, потому что я не могу набить им морды. Они обсуждают Америку со снисходительными улыбочками, с чувством собственного превосходства. Как «хорошие» белые на Юге, когда они говорят о неграх. Для них Штаты — гнилье, поганый гадюшник. Я с пониманием все это выслушиваю и говорю «большое спасибо». Как будто я не американец, если у меня кожа черного цвета. Только это они во мне и видят — черную кожу…
— Кстати, сколько времени прошло с тех пор, как ты уехал?
— Почти восемнадцать месяцев… Как дела у отца?
— Там сейчас напряженно.
— Backlash? Возвратный удар?
— Главное — чемпионат…
Он поднял на меня глаза.
— Да, чемпионат. Большое соревнование. Кто кого превзойдет в фанатизме.
— Ну и кто лидирует?
Я задумался.
— Рон Каранга. У него мощная поддержка… Условия свирепые: игра предполагает уничтожение соперника… Внутренним распрям между разными группировками «черной силы» не хватает только автоматов, как в Чикаго тридцатых годов. Воздействие рынка. В Университете Южной Калифорнии недавно убили трех студентов.
Он немного помолчал.
— Да, но, по крайней мере, back home, everything makes sense…[36] Знаешь, что неладно. Знаешь почему… You know why. Причина известна: цвет кожи. Это все объясняет. Ты знаешь, за что борешься. А здесь вообще ничего не знают. Ничего не могут объяснить…
Я подумал: «Здесь ты лишился своей “первоосновы” — цвета кожи. Осталась тревога, еще более глубокая и смутная…»
Он слушал гремучую французскую ночь.
— Вы можете мне объяснить, зачем студенты все это затеяли?
— Чувствительность…
Он покачал головой:
— I don’t get it… He понимаю… По-моему, за всем стоят коммунисты…
— А как Филип?
— Его произвели в офицеры. Но он считает, что дело труба. Южные вьетнамцы не хотят воевать. Он в каждом письме говорит, что если бы его солдаты дрались, как вьетнамцы на Севере, он бы через две недели был в Ханое… Да, Филип — это воин… Мы не похожи.
— Ты точно хочешь вернуться?
Он промолчал.
— Баллард никогда не привыкнет во Франции, — сказала Мадлен. — Тут слишком… слишком не по-американски. Он скучает по мелочам… как мои родители, когда им пришлось уехать из Алжира.
Тонкие, почти хрупкие черты, длинные темные волосы… В этой девушке есть необыкновенная простота, открытая, как ее взгляд, которая словно исходит из первобытной преданности. Вы встречаете этот взгляд и говорите себе: на нее можно положиться. Нет более совершенной красоты в женщине.
— В конце концов, это все из-за меня.
Не знаю, верующая ли она, но этот спокойный, немного печальный голос полон христианской кротости…
— Когда он сбежал ко мне, я была так счастлива, что ни о чем не думала… а теперь…
Я машинально повторил:
— Будет амнистия…
Мне до сих пор не удалось изменить свой взгляд: в двадцать лет он был таким же. Мадлен, какая ты красивая! Я всегда более трепетно относился к красивым женщинам, чем к прекрасным. У прекрасных женщин такой вид, как будто им никто не нужен.
Она налила нам кофе.
— Это американский кофе. Я к нему привыкла.
Баллард пристально посмотрел на нее, и я почувствовал себя лишним. Я думал: это их любовь, а не моя. Тем хуже, надо уметь уйти. Я сяду и буду писать еще полдня. Баллард встал и обнял ее. Черная щека прижалась к такой белой коже, и двое, за которыми с завистью следили мои глаза, воплотили в себе все совершенство взаимодополняющих контрастов — один из величайших законов мира. К горлу подступил комок, но я избавился от нахлынувших чувств привычным способом: скороговоркой выпалил про себя серию ругательств. В минуту бессильного гнева, когда невозможность помочь, защитить, избавить от страданий усиливается даже при виде лекарства, я примешиваю к своему внутреннему смятению весь адский «комплекс» брани в Бога и черта. Но поскольку среди моих читателей-расистов могут попасться верующие люди, я не оскорблю их глубинной духовности. Я уважаю чужого Бога.
Решение — у меня перед глазами и под сердцем у этой белой. Единственный возможный исход, гармония контрастов — извечный земной закон. Кричать значит писать? Ну так назовите мне хоть одно литературное произведение, от Гомера до Толстого, от Шекспира до Солженицына, которое избавило бы от страданий…
Я встал. Я не мог больше оставаться. Сжатые кулаки демонстрируют лишь собственную беспомощность. Чувствуя себя мошенником, я поцеловал Мадлен в щеку, по-отечески. Мне хотелось заключить ее в объятия, склонить ее голову к себе на плечо. Черные волосы, благоухающие лесом моего детства… Нет ничего радостнее чужого счастья. С преувеличенной уверенностью, которая маскирует отсутствие уверенности, я сказал:
— Все уладится.
Не глядя на Балларда, я потрепал его по плечу. Это — невыносимые минуты: я чувствую себя лицемером и завистником… Тем не менее он не должен заподозрить, что в свои пятьдесят четыре я немножко влюблен в его жену. Им и без того тяжело. Просто отцовская нежность. И все-таки, уходя, я не удержался и ляпнул:
— Знаешь, лучше не носи этот берет. Тебе не идет.
Я вышел в подавленном настроении, с ужасом ощущая себя хорошим человеком.
Кажется, на Туамоту еще остались девственные атоллы, но я не сел на самолет, а ограничился ужином у Липпа в компании гвинейского студента Кабы. Каба — одно из удивительных порождений нашего времени: в нем перемешались африканская мечта и марксистская диалектика, а мао-ленинизм заменил древнее всесильное колдовство, вызывающее дождь.
Дело пахнет жареным. В Сен-Жермен-де-Пре жандармы и студенты совершают обмен: булыжники против слезоточивого газа. Роже Каз опустил на двери металлическую штору, и выйти из ресторана можно только через другую дверь на втором этаже. Ресторан окружен кордоном полицейских. На улице меня остановил краснолицый жандарм, храбрый вояка в каске, от которого за версту несло народным духом, добрым вином и добротной спермой, он был задрапированный, как боевая лошадь, и со щитом крестоносца в руке.
— Туда нельзя.
Я посмотрел в ту сторону: студенты были около церкви, направо. Я попытался объяснить ему, что к улице Бак, на которой я живу, нужно идти в противоположном направлении.
— Видите, я поворачиваю налево…
Воитель прищурился. Я отметил, что он как две капли воды похож на Короля карнавала в моей любимой, почти родной Ницце. Его глаза сужались все больше и больше, а на полных губах появилась улыбочка. Когда клинический идиот щурит глаза — это что-то, идиотизм буквально прет наружу, как перегар из проспиртованной глотки.
— Ах, ты поворачиваешь налево? Получи, сволочь!
И я получил удар дубинкой по голове. В первую секунду я вознегодовал, но потом меня осенило: я с бородой, в синих джинсах и куртке, без галстука и, в довершение всего, иду в компании молодого негра. Дубинка метила не в меня лично, а в мой внешний вид. Меня приняли за ублюдка. Доблестный воин ошибся классом.
Слезы благодарности выступили у меня на глазах. Клянусь честью буржуа, меня защитили. Я не зря плачу налоги. Этот удар по башке доказывает, что я защищен от подонков общества. Я испытал чудесное чувство безопасности. Я вытащил дипломатический паспорт, удостоверение участника Освобождения, удостоверение второго заместителя министра печати и пошел искать лейтенанта. Я предъявил ему документы.
— Майор Гари-Касев. Лейтенант, разрешите вас поздравить.
Он взгляул на документы и отдал честь.
— Я вырядился таким бандитом, чтобы произвести небольшую инспекцию. Ваши люди великолепны. Никогда не видел такой мгновенной реакции. Скорость удара превышает скорость взгляда. У меня у самого есть собака, обученная бросаться на мерзавцев, так что я знаю толк в дрессировке. Браво.
Я горячо пожал ему руку. Мы вместе подошли к краснорожему галлу, я потряс и его клешню:
— Так держать, друг мой. Вам хорошо платят? Он замялся и искоса посмотрел на лейтенанта. Наверное, верный служака. Их всегда слишком много.
— Нормально, господин майор.
— Завтра вам всем выдадут по литру добавки. Я поговорю с министром.
Я удалился с чувством выполненного долга. Каба семенил за мной и очень за меня беспокоился. Все это время его было не видно и не слышно, хотя он не отставал от меня ни на шаг.
Настоящее негритянское волшебство: этот парень так привык к уличным потасовкам, что в совершенстве овладел колдовской способностью испаряться, физически оставаясь на месте. Должно быть, за ним не одно поколение колдунов.
— Вам не больно?
— Ничего страшного. Главное, знать, что тебя защищают.
Я понесся домой, бурля молодыми соками: мои двадцать лет вернулись галопом, невероятный гормональный подъем. Я надел свой самый изысканный костюм, с узором в «куриную лапку», приколол ленточку ордена Почетного легиона и нахлобучил парадную Homburg hat, сделанную по мерке у Желло. Зонтик, без него никак нельзя. Отлично. Я прифасонился.
— Теперь, Каба, вы должны меня оставить. Вы не подходите к моему костюму. Давайте проваливайте. Я пойду делать революцию.
Он неодобрительно покачал головой и вышел. Он боится нигилистов.
Тот, кто не испытал чувства свободы, посмотрев фильмы братьев Маркс или «Диктатора» Чаплина, наверное, не поймет, зачем этим вечером я мотался по улицам Парижа, провозглашая любовь к ближнему. Провокация? Безусловно. Что же, по-вашему, можно сделать против Трои? Можно сделаться конем… Затылок еще ныл от удара дубинки, а в голове бродила только одна мысль: подлить масла в огонь гнева.
И вот, одетый с иголочки, я шел по улице Севр; перед «Лютецией» меня ожидала приятная встреча. Трижды меня останавливали вежливые жандармы:
— Осторожно, мсье, в вас могут бросить булыжником.
— Оставьте меня в покое. Я побеждал в Куфре и Нормандии.
Я показал министерский пропуск.
Подошел какой-то мерзавец с железным ломом. Типичный француз, чернявый, мускулистый, в зубах окурок.
— Придурок, — сказал он.
— Хиляк, — сказала.
— Фашист! — взревел он.
— Еврей поганый, — откликнулся я.
На этот раз я попал в цель. Ничто так не злит трудящихся, как если обозвать их евреями. Я точно знаю, что они чувствуют: то же, что и я, когда меня называют «поганым французом» в Америке. Моя кожа превращается в триколор. Ко мне подкатилась людская волна, и я предпринял стратегическое отступление в сторону жандармов, вопя во всю глотку: «Жидовье!»
Я доволен собой: мне удалось раздуть священный огонь. Среди них, конечно, есть хорошие ребята, «наши», вы понимаете… Когда я подумал о том, что потерял свою родную святую Русь из-за евреев и евреи так изощрились в предательстве, что даже моя мать была еврейкой и, таким образом, евреем сделали меня, я не выдержал.
— Франция для французов! — заорал я.
Жандармы двинулись вперед, сжимая в руках дубинки. Я чувствовал, что сделал кое-что для своей исторической родины: отомстил за Москву, сожженную Наполеоном, и за всех наших, погибших при Бородине. Между прочим, подлец этот Керенский. Двадцать раз мог покончить с большевиками. А теперь они даже Одеон взяли.
Я униженно плелся по улице Варенн. Эмиграция — это ужасно. Она делает вас генеральным консулом Франции, лауреатом Гонкуровской премии, орденоносцем, голлистом, представителем французской делегации в ООН. Ужасно. Жизнь сломана. Я вытащил шелковый платок от «Эрмес» и вытер глаза. Газ. Я с бесшабашным видом вышел на бульвар Сен-Мишель со всеми своими орденами. Студенты отшатывались, зажимая нос.
Самый прекрасный революционный опыт ждал меня во дворе Сорбонны, куда я прибыл увешанный своими буржуазными орденскими ленточками, в костюме для светских приемов, с тем же террористическим желанием спровоцировать, которое так воодушевляет моих насмешников. Разочарование: холодный, но вежливый прием. Студенты признали явного врага народа, и завязалась дискуссия. На меня напали из-за Мальро — в газетах писали, что я «его креатура» при министре. Я сказал, что они правы. Вина Мальро очевидна. С 1936 года он выдумывал в своих романах Че Гевару, Чена, первого «красногвардейца» и Режи Дебре, а в 1960-х создал эти Дома культуры, из которых вышли «недовольные». Короче, как сказал чуткий Морис Клавель в «Битве», Мальро — «старый хрен и немножко гад».
Все мои аргументы основательны, а ваши — вздорны, но тем не менее правда на вашей стороне. Чтобы удостовериться в этом, достаточно открыть «Фигаро» за 24 июля 1968 года и найти там страшную статью Жан-Франсуа Шовеля о Биафре, под заголовком «Путешествие на край ужаса — в лагеря, где беженцы медленно умирают от голода». Статья начинается словами: «Господь, услышь наш гнев…», а под текстом помещено милое рекламное объявление: «Новые водные развлечения в Больё-сюр-Мер: не сон, а явь».
Вот оно, наше провокационное общество. Не говорите мне, что между Биафрой и лодочной станцией в Больё-сюр-Мер нет другой связи, кроме соседства на газетном листе, потому что именно это отсутствие связи подчеркивает их страшную связь.
Я ушел в глубоком унынии, словно оставлял там свою молодость.
И вот тогда на улице Эколь неожиданно воцарилась красота.
Меня догнала какая-то женщина. С детьми — рядом с ней стояли девушка и мальчик, очень на нее похожие. У нее был болезненный и изможденный вид, и она напомнила мне русских женщин, готовивших революцию в 1905 году и высланных в Сибирь — чтобы их детей и внуков однажды тоже сослали в Сибирь. Торжествующая революция — конченая революция. Попробуйте поспорить, приведите хоть одно историческое опровержение. Я услышал за спиной ее голос:
— Мсье Ромен Гари, мсье Ромен Гари…
Я обернулся.
— Нам нужна помощь…
Кому «нам»? Люди с такими лицами ничего не просят для себя.
— Кому «нам»? Студентам?
Незаметная горечь в улыбке.
— О, знаете, студенты…
Я знал. Через несколько секунд во дворе Сорбонны из громкоговорителя раздался замечательный призыв:
— Нужен товарищ, у которого есть машина, чтобы отправиться в 16-й округ.
А на следующее утро в кафе «Дё маго» мне довелось посмеяться еще больше. Настоящий перл. Предлагаю вам эту историю. Дама с душераздирающим взглядом подождет немного на улице. У нее есть время — она бессмертна…
За столиком перед «Дё маго» я должен был встретиться с Аленой Л. Просвещенный промышленник, купается в роскоши, коллекционирует живопись. Я был с ним мало знаком, но нас объединял Вальтер Гетц. В мире полно людей, которых не объединяет ничто, кроме Вальтера Гетца. Ален Л. рассказывал мне о своем сыне, члене одной из ленинистско-троцкистско-революционных группировок, которые сейчас лезут неведомо откуда, словно грибы, которые испокон веков подмешивали в свои салаты профессиональные кулинары вроде Сталина. Этот сын-революционер пришел к отцу-промышленнику за советом: его анархическая группка еле-еле сколотила себе капиталец, чтобы держаться на плаву. Но в результате последних «событий» и всеобщей забастовки франк упал, поговаривают о девальвации. Как сохранить капитал для революционной борьбы? Может быть, нужно покупать золото?
— Скажите, чтобы они вкладывали деньги в серебро.
— Вы думаете? Я не могу позволить себе подложить сыну свинью. Если его группа понесет убытки, он решит, что я нарочно это подстроил.
Богатый папочка-буржуа и сын-троцкист, обсуждающие пути к процветанию маленькой революционной стайки мартышек, — это триумф логики над идеей…
… Я смотрел на бледную женщину, в чьих глазах горело непобедимое пламя всех революций.
— Речь идет о забастовке на «Рено».
Я ждал. Она снова заговорила:
— Коммунистическая партия хочет прекратить всеобщую забастовку. Средства закончились. Забастовщики на «Рено» держатся своими силами… и их жены устали от этого. Не могли бы вы с помощью ваших друзей…
Я не ослышался: моих друзей.
— Собрать средства в поддержку?
Несколько секунд я осмысливал ее слова, а потом почувствовал, что если и дальше буду так на нее смотреть, глаза у меня вылезут из орбит. Вот стоит человек, которого привело ко мне святое простодушие, с незапамятных времен обеспечивающее выживание вида. Вера в людей, преодолевшая все условные границы и категории. Ведь эта женщина меня знала. Я предстал перед ней воплощением всех внешних черт буржуазного порядка. Убежденный голлист… Ей прекрасно известно мое позорное поведение и что я по всем параметрам не подхожу к тому, что хором выкрикивают французские студенты на улицах Парижа: «Мы все — немецкие евреи». И она попросила меня и моих друзей собрать средства, чтобы помочь забастовщикам на «Рено» продержаться!
Возможно, она решит, что я преувеличиваю, но у меня на глаза навернулись слезы. Конечно, это ни о чем не говорит — слезы не заставляют долго себя упрашивать. Но она, несмотря на все внешние знаки подлости, оказалась выше знаков. Абсолютная нелогичность ее просьбы следует из глубокого инстинктивного понимания, подсознательно ищущего там, где ничто не может поколебать нашей веры в человека. Не дожидаясь ответа, она нацарапала что-то на бумажке и протянула ее мне. Я прочитал: «Комитет по связям со студенчеством», дальше неразборчиво, Агро — 16, улица Клода Келя, 47. Зал 4.
Я отдал ей все деньги, которые были у меня с собой. Она хотела выдать мне расписку.
— Что вы, мадам, прошу вас, черт, ну в конце концов… Мне не нужна расписка.
— Просто есть тут такие проходимцы, собирают на улице пожертвования и все кладут к себе в карман. — Она аккуратно сложила банкноты и спрятала в сумку. — Если бы только вам и вашим друзьям удалось собрать несколько миллионов… Жены рабочих уже на пределе.
У меня задергалось правое плечо. Этот тик мне заменяет трепетание чувств. Я в последний раз посмотрел на женщину. Мне показалось, что я стою на московской улице и сейчас 1905 год. В России таких больше нет: революция победила на всех фронтах.
Я вернулся домой как раз вовремя: звонил телефон, и я едва успел снять трубку. Это была Джин, она звонила из Беверли Хиллз, и в звуке ее голоса я сразу же почувствовал смятение, которое старались не выдать словами.
— Я хочу предупредить тебя, что мне придется уехать из дома… Если никто не будет отвечать, не беспокойся.
— Что случилось?
— Угрозы… — Ее голос сорвался. — Они отравили кошек… В качестве предупреждения…
— Мэй?
— Нет, Чамако и Бэнга. А потом — анонимный звонок: «В следующий раз твоя очередь, дрянь. Не лезь не в свое дело, you white bitch». — В ее голосе появилась надежда: — Это наверняка провокация белых…
— Ну да.
Их фраза еще звучала у меня в ушах: «Не лезь не в свое дело, you white bitch».
За год эта «сука» раздала негритянским группировкам бо´льшую часть заработка…
— Еще они изуродовали мою машину. Отвинтили колесо… И они стреляли в окно кухни… а поскольку я дома одна…
И тогда я услышал свой голос, который холодно произнес, где-то вне меня, в другом мире, в мире под общим знаменателем подлости:
— Забери Батьку из питомника. Лучшего сторожа ты не найдешь…
Приглушенное восклицание на другом конце провода:
— Это ты мне говоришь?
— Да, я. Позвони Кэрратерсу, чтобы он немедленно его привез. Мне так будет спокойнее.
— Ты хочешь, чтобы я взяла обратно собаку, которая обучена кидаться на горло неграм?
— Это самозащита. Мерзавец есть мерзавец, каким бы ни был цвет его кожи.
Она попыталась выкрикнуть, но ей не хватило сил на крик:
— Никогда, слышишь меня, никогда!
— Ты предупредила полицию?
— Ты хочешь, чтобы я рассказала об угрозах негров после всех наших протестов против жестокости полиции?
Я подавил желание выругаться и медленно перевел дыхание:
— Джин, самое священное право — не дать себя извести…
Она перебила:
— Я позвонила, только чтобы сказать, что не буду спать дома. Не волнуйся. — И повесила трубку.
Я тревожно ходил кругами; меня вели на поводке, другой конец которого держали неведомые руки там, в Голливуде. Там слишком много наркоманов, маньяков и безумцев, чтобы махнуть рукой на какие бы то ни было угрозы. В четыре часа утра я решил прояснить ситуацию. Я позвонил одному знакомому адвокату, чернокожему активисту, которому доступна практически любая информация. Я объяснил ему, в чем дело. С другой стороны Атлантического океана воцарилось долгое молчание миллионера, стоившее мне десяти долларов.
— О’кей, — сказал он. — Мне кажется, это будет несложно.
Ровно через полтора дня он с некоторой усталостью в голосе дал мне необходимую информацию.
— Это серьезно?
— Пока это только безобразно. Красивая, «богатая и знаменитая» кинозвезда спускается к ним… Ты же понимаешь…
— И что?
— А то, что это слишком. Для чернокожих активисток Джин Сиберг — это слишком…
Я промолчал. Я понимал. Такова человеческая натура.
— Дело, собственно, не в ревности или зависти… а в озлобленности. Наши женщины живут в страхе и нищете, им постоянно приходится защищаться… Но, по крайней мере, это их собственное положение. Когда кинозвезда спускается к ним, привлекая к себе всеобщее внимание, они чувствуют себя обворованными. Им кажется, что знаменитая актриса отняла у них часть их богатства, их драмы, их жажды единения… Понимаешь?
— Понимаю.
Мы помолчали.
Я чувствовал, что у него тоже было тяжело на сердце, но тяжесть эта у нас была разная.
— Ну вот они и придумали небольшую кампанию по устранению Джин Сиберг. Чтобы нашим женщинам не надо было делиться ни собственной нищетой, ни собственными привилегиями на муку и несправедливость. Каждому — свое. Понимаешь?
— Понимаю.
— Когда она появляется в этом осаждаемом и забаррикадированном мирке, кем она становится?
— Она остается знаменитой актрисой.
— Именно так. Ты попал в точку.
— Да. Я понимаю.
— Наши славные дамы намереваются вытеснить ее… чтобы самим остаться звездами в своей игре, в своей осажденной крепости. Вот и все.
— Все. Спасибо.
— Ладно, до скорого.
— До скорого. Спасибо.
— Ничего не попишешь, такие дела.
— Да. Такие дела.
В дверь позвонили.
Было три часа ночи. Я стал каким-то бессонным, хотя раньше мне всегда требовалось поспать часов восемь. Я все еще сидел у телефона. Позвонили еще раз. Я им не открою. Пусть остаются в своем негритянском мире. Я пошел открывать. Проклятое любопытство, я вечно жду неизвестно кого.
Естественно, это они.
Написав «Корни неба», я стал для парижских африканцев кем-то вроде Фоккара с левого берега Сены.
Я сумрачно взглянул на них. Иногда меня одолевает расизм и черная кожа производит на меня ровно такой же эффект, как и белая.
Мы пошли на кухню и стали уписывать крутые яйца. Среди пришедших есть один американский негр, парижанин, вроде тех creeps[37], которые, как я подозреваю, составляют небольшие отчеты об американских неграх в Париже для американских спецслужб. Еще красноречивый поэт из Теннесси. Он начал говорить, наверное, сутки назад в Сен-Жермен-де-Пре и с тех пор не замолкал и охрип. Хотелось налить ему в глотку масла.
— Мы ничего не добьемся в политике, пока семнадцать миллионов негров не будут иметь своих представителей среди глав преступных синдикатов, — ораторствовал он, дожидаясь второй порции. — Мы начали отставать от них, потому что криминальная монополия стала складываться без нас. Нужно ударить по верхушке «Коза Ностры», захватить власть в свои руки…
Набив полный рот, он умолк. В его очках горел полемический задор; на лоб свешивались африканские космы, похожие на проволоку под током. И зачем он обмотал шею шерстяным шарфом, в мае-то месяце? В четыре часа утра, после долгих бессонных ночей, эта эбеновая физиономия с куском белка в зубах казалась мне чудовищной.
— Что ты предлагаешь? — спросил creep.
Я сказал:
— Осторожно, Пого. Этот подлец все передаст прямо в ЦРУ.
Они засмеялись. Это очень распространенная шутка среди американских эмигрантов, так что правда глаза не колет.
— Что я предлагаю? Похитить итальянских руководителей «Коза Ностры». Угрожать их семьям. Требовать, чтобы нас приняли…
Карандашик в глазах шпика фиксировал каждое слово.
В дверь позвонили.
Я повешу табличку: Фоккар с левого берега Сены, прием до двух. От усталости мне кажется, что я окружен крутыми яйцами, поедающими черные головы.
Я открыл. Это Коссо, самая красивая малийка Парижа.
Я объявил:
— Мы закрываемся. Возвращайся в Мали, заклинаю тебя.
— Он меня больше не любит, — сообщила она.
— Коссо, иди в Елисейский дворец и скажи это Фоккару. Я тут бессилен.
— Он сказал, что все кончено. Что мне делать?
— Иди на кухню и лопай яйца.
Я лег спать. Но уснуть не мог. Я думал о Джин. В Америке все может случиться. Я заказал билет на самолет, но отложил отъезд: мне позвонил приятель и сказал, что днем на Елисей-ских полях пройдет последнее «каре» свободных французов. Последнее «каре» — перед такими вещами я никогда не мог устоять. Я боюсь большинства. От него всегда исходит угроза. Можете себе представить мою растерянность, когда я, вопреки всем ожиданиям, увидел лавину — сотни тысяч людей, кажущихся настолько неживыми, что мороз по коже. Я моментально почувствовал себя контр. Когда я прихожу к Лотарингскому кресту размахивать трехцветным флагом под порывами ветра за компанию с несколькими сотнями других несогласных, у меня создается такое ощущение, будто меня обворовали. Я поворачиваюсь к ним спиной. Любые демографические излишества — неважно, левые или правые — мне отвратительны.
По крови я из меньшинств.
На следующее утро я прибыл в Беверли Хиллз и, едва подойдя к двери, услышал отчаянное мяуканье. У всех сиамских кошек душераздирающие голоса, но когда они мучаются, это что-то дикое. Дом был пуст. Отощавшая Мэй неподвижно лежала на подушке перед миской с едой, к которой не притронулась. Это была агония.
Чернокожие ублюдки отравили и ее, как раньше двух других кошек. Я взял ее на руки и заплакал от усталости и бессильной ненависти. Она говорила со мной, не сводила с меня глаз, пыталась что-то объяснить, да, я знаю, я знаю, ты была совсем ни при чем…
Я рыдал и больше не старался сдержаться.
Я просидел так два или три часа, не испытывая ничего, крое ненависти. Когда Джин вернулась из студии, она застала меня с пипеткой в руках: я пытался покормить Мэй. Я тут же вскочил.
— Почему ты не сказала, что они отравили Мэй? Кого ты оберегала — этих подонков или мою чувствительность?
— Но…
— Не может быть никаких «но». Скоты есть скоты, вне зависимости от цвета кожи. Мне осточертели мерзавцы, с которыми носятся как с писаной торбой только из-за цвета их кожи… Это шантаж…
Она заплакала. Ее личико совсем осунулось, она была на грани нервного срыва.
— Мэй не отравили… У нее ничего не нашли… Я каждый день возила ее в клинику. Ветеринар сказал, что это болезнь вырождения.
— Скажи мне, чье доброе имя ты хочешь спасти?
— Они ничего ей не сделали! — крикнула Джин.
Она выбежала из дома, и я услышал, как ее машина яростно сорвалась с места. Я опустился на самое дно одиночества. Никогда не думал, что способен на такой подвиг, Я позвонил в «Пан-Америкэн» и заказал билет до Маврикия. Там у меня когда-то был друг, с которым мы не виделись вот уже двадцать пять лет. Но Джин вернулась, села рядом и взяла меня за руку.
Следующие несколько дней я ухаживал за Мэй, которая мучилась в медленной агонии. Каценеленбоген стал объяснять мне назидательным тоном, что я не имею права так горевать над кошкой, когда целый мир… Я выставил за дверь их обоих: его и мир. Мэй — человеческое существо, с которым я крепко связан. Все, что мучается у вас на глазах, становится человеческим существом.
Она лежала у меня на руках. Потускневшая шерсть выглядела устрашающе мертвой. Время от времени Мэй начинала мяукать, и я понимал ее, но не мог ответить. Конечно, можно выть, кричать, но я вам уже объяснял: только Океан обладает голосом, которым до´лжно говорить от имени человека.
Сколько нервов из-за кошки, не правда ли? Но что вы тогда забыли в этой книге?
Мэй умерла 7 июня в три часа тридцать минут, и мы похоронили ее на Чероки-лейн, под самыми прекрасными деревьями в мире. Она любила лазать по деревьям.
Я знал, кто точно меня поймет, и, вернувшись домой, взял ручку и написал:
Уважаемый Андре Мальро,
Мэй, моя сиамская кошка, вы се видели, умерла сегодня днем после долгих недель страданий. Мы похоронили ее под эвкалиптами на углу Бомон-драйв и Чероки-лейн, за домом из красного кирпича. Думаю, что должен вам об этом сказать. Все.
Искренне ваш,
Около семи вечера перед домом остановились синий «шевроле» и еще одна машина, в нескольких метрах позади него: два негра остались за рулем, а третий вышел на середину тротуара и встал на посту. Водитель «шевроле» пошел к дому. Уже было очень темно, и только отворив дверь, я узнал Реда. Он поразительно изменился. Во-первых, внешне: он обрил голову и стал чуть-чуть похож на монгола. Но больше всего изменились глаза. Даже не знаю, как точнее определить: они потеряли взгляд, опустели. Взгляд никуда и ниоткуда. Ред сел, не сказав ни слова. Джин поздоровалась с ним, и он вяло ответил: «Hello».
— Можно мне переночевать у вас?
— Конечно.
Он отодвинул принесенный мною виски:
— У тебя могут быть проблемы с полицией.
— Ничего страшного, рано или поздно это должно было произойти… Можно узнать?…
— Филипа убили.
Я подумал о Мэй и понял, что он чувствует.
— Его убили в разведке. — Он смотрел в стену прямо перед собой. — Он был лейтенантом. Он стал лейтенантом, чтобы лучше узнать свое дело. Лучше сделать свою работу здесь…
Я молчал. Наступила ночь. Неясный свет из-под желтых абажуров. Джин сидит в уголке, обняв руками колени и опустив голову, у нее вздрагивают плечи.
Я молчал. Он никогда не узнает. Он будет по-прежнему гордиться своим сыном. Он не узнает, что это не «черная сила» лишилась одного из будущих революционных командиров, а американская армия — молодого офицера, мечтавшего сделать карьеру под флагом со звездами…
— Он несколько месяцев мне не писал, даже не отвечал на мои письма, а потом вдруг это… — И тихо спросил: — Как дела у Балларда?
— Ты знаешь, что такое для американца жизнь в Париже. Он чувствует себя оторванным от корней.
Он молча кивнул:
— Не надо было дезертировать. Надо было учиться своему делу. Но он слабак. Поэтому все нормально, негр против войны во Вьетнаме и дезертирует.
Он лгал себе. Он знал, что Баллард сбежал не от войны и плевать он хотел на Вьетнам. Он сбежал к девушке, которую любил, и потому что испытывал ужас перед муштрой, армейской дисциплиной и начальниками, огнестрельным оружием, насилием, отдаванием чести флагу. Он дезертировал, потому что он человек своего времени, непокорный, не желающий взваливать себе на плечи мертвый груз прогнивших традиций.
Желтоватый свет падал на осунувшееся черное лицо, и ему отвечали тусклые блики в глазах, напомнившие мне последний взгляд Мэй…
Он лгал себе, лгал. Они вырваны из реальности. Один из самых благородных и прекрасных американцев погружен в ирреальность, фантасмагорию, как какой-нибудь африканский царек…
Я больше не мог. Я больше не мог выносить это в нем.
— Чего копы от тебя хотят?
— По-настоящему они хотели бы, чтобы я их обстрелял, тогда они могли бы меня убрать. Они специалисты по самообороне. Но кроме того, я убил одного парня.
Прямым текстом.
— В общем, это был чернокожий провокатор. Все то же. На одно из собраний пришли люди Кабинды с автоматами и убили двоих наших. Студентов. На следующий день я убил одного из них.
— Вы не можете перестать убивать друг друга?
— Это трудно, если вся игра врага состоит в том, чтобы заставить нас друг друга поубивать.
— Но как раз поэтому…
— Если мы не будем реагировать, «черная сила» целиком попадет в руки группировок, которыми управляет ФБР.
— Что ты будешь делать?
— Не знаю. Но я знаю, чего не сделаю. Я не уеду из страны. Во-первых, оттого что не знаю, куда ехать: я был в Африке и чувствовал там себя чужаком. О Кастро и речи быть не может. Я постараюсь найти хорошего адвоката, который сумеет так насолить полиции, что она предпочтет не связываться. — Он говорил глухо и в себя, растравляя свою глубинную ненависть. — ЦРУ хочет скомпрометировать наших лидеров, загоняя их на Кубу, в Каир или Пекин, а ФБР — заставить раствориться, как Кливер, Кармайкл и многие другие, кто был вынужден эмигрировать… Но особенно им нужно подстегнуть внутреннюю борьбу за власть, не дать нам объединиться и убрать лучших из нас нашими же руками. Но есть кое-что и получше, намного лучше, и это почти удалось, мы попадемся в ловушку, и я первый, потому что тут осечки не будет… — В его голосе проснулся рокот, он опустил голову и яростно сжимал огромные кулаки. — Нас спровоцируют на взрыв насилия, чтобы удвоить преследования, и в конце концов перевесят усталость, недовольство и страх рядовых чернокожих… Кроме того, они сделают так, что в среде молодых негров возникнет ото всех отъединенное «потерянное поколение», которое само отрежет себя от действительности и каких бы то ни было перспектив за счет психологического самоотравления… В общем, ты понимаешь… — Он взглянул на меня и улыбнулся. — Если я не делаюсь убийцей и осуждаю убийства, я перестаю быть лидером в глазах молодежи… Но если я убиваю и одобряю убийства, меня очень легко уничтожить законными способами… А к чему приведет самоотравление молодых? Не к восстанию масс, а к разрыву с ними… Нас хотят сделать самоубийцами… Всеми нами управляют, вот что… Чем быстрее «черное» меньшинство скатится к насилию, тем спокойнее может спать «белое» большинство. Есть только одно реальное решение: достижение политической власти на местах политическими методами… Но если я так скажу, в глазах молодых я превращусь в ноль и не смогу больше их спасти…
Я спросил:
— А твои чернокожие солдаты, твоя армия?
— Для нас это единственная возможность дисциплинироваться. Иначе мы растворимся в терроризме и анархии… Я не настолько глуп, чтобы мечтать об армии чернокожих, объединенной только силой числа. Я говорю об организации… — В его голосе послышалась усталость. — Когда человек изо дня в день подвергается несправедливости, гораздо легче удариться в героизм и романтизм, чем создать организацию и маневрировать… Индивидуальная жертва — легкое решение… Только у молодых никогда нет времени ждать…
Он встал, я тоже.
— Я отведу тебя в комнату.
Мы поднялись по лестнице.
— Что мне делать, если придет полиция?
— Не думаю, что они придут. Это запасной выход, а пока они надеются, что я исчезну добровольно, — вот все, чего они просят.
— А что это там за ребята, снаружи?
— Это если нагрянут добрые друзья. — Он замялся. — А как там эта девчонка?
— Хорошо. Очень хорошо. Ребенок родится, наверное, через несколько дней. Ред…
… Мне бы не следовало… Но это был момент истины, и потом, он первый заговорил о самоотравлении. И я уверен, что не сказал ему ничего нового.
— Ты прекрасно знаешь, что Баллард дезертировал ради нее. Ничего идейного, никакой связи с Вьетнамом в этом поступке не было. История любви. Самая старая история на земле.
Он остановился перед дверью, спиной ко мне.
— Я знаю, — сказал он.
— А Филип…
Он стоял не двигаясь и ждал. Он знал. Теперь я в этом уверен.
Он вошел в комнату и закрыл дверь.
Я спустился в гостиную. Джин сидела в той же позе.
Это страшно — любить животных. Когда вы видите в собаке человеческое существо, вы не можете не видеть собаки в человеке и не любить ее.
И вам не грозят мизантропия и отчаяние. Вы никогда не обретете покоя.
Ред был убит 27 ноября 1968 года на одной из улиц Детройта. Одиннадцать выстрелов из машины.
Баллард сдался в 1969-м, через полгода после рождения сына.
Я вернулся в Арден через несколько недель. Я не в состоянии долго находиться вдали от Америки, я еще недостаточно стар, чтобы перестать интересоваться будущим, тем, что меня ждет. Америка заставляет нас жить напряженно, энергично, иногда подло, но по крайней мере это не мертвое окостенение Востока, а острый кризис. Новое рождается в муках. Только всесильная история может рассуждать о ее преступлениях. Такого еще никогда не видели. Поэтому даже в самой глубине отчаяния эта страна не позволяет отчаяться.
Я навестил Белую собаку. Мне надо будет очень сильно состариться, чтобы забыть нашу встречу. Нужно, чтобы мой сын подрос, стал человеком среди себе подобных, наконец-то достойным этого имени. Нужно, чтобы Америка завершила свою предысторию и новый мир позволил мне умереть с чувством облегчения и благодарности за то, что удалось посмотреть на него одним глазком.
Я несколько раз пытался дозвониться до Киза. Но каждый раз мертвый металлический голос говорил: «You have reached a disconnected number». «Номер отключен». И каждый раз, слыша эту фразу, я думал о молодежи, и не только американской, — изолированной, «отключенной».
Я позвонил домой к Джеку Кэрратерсу и выяснил, что Киз у него больше не работает.
— Не is in business for himself. Он открыл свое дело. У меня есть его адрес, подождите… Крэнтон, Коринн-стрит, за футбольным полем, зеленый дом. Третья улица направо от Флоренс-авеню.
Пришел Ллойд Каценеленбоген — поговорить с Джин о делах, но так как ее не было дома, он предложил подвезти меня, он хорошо знал этот квартал. Мы проехали по Ла-Бреа, Крэншоу…
— Несколько недель назад я был неподалеку, смотрел один итальянский фильм, «Война в Алжире», — сказал мне Ллойд. — Вот на этой площадке… — Он указал мне на пустырь справа. — … Там было человек двадцать чернокожих парней в военной форме, с деревянными ружьями, они учились вести уличный бой, под руководством инструктора. Наверняка бывшие «вьетнамцы». А когда я смотрел фильм, — кажется, во Франции он запрещен, он сделан в духе неореализма, и там речь идет о героической борьбе арабов с французскими угнетателями…
У меня начался тик. У меня нет никакого повода дергаться при слове «французские угнетатели», но внутри меня что-то начинает скрежетать. Рефлекс Павлова. Меня хорошо выдрессировали.
— … Так вот, когда я смотрел фильм, та же группа довольно шумно ввалилась в зал, и когда алжирские партизаны избивали на улице французского солдата, инструктор громко давал технические комментарии. Каждый раз, когда француз падал, раздавались аплодисменты и смех… Что вы об этом скажете?
Я уставился ему в лоб.
— А если бы фильм был о героической борьбе палестинцев против израильских «угнетателей»?
Его передернуло.
Некоторое время мы ехали во враждебной тишине.
— Кажется, это здесь, — сказал Ллойд.
Впрочем, это был единственный зеленый дом на всей улице, а дальше действительно виднелась футбольная площадка. На тротуаре сидели чернокожие мальчишки и глазели на нас. Мы вышли из машины.
— Спросите, дома ли Киз, а я пойду поищу его напротив.
Я перешел улицу.
Я стоял спиной к зеленому дому. Не знаю почему, но мне хочется уточнить, что в тот день я был в белом льняном костюме. Возможно, виновата одна строка из Виктора Гюго, столько раз смешившая школьников:
«Одетый в белое, как правда, полотно…»[38]
Я прошел несколько шагов по траве под платанами. Внезапно у меня за спиной раздался крик ужаса, потом звериный рык, короткий, яростный лай, захлебывающийся пеной…
Я круто повернулся и бросился к дому.
Во дворике никого не было, но дверь была отворена, и теперь я слышал крики детей и рокочущее рычание собаки, добравшейся до жертвы…
Ллойд лежал на полу, его руки и лицо были залиты кровью, и он пытался оттолкнуть Батьку, готового перекусить ему горло. В комнате было полно детей, и самый старший, лет пяти, не больше, оттаскивал собаку за хвост, а еще один плакал тоненьким голоском. Другие стояли как вкопанные. Я бросился на Батьку, и его клыки прошлись по мне, как ножи. Я упал, осыпая его проклятьями: он сильно ранил меня в живот… Я катался по полу, вцепившись в его шерсть, а Батька по-прежнему кидался Ллойду на горло, а потом я увидел Киза: он стоял на лестнице, в трусах… и смеялся.
Сколько времени он простоял вот так, улыбаясь во весь рот, руки в боки, с видом победителя, смакующего свое равенство?
— Black dog! Черная собака!
И сейчас, в Андрэтксе, когда я пишу эти строки и передо мной только необъятный горизонт, я слышу свой вопль, в котором теперь улавливаю выражение невероятной радости, невероятной свободы, словно мне наконец удалось потерять надежду.
— Вы выиграли… Теперь это Черная собака!
Батька надвигался на меня. Во время драки он несколько раз укусил меня вслепую, когда я пытался заставить его отпустить добычу.
Ллойд даже перестал защищаться. Он лежал на спине, обессиленный, и закрывал руками лицо.
В одну секунду собака прыгнула на меня и укусила запястье, я откатился назад и ударился затылком о стену…
Я ждал, сжав кулаки и опустив голову…
Но ничего не произошло.
Я поднял голову.
И увидел перед собой глаза моей матери, глаза верной собаки.
Батька смотрел на меня.
На войне я видел предсмертные муки своих товарищей, но если мне надо будет вспомнить, каким может быть выражение страдания, отчаяния, непонимания, я буду искать его в этом взгляде.
Внезапно он задрал морду вверх и испустил душераздирающий вой, полный темной скорби.
Через мгновение он выскочил вон…
Ллойд лежал без сознания. Ему наложили четырнадцать швов; самая глубокая рана была в нескольких миллиметрах от сонной артерии.
Киз стоял над нами как истукан и в своей наготе походил на гигантскую фигуру на носу невольничьего корабля.
— Так вот чего вы хотели с самого начала? Чтобы Белая собака стала Черной собакой? Вы выиграли. Браво! И спасибо… По крайней мере, теперь мы не одиноки в самоуничижении!
— Yeah we’ve learned a few things from you alright, — сказал он. — Мы многому у вас научились. Now we can even do the teaching. Можем сами давать уроки.
Глубокий шок и нервное истощение смешались во мне с по-детски преувеличенной злостью. Я помню, о чем думал, глядя на Киза: это мы, мы, мы… Точно не знаю, что под этим подразумевалось. Возможно, что «это мы его выдрессировали».
Но сказал я совсем другое, подавив эту мысль вместе со злобой. И хитрец Киз не мог не заметить пафоса этой фразы, свидетельствовавшего, впрочем, о моей искренности:
— Послушайте, Киз… Негры вроде вас, которые предают своих, приобщаясь к нашей ненависти, проигрывают единственное сражение, которое стоило бы выиграть…
Он беззвучно засмеялся.
— Я знаю, что вы известный писатель, мсье.
— Бросьте. Белая собака, Черная собака — это все, о чем вы можете говорить?
— Well, we’ve got to begin somewhere, — сказал он. — Начинать надо с начала…
— Равенство в подлости?
— Это называется самооборона.
— Все-таки грустно, когда евреи начинают мечтать о еврейском гестапо, а негры — о негритянском ку-клукс-клане…
На его лице появилось выражение безмерной гордости. Его голос зазвучал свободно, грозно, громко — я не узнавал его. Впервые на моих глазах он утратил самоконтроль и неожиданно освободил веками копившуюся ненависть:
— В этом году убили двадцать наших братьев. Мы защищаемся, вот и все. Мое дело — дрессировать собак для нас. Не сторожевых собак. Боевых. Тогда вы увидите…
Я услышал сирены полиции и «скорой помощи», еще раз увидел лицо Ллойда, которого несли на носилках, его расширенные от ужаса, остекленевшие глаза и в последний раз взглянул на Киза:
— Жаль. Вы упустили последний шанс вашего народа: шанс быть другими. Вы слишком стараетесь походить на нас. Слишком много чести. Мы так хорошо поставили дело, что если даже наша порода вымрет, в мире ничего не изменится…
Он засмеялся. Ох уж эти зубы!
— That may well be, but let it not stop you from vanishing, — сказал он. — Возможно, но ведь это не помешает вымереть вам…
Копы слушали нас и не понимали ни слова. Им нужно было узнать, привита ли собаке вакцина от бешенства. Я сказал им, что от этого еще нет вакцины…
Он бежал через весь город, и полицейские машины на его пути передавали друг другу: «Watch out for a mad dog». «Внимание! Бешеная собака!» В его глазах были непонимание и тоска верующего, которого предал его возлюбленный Бог. На углу улиц Ла-Синига и Санта-Моника его попытался сбить сержант Джон Л. Саллем, но промахнулся. Он к тому времени почти добежал. До Ардена оставалось всего двести метров…
Я увидел его двадцатью минутами позже на руках у Джин. На его теле не было ран. Он свернулся клубком перед нашей дверью и умер.
Я две недели пролежал в клинике, из них два дня и три ночи — в наркотическом сне.
И все же были моменты, когда мрак немного рассеивался и у меня в голове шевелились какие-то мысли, и тотчас же мной овладевала непобедимая надежда, которая во всех проигранных битвах позволяет мне видеть будущие победы.
Я не отчаялся. Но моя чрезмерная любовь к жизни сделала наши с ней отношения очень трудными, как трудно любить женщину, которой нельзя помочь, которую нельзя ни изменить, ни оставить.
Когда я проснулся в первый раз, я увидел Джин, — но я часто вижу ее, даже если ее передо мной нет, — и снова погрузился в забытье.
На следующее утро опять была Джин, но еще была Мадлен с ребенком Франсуа, Гастоном, Клодом — не знаю, как его будут звать в Америке.
— Как Баллард?
— Вы знаете, что он сдался?
— Знаю.
— Скоро будет суд… ему могут дать пять лет.
— А как же вы, Мадлен?
— Но они же когда-нибудь мне его отдадут.
У нее спокойный, уверенный голос. Не знаю почему, я подумал о Шартрском соборе.
— Я найду работу…
Она улыбнулась. Я тоже улыбнулся. Простота…
Но это такое облегчение — наконец-то иметь возможность кого-то уважать…
— Я только еще не знаю, в каком городе, чтобы быть поближе к нему. Мне разрешили два посещения в неделю…
Nigger-lover. Nigger-lover.
Андрэткс, сентябрь 1969
1
Плохая собака (англ.).
2
Рукопожатие (англ.).
3
Джозеф Маккарти (1908—1957) — американский сенатор, организатор (с 1949 г.) антикоммунистической кампании, получившей название «Охота на ведьм».
4
Имеется в виду косметическая фирма.
5
Малькольм X. (Малькольм Литл, 1925—1965) — один из лидеров негритянского националистического движения. Исключенный из движения «Черные мусульмане», создал Организацию афро-американского единства.
6
Речь идет о знаменитом джазовом стандарте. Дословный перевод: «Чай для двоих и двое для чая».
7
«Да, мэм, я вас ненавижу… вроде бы» (англ.).
8
Аллюзия на название известной фирмы, выпускающей грампластинки.
9
Печально известный мэр Лос-Анджелеса, избранный на очередной срок после кампании, в большой степени направленной против негров.
10
Извините нас (англ.).
11
Добрый день… (англ.).
12
Патриотический гимн времен Первой мировой войны.
13
Речь идет о сентиментальной детской повести XIX в., принадлежащей перу г-жи Де Сегюр.
14
Арнольд Тойнби-младший (1889—1975) — британский историк, один из главных теоретиков цивилизационного подхода к историческому процессу.
15
Мартин Лютер Кинг (1929—1968) — чернокожий священник, лидер борьбы за гражданские права негров.
16
Илия Мухаммед (Илайджа Пуп, 1897—1975) — лидер движения «Черные мусульмане».
17
Линдон Бэйнс Джонсон (1908—1973) — президент США (1963—1969).
18
Известная театральная труппа 60-х гг.
19
Ахмед Бен Белла (р. 1919) — лидер освободительного движения в Алжире и первый президент Алжирской республики (1963—1965).
20
Стокли Кармайкл (1941-?) — американский правозащитник, один из ведущих теоретиков т. н. «черной силы».
21
Здесь: домашний негр, хозяйский негр.
22
«Черные пантеры»-революционное освободительное движение чернокожих американцев, созданное в 1966 г.
23
Здесь: подстилка чернокожих.
24
Моя вина (лат.).
25
Гарри С. Трумэн (1884—1972) — президент США (1945—1953).
26
Доброй старушки-удачи (англ.).
27
Аллюзия на одних из самых известных героев крестовых походов.
28
Патрис Лумумба (1925—1961) — лидер национально-освободительной борьбы в Бельгийском Конго и его первый премьер-министр после провозглашения независимости.
29
«Black deacons» — одна из групп самообороны негров из Южных штатов.
30
Рядовой умирает. Наступление в месяце «тет». Битва за Сайгон.
31
Гари и его друг пишут лозунги Левого фронта 30-х гг, времен испанской гражданской войны.
32
Мировой чемпионат (англ.).
33
Город в США, где во время войны Севера и Юга армия южан (Конфедерации) под командованием генерала Ли потерпела сокрушительное поражение от армии северян под командованием генерала Гранта.
34
Жареный цыпленок. Гороховый суп. Бобы. Лимонный и яблочный пирог. Как мама их готовит (англ.).
35
Американский образ жизни (англ.).
36
При возвращении домой все обретает свой смысл (англ.).
37
Поганцев (англ.).
38
Цитата из стихотворения «Спящий Вооз». (Перевод Н. Рыковой.)