Книга: Голоса чертовски тонки. Новые истории из фантастического мира Шекспира (сборник)
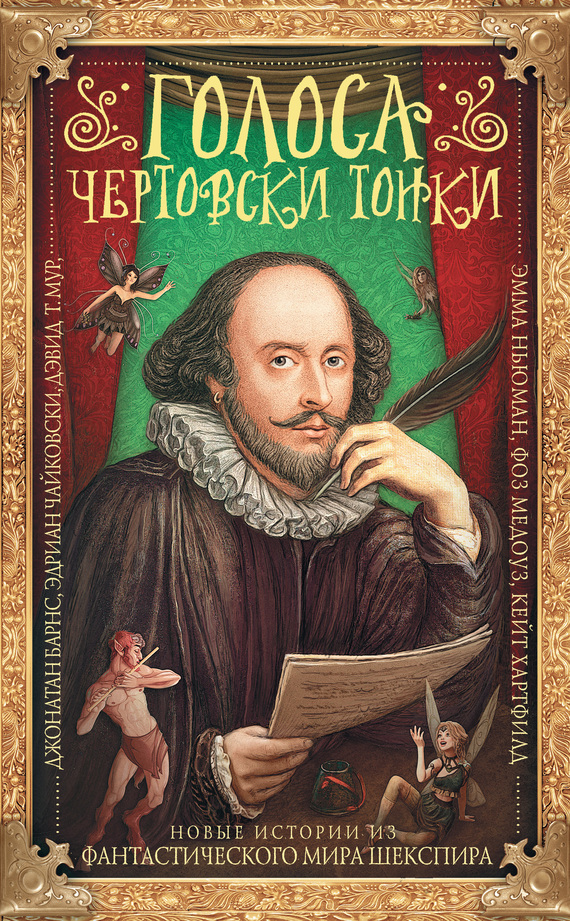
Джонатан Барнс, Адриан Чайковски, Эмма Ньюман и др
Голоса чертовски тонки (сборник)
Новые истории из фантастического мира Шекспира
Jonathan Barnes, Adrian Tchaikovsky, Emma Newman, Foz Meadows, Kate Heartfield and David Thomas Moore
MONSTROUS LITTLE VOISES: NEW TALES FROM SHAKESPEARE’S FANTASY WORLD
Печатается с разрешения издательства Rebellion, www.Abaddonbooks.com.
Monstrous Little Voices, Blessed Candles of the Night, Coral Bones,
The Course of True Love, The Unkindest Cut, Even In The Canon’s Mouth,
On The Twelfth Night© 2016, 2017 Rebellion. All rights reserved.
Abaddon Books and the Abaddon Books Logo are trademarks or registered trademarks of Rebellion Intellectual Property Limited.
The trademarks have been registered or protection sought in all member countries of the European Union and other countries around the world. All rights reserved.
***
Это – времена Шекспира. Времена, когда бушуют бури, гремят сражения, творится магия – и пишутся истории. Внимайте пять новых сказок, великолепных и ужасных, придают новый облик бессмертным творениям Барда. Перед вами новый сборник повестей что, может статься, будут передаваться из уст в уста столетиями!
***
Каждая из этих историй по-своему прекрасна. Настолько оригинальной и блестяще написанной антологии нам не встречалось уже давно, и мы безоговорочно рекомендуем ее вниманию читателей.
AMAZING STORIES MAGAZINE
Словно мечты, воплощенные наяву!
FX MAGAZINE
***
Памяти Лизы Джардин,
кавалера Ордена Британской Империи,
действительного члена Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе
и Королевского исторического общества
(1944–2015)
Эта книга посвящается памяти профессора Лизы Джардин, умершей в октябре 2015 г. после тяжелой продолжительной болезни.
Профессор истории эпохи Возрождения Университетского Колледжа Лондона, основательница Центра междисциплинарных исследований в области классических языков и литературы… Полный список должностей, почетных званий и наград, присужденных Лизе научными учреждениями всего мира, слишком велик, чтобы публиковать его здесь. Действительный член Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе и Королевского исторического общества, она была авторитетом мирового уровня в вопросах истории эпохи Возрождения, владела восемью древними и современными языками, была страстным и тонким публицистом и регулярно выступала по телевидению и радио. Кроме этого, в 1997–1998 гг. она читала курс лекций о творчестве Уильяма Шекспира в Лондонском университете королевы Марии, где выпала честь учиться и мне.
Ее лекции – кроме феноменального владения темой, эмоциональности и непредвзятости – запомнились мне стремлением изучать Шекспира в современном контексте. Мы изучали различные редакции и дополнения, рассматривали язык Шекспира в его эпоху и в наше время, спорили о его политических убеждениях… Помню лекцию о «Ромео и Джульетте», почти полностью основанную на фильме База Лурмана[1]. А однажды мы чуть ли не пол-лекции рассматривали фото с гвардейцем, безмолвно плакавшим на похоронах принцессы Дианы, обсуждая эмоции и способы их выражения…
С тех пор я почти не вспоминал о Лизе, пока не услышал о ее смерти – как раз в тот момент, когда работал над этой книгой. Нет, я не суеверен, но это необычайное совпадение потрясло меня до глубины души. Одобрила бы Лиза сборник, который вы держите в руках? Не знаю. Остается лишь надеяться на это. Она стремилась подарить Шекспира современному миру, и, по-моему, Фоз, Кейт, Эмме, Адриану и Джонатану это вполне удалось. И в этом есть некая высшая справедливость: миру будет очень не хватать голоса Лизы (кстати, отнюдь не «чертовски тонкого»)[2].
Дэвид Томас Мур
Ноябрь 2015 г.
Священными светилами ночными
– Хорошо, Уилл!
Он поднимает взгляд от страницы, смотрит на меня, слегка улыбаясь, и я трепещу от радости.
Я, конечно, сплю.
– Хорошо, и ты сам знаешь, что это хорошо! Во имя веры, я ж сколько раз тебе твердил!
Он небрежно швыряет страницы на стол, и я бросаюсь собирать их, следя за тем, чтобы не опрокинуть чернильницу.
– Спасибо, Кит[4]. На самом деле, работа еще не закончена. Так, значит, у меня получилось? Он настоящий злодей? – я нервничаю и запинаюсь. Кит один из моих лучших друзей в Лондоне, – мой первый настоящий лондонский друг, но, когда я показываю ему свою работу, то чувствую себя каким-то жалким школяром.
…в свете ламп сверкает лезвие…
– Замечательный, чудовищно жестокий король! – потягиваясь, как кошка, он встает. – «Так низость голую я прикрываю лохмотьями священных ветхих текстов и, сердцем дьявол, выгляжу святым»[5]. Превосходно. Аллен[6] вникнет в эту сцену и так злобно глянет на это мужичье в зале, что они тут же обмочат свои брэ[7].
– А я думал дать шанс молодому Бербеджу…
– Да? – он изгибает бровь, и я, покраснев, утыкаюсь в свои бумаги. Но, поразмыслив, Кит кивает. – Хороший выбор. Он уже достаточно зрел, и у него определенно есть талант.
– Я тоже так думаю.
Я беру свою кружку и, обнаружив, что она пуста, встаю и иду к очагу за стоящей подле него бутылкой хереса.
– Хорошо, Уилл, но… – друг салютует мне кубком, выжидающе смотрит на меня, и я послушно наполняю собственную кружку. – Но, как я уже говорил, загвоздка не в таланте, а в опыте. Ты пишешь о Падуе, о Вероне, но ты никогда там не был. Матерь божья, да ты даже в Кале никогда не был!
– Я знаю, что ты собираешься сказать, но…
– Уилл, едем со мной. Я отправляюсь завтра или послезавтра. Венеция, Флоренция…
– Но, Кит, я занят. Говард требует, чтобы «Ричард» был готов через две недели, и еще хочет пьесу о Черном принце, как только я…
Он театрально закатывает глаза.
– Опять эти короли! И все для того, чтобы польстить старому мешку с…
– Кит, прошу тебя! – я нервно оглядываюсь, хотя мы одни в моей чердачной каморке, и беспомощно пожимаю плечами. – А Генри Кэри нужна комедия для его новой труппы. Что-нибудь этакое, где одних путают с другими, и чтоб непременно был какой-нибудь дурень, и все бегали взад-вперед…
Кит пьет, ставит кубок на стол и смотрит мне в глаза.
– Два месяца, Уилл. Венеция, Флоренция, у меня там кое-какие дела…
– Хочешь улизнуть от Тайного Совета? Но почему бы тебе не обратиться прямо к королеве?
Он морщится.
– Скорее всего, я исчерпал кредит ее доверия. В любом случае, к моему возвращению все уже забудется. Поехали, Уилл, прошу тебя. Будет весело!
Я таращусь на него и хочу сказать: «Да!», хочу сказать: «Поехали! Не будем ждать ни минуты, едем сейчас же!» В Лондонском Пуле всегда найдется корабль, готовый отправиться в Венецию. Я жажду сказать это и изменить прошлое…
Но ничего не происходит. Я смотрю себе под ноги, и глупо, неловко молчу.
Кит пожимает плечами.
– Перед отъездом задам тебе этот вопрос еще раз. Завтра я буду в Детфорде – Поли[8] просил меня присоединиться к нему у Элеоноры Булл, – но я еще вернусь.
Что-то касается моей спины, и я просыпаюсь. В моих комнатах темно – теперь они просторнее и лучше обставлены – и до рассвета еще далеко. Чья-то нога, теплее моей…
Эдвард? Джон? Я был чересчур пьян и не запомнил. Обычно я отправляю актеров восвояси: от них одни неприятности, да еще у половины – сифилис. Но я топил печаль в вине – и сам тонул в печали, – и тут явился этот то ли Эдвард, то ли Джон, запрыгал вокруг, плюхнулся ко мне на колени, заерзал, и я позволил этому случиться. Возможно, даже хотел, чтобы это случилось.
Какой-то миг я думаю об Энн и морщусь. Ладно. Отложим тревоги до утра. А пока – пусть все это еще немного послужит мне утешением.
…люди, дерутся за кинжал…
Миновало тринадцать лет. Теперь я довольно богат. Новый король видел истории, написанные мною в угоду старой Бесс[9], и желает, чтобы я написал и о его предках. Рукопись, можно сказать, у меня на столе, и я чувствую себя виноватым.
– Эй, Дикон! – говорю я, вновь засыпая – легко, будто задув свечу. – А Кит здесь? Я думал с ним увидеться.
В «Голове королевы» полно актеров и драматургов; сегодня шума и веселья здесь куда больше, чем обычно. Лицо Бербеджа внезапно бледнеет. Что я такого сказал? Уж не ослышался ли он?
– Я говорю…
– Уилл, ты разве не слышал? – говорит молодой актер, опуская руку мне на плечо, будто я уже в горе, будто он уже сказал то, что собирается сказать – то, что я уже знаю, понимая, что сплю.
– Неужто Тайный… – начинаю я.
– Уилл, Кит мертв. Убит вчера ночью.
Пальцы Ричарда сжимают плечо, он пристально глядит мне в глаза, ожидая увидеть в моем взгляде боль.
– Убит?
…сверкает лезвие, люди дерутся за кинжал…
– Кабацкая драка. Счет не поделили. Так говорят.
Он все еще пристально смотрит мне в лицо, все еще следит за мной, все еще…
Я не видел, как это случилось, но с того дня начал видеть это во сне – драку, кинжал, кровь.
Нет, не всегда. Порой этот сон мучает меня еженощно на протяжении месяца, порой я не вспоминаю о нем целый год. Но он, тот миг, неизменно возвращается…
…желтый отблеск на лезвии; брызжет алая кровь…
Я как будто виню во всем кинжал. Не Фрайзера[10], совершившего убийство, не ублюдка Поли, наверняка приложившего к нему руку, но сам кинжал, как будто неразумная сталь могла намеренно убить, утоляя жажду крови. Кинжал… Кто знает, что с ним сталось? Наверное, лежит себе в мошне на чьем-то поясе и служит целям не более мрачным, чем нарезание сыра.
Однако он не покидает моих мыслей. Он преследует меня. Он пляшет в моих снах, уничтожая все хорошее и доброе вокруг, поет пронзительные стальные гимны во славу смерти и утрат…
Я вновь просыпаюсь – резко, внезапно, сердце отчаянно бьется в груди. В спальне ничто не изменилось ни на дюйм. Я отбрасываю одеяла – то ли Джон, то ли Эдвард раздраженно ворочается и вопросительно мычит.
– Прости, – говорю я. – Я просто… мне нужно…
Он вновь разражается храпом, а я подсаживаюсь к столу и зажигаю лампу.
Кинжал…
Поначалу я думал просто спустить старика с лестницы, но нужно что-то сделать с этим кинжалом, и пьеса о шотландских предках старого Джимми[11] – как раз подходящее место. Подходящий мрачный приют для этой мрачной вещи. Кинжал всего лишь нужно…
…отправить куда-нибудь подальше, прочь из моих мыслей. Тогда я избавлюсь от него.
Берусь за перо и пишу:
МАКБЕТ:
Кинжал ли предо мной? и рукоятью
К моей руке? – Вот я тебя схвачу!! [12]
Венеция, 1598 г.
Говорят, пирушки при дворе Оберона, царя фей и эльфов, заметно уступают весельям в покоях его супруги в изысканности и изяществе, зато намного превосходят их в разнузданности. Однако сейчас было еще рано. Кровавая «охотничья луна»[13] нависла над потаенной рощей в глубине окруживших Венецию лесов, заливая багровым светом нескольких сатиров, обхаживающих нимф, огров, бьющих в огромные барабаны, и гоблинов, выделывающих немыслимые антраша в буйном хороводе. Позже вино польется рекой, настанет время поединков и охоты.
Царь фей, еще не присоединившийся к празднествам, возлежал на ложе из роз и костей. Упившись темным горьким вином, он лениво взирал на придворных и выслушивал доклад своего лазутчика, Паслена. Сегодня он пребывал в облике рогатого полузверя ростом вдвое выше человеческого, и пиршество обещало быть на редкость буйным.
– Значит, Медичи затевают войну? – спросил Оберон, устремив взор вдаль.
– Воистину. Их младший, Фердинанд, затеял тяжбу за тосканский трон со старшим.
– А-га, а Фердинанд женат на племяннице Арагона, и значит, Педро опять начнет бряцать саблей и швыряться громкими словесами, хотя на деле ему нет ни малейшей заботы, кому принадлежит этот трон.
– А герцог Франческо женат на племяннице Орсино, – добавил Паслен, блеснув ничего не выражающими черными глазами в багровом свете луны, – и потому Иллирия также вступит в этот спор, – он плотоядно усмехнулся. – Говорят, оба братца назойливо докучают Миланскому Волшебнику, но ни один пока не добился своего.
– А что Франция?
– О, Генрих не станет ввязываться. Он, как всегда, позволит своим лордам драться на любой из сторон, кому какая по нраву, взыскуя чести и славы.
Царь фей воздел руки, расплескивая из кубка вино.
– Так что же, в драку вступит весь мир? – спросил он.
Гоблин с ухмылкой качнулся на пятках.
– Разве война не есть основа естества смертных?
– Это верно, – мрачно согласился Оберон, протягивая пустой кубок одному из слуг-виночерпиев. – Что ж, благодарю тебя за твой доклад, мой добрый Паслен. Ты можешь возвращаться к своим обязанностям.
– Но, мой повелитель… – осмелился возразить Паслен.
– Да, гоблин? – поднял бровь царь фей и эльфов, изумленный дерзостью своего слуги.
– Сдается мне… Серениссима[14] примет сторону Арагона. А ваша царица все еще пребывает в Иллирии, где обхаживает Орсино…
– Вот как? И что же?
– Мой повелитель, царству фей и эльфов лучше всего не ввязываться в войну смертных.
– Х-ммм… – задумчиво протянул Оберон. – Ты прав. Выбери дюжину эльфов и фей из самых добропорядочных и отправь их с посольствами ко дворам смертных. Пусть эти посольства послужат призывом к миру.
Швырнув только что наполненный кубок на мягкий мох, Оберон поднялся на ноги и тяжко вздохнул.
– А я пойду, поговорю с супругой…
Коралловые кости
Отец твой спит на дне морском.
Кораллом стали кости в нем.
Два перла там, где взор сиял.
Он не исчез и не пропал,
Но пышно, чудно превращен
В сокровища морские он[15].
Акт I
ОТЕЦ МОЙ ЛЖЕТ
Неаполь, 1580 г.
– А ты знаешь, что он усыпляет тебя? – сказала тогда Ариэль, отпихнувшись воздушными пятками от близлежащего валуна. В тот день она приняла женский облик. – Когда ты надоедаешь ему. Он погружает тебя в сон.
– Знаю, – ответила я, и безмятежность на ее лице сменилась печалью. – Но разве не спят все приличные дети? Разве не спят все живые существа?
– Спят, – согласилась Ариэль. – Но по-другому.
Горячка колотит, трясет, словно буря – корабль. Мне ее не одолеть. Бред кружит меня, точно водоворот, сужая и сужая круги, еще, и еще, и еще, но никак не может снять мое тело с якоря, оторвать его от этой проклятой пульсирующей боли. Лекарь говорит: выкидыш ветренен и ненадежен, чуть что – предаст, точно жена, точно женщина, однако я чувствую себя скорее преданной, чем предательницей. А, может, правду говорят, что я, как Калибан – попросту дикое, чудовищное создание с зубами, рыжими, как и мои волосы – рыжие-рыжие, ярко-красные. И простыни мои красны, и я верчусь на них в горячке, и тело мое покрыто коркой едкой, сладкой соли, никогда не знавшей моря.
– Она будет жить? – спрашивает Фердинанд. Он вне пределов моего взора, но не слуха. Нарочно, или всего лишь волею случая?
– Возможно, – уклончиво отвечает лекарь. – Во время беременности плодные воды должны защищать мать от нечистых жидкостей, но в данной ситуации, когда воды отошли…
Я, скорее, чувствую, чем вижу взмах его руки.
– Она весьма уязвима, – понижает тон, но не громкость голоса. Кашляет. – Хоть вам и больно будет слышать это, мой повелитель, но наблюдается следующая взаимосвязь: женщинам, скудно питавшимся в детстве, весьма тяжело вынашивать и собственное потомство. Взращенная же на необитаемом острове…
– Взращенная волшебником, Чезаре. Взращенная герцогом и мудрецом в одном лице.
– Мудрецом… Волшебником, который, по собственным же словам, не способен наколдовать еды, неважно, сколь чисты его намерения… Хм! Мой повелитель, я вовсе не хочу оскорбить принцессу Миранду – она, безусловно, прекрасна. Но при этом – узка в бедрах и мала ростом. То есть, лишена телесных запасов, которые помогли бы ей оправиться от горячки. Если же горячка не прекратится… я опасаюсь самого худшего. И даже если жизнь принцессы удастся спасти… – Фердинанд отчетливо сглатывает. – Даже если жизнь принцессы удастся спасти, вам следует учесть, что вероятнее всего, в будущем ее ждет бесплодие. Мой опыт гласит, что скудость питания в детстве чаще всего ведет именно к этому.
– Бесплодие? Вправду?
Голос Фердинанда бесцветен от ярости, и в этот миг я ненавижу его, как никого на свете, даже больше, чем самых жестоких из придворных дам.
«Два перла там, где взор сиял», – пел некогда мой Ариэль, и, вспоминая об этом, я смеюсь сквозь собственную ненависть. Перл моей женственности в глазах Фердинанда представлял собою все; взыскуя драгоценной жемчужины, он отворил мою непорочность, словно раковину, и теперь я чахну, чахну, угасаю, охваченная горячкой, тощая, рыжеволосая, раскрасневшаяся от жара…
– Шевельнулась! Смотри же, Чезаре!
– Вижу, ваше высочество! О! Позвольте, я подам ей воды.
Прижимает край чаши к моим губам. Но я не пью.
– Наверное, тому есть причина! – поджав по-детски тонкие колени к подбородку, я задумалась над этой загадкой. – В конце концов, какая же жуткая сосредоточенность требуется, чтобы усыпить каждую рыбу в море, каждого муравья, воробья и мышь… Хотя, быть может, он погружает их в сон не по отдельности, а группами?
Ариэль покачала головой. Ее облик в точности повторял мой, вот только волосы вокруг ее – хотя, скорее, моего… ну, пускай нашего – лица колыхались медленно, словно водоросли в глубине неспешно текущих вод.
– Тогда спит ли сам отец?
В силу моей же собственной логики следовало предположить, что должен, хотя я ни разу не заставала его спящим.
– Он спит, когда спишь ты, чтоб ты не могла разбудить его.
– Разбудить? – я озадаченно сморщила нос. – Но как он может проснуться раньше времени, пока еще не готов? Сон действует совсем не так.
– Естественный сон действует именно так.
– Не верю.
– Доказать?
– Докажи, если сможешь, – дерзнула я бросить ей вызов. В те времена я часто осмеливалась на такое.
Стоило лишь моргнуть – и они ушли. А может, не просто моргнуть; мое сознание, как и тело, трясет лихоманка, и полагаться на него нельзя. Гляжу в сводчатый каменный потолок, на нарисованных ангелов. Поднимусь ли и я на небо, когда умру?
Движение подле постели. Легкое дуновение воздуха, сгустившегося на грани света и тени…
– Миранда?
Голос мой, но все же не мой.
Значит, наш.
– Ариэль?
Поворачиваю голову, и вот она – вернее, я – вернее, мы, хотя она в моем облике не охвачена горячкой и вполне здорова. Лишь нимб ярко-рыжих волос сияет пламенем вокруг ее – моего, нашего – лица.
– О, бедное дитя… – полупрозрачная ладонь скользит по моему лбу. – Мне так жаль. Не стоило оставлять тебя здесь. Я бросила тебя.
– В том нет твоей вины. Ведь я сама хотела сюда. Я думала… – в горле совсем пересохло, и я умолкаю, дрожа и покрываясь испариной от нового приступа боли. – Мне и в голову не приходило, что все будет так.
– Откуда же тебе было знать? Ведь ты совсем не знаешь мужчин.
Веки сомкнулись сами собой.
– Знала. Кое-что.
– Кое-что, – негромким эхом откликнулась Ариэль. – Но все же… Совсем недостаточно.
***
В ответ на мой вызов Ариэль превратилась в леопарда – по крайней мере, приняла облик зверя, которого я полагала леопардом без какой-либо связи с настоящими леопардами – и пригласила меня сесть на нее верхом. Ее мягкая полупрозрачная шкура переливалась причудливыми голубыми узорами, словно пламя костра, разведенного из просоленного морем плавника. Голос ее сделался низким, рокочущим.
– Ни звука, – сказала она, поднимаясь в теплую высь, и понесла меня вперед, к зеленому сердцу острова. Вскоре мы отыскали семейство мышей, спавших, прижавшись друг к другу, в изгибе древесного ствола. К моему удивлению, зверьки проснулись, встрепенулись и негромко запищали, стоило лишь легонько погладить их.
Мышки были просто очаровательны, мне стало очень жаль, что я потревожила их, и, мчась обратно к берегу на спине Ариэль, я сообщила ей об этом. Но Ариэль заверила, что мыши вновь уснут, стоит лишь нам уйти. Без всякого волшебства!
– Зачем ты вернулась, Ариэль? Отчего именно сейчас?
– Сначала я была занята. Дела малого народца… Я слишком задержалась на нашем острове, дитя мое, и должна была вернуться ко двору Титании – испросить прощения, выказать почтение, принести дары… Мне надлежало доложить о себе и объяснить свое отсутствие. Но после… – она умолкла и отвела взгляд. – После мне стало совестно. К тому же, у меня была пусть невеликая, но надежда; я думала, что со временем ты изменишься, и все будет хорошо.
– Возможно, я смогла бы измениться. Но ведь они остаются прежними, а потому и я не могу. А если бы и смогла, в этом не было бы никакого проку.
Ариэль не стала спрашивать, кто такие «они». Это было ясно и без слов.
– Ты его любишь? – негромко спросила она.
– Смотря с чем сравнивать.
Ответ звучит жестче, чем мне хотелось бы – боль вгрызается в меня, точно пила, и оттого слова вырываются наружу едва ли не с яростью. От отца я знала, в чем состоят добродетели женщины, и когда к острову подошел корабль – когда к нам явился Фердинанд и у меня, наконец, появилась аудитория, – воплотить их оказалось на удивление просто, словно и тело и чувства только и ждали удобного случая. Но мир, в котором это вышло так легко, был мал и без прикрас прост, и отличался от моего нового положения, точно ракушка от сапфира. Так что, если и существует женщина, воплощающая в себе все эти добродетели, это уж точно не я; и никого похожего здесь, где каждый мой шаг пристально разглядывают в поисках проявлений варварства, нет.
– По сравнению с тем, как я когда-то любила отца? Или с тем, как я должна бы любить саму себя? Нет! – слезы текут по щекам. – Нет и нет, и теперь здесь поздно что-либо менять.
– И не надо! – Ариэль опускается на колени – вернее, меняет свой воздушный облик так, будто стоит на коленях. – Миранда, ты вполне можешь покинуть это место. И отправиться, куда захочешь.
– Я? Одна? Женщина? О которой все знают, что она отвергнута, или бесплодна, или бежала от своего законного властелина? Которую отец в любом случае потащит обратно домой? Ну и выбор ты предлагаешь! Куда ни кинь – жемчужина, что сделает нищего богачом!
Рука Ариэль скользит по щеке прохладным дуновеньем, и ясность рассудка возвращается – словно вуаль падает на лицо.
– А что, если… – начинает она, но тут же умолкает. На острове у меня не было настоящего зеркала, но за последний год я привыкла к чертам своего лица достаточно, чтобы узнать выражение страха, тоски и недоверия. – Что, если они подумают, будто ты мертва?
– Естественный сон, как вся естественная жизнь, непрочен, – басовито промурлыкала леопард-Ариэль, опускаясь на песок. – Помни об этом, Миранда.
– Хорошо, но что значит «непрочен»?
Ариэль молча лизнула лапу и принялась умываться. Наконец ухо ее дрогнуло, и она разом стала девушкой, такой же как я, наматывающей на палец локон.
– Это значит, что он небезопасен и переменчив. Словно песчаная отмель, движущаяся по воле волн.
Я кивнула: в отмелях я разбиралась прекрасно. И тут мне невольно пришла в голову странная мысль.
– Мыши зашевелились, когда я погладила их, – заговорила я. – А я шевелюсь во сне?
– Нет, – ответила Ариэль. – Что с тобой ни делай, ты лежишь неподвижно.
– О-о, – протянула я. – Наверное… наверное, это хорошо, – кожа странно похолодела. – Это ведь хорошо, Ариэль?
Глаза ее в точности повторяли мои, но казались много старше.
– Не обязательно, – ответила она.
– Почему?
– Все зависит от того, что именно с тобой делают.
– Есть одно заклинание, – продолжает Ариэль, не дождавшись от меня ответа. – Наподобие волшбы, разве что самую чуточку посложнее. Все, кто знает, что ты здесь, будут считать, что ты умерла от родильной горячки. Которую я, в любом случае, в силах исцелить, – поспешно добавляет она. – Ты не умрешь, Миранда, уж в этом-то я тебе клянусь. Но, если хочешь…
– Да, – говорю я с облегчением, словно извергая из себя отраву.
Не знаю, куда я отправлюсь, если Ариэль согласится отвести меня или хотя бы предоставит шанс бежать, но здесь я оставаться не могу. По сравнению с этим дворцом мой остров вовсе не был дик.
Во дворцах обитают такие чудовища…
Акт II
ГЛУБИНЫ ЛЖИ
– Откуда ты взялся, Ариэль?
– Из двора Титании, царицы фей и эльфов, – ответил он.
В тот день он пребывал в обличье мальчика – по крайней мере, так сказал он сам. Мне не с чем было сравнивать, оставалось лишь верить ему на слово. Глядя вдаль, он рассеянно почесывал тощее, ободранное колено.
– Нет, я не о том. Откуда ты взялся? Как появился на свет?
Ариэль сузил глаза. Они и без того были узки, с крохотными морщинками в уголках, кожа – цвета мокрого песка, а волос не было вовсе – только темная колкая щетина. Наверное, Ариэль позаимствовал этот облик так же, как заимствовал мой, но чьим он был изначально, я не знала.
В то время я еще многого не знала.
– Ты спрашиваешь обо всем дивном народце или именно обо мне? – уточнил он. – Или о происхождении всех живых существ вообще?
– Разве ответы разные?
– Даже отдаленно не похожи.
Это не на шутку удивило меня.
– Правда?
– Правда.
– Тогда приведи пример. А еще лучше – покажи!
Снадобье Ариэль – панацея, что лечит от всех хворей – на вкус точно мох и сумерки. Оно царапает горло, будто комок сухой земли, проскальзывает внутрь, ледышкой оседает в желудке и источает прохладу, успокаивая жар, а с ним и мысли, и чувства. Вновь гляжу вверх, на ангелов, нарисованных на потолке, и думаю, как же мало ангельского во мне, решившейся оставить отца и мужа в убеждении, что я мертва. Но если я останусь здесь…
– Я просила их учить меня, – обращаюсь я к золотистой дымке, в которую превратилась Ариэль. В ответ дымка взвихряется маленьким смерчиком, мерцает и искрится, в такт волнам приятной прохлады внутри меня. – Мы прибыли сюда, и мне захотелось заняться науками. И Фердинанд помог – поначалу. Решил – и, наверное, был прав, – что девушка, выросшая на необитаемом острове и желающая учиться, – это оригинально. Но я не стала ограничивать интересы теми науками, которые устроили бы его – мне хотелось изучать физиогномику, астрономию, историю, а не только музыку и хорошие манеры, – и его стремление учить меня тут же угасло.
Поднимаюсь с постели. Как давно я не чувствовала в себе столько сил! Наколдованная Ариэль ванна уже ждет. Опускаюсь в воду – засохший пот и запекшаяся кровь струпьями сходят с кожи.
О Фердинанде, о потерянном ребенке, о его рождении – ни слова. К этому я еще не готова.
Не сейчас.
После.
Отмывшись дочиста, облачаюсь в одежды, выбранные Ариэль – краденые, мальчишечьи – туго перевязываю грудь, прячу волосы и удивляюсь сама себе: ведь я совсем не боюсь. Вернее, боюсь, но вовсе не того, что впереди – не неизвестности и уж конечно не Ариэль.
– Готова? – спрашивает Ариэль.
Она снова в моем обличье – лишь след золотой дымки, запутавшись в волосах, клубится, поблескивает, точно нимб.
– Да, – отвечаю я, хоть и не знаю к чему.
Кончики ее пальцев касаются моей головы. Чары ниспадают на меня, точно невесомые хлопья пепла, и я исчезаю.
– Вот, смотри. – Ариэль указал на яйца. Три круглых предмета в бледной скорлупе, каждый – размером с небольшой плод, тесно прижаты друг к другу на дне птичьего гнезда. – Из них вылупятся птенцы козодоя. Мать откладывает яйца, а уж птенцы вылупляются из скорлупы сами.
Сегодня – никаких полетов верхом на леопарде. Мы вместе вскарабкались на дерево, совсем как обычные дети, хотя обычная девочка из нас лишь одна. Скорлупа яиц теплая на ощупь, и, пока мы лезли вниз, кончики пальцев хранили ощущение от прикосновения к ней.
Мы молчали. Ариэль преподавал мне урок, а молчание наше было одним из тех проявлений дружбы, которые легко ветшают от частого использования.
На краю большой лужи, оставленной отливом, Ариэль опустился на корточки. Взгляд его темных глаз зашарил по дну в поисках подходящего примера.
– Вон там! – объявил он. – Видишь ее?
– Морскую звезду? – уточнила я.
– Да-да! Вот необычные создания! Если отрезать любой из лучей, он не только отрастет обратно – оторванный луч вырастет в целую новую морскую звезду. А вот и ее сосед, морской конек – вон, видишь?
Сощурившись, я перевела взгляд.
– Тот – толстый, полосатый?
– Именно! – лучезарно улыбнулся Ариэль. – Он в тягости, но при том – самец. Когда настанет время, малыши, морские жеребята, вырвутся из кармана в его брюхе стайкой и поплывут, точно облачко пушинок одуванчика на ветру.
Любой другой ребенок не поверил бы ему, но я росла на острове одна и даже не представляла себе, как все это отличается от обычного порядка вещей.
– Значит, и мой отец – все равно, что морской конек? Ведь я рождена от него?
– Да, ты рождена от него, но не так, – ответил Ариэль неожиданно серьезно. – Вас, людей, рожает мать…
– Как птенцов козодоя?
– Да, но вы появляетесь не из яиц. Вы растете в лоне матери, внутри ее тела, а когда подрастаете достаточно, она выталкивает вас наружу, во внешний мир.
Тут я нахмурилась.
– Если у меня есть мать, то где же она? Почему ее нет здесь, с нами?
– Это может сказать твой отец, но не я.
– Потому, что не знаешь?
Ариэль вздохнул и качнулся на пятках.
– Нет. Потому, что он запретил.
***
– Отведи меня ко двору Титании, – внезапно говорю я.
Ариэль замирает.
– Тебе там не понравится.
– Отчего же?
– Ты только что сбежала от одного двора! – Ариэль машет рукой в сторону оставшегося позади дворца – его застывшие серые контуры темнеют на фоне вечернего неба. – Зачем менять его на другой?
– Потому что… – начинаю я и умолкаю, пытаясь обдумать свой выбор, хотя его очарование и ставит под угрозу хоть сколь-нибудь рациональную оценку его возможных последствий. – Куда еще мне идти? Я хочу учиться, посвятить себя наукам, а здесь, под властью покровителя-мужчины, это невозможно. Сама можешь судить, насколько все плохо – ведь, чтобы уйти из-под надзора мужа, я… – горло вдруг перехватывает. – Я решилась притвориться мертвой.
– Я думала, – негромко говорит Ариэль, – что ты, возможно, захочешь вернуться обратно на остров.
В изумлении таращусь на нее.
– С тобой?
– Возможно – если захочешь. А не захочешь, возвращайся одна… – Ариэль вздыхает, плечи ее каменеют, взгляд устремляется в сумрак мира. – Я до сих пор летаю туда, и довольно часто. У нас с Калибаном нечто вроде уговора. В конце концов, мы оба были там пленниками.
От звука этого имени неожиданно больно.
– Когда-то я его ненавидела. А потом – жалела.
– А сейчас?
– А сейчас все поняла. Он был лишь чужим отражением, Ариэль… – горечь этих слов слишком сильна, и мне не удержать ее. – И все его страсти и вожделения были лишь подражанием. Притворством. Не более того.
Умолкаем, но уюта и покоя в этом молчании нет.
– Отведи меня ко двору Титании, – снова прошу я, когда ко мне возвращается голос. – Вся жизнь моя, не считая последнего года, прошла среди магии, и там хотя бы не нужно будет скрывать этого, – смотрю на Ариэль и улыбаюсь. – Возможно, я даже отважусь быть самой собой – кем бы я ни была, когда ты не носишь мою личину.
Ариэль вздрагивает.
– Прости. Я могу превратиться в…
– Нет. Не надо, – кладу руку ей (мне) на плечо, нежно сжимаю его. – Я вовсе не это имела в виду.
Снова молчание, но теперь в нем нет напряженности. Мы словно заново привыкаем друг к другу.
– Я не могу отвести тебя туда, – наконец нарушает молчание Ариэль. – Нет, не оттого, что не хочу. Просто у меня дела – дела, которые я отложила ради твоего спасения, но мешкать с ними дальше непозволительно.
Непреклонно вскидываю подбородок.
– Тогда я отправлюсь туда сама.
Ариэль внезапно смеется – гордо и довольно.
– Как, в Иллирию? В такую даль, одна? Что ж, почему бы нет. Однако позволь хотя бы дать тебе провожатого. Он представит тебя должным образом. Волею случая один мой друг как раз сейчас направляется туда. Он, надо заметить, бесовски проказлив, но при том не бес, если тебе это важно. С ним ты будешь в безопасности и уж точно не заскучаешь в пути – иначе я буду не я.
– Ты будешь… – умолкаю: это чепуха, пора сосредоточиться на главном. – Кто же он, в таком случае? И где мне его найти?
В ответ Ариэль на миг сжимает кулак, а когда вновь разжимает пальцы, на ладони ее, точно в гнездышке, сидит крохотная красногрудая птичка. Перья ее взъерошены от холода, глаза ярко светятся в сумерках. Нетерпеливо чирикнув, она стрелой взмывает вверх, оставляя в воздухе за собой едва различимый фосфорически мерцающий след.
– Идем, – командует Ариэль.
Вдвоем мы следуем за птичкой. Невидимые, неслышимые, неузнанные минуем городские ворота и выходим на пыльную дорогу. Слишком далеко обогнав нас, птичка описывает круг, возвращается и нетерпеливо чирикает на нас. Идем через холмы, заросшие вереском, через горные хребты и скалы, сквозь заросли деревьев – и оказываемся на небольшой полянке в самой гуще леса. В импровизированном очаге посреди полянки приветливо потрескивает огонь, а у огня сидит человек – длиннорукий, длинноногий, пара маленьких рожек выглядывает из тугих кудряшек на голове.
Ступаем на полянку – и птичка с радостным щебетом устремляется к нему. Он поднимает взгляд – одновременно удивленный и радостный – и хохочет: птичка устраивается на кончике его рога. Чирикнув на прощанье, наш провожатый исчезает, рассыпавшись облачком искр.
– Ариэль! – восклицает сидящий у огня. – И – что это? Человеческое дитя?
– Рада встрече, Пак, – с улыбкой отвечает Ариэль.
Внезапно смутившись, следую за нею. Ариэль усаживает меня к огню и жмет руку Пака. Тот отмечает общность наших черт и с любопытством рассматривает меня.
– Это Миранда, – продолжает Ариэль. – Моя подопечная с безлюдного острова.
– Та самая? Ишь ты, а я-то думал, все это – сказки! Ну, если не все, то наполовину. – Подается вперед, опершись на ладони, и улыбается мне – от уха до уха. Светлая кожа его золотиста и тепла на вид, мелкие кудряшки шевелюры отливают медью в отблесках огня. – Воистину рад встрече, хоть и понятия не имею, что тебе могло занадобиться от меня.
– Она хочет ко двору Титании, – говорит Ариэль. – А я хочу, чтоб ты взял ее с собой.
– Так ты его спрашивала? – Ариэль вновь в облике леопарда, но самца или самки – мне было не понять. – О своей матери?
Нахмурившись, я опустилась на камень. Мысли спутались. Я вдруг почувствовала себя странно – легко и опустошенно, волоски на руках поднялись дыбом.
– Не знаю, – медленно ответила я. – А зачем? Разве нужно было?
Усы леопарда заходили ходуном.
– Ведь ты же начала расспрашивать – и на тебе! Передумала?
– Пере… думала?
– Миранда! С тобой все в порядке?
– Не знаю, что и сказать… – я было обхватила колени, но тут же разжала руки – голова леопарда легла на них, а бархатистые лапы вытянулись вдоль моих бедер. – Я чувствую себя как-то странно. О чем я должна была спросить?
– О твоей матери.
– У меня есть мать?
– Да.
– О. Должно быть, это здорово.
Ответом мне было досадливое фырканье:
– Если бы не этот запрет…
– Ничего. Все в порядке.
– Нет, Миранда. Ты прекрасно знаешь, что нет.
– Вот как?
– Знаешь. И прежде знала.
– Но все же… – усевшись рядом, мы оказались лицом к сумеркам, сгущавшимся над океаном. – Вечер такой прекрасный, разве нет?
На сей раз ответа вовсе не последовало.
– Ты хочешь, чтобы я – я! – отвел это дитя ко двору царицы Титании?
– Именно.
Пак, не мигая, таращится на Ариэль.
– Должно быть, ты позабыла, зачем меня призывают ко двору? – поворачивается ко мне и криво усмехается. – Сейчас я у царицы Титании не больно-то в чести.
– Отчего на сей раз? – с веселой улыбкой спрашивает Ариэль.
– Ты и сама знаешь.
– Зато Миранда не знает.
– Так Миранда и не спрашивает.
Оба глядят на меня. Щеки мои розовеют. Не знаю, смеяться мне или бежать, но не могу устоять перед соблазном новых знаний:
– Отчего же царица Титания разгневана на тебя?
– Есть на то причина, – отвечает Пак. – Я – доверенный посол царя Оберона – по крайней мере, один из таковых – и, раз уж кое-кто из свиты царицы взял на себя смелость высмеять меня в этом качестве, я взял на себя смелость заставить их об этом пожалеть.
– Пак хочет сказать, – поясняет Ариэль, – что заставил Мотылька влюбиться в черепаху, а Горчичное Зерно привязал волосами к иве, и оба они не сумели понять его юмора. Вот царь Оберон и послал его заглаживать вину – возмещать ущерб их чести и чести двора царицы Титании.
– В точности так, – соглашается Пак. – Я в опале, пусть моя проказа и не заслуживает этакой немилости, и – убей, не пойму, что проку Миранде в моем покровительстве.
– Ты просто смотришь на вещи не с того конца, – возражает Ариэль. – Для царицы Титании ее приверженцы – и их дары – священны. Ты приведешь к ней Миранду, и это будет расценено как проявление верности – и, кстати, раскаяния – с твоей стороны, ведь ты с легкостью мог бы отвести ее к царю. Так что, глупый проказник, твой позор не падет на Миранду. Напротив, она поможет тебе смыть его.
– Да ты тонкий политик, – улыбается Пак. Рот его полон игольно-острых зубов точно у глубоководной рыбы. – Но с чего бы, скажи на милость, тебе оказывать мне подобную услугу?
– Я оказываю услугу не тебе, а Миранде, – устало, но терпеливо объясняет Ариэль. – Ты не хуже моего знаешь все эти правила, которыми окружено явление людей ко двору фей: они должны добираться путями смертных, не пользуясь волшебными дорогами. У меня просто нет на это времени, а тебе, кающемуся грешнику, все равно. Так будет даже убедительнее.
– Час от часу не легче, – ворчит Пак. – У меня ноги болят!
– Мое сочувствие не знает границ.
– Да уж, у тебя все, что ни возьми, не знает границ.
Мне становится смешно. Смех вырывается наружу, словно стайка вспугнутых птиц взлетает над купой деревьев. Как странен этот дивный народец! Однако их пикировка доставляет мне истинное наслаждение – не меньше, чем новообретенная жизнь без боли и постоянного надзора, неожиданная свобода, которой я жаждала целый год.
– Так ты возьмешь ее с собой?
– Ох, Ариэль, Ариэль, лучший из духов! Мой драгоценный воздушный друг! – Пак с улыбкой качает перед собою поднятым пальцем. – Как можно быть таким прозрачным? Я же вижу тебя насквозь! По собственным твоим словам, услугу я окажу тебе, поскольку это дитя тебе дорого, но присмотреть за ним недосуг. Да, песнь о том, как мне умилостивить твою царицу, убедительна, но все же – думаю, ты поймешь меня верно – взяться за твое дело без торга будет против моего естества.
Ариэль подняла лицо, точно взывая к небесам.
– Так давай заключим сделку. Чего ты хочешь от меня?
– Можно заключить сделку с тобой, – Пак стреляет взглядом в мою сторону. – А можно и с ней.
Сердце тревожно бьется в груди, но голос мой тверд:
– Какую именно, сэр?
– Миранда… – предостерегающе начинает Ариэль, но хохот Пака обрывает ее на полуслове.
– Поскольку благородный Пак славен великодушием, выбирай сама, дитя мое. Что предпочтешь ты – случай, сноровку или обмен?
Голос дрожит, но на самом деле мне не страшно.
– А в чем разница?
За Пака отвечает Ариэль:
– «Случай» означает ставку в игре, где все зависит от удачи – если проиграешь, он не возьмет тебя в попутчицы. «Сноровка» – тоже игра, исход которой зависит от… от сноровки и ловкости – и он, опять же, не возьмет тебя с собой, если проиграешь. «Обмен» означает, что и ты со своей стороны предложишь ему что-либо ценное – скорее всего, услугу – в обмен на его помощь. Хотя, конечно, – она вновь обжигает взглядом Пака, – тут придется поторговаться.
– Что же мне предложить? У меня есть несколько монет, но… – встречаюсь взглядом с Паком. В глазах его мерцают огоньки. – Мне отчего-то думается, что подобные ценности тебе ни к чему.
– Именно так, – соглашается Пак.
Однако моя рука все же тянется к мошне на позаимствованном у кого-то поясе. Наверное, в мужском платье я должна бы чувствовать себя неловко – как же не устыдиться столь вопиющего греха? Но я ведь и без того чудовищна и безобразна, и на любой возможный упрек во мне найдется подходящая черта.
– Что же нужно тебе, – спрашиваю, – если не деньги?
– Память, – отвечает он. – Или же…
Но продолжения я не слышу. Страх тащит меня вниз, в глубину, словно отлив.
Звезды в небе меркнут, исчезают…
Я глядела и глядела на стену пещеры – на нацарапанные на ней письмена, неровные буквы, белевшие на темном камне.
– Не помню, – шепнула я. – Я не понимаю, что здесь написано, Ариэль. Почему?
Ариэль в облике белой волчицы прижалась боком к моей ноге и заскулила.
Опустившись на колени, я зарылась лицом в ее мерцающую шерсть – мягкую, подернутую рябью, колеблющуюся, будто лепестки актинии в токах невидимого подводного течения.
– Он боится тебя, – объяснила Ариэль. – Такова уж натура волшебников – их тяга к знаниям превыше жажды общения. Он боится того, как ты можешь распорядиться знанием, овладев им.
– И потому крадет его у меня. Снова и снова. Как вода точит камень.
Ариэль вновь заскулила – тоскливо, басовито.
– А что, если он тоже придет сюда? И сотрет со стены все?
Полагаться на память я не могла, и потому записывала здесь, на стене пещеры, все, что извлекала из бесед с Ариэлем и из рассказов отца о большом мире за горизонтом.
– Я буду помнить все это за тебя, – отвечала Ариэль с яростью волчицы, защищающей своего щенка. – И помогу записывать это снова и снова – как волна за волной намывают песчаную отмель.
В голове всплыли обрывки воспоминаний, и я поперхнулась от смеха.
– Ариэль, ты сама говорила: песчаные отмели небезопасны и переменчивы.
Мокрый нос ткнулся в шею над воротом.
– Верно, – согласилась она. – Однако, поместив отмель в нужное место, можно утопить огромный галеон. Запомни и это.
– Запомню, – прошептала я. – Если он позволит.
– Не онемела ли ты, дитя мое? Что с тобой?
Мягкая ладонь гладит по спине. Поднимаю веки, и в глаза льется свет очага. Свет теплый, воздух – тоже, но в горле холодно, точно в брюхе сырой рыбины.
– Память не отдам, – хриплю я. – Даже за корону самой Титании.
Ладонь – конечно, принадлежащая Ариэль – продолжает гладить спину.
– Ну конечно, нет, – виновато бормочет она. – Прости меня. Я не подумала…
– Тут нет твоей вины.
– Миранда…
– Миранда? – внезапно говорит Пак, как будто только что узнал меня. Лицо его проясняется, затем мрачнеет – словно солнце прячется за облака. – Так ты та самая Миранда, дочь герцога Просперо…
Что-то внутри твердеет.
– Я не просто дитя своего отца!
– Ясное дело, раз уж ты здесь, – Пак смотрит на Ариэль едва ли не в раскаянье. – Дети – они ведь все одинаковы. Ты сказала, что это – твоя подопечная с безлюдного острова, а я знал о возвращении Просперо, но не связал одно с другим.
– Теперь связал, и что это изменит?
– Возможно, что-то и изменит, – соглашается Пак. – Однако ж…
– «Однако ж»… – глумливо фыркает Ариэль. – Так продолжай же. Вернемся к твоей… сделке.
Пак оценивающе смотрит на меня. Взгляд его тяжел, но, в отличие от взоров некоторых мужчин при дворе Фердинанда, в нем нет шипов похоти или пренебрежения. Крупицы моей души текут сквозь его взгляд, точно песчинки в песочных часах.
– Миранда, – говорит он, – из уважения к твоей проказе, бегству от мужа, я послужу тебе защитником, провожатым и другом. В уплату же возьму не более и не менее, как цвет твоих волос.
Недоуменно моргаю.
– В буквальном смысле, сэр, или же в фигуральном?
Пак восторженно хохочет.
– В буквальном, милое дитя. И в будущем, имея дело с волшебным народцем, держи ушки на макушке, не упускай возможных лазеек в условиях сделок! Так как же? Есть ли меж нами согласье?
Волосы спрятаны под шапкой, и я не вижу их, но Ариэль все еще в моем обличье – копна ее рыжих, ярко-красных волос вьется вокруг наших щек, скул, подбородка, словно львиная грива. Вспоминаю окровавленные простыни (красные-красные), горечь от утраты своего первенца, и думаю, что уж чем-чем, а рыжиной вполне могу поделиться.
– Да, – отвечаю я и протягиваю руку, как подобает джентльмену, но совсем не подобает леди. Мысль поражает внезапно, словно молния: «Но ведь, возможно, я – и то и другое? И в то же время – ни то ни се?»
– Идет, – говорит Пак, скрепляя наш договор рукопожатием. Его ладонь тепла, и волшебство, источаемое ею, щекочет кожу, словно шелковая нить. В пространстве между сомкнутыми ладонями как будто разгорается искра. Жар ее нарастает, и я бросаю взгляд на Ариэль.
– Ах!
Свободная рука взлетает к губам. Я вздрагиваю и улыбаюсь сквозь пальцы, но сдерживаю смех: рыжие волосы Ариэль становятся белыми, как снег, блекнут в такт пульсаций Паковой волшбы. И брови, и даже ресницы ее белеют, и в голову мне приходит мысль: обнаружу ли я, раздевшись в следующий раз, и прочие, более интимные перемены? (Наверное, эта мысль, как и многое другое, должна вогнать меня в краску. Но не тут-то было.)
Последний волосок на голове Ариэль становится белым, и что-то толкается в сомкнутую ладонь изнутри. Пак удовлетворенно ворчит и осторожно разжимает пальцы.
– Вот, – говорит он.
На его раскрытой ладони… Нет, не птица, как можно ожидать после недавнего фокуса Ариэль, а красный с рыжим отливом камень, сверкающий, точно опал, и идеально круглый, как совиный глаз. Казалось, он бьется, как крохотное сердце, но я моргаю и прежде, чем вновь раскрываю глаза, Пак прячет его в карман и проказливо ухмыляется.
– Отныне я официально к твоим услугам, – объявляет он, склоняя передо мной свои рожки и отвешивая поклон, какого не удастся повторить и самому искушенному из придворных.
– Ну наконец-то! – восклицает Ариэль. Тело ее подергивается рябью, и моя копия принимает облик леопарда, переливающегося голубым. В этом кошачьем обличье она бодает бархатистой макушкой мои дрожащие пальцы и негромко мурчит на прощание. – Увидимся, когда я покончу с делами.
Горло странно сжимается.
– Я знаю.
– Я буду искать тебя при дворе Титании. А если не найду… – подмигивает Паку, предостерегающе грозя кончиком хвоста. – А если не найду, то буду знать, на чьей совести грех.
– Тогда я буду, как всегда, безгрешен, – отвечает Пак с поклоном не менее изысканным, чем тот, каким он одарил меня.
Ариэль издает рык, означающий, как мне известно по опыту, крайнюю степень раздражения, бросает на меня прощальный взгляд, разворачивается и взмывает в воздух. Ее силуэт постепенно растворяется в последних проблесках вечерней зари и исчезает из виду.
– Не могу я так больше.
Ариэль обняла меня, прижавшись лицом к моему затылку. Она вновь приняла мой облик – это все больше и больше входило у нее в привычку, и вместе мы выглядели, словно двойняшки. Порой, когда поблизости не было отца, мы и спали в таком виде. У нас это называлось исследованием сна естественного – то есть такого, в который погружаешься без помощи волшебства и без волшебного принуждения.
Мне очень понравилось видеть сны.
– Прости, Миранда, – прошептала Ариэль. – Ты ведь знаешь: если б я только могла… если б не этот запрет… я обязательно, обязательно помогла бы тебе.
– Не волнуйся, – ответила я, закрывая глаза. Темнота, наступавшая по моей собственной воле, совсем не пугала. – Есть план.
Акт III
ИСЧЕЗЛА? ДА, НО НЕ СОВСЕМ…
– Вот правила, которых должен держаться служитель двора, – объясняет Пак, размахивая руками на ходу.
Солнце немилосердно палит наши спины, да еще моя голова – ослепительно-белая, что подтверждает отражение в подвернувшейся нам на пути дождевой бочке – укрыта шапкой, а его – обнажена. Пак говорит, что волшба скрывает его рожки от всех человеческих глаз, кроме моих. Нет, ему и в качестве лесного духа нечего опасаться, ведь и самый отъявленный буян поостережется обходиться с духом неучтиво, однако Пак дорожит своим инкогнито – похоже, из озорства.
– Ты меня слушаешь, Миран?
Пожалуй, имя не совсем мужское – по крайней мере, в таком варианте, – но все же, подобно туго перевязанной груди и позаимствованным штанам, хоть как-то помогает скрыть истину. К тому же, несмотря ни на что, оно мне нравится.
– Слушаю, – отвечаю я.
– Чудесно. Правил этих три – мы, духи, любим троицу. Правило первое: все приверженцы должны добираться ко двору путями смертных, но, как видишь, иметь духа в проводниках, – он с ухмылкой указывает на себя, – не возбраняется. Правило второе: ежели в пути ко двору приверженцу докучает эльф, фея, дух, бог или призрак – а приверженцам, прознав об их прибытии, частенько докучают, испытывая твердость их нрава – он должен избавиться от докуки без посторонней помощи или же начать паломничество сызнова не раньше, чем минет три полнолуния.
– Значит, и мне станут докучать?
– Не думаю, – беззаботно отвечает Пак.
Удивленно поднимаю бровь, и он поясняет:
– Нет, конечно, всякое может быть, но я ведь не из придворных Титании и никогда не покровительствовал приверженцам, и по такому случаю никто не ожидает, что я приведу с собой еще кого-либо, кроме собственной очаровательной персоны. Так что это мне стоит опасаться каверз в пути.
– Но разве мне не стоит опасаться каверз в твой адрес? Уж очень не хотелось бы лишиться провожатого.
Пак хохочет – звонко, от всей души.
– Твоя забота трогательна, но совершенно напрасна. Разве Ариэль не говорила? Я плут, хитрец, и как ни старайся мои враги, ухитриться перехитрить хитреца – дело хитрое, – в его улыбке коварство, более острое, чем его клыки. – К тому же, кто отважится перехитрить меня, тот должен быть готов к ответной хитрости.
– Весьма хвастливые речи!
– Скромность – для святых, а я уж точно не из их братии.
– В самом деле? Я потрясена, сэр!
– Прекрасно! Так и было задумано. Люблю потрясать окружающих, что – пусть и окольным путем – приводит нас к третьему правилу. Если царица допустит тебя ко двору – а этому нет никаких гарантий, что бы ни говорила Ариэль, – она предложит оказать тебе некую милость, либо, что более вероятно, попросит сослужить ей службу. И в чем бы ни заключались милость или служба, твой отказ означает немедленное изгнание. Навсегда. В другой раз царица и слышать о тебе не захочет.
По спине пробегает дрожь.
– А если она попросит что-то такое, с чем мне не хочется расставаться? Нельзя ли поторговаться, предложить ей что-то другое?
– Кое-кто пробовал, – отвечает Пак, искоса глядя на меня, – но чаще всего безуспешно. Она уважает смелость, но ставит свою волю превыше желаний нового слуги.
– И если она скажет «нет», мне никак нельзя будет остаться?
– Смотря по обстоятельствам. Если она откажет сразу, то еще может позволить тебе остаться в царстве фей на правах смертной гостьи. Путь ко двору тебе будет закрыт, официального места при дворе ты не получишь, но это уже кое-что. Однако если ты откажешься принять ее милость или сослужить ей службу, то – нет. Тогда ты неизбежно будешь изгнана, иного исхода я и представить не могу. Отказ оскорбит ее, дитя мое, а, как показывает мое нынешнее положение, двор фей и эльфов оскорблений не спускает.
Закусываю губу. Внезапно возникает бессмысленное желание обернуться – взглянуть на Неаполь, на все, что я оставила позади. Конечно, город давно скрылся из виду, однако сердцем – грешным, развратным и грязным – я чувствую его тягу.
– Ты не можешь вернуться, – легко, будто делая вид, что это вопрос, говорит Пак, однако оба мы знаем, что он вовсе не спрашивает, а утверждает.
– Благодаря чарам Ариэль, – говорю я, заставляя себя смотреть на дорогу впереди, – все они считают, что я мертва. Думают… – запинаюсь о слова правды, будто о камень, неожиданно подвернувшийся под ноги. – Думают, что я не перенесла выкидыша.
В молчании Пака есть нечто от алхимии – само его присутствие словно изменяет атмосферу.
– Порой я забываю, как молоды вы, люди, – негромко говорит он. – Как коротки ваши жизни, какие опасности ожидают вас с самого появления на свет, – он прикрывает глаза, будто обдумывая что-то, вновь смотрит на меня… Как чужд его взгляд! В глазах Ариэль я никогда не замечала ничего подобного. – Что ж, мне следует пожалеть тебя? Или сожалеть вместе с тобой? Или еще что-нибудь?
– Отчего же тебе сожалеть, если я сама ни о чем не жалею?
Изумляюсь собственным словам до полной неподвижности и застываю на месте. Пак тоже останавливается, но не издает ни звука.
– Нет, я не жалею, – слова вызывают странное ощущение: язык мой будто мхом покрыт. – Конечно, я кое-что чувствую. Возможно, тоскую, хоть и не понимаю, о чем. Но не жалею. Наверное, я – чудовище, как ты считаешь?
– Я знаю множество чудовищ, дитя мое. Ты не похожа ни на одно из них.
– Просто… Мне… – ненавижу слезы. Ненавижу размазню, в которую они превращают меня. – Мне ведь должно быть много хуже на душе. Из-за бегства. Из-за всего, что я наделала.
– Кто это сказал? Ведь ты наверняка не хочешь, чтобы тебе было хуже!
– Не хочу. Но…
– Разве кто-то тебя заставляет? Может, я? Или Ариэль?
– Нет, но мой отец, мой муж и господин… Если бы они знали…
– Однако они ничего не знают, – обрывает меня Пак. – В этом-то и вся суть, не так ли? Может, я и ошибаюсь, но, сдается мне, что, если бы ты и осталась с ними, они все равно хотели бы, чтобы ты чувствовала не то, что чувствуешь, и была не тем, кто ты есть. А если так, то разницы от твоего бегства никакой. Суди сама. Разгадав твою хитрость, они требовали бы от тебя того же самого, чего и без нее. Поэтому ты и пустилась на эту хитрость. Поэтому их невежество и освобождает тебя от любых уз. Понимаешь? Торчать на месте нет никакого проку, – он умолкает, давая мне время ухватить нить рассуждений, и вдруг утирает слезы с моих щек. Интимность этого жеста повергает в шок, однако я улыбаюсь. Улыбнувшись в ответ, Пак разводит руками и приплясывает от нетерпения. – Итак, вперед! Печаль печалью, но с тобой, как видишь, весельчак Пак, а путь в Иллирию слишком далек, чтоб мешкать. Идем-идем! Бегом-бегом!
С этими словами он срывается с места, точно наколдованный Ариэль снегирь, и пускается бежать по дороге.
Покинув остров, я еще ни разу не бегала бегом. «У дам, – говорил Фердинанд, – а в особенности у принцесс, нет причин бегать». Отец был с этим согласен.
Пускаюсь вдогонку за Паком. Мой смех – смех бунтовщицы.
Отец спал, когда спала я, чтоб я не будила его, – так говорила Ариэль. А спала я – беспробудным неестественным сном, – когда он усыплял меня.
Но что, если уснуть без посторонней помощи? Что, если уснуть прежде, чем ему настанет время спать? Он сделает мой сон еще глубже? Или, убаюканный ощущением собственного могущества, не сочтет нужным принимать дополнительные меры?
– Как клонит в сон! – сказала я, разлегшись на песке в лучах послеполуденного солнца.
Я закрыла глаза.
Подождала.
Заснула.
И спала…
…и пробудилась.
***
Гостиница невелика и ничем не похожа на дворец, но в сравнении с теми удобствами, к которым я привыкла на острове, колючий соломенный тюфяк – верх роскоши.
Пак, однако ж, не разделяет моего настроения.
– На земле куда удобнее, – ворчит он, ворочаясь на своем тюфяке. – А эта солома только колется. И от нее все чешется! Уж лучше прикорнуть прямо на спине спящего крокодила!
– Ариэль однажды превращался в крокодила. В такого голубого, с золотым отливом. И катал меня по реке, протекавшей через остров.
– Превращался? Катал?
– Да, в тот день он был «он», а не «она».
– Ого! – вырывается у Пака. – Ого-го!
– Что?
– Ты только что ответила на один вопрос, а я до сих пор и не подозревал, что он нуждается в ответе.
– Это как же?
– Я всегда думал, – объясняет Пак, – что смертные – в силу собственного естества – и любую другую живую тварь относят непременно к мужскому или женскому полу. Не забывай, я много старше, но никогда в жизни не видел ничего такого, что заставило бы меня в этом усомниться. Однако ты, Миран-Миранда… – это двойное имя повергает меня в странный трепет, хоть я и не могу сказать, отчего. – Похоже, ты прекрасно видишь истинную суть вещей. И это здорово облегчает мне жизнь. Как ты можешь догадаться, такое случается редко.
Стук собственного сердца внезапно кажется мне оглушительно громким.
– Меня воспитывала скорее Ариэль, чем отец. И я никак не могла понять, отчего отец настаивает, чтобы я называла ее только «он», несмотря ни на ее облик, ни на мои предпочтения. Как-то раз он пробовал объяснить, почему… – проглатываю рвущиеся наружу воспоминания – горячие, острые… – Но я не поняла.
– Поведай мне, сделай милость, – говорит Пак – мягко, точно пряча за мягкостью тона настойчивость. – В чем состоял его тезис?
– Он говорил, что большинство духов и прочего волшебного народца принадлежат к мужскому полу, а женский облик принимают лишь затем, чтобы губить смертных, вводя их в опасный соблазн. Однако так и не объяснил, что в этом такого губительного.
– Но как, скажи на милость, он обосновывал это утверждение?
Комкаю тиковое одеяло.
– Сказал, что волшебство – огромная сила, а мужчины владеют силой лучше, чем женщины. Они более приспособлены к ней и потому успешнее ею распоряжаются.
– Твой папаша, – заявляет Пак, – просто осел.
Громко и совершенно неизящно кашляю от неожиданности.
– Пак!
– Ты не согласна? Ты полагаешь, ослиный род не заслуживает такого оскорбления?
– Пак!!!
– Если уж говоришь таким тоном, то можешь вдобавок именовать меня полностью: Робин Добрый Малый.
Его притворство безупречно; я фыркаю в подушку и натягиваю одеяло на голову, пряча непонятное смущение.
– Сама не знаю, чему смеюсь, – говорю я. Мой голос звучит из-под одеяла слегка глуховато. – Ведь это совсем не смешно.
– Порой даже в самых тяжких бедах необходимо находить смешное. Иначе как узнать, что мы пережили их?
– Отец… – высовываюсь из-под одеяла и моргаю, глядя в потолок. Вокруг сумрачно. Желудок тревожно сжимается. – Нужно ли обсуждать его в столь поздний час?
– Ничуть не нужно, – соглашается Пак.
Умолкаем.
Как долго не удается уснуть…
Книга была очень старой и очень тяжелой. Страницы покоробились, пошли волнами от соленой морской воды. Конечно, я видела эту книгу не впервые – я держала ее в руках, стирала с нее пыль, смотрела, как отец читает ее, но он ни разу не позволил мне заглянуть в нее хотя бы одним глазком. И все же я безошибочно выбрала ее среди всех его драгоценных томов.
Я видела, этой книгой он пользовался чаще всего.
Отец зарычал во сне – Ариэль называла это храпом. Сердце пустилось вскачь. Я вынесла книгу наружу и уселась, скрестив ноги, под светильником, сделанным с помощью Ариэль, – наполненным светлячками и подвешенным к ветке дерева у входа в пещеру шариком, сплетенным из тонких прутиков, перевязанных блеклыми сухими водорослями. Наш светильник мерцал, будто крохотная желтушная луна, и света его едва-едва хватало, чтобы различать буквы. Я знала, что человеческое волшебство – совсем не то, что волшебство фей и эльфов. То, что у Ариэль выходило без малейших усилий и было присуще ей от природы, потребовало от отца многих лет, знаний, усилий и жертв, и принесло куда более скромный результат.
Раскрыв волшебную книгу, я принялась за чтение.
Дорога в Иллирию длинна, каким способом ни странствуй, а длиннее всего – если идешь пешком. Подозреваю, Пак сдерживает шаг, чтобы я легко поспевала за ним, но пропасть между выносливостью духа и смертного так широка, что мне ее не одолеть, несмотря на его предупредительность. Все тело болит, но болит от настоящего дела. Целый год при дворе Фердинанда мне приходилось не бегать, а только ходить узкими коридорами, не встречая на пути препятствий, кроме уймы незримых препон, скованной грузом условностей и тяжестью юбок, но теперь…
Теперь я вернулась в просторный мир и вновь стала собой. Приятно побаливают натруженные мускулы, спину и плечи начинает ломить вскоре после того, как Пак соглашается доверить мне мешок с провиантом.
– Я – как мул на двух ногах, – замечаю я.
В ответ он хохочет, и я горжусь тем, что развеселила его, а когда ложусь спать, засыпаю немедленно, сплю крепко, без сновидений, хотя постелью нам служит лишь трава.
Зато в этой постели, кроме меня, нет больше никого.
В дороге мы с Паком коротаем время за разговорами, но говорим о пустяках – о городах и селениях, попадающихся на пути, о хитросплетениях законов волшебного царства, о невинных шутках Пака над встречными. Хотя не всегда его шутки так уж невинны. На третью ночь после того, как я покинула Неаполь, какой-то землевладелец с глумливой усмешкой отказывается предоставить нам ночлег в амбаре и отпускает непристойное замечание в адрес бестолковых юнцов, совсем потерявших стыд.
Мои щеки вспыхивают румянцем. Пак же – сама любезность – желает домохозяину доброй ночи и уводит меня прочь. Проворно укрыв нас обоих от чужих взоров, он целый час предается веселью – вначале уговаривает всех кошек в хозяйстве покинуть этот дом, затем льстиво вдохновляет чертову дюжину мышиных семейств заночевать в том самом амбаре, куда не пустили на ночлег нас.
– Но он же может умереть с голоду, – говорю я Паку. Он, все еще посмеиваясь над собственной проделкой, устраивается ночевать под сенью раскидистого старого дерева посреди поля. – Если мыши съедят его урожай…
– Он одинок, – отвечает Пак. – Жены его нет в живых, дети выросли и разбрелись по свету. Любой смертный, имеющий хоть кроху здравого смысла, поостережется так грубо отказывать в гостеприимстве путникам в землях фей – каковые, как известно любому дураку, находятся именно здесь. И я вроде как отплатил ему за то, что он пожелал нам зла.
– Но последствия твоей проказы продлятся много дольше, чем память о его грубости.
– Знает ли он об этом? Ему же ни дела ни заботы – а мы вполне могли бы погибнуть без крыши над головой. Например, попавшись в лапы ночных разбойников.
– Но с нами все в порядке!
Пак обжигает меня взглядом. До этого я ни разу не видела его в ярости.
– С нами – да, но только из-за того, что я с тобой. Вот почему моя месть соответствует наихудшим последствиям его деяний – потому, что, как ты, верно, хочешь подметить, он этого не знал. И не просто не знал, Миран, – даже знать не желал, на случай возможного ущерба его драгоценной чести и достоинству! – над головой Пака с треском возникает маленькая молния; его изогнутые рожки – словно горлышки колб в лаборатории химика. – Никак не пойму, откуда взялись у смертных такие странные понятия о плотской любви? Вы ведь когда-то вовсе не были такими ханжами! – Пак встряхивает одеяло, и ткань, расправляясь, громко хлопает в воздухе. – Какие вы учиняли оргии!
Звук, издаваемый мною в ответ, далек от изящества. Пак резко вскидывает голову, словно только что вспомнив о моем присутствии. Негромко фыркает, губы его кривятся.
– Прошу прощения, – говорит он.
– Не стоит. Твои… э-э… аргументы неоспоримы.
Пак смеется и разжигает костер. Садимся к огню, привалившись спинами к толстому стволу дерева, по-братски делим ломти ветчины, дольки яблок, хлеб и сыр, купленные с утра. Лучшего ужина не припомню за всю мою жизнь!
– Я учусь быстро, – говорю я. Слова медленно, негромко слетают с языка, будто по собственной воле. Наш костерок горит ярко, весь прочий мир – лишь неясные темные силуэты за пределами светлого, красного с золотом круга. – И на острове отец позаботился о том, чтобы… Да, он учил меня манерам, приличиям. Женским добродетелям, – Пак усмехается, и я едва не усмехаюсь в ответ. – И я училась прилежно. Но у нас не было столовых приборов, – взмахиваю последней краюхой хлеба. – И неумение держаться за столом при дворе сочли ужасным недостатком. Как странно, что этому придают такое значение! К тому же, я была лишена вкуса – не знала, как надлежит одеваться, причесываться… Отец учил меня только выражению покорности, а все остальные нужные знания всегда были исключительно женскими, и, при всей своей учености, он не мог – и не стал – просвещать меня в этой области.
Пак подбрасывает в воздух дольку яблока и ловит ее ртом. Жует, глотает. Смотрит на меня.
– Я слышал, – говорит он, будто речь идет о вещах не более личных, чем завтрашняя погода, – что дочь Просперо пошла замуж по собственной воле.
Гляжу в огонь.
– Что такое собственная воля, если не знаешь, на что идешь? Да еще когда на самом деле выбора нет? Отец всю жизнь преподавал мне один набор истин, а Ариэль – другой. И на острове я, по мере возможности, склонялась к мудрости Ариэль, так как она касалась моей собственной жизни, моего собственного существа, а не абстрактного недосягаемого мира. Но потом пришел тот корабль, а с ним и Фердинанд…
Горло перехватывает. Желудок сжимается, точно стараясь избавиться от съеденного на ужин. Пак молча ждет, и, когда я заговариваю вновь, мой голос звучит не громче, чем потрескивание костра.
– Фердинанд оказался благодарным зрителем. И я сыграла перед ним ту роль, которую меня учили играть перед мужчинами, и он ответил именно так, как меня учили – любезностью, улыбками, признаниями в любви. Он взял меня замуж еще до того, как мы покинули остров. Ты знал об этом?
– Нет, не знал.
– А было именно так. И я подумала… Я подумала, что теперь, после стольких сомнений и раздумий о том, кем мне быть и как жить, после всего, что я вынесла, станет легче – ведь я точно знаю, чего ожидать. Что, если я буду вести себя определенным образом, то получу определенный результат. Что я смогу покинуть этот остров. Что буду в безопасности… – опускаю голову. Слезы текут по щекам. – Но все вышло не так. Совсем не так. Со временем я начала понимать… Что двор отрезал меня от мира еще надежнее, чем воды океана.
– Ты – далеко не первая из жен, кто чувствовал это.
– Прости, но, по-моему, это не к лучшему, а только к худшему, – пытаюсь улыбнуться, хотя заранее знаю, что ничего не выйдет. – Ему… ему, как мужу, полагалось «брать», а я была обязана… господи, хотела бы я сказать «безропотно сносить», но – возможно ли такое? – порой я тоже находила в этом удовольствие!
– Одно и то же блюдо не всегда одинаково на вкус, – говорит Пак ровно, явно сдерживая голос. – Сегодня за ужином оно радует, но это не мешает отсутствию аппетита или оплошности повара – или, осмелюсь допустить, и тому и другому разом – лишить его всякой привлекательности назавтра.
Едва заметно киваю. Сама знаю, что позже буду думать и думать над этим отпущением грехов, но сейчас оно может вывернуть всю душу нараспашку.
– Я думаю… – вновь умолкаю на полуслове: слова, рвущиеся наружу, слишком велики для моего рта. – С Фердинандом я часто чувствовала… Да, бывало – и, если бы я не росла в обществе Ариэль, эта мысль никогда не пришла бы мне в голову, но так уж вышло – я часто чувствовала, что так… так наслаждаюсь им, его телом… и не только вожделела его, но и завидовала ему.
Обхватываю колени, готовлюсь столкнуться с осуждением, но осуждения нет как нет. Пак выглядит удивленно, но не враждебно, и слова рекой льются с языка наружу, в ночную тишь:
– Я… Я знаю, что вожделение для меня в новинку, а муж всегда учил меня, что желания – его епархия, а их исполнение – моя обязанность. Конечно, я завидовала его праву принимать решения, но это… это было еще не все. На острове мне не было нужды думать о себе как о «девочке» или «женщине» – разве что в связи с наставлениями отца, – потому что мне не с чем было сравнивать. Калибан не принадлежал к роду человеческому, отец считал себя больше волшебником, чем просто мужчиной, а Ариэль могла быть кем заблагорассудится. Но вот появился Фердинанд, и ради него – и чтобы самой было проще – я приняла назначенную мне роль, но, хоть и старалась повиноваться, мне было… Ох, хотела бы я сказать, что единственным неудобством были юбки, которые мне приходилось таскать ради приличия! Но нет, Пак, все дело было в языке – в словах и в вызываемых ими чувствах. Я и не подозревала, что слова так остры, пока не испытала на себе, что неверное слово может ранить. Но самое худшее, что эти слова не всегда были неверны. Бывали дни, мне нравилось, когда меня называли «леди», но день проходил, солнце садилось и вставало вновь, и то же самое слово становилось похоже на ошейник, не пускающий на волю, или на корсет, сдавливающий тело и коверкающий фигуру в угоду взорам посторонних. Но верным было это слово или нет? До сих пор не пойму. Ах, как жаль, как жаль, что я не могу менять облик, как Ариэль, и превращаться из девушки в мужчину в мгновение ока! Как мне хотелось бы уметь принимать любое обличье, какое только сердце пожелает! Вот у луны есть фазы, верно? Мы называем их «полнолуние», «новолуние», «молодая луна», «старая луна». Луна растет и убывает, однако так и остается луной, и любят ее не меньше. Почему со мной должно быть не так? Со мной должно быть так же, это же естественно. Мое сердце – все равно, что луна: в полнолуние я внутри сияю ярко, и облик мой соответствует имени[16]. Потом я иду на убыль, и зеркала показывают мне лишь полумесяц – мой облик повторяет ущербность луны. А когда и полумесяц растворяется во тьме, я тоже становлюсь темна, а после начинаю возрождаться вновь. Почему принять этот факт труднее, чем считать меня мертвой, хотя я жива? Противоречие всего лишь в их представлениях о том, что я есть. Возможно, моя смерть и разрешила бы это противоречие к их удовольствию, однако даже это не отменило бы моей правоты.
Откидываюсь назад, трепеща от радостного облегчения. Сморю на Пака. Такой мягкой улыбки я не видала еще никогда.
– Миран-Миранда, мне и за тысячу лет не пришло бы в голову отрицать твою правоту. Отрицать ее стал бы разве что круглый идиот.
Все еще плачу, но, утирая слезы, обнаруживаю, что их соль не щиплет глаза. Улыбаюсь Паку. Он, слегка пожав плечами, устремляет взгляд в огонь и вытягивает ноги.
– Конечно, ты совершенно права. Обличья, сердца, имена… Мы строим самих себя из слов, но ведь инструмент – не то же самое, что материал, и если меняется материал, то почему не меняться и инструменту? – беззаботная улыбка сверкает на его лице. – Взять хоть, для примера, моего северного кузена Локи. Однажды он, в облике серой в яблоках кобылицы, даже родил жеребенка! Но и при этом оставался самим собой. Он есть то, что он есть, и если он есть не нечто одно, но многое разное, кто мы такие, чтобы спорить? Не вижу, почему кто-либо, будь он дух, бог или смертный, непременно должен определять себя единственно через телесный облик. Ведь он – лишь видимость, подверженная изменениям. И потому именовать тебя неучтивыми словами за то, что ты желаешь того, чего не получила от рождения, – все равно, что утверждать, будто растить бороду для взрослого мужчины неестественно, так как рожден-то он без бороды! Почему одни превращения считаются природными, а другие – нет? Короны и башмаки не растут на деревьях, но мы же меняем свой облик, надевая их. Ох уж эти смертные! Такие неразумные создания! – с жестом, в котором странно соединяются любовь и отвращение, он виновато подмигивает мне. – За исключением моей собеседницы, конечно.
– Да уж, конечно, – говорю я, и что-то во мне раскрывается, словно рука, готовая ухватить нечто новое.
Знать, что тебе требуется, и раздобыть требуемое – вовсе не одно и то же, и преуспеть мне удалось лишь с помощью Ариэля. Он пошептался с ветром, и бриз принес издалека необходимые мне перья – орлиное, воронье и голубиное, – а самое главное, сдул прядь волос с головы спящего Просперо. Когда у меня дрогнула рука, не кто иной, как Ариэль, пролил мою кровь в выдолбленное в камне углубление, высек искру, чтобы поджечь перья, волосы и травы, а после принес мне чистейшего белоснежного песку с дальнего берега острова.
Не кто иной, как Ариэль, стал молнией, ударившей в песок, смешанный с золой, и сплавившей его в иззубренный комок стекла. Не кто иной, как Ариэль, помог мне вылепить и отшлифовать единственный ровный и плоский осколок – как раз такой, чтоб поместился в кулаке.
Но когда настал час, не кто иной, как я – и только я! – пошла на бой, вооружившись тем, что выковано нами.
Акт IV
ПРЕВРАЩЕН
Я просыпаюсь – тонкие, холодные пальцы сжимают плечо, тянут куда-то. На миг цепенею от ужаса, но тут же с визгом вскакиваю. Чья-то ругань, чей-то крик – и мир вспыхивает багрянцем, и золотом, и черненым серебром. Звезды и жаркие угли вихрем кружатся в воздухе, а кто-то дергает меня вниз, вправо, влево, вверх – и втаскивает в вихрь. Завеса мира поднимается, как театральный занавес, пропускает меня отсюда туда. Проморгавшись, обнаруживаю, что я больше не в мире смертных.
Я – на волшебных дорогах фей. Смотрю на своих похитителей. Их двое. Эльфы. С виду – мужчина и женщина. Кожа женщины, словно крылья мотылька, покрыта пестрой мозаикой белых и коричневых пятен, черные с серебром курчавые волосы разделены на множество пучков, связанных в тугие короткие узелки. Облачена она в свободно ниспадающее платье, оставляющее одно плечо открытым, верхнюю часть правой руки обвивает золотой торк[17]. Мужчина высок и строен, цвет его кожи – оливковый, прямые волосы заплетены в тонкие косы, свисающие до середины спины. Одет он в горчично-желтую куртку и шоссы, коричневые, как воробьиное перо. Оба они, как и я, босиком.
В памяти всплывает недавний разговор, и – щелк! – все встает на свои места. Вскидываю подбородок и смеюсь им в лица.
– Вы – Мотылек и Горчичное Зерно!
– Смышленое дитя, – замечает Мотылек, и сухость ее тона говорит о том, что думает она как раз обратное. – Я бы спросила, кто ты такова, но поскольку тебе покровительствует Добрый Малый, это неважно.
Волшебные дороги принимают разные формы. Сейчас я стою на белой точно кость полоске земли, усеянной красными камнями. На бледно-сиреневом, точно сердцевина цветка ириса, небе не видно ни солнца, ни луны, ни звезд. Земля за пределами белой полоски усыпана красными камнями сплошь, и оттого дорога кажется белой костью, торчащей над лужей крови. Окрестный вид совсем не приветлив, и от животного страха волосы на шее встают дыбом.
– Вы замышляете вынудить его нарушить условия покаяния, – медленно, чтобы окончательно убедиться в своей догадке, говорю я. – Ему надлежит достичь двора одними лишь путями смертных, и, явившись за мной сюда, он нарушит обет.
– Именно, – елейным голосом подтверждает Горчичное Зерно, растянув тонкие губы в змеиной улыбке. – И потому, кем бы ты ему ни доводилась – любовницей, обманутой простушкой, приживалкой – будь послушной смертной и жди. Самой тебе отсюда не удрать. Уж поверь мне, даже пробовать – исключительно глупо.
Расправляю плечи и смотрю ему в глаза.
– Я – приверженка царицы Титании и иду к ее двору, чтоб присягнуть ей на верность. Перенеся меня сюда, вы чините препоны моему странствию.
Мотылек презрительно усмехается.
– Добрый Малый никогда не водил приверженцев даже к царю Оберону, не говоря уж о царице Титании. Берешься лгать, так лги правдоподобно.
– Теперь же сядь, – велит Горчичное Зерно, обнажая не замеченный мною прежде нож – осколок рога, отточенный до злобной остроты. – Не то, пожалуй, пожалеешь.
Однажды – словно тысячи лет назад – мне довелось пройти одной из волшебных дорог с помощью Ариэль. Я знаю удручающе мало, однако все же больше, чем думают мои пленители. Сглатываю, не отводя глаз от клинка Горчичного Зерна, и заставляю себя кивнуть.
– Я не стану мешать вам.
Опускаюсь на мягкую белоснежную землю. Сердце отчаянно бьется, мысли несутся вскачь.
– О, Миранда! Зачем тебе нужно было ослушаться меня?
Голос отца звучал спокойно, но от этого не менее яростно. Глядя на него сверху вниз, я сжала в ладони кусочек стекла – так крепко, что едва не порезалась до крови.
– Ослушание было бы мне ни к чему, если бы ты не держал меня на такой короткой привязи! – мой голос дрожал от страха. – Ну, чем я могу угрожать тебе?
Отец покачал головой.
– Женская непокорность – угроза сама по себе. Все в мире, Миранда, идет надлежащим путем, справедливым порядком. Когда ты поступаешь супротив его законов, у меня нет выбора – я должен вмешаться.
– Нет выбора? Да ты же можешь делать все, что только пожелаешь! И о каком, скажи на милость, мире речь? – я взмахнула дрожащей рукой. – Вот он, весь наш мир, отец! Твои обычаи в нем не имеют смысла и служат лишь для того, чтобы лишить меня права на собственный выбор!
Отец огорченно вздохнул.
– Хотел бы я знать, откуда ты набралась таких абсурдных идей. Это сильно упростило бы жизнь и мне и тебе.
Я почувствовала, как слезы текут по щекам.
– Ты хочешь от меня простоты, но я не проста. Я – человек, личность, у меня есть собственный разум, и я хочу… хочу…
– Довольно, Миранда, – он поднял жезл, и в воздухе треснула искра волшебства. – Ты будешь повиноваться. – Свободной рукой он начертал в воздухе светящуюся руну. – Забудь сей день и обрети покой. Будь, кем была…
Его чары нависли надо мной, и с визгом я вскинула вверх свое стекло. Края его сверкнули в лучах солнца.
Волшба ударила, точно гром. Рука моя онемела по самое плечо. В огненной вспышке отраженных чар перед глазами на миг мелькнуло потрясение на отцовском лице. В следующий миг мощь его заклятия, отброшенного назад, сбила его с ног. Выронив жезл, отец рухнул наземь. Я двинулась вперед. Колени подгибались, в ушах звенело. Отец скорчился на песке, закатив глаза под лоб. Стекло в моей руке треснуло, но я не бросила его, а только сжала еще крепче. Опустившись на песок рядом с отцом, я положила его голову себе на колени. Он застонал, но глаза его все так же белели из-под полуопущенных век, и это означало, что время у меня есть.
Склонившись к его уху, я заговорила:
– Заклинаю тебя: забудь все заклятия забвения. Забудь о том, что лишал меня памяти, забудь о моем ослушании, забудь нашу ссору и все, что повлекла она за собой, – горло перехватило, из глаз хлынули слезы, но я заставила себя договорить. – Забудь, что когда-то вожделел меня. Забудь свой и мой позор. Забудь.
И с тем я поднялась и пошла прочь, крепко сжимая стекло в кулаке.
– Он не спешит, – бормочет Мотылек, бросая взгляд в мою сторону. – Либо она ничего не значит для него, либо он замышляет какую-то каверзу. Не нравится мне это.
– Либо я – в самом деле приверженка царицы, – спеша опередить Горчичное Зерно, добавляю я, – и потому Пак убежден, что я способна спастись сама.
– Вздор, – говорит Горчичное Зерно, но теперь в голосе его чувствуется нотка неуверенности. – А если и так…
Не обращаю на него внимания, закрываю глаза и погружаю пальцы в мягкую, невероятно белую почву в поисках знакомых острых граней. «Пожалуйста, окажись здесь, – думаю я. – Пожалуйста. Прошу тебя. Пожалуйста».
– Ариэль, его нужно спрятать. В книге сказано, что чары рассеются, если он отыщет его.
– Можешь забросить в океан…
– Его может вынести на берег волной! – при мысли о таком исходе горло сжали крепкие когти паники. Я никак не могла поверить в то, что сделала, в свой успех. Все мысли были лишь о том, что сделает со мной отец, если – вернее, когда – узнает обо всем. – Его нельзя оставлять там, где оно случайно может попасться на глаза отцу. Значит, не на острове и не в море. Тут нужно место, где его никто и ничто не сможет потревожить. Действительно надежное и безопасное. Иначе мне в безопасности не быть никогда.
Ариэль устремила взгляд вдаль, к заходящему солнцу.
– Есть одно местечко, – негромко сказала она. – Но достичь его нелегко. Связанная запретом, я не могу отправиться туда сама, однако, думаю, мне удастся отворить дверь.
– Отворить дверь? Какую? Куда она ведет?
– К волшебным дорогам фей.
– Пусти ей кровь, – предлагает Мотылек. – Он всегда питал слабость к смертным и всегда связывал себя с ними теми или иными узами. Если ранить ее, он узнает об этом, и уж тут-то ему придется явиться сюда.
Целых три удара сердца Горчичное Зерно молчит. И, наконец:
– Да, верно. Всего лишь небольшой порез… – не вижу, но слышу, как он улыбается. – Для начала.
Истина в том, что волшебные дороги фей, сколь бы разными они ни казались и как бы обманчиво ни петляли, по сути своей – всего одна дорога, единственный путь между «здесь» и «там».
– Придержи ее, Мотылек. Скорее всего, будет вырываться.
«Прошу тебя, вернись ко мне! Ты мне так нужно!»
Рука уходит в белоснежную почву едва не по локоть, и пальцы смыкаются вокруг треснувшего кусочка стекла.
Стекло, сделанное из крови смертного, смешанной с землей мира смертных, хранит память о своей природе и стремится вернуться к ней.
А я вспоминаю о том, какими были мои волосы, вспоминаю их цвет, заключенный в прозрачный камень – красный, как камешки на этой дороге. Думаю о том, как этот камень – частица моего существа – пульсирует в кармане Пака, словно чье-то крохотное сердце.
Представляю себе землю, кровь и ярко-рыжий, почти красный цвет волос, и сжимаю стекло в ладони, пока его острый край не рассекает кожу. Красная кровь сочится в белую почву.
Рука Мотылька срывает с меня шапку, обнажая волосы, белые, как мел, как снег на красно-белой дороге.
«Домой, – отчаянно думаю я, пока Мотылек собирает мои волосы в кулак, – домой, домой, ищи Пака…»
– Хватай ее! Мотылек, что она…
– О боги, не знаю! Не могу понять…
Я падаю из мира в мир, точно камень, брошенный в пропасть.
***
Стекло я закопала на заросшем лилиями поле под небом, усыпанным звездами. Все это время Ариэль держала дверь открытой, и, хоть я торопилась, как могла, к моему возвращению ее силы почти иссякли. Дрожащая, тяжело дышащая, она едва превышала размерами котенка. Я подняла ее на руки, прижала к груди и разрыдалась, уткнувшись лицом в ее белую мягкую шерстку.
– Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе.
Шершавый язычок слизнул с моей щеки слезу, и я – казалось, впервые за целую вечность – рассмеялась.
Падаю к ногам Пака нелепой грудой. Он коротко взвизгивает, будто вспугнутый лисенок, шарахается от меня к стволу дерева, под которым мы расположились на ночлег, и разражается изумленным хохотом, ухватившись руками за свои рожки.
– Клянусь всеми звездами в небе, такого я не ожидал!
– Я тоже, – охаю я, с трудом поднимаясь на колени. – Они не догонят меня?
– Нет, если не будешь мне мешать, – огрызается Пак.
Он помогает мне подняться на ноги и идет вокруг нашего лагеря противосолонь, тихонько напевая что-то себе под нос. С его растопыренных пальцев сыплются искры. Наконец он хлопает в ладоши – должно быть, замыкая охранный круг, – и в воздухе пахнет свежо и резко, точно перед грозой. Только после того, как он возвращается ко мне, я замечаю, что край неба светлеет – неяркие желтовато-багровые отсветы ползут вдоль горизонта, точно мертвенно-бледные прожилки от синеющей гнойной раны.
Время на волшебных дорогах течет иначе, и потому я спрашиваю:
– Долго меня не было?
– Почти всю ночь, – отвечает Пак, бросая на меня оценивающий взгляд. – А сколько времени прошло для тебя?
– Наверное, с полчаса.
– Всего полчаса! – в восторге восклицает Пак, проказливо поблескивая темными глазами. – Не ошибусь ли я, полагая, что твое бегство неким образом связано с этим?
С этими словами он лезет в карман куртки и извлекает из него мое треснувшее стеклышко.
Раскрываю рот от изумления, не понимая, что происходит, медленно подношу к глазам сомкнутую в кулак руку и разжимаю пальцы.
На ладони лежит тот самый камень, в который заключен цвет моих волос. На камне видны следы запекшейся крови.
– В самом деле, – негромко говорю я. – Я… Я закопала это стекло на дорогах фей год и четыре месяца назад, еще на острове. И не думала, что когда-нибудь увижу его снова.
Без лишних слов и даже без определенных мыслей меж нами возникает некое согласие. Я отдаю ему камень, а он возвращает мне стекло. Ни слова не говоря, я зарываю стекло под корнями раскидистого дерева, и мы – оба разом – садимся. Прячу ноги под одеяло, обтирая с них едва заметный налет белоснежной почвы, и жду, что скажет Пак.
– С волшбой штука в том, – спустя минуту говорит мой провожатый, – что она оставляет следы, вполне различимые для тех, кто озаботится их поисками и при том знает, что искать.
– И сейчас остались?
– Остались, – Пак опускает руки на согнутые колени. – Ты, Миран-Миранда, украла кое-что из памяти своего отца.
– Да.
– Могу я спросить, зачем?
– А есть ли разница?
– Нет, он не тронул тебя, – тихонько прорычала Ариэль мне на ухо. Свернувшись клубочками, мы лежали в убежище, устроенном нами в глубине пещеры моей памяти. Она вновь приняла облик той самой белой волчицы, и рядом с нею было тепло и уютно. – По крайней мере, в этом смысле. Не было ничего кроме мимолетных прикосновений к коже или платью, и то – лишь изредка.
– Но он подглядывал за мной? Хотел меня? – крепко-накрепко зажмуриваю глаза, и едва могу продолжать. – И… трогал себя?
– Да.
– Но больше ведь не будет? Это не повторится?
– Нет.
– И я вправду в безопасности?
– Вправду, Миранда.
– Нет, – с улыбкой отвечает Пак. Над горизонтом впереди встает солнце. – Думаю, никакой.
Акт V
ПЫШНО, ЧУДНО…
– А ты скучаешь по дворам царя и царицы фей? – спросила я, сидя на выщербленном ветрами и ливнями валуне и болтая ногой в воздухе.
Он – в тот день Ариэль был «им» – подпер подбородок кулаками, тщательно обдумывая вопрос.
– Мне не хватает возможности попасть туда, когда захочу, – наконец сказал он. – То есть, я, так сказать, скучаю по возможности навещать королевский двор, как раньше, но только потому, что раньше и уйти оттуда мог, когда захочу.
– Похоже, сложные у тебя с ними сложились отношения.
– Чаще всего отношения простыми и не бывают, – ответил Ариэль. – Если, конечно, ты не прикован к необитаемому острову.
Весь остаток пути ко двору царицы Титании охранные чары Пака держат на расстоянии и Мотылька, и Горчичное Зерно. Пак говорит, что оба они куда слабее него, однако я подозреваю, что причина их внезапного исчезновения – вовсе не только их почтение к превосходящему противнику либо неспособность сладить с Паком, но и послание, отправленное Паком царю Оберону.
– Могла бы и сделать одолжение моему тщеславию, – сердито пыхтит он в ответ, когда я указываю на это.
– Одалживаться ступай к ростовщикам, – отбриваю я.
Пак спотыкается о камень.
В двух днях пути от Иллирии и двора Титании нам попадается навстречу темноволосый юноша. Он с нарочитой многозначительностью смотрит на Паковы рожки – вернее, туда, где им надлежит быть, не будь они скрыты от случайных взоров – и обиженно говорит:
– Знаешь ли, а ведь без них тебя и не узнать.
Пак расплывается в острозубой улыбке:
– И тебе привет! Я полагаю, ты прислан присмотреть за мной?
– Я прислан, – отвечает незнакомец, – спросить, отчего ты ведешь приверженку к царице Титании, а не к нашему повелителю.
– Потому что за это ему заплачено, – вмешиваюсь я. – И потому, что, при всем моем уважении к царю Оберону, моя лучшая подруга служит царице Титании, и я обещала отыскать ее при дворе, если мне пожалуют такую возможность.
– Х-ммм… – тянет юноша, морща лоб и задумчиво изучая меня. Нос его тонок, глаза выпуклы, а бритый подбородок – само упрямство. – Из этого следует, что мои рекомендации присоединиться к Оберону тебя не прельстят?
– Боюсь, что так.
– В таком случае, – говорит он, кланяясь нам обоим, – не смею далее мешать вам наслаждаться прекрасным утром. Прощайте до поры!
С этими словами он разворачивается, идет обратно той же дорогой, которой следуем и мы, и исчезает за ближайшим поворотом.
Пак прищелкивает языком:
– Что ж, это уже интересно.
– Неприятности?
– Этого я не говорил. Но, возможно, да. Мастер Уилл редко показывается на глаза без умысла, а умысел – чаще всего Оберонов.
Всю оставшуюся дорогу держимся настороже в ожидании еще каких-нибудь эльфийских каверз, но никто не чинит нам препон.
Корабль качался подо мной, спокойной среди бурных вод морских. Давно пора было спать, но новизна впечатлений – вид моего острова, исчезающего вдали, горизонт, не ограниченный деревьями и пределами взора смертных – еще не поблекла, и потому я все стояла на носу нашего судна, наблюдая, как плывет по небесному своду луна.
– Миранда!
– Ариэль?
Мой голос звучал чуть громче шепота: моряки говорили, что над водой звук разносится далеко-далеко, а мне вовсе не хотелось привлекать излишнего внимания тех, кто нес ночную вахту.
– Кто же еще.
Ариэль парила в воздухе, держась рядом с бортом корабля. Она опять позаимствовала мой облик – но не теперешний, сейчас она выглядела, как я в детстве, лет в пять или шесть. Ее полупрозрачная фигура, серебристо-голубая, как воды океана, мерцала на фоне ночного неба. Взгляд ее был нежен и печален.
– С тобой все хорошо? Я думала, отец освободил тебя.
– Со мной все хорошо. Но нам не удалось как следует попрощаться, и мне захотелось… Я пришла убедиться, что ты счастлива. Что тебе вправду хочется этого избавления и этого пути.
Я улыбнулась. Впереди было так много возможностей, а сомнений осталось так мало, что я не снизошла до того, чтобы прислушаться к ним.
– Я счастлива, Ариэль. А ты?
Улыбка Ариэль не дрогнула.
– Если счастлива ты, то счастлива и я, – ответила она. – Желаю… Удачи тебе, Миранда. Но если я когда-нибудь понадоблюсь тебе, позови – и я приду.
Прежде, чем я успела ответить, она коснулась моей щеки прохладными губами и исчезла.
Двор царицы Титании ничуть не похож на неапольский. Множество лоз, как живые, кипят, вздымаются над резным мрамором, вьются в воздухе, угождая любым капризам гостей, распускаются наполненными нектаром чашами цветков желтого жасмина, сплетаются, образуя качели… Чего бы ни пожелал любой в бурлящей толпе фей и эльфов – все тут же к его услугам! Вокруг царит пестрый хаос: крылья, глаза, шкуры и перья, обличья зверей и смертных… Рожки, как у Пака, и волосы, как у меня, просто теряются на фоне столь причудливых украшений!
– Теперь, – негромко бормочет Пак, ведя меня сквозь толпу к палате для аудиенций, – пока царица – или царь, если он тоже здесь, а это весьма вероятно – прямо не обратится к тебе, говорить буду я.
– Что ты говоришь?! Царь Оберон может быть здесь? – шиплю в ответ. – И ты не предупредил?
– А если бы и предупредил? Сейчас ты держалась бы спокойнее?
Мое молчание подтверждает его правоту, и Пак победно улыбается. Невольно закатив глаза, согласно киваю.
– Что ж, ладно. Веди.
Палата аудиенций, несомненно, прекрасна, но все ее чудеса – ничто в сравнении с красой царицы Титании. На ней платье из белых перьев; кожа ее – цвета полированной красной меди – мерцает, оттеняя тепло-карий цвет глаз и ослепительное, невероятное золото волос. Кудри ее заплетены в косы и косы эти так длинны, что, даже перевитые серебряной проволокой и украшенные драгоценными камнями, достигают икр.
А рядом с ней, светлый там, где она темна, – мужчина, не кто иной, как сам царь Оберон. Черные, как смоль, его рога загибаются вниз, к затылку, прямые длинные волосы, сплошь унизанные крохотными бубенчиками и переплетенные ярко-алыми нитями, ниспадают вниз черным водопадом. Цвет его кожи – нечто среднее между оливковым и золотым, в уголках темных глаз – едва заметные морщинки. Он безбород, руки и плечи его обнажены, цельное черное одеяние перехвачено в талии серебряным поясом, вверх от запястий к плечам вьются живые узоры-татуировки.
Оба они прекрасны, могущественны и чрезвычайно величественны. Тянет упасть на колени, и только заимствованная у Пака и Ариэль храбрость помогает устоять на ногах.
– Робин Добрый Малый, – говорит царица Титания. В палате воцаряется безмолвие, все взгляды устремляются к нам. – Значит, слухи не лгут? Ты в самом деле привел мне приверженку в знак раскаяния в собственной дерзости?
– Это зависит от вас, государыня, – с поклоном отвечает Пак.
Я делаю реверанс. Сердце бьется в груди, словно птица в клетке.
Титания изящно приподнимает бровь.
– Каким же образом?
– Все зависит от вашего решения. Что, если вы откажетесь признать ее попытку явиться к вам на службу из-за того, что двое из числа ваших придворных, Мотылек и Горчичное Зерно, силой увлекли ее на волшебные дороги фей?
Повсюду в зале – изумленный шепот. Губы царя Оберона вздрагивают в едва заметной довольной улыбке, на миг появившейся и тут же пропавшей, будто вспышка летней зарницы. На миг в животе холодеет: что, если Пак затеял какую-то собственную, неведомую мне игру, и верность государю для него важнее нашей сделки, несмотря ни на какие обеты? Но этого я знать не могу, и потому гоню сомненья прочь и полагаюсь на доверившуюся Паку Ариэль.
Лицо Титании темнеет.
– Горчичное Зерно и Мотылек, – говорит она. – Явитесь.
Голос ее звучит требовательно и властно. Не успевает сердце сделать один-единственный удар, и оба эльфа стоят перед ней.
– Государыня? – хором говорят они, кланяясь.
Титания и глазом не ведет.
– Вправду ли, – с убийственным спокойствием в голосе спрашивает она, – вы увлекли мою приверженку на волшебные дороги фей?
Голос Мотылька трепещет, точно крылья бабочки.
– Да, государыня. Но только потому, что не знали, кто она! Добрый Малый никогда прежде не приводил тебе приверженцев, и мы сочли ее его любовницей. И лишь когда она сбежала от нас без его помощи, нам пришло в голову, что…
– Быть может, – голос Титании холоден, как лед, – вам стоило поверить, что ваша сеньора накажет негодника согласно уговору, а не брать дело в собственные руки?
Эльфы падают на колени. Видя их тяжкое положение, трудно не ощутить удовлетворения, однако я изо всех сил стараюсь ничем не выдать своих чувств.
– Приговор мой будет таков. Пак шел пешим к моему двору в наказание за свое прегрешение. Так же и вы отправитесь ко двору царя Оберона в наказание за ваши. Ступайте же, не прибегая к волшебным дорогам, и не возвращайтесь, не выполнив всех тех же условий. Прочь!
Последнее слово звучит, как приказ, и Мотылек с Горчичным Зерном с изумленным и испуганным вскриком исчезают, провожаемые волной перешептываний.
– Чудесно! – негромко говорит Оберон, не скрывая насмешливой радости. – Жду не дождусь их появления. Ох уж я им задам! Ох уж ради тебя расстараюсь!
Титания оставляет его слова без ответа и останавливает взгляд на мне.
– Выйди вперед, приверженка.
Резко сглотнув, повинуюсь – и, поколебавшись миг, преклоняю колени. Похоже, решение верно: Титания улыбается мне, а голос ее звучит намного мягче прежнего:
– Я сожалею о том, как с тобой обошлись, дитя мое. Назови свое имя.
– Миранда, государыня, а иногда – Миран, а в прошлом – принцесса Неаполитанская.
На лицах монархов отражается удивление.
– Ты дочь герцога Просперо? – спрашивает Оберон. – Я слышал, она умерла от горячки.
– Не умерла, государь, а сбежала, – и, обращаясь к царице Титании: – Я хочу служить вам, государыня, если вы соблаговолите принять меня.
– Ты так решительно настроена служить царице? – спрашивает Оберон прежде, чем Титания успевает ответить. Все умолкают, потрясенные его вмешательством в разговор, и Оберон улыбается, словно на это и рассчитывал. – Я вижу, у тебя необычайно дружеские отношения с моим Паком. Понимаю, – он слегка склоняет голову, – тебя, так сказать, многое связывает с одним из придворных царицы, но, конечно же, это не мешает тебе служить где угодно?
Замираю на месте, точно крольчиха, пойманная в луч фонаря.
– Так вот как, Оберон? – рычит Титания. – Уж не хочешь ли ты умыкнуть приверженку у меня из-под носа?
– Я лишь предлагаю девочке выбор. Ведь это не против правил, не так ли?
– Верно, это не против буквы правил, однако, без сомнения, противоречит их духу.
Оба монарха смотрят на меня. Не терпится заговорить – сказать, что я хочу служить одной лишь Титании, но предупреждение Пака тревожно щекочется где-то в глубине памяти, и я молчу, конфузливо уткнувшись взглядом в пол.
В молчании проходит секунда. Другая. Третья…
– Мой дар будет таков, – внезапно нарушает молчание Оберон. – Служи мне, дитя мое, и я пожалую тебе… – он медлит, обдумывая наилучший подарок. – Вечную юность. Все дни, отпущенные тебе как смертной, ты проживешь молодой, как сейчас, не зная ни старости, ни немощи.
– А что, если и я сделаю собственное предложение? – сладко возражает Титания. – Служи мне, Миран-Миранда, и я пожалую тебе… – вновь пауза, но не задумчивая – скорее, драматическая. – Волшебный облик, меняющийся согласно желаниям твоего сердца.
Невольно вскидываю голову. Щеки разом вспыхивают. Отвечать не полагается, но царица назвала меня двойным именем, и, значит, ей известно, кто я и что я – и, более того, предложенный ею дар означает, что она принимает это благосклонно!
– Правда? – шепотом спрашиваю я.
Улыбка Титании лучится щедростью победителя.
– Правда.
– Тогда… – глубокий вдох, и я обращаюсь к Оберону. – Со всем надлежащим уважением к вам, государь, прошу меня простить: я должна отклонить ваше предложение и принять дар моей государыни, ибо ваш дар щедр превыше моих мечтаний, а ее дар воплощает мечты мои в жизнь. Отвергнуть такое предложение я не в силах, как не в силах добраться пешком до луны.
Целый миг жду грозы – боюсь, что царь будет разгневан. Но Оберон закидывает голову и громко, от всего сердца хохочет.
– О, прекрасно разыграно! В самом деле, прекрасно! Сдаюсь! И приверженка, и состязание – за тобой.
– Что ж, встань, – велит мне Титания, и я повинуюсь. Ноги заплетаются, словно у пьяного сатира. – Всех вас призываю в свидетели! – ее голос, исполненный сердечной теплоты, разносится на весь зал. – Сия приверженка, столкнувшись с препонами в пути, преодолела их собственным разумением. С другой стороны, она явилась ко мне пешком, путем смертных. Я принимаю ее, допускаю ко двору и жалую обещанным даром. Взамен же… – кончиком пальца Титания поднимает мой подбородок. Ее прикосновение вызывает дрожь. – Клянешься ли ты, Миран-Миранда, бывшая некогда принцессой Неаполитанской, верно, не щадя сил, служить интересам – моим и моего двора?
– Да.
– Клянешься ли в повиновении мне в обмен на мое покровительство?
– Да.
– Принимаешь ли всех, кто собрался здесь, в свидетели и понимаешь ли, сколь тяжко бремя твоих клятв?
– Да.
– Быть по сему, – говорит она, легко касаясь губами моего лба. – Служи же мне отныне.
Меня переполняет странное ощущение – словно тучи мелких пузырьков, струясь из морских глубин, с шипением пронизывают все тело. Дар Титании вступает в силу под смех и приветственные клики фей и эльфов, озаряя светом кровь и наполняя музыкой легкие, и я внезапно, будто чувства мои разом обострились, осознаю, что могу менять облик – так же легко, как пальцем шевельнуть, принять любой вид или пол, быть кем хочу, не опасаясь противоречий.
– О! – восклицаю я, падая на колени, исполненная любви, изумления и благодарности. – О, государыня!
– Отблагодари меня службой! – в голосе Титании звучит насмешливая ласка. – И для начала я попрошу тебя отправиться с посольством ко двору Оберона и укрепить единство между нами. В конце концов, – она бросает взгляд на Пака, – там у тебя друзья.
– Конечно, государыня, – отвечаю я, все еще не в силах оправиться от потрясения.
Титания подмигивает – так коротко и быстро, что мне это могло и показаться – и на том аудиенция завершается. Пак мягко увлекает меня из царских покоев наружу, под ослепительный солнечный свет, заливающий двор перед ними. Здесь, понимая, как я потрясена, он усаживает меня на мраморную скамью, срывает с лозы цветок-чашу и подносит его розовые лепестки к моим губам. Я пью. Нектар сладок, как вино и как лето.
– Это ведь ты все подстроил, – говорю я, опорожнив цветок. – Ведь верно?
Пак широко улыбается и усаживается рядом.
– О, спору нет, я тоже приложил руку. Но большей частью все это – дело Ариэль. Она понимала, что, приведя тебя сама, не вызовет конфликта, а без него не будет и даров, но если это сделаю я, то мой сеньор непременно попробует испытать твою верность – то есть предложит дар, чем побудит и Титанию ответить на его дар своим. Должен признать, твоя госпожа необычайно искусна в угадывании желаний сердца.
– Спасибо тебе, – шепчу я, склоняя голову на его плечо. На миг мысли путаются вновь. – А Ариэль? Она вправду была занята?
– Да, у нее имелись кой-какие рутинные дела, но, не сомневаюсь, она не заставит себя ждать! – со странной нежностью он целует меня в висок. – Ну, а пока – не против ли ты, Миран-Миранда, как следует познакомиться с царством фей и эльфов? В конце концов, не могу же я оставить в невежестве собрата по посольскому ремеслу!
Радость, бурля, рвется наружу, и я от души смеюсь.
– О, дивный новый мир! Нет – дивные новые миры! А ведь раньше я не понимала, что мир на самом деле не один, но теперь обойду их все!
– Достойная цель, – соглашается Пак, нежно сплетая пальцы с моими. Что ж, не пора ли нам?
– Да, – без оглядки отвечаю я.
Путь истинной любви
Увы! Я никогда еще не слышал
И не читал – в истории ли, в сказке ль, —
Чтоб гладким был путь истинной любви.
Но – или разница в происхожденье…
Или различье в летах…
Иль выбор близких и друзей…
А если выбор всем хорош, – война,
Болезнь иль смерть всегда грозят любви[18].
Акт I
Иллирия, 1600 г.
Помона знала: сатир здесь. Из чахлого сосняка, покрывавшего склон рядом с дорогой, доносился шорох, хотя погода стояла безветренная. В уголке глаза метнулась тень.
Вот надоедливое старое чудище! Но все же рисковать обидеть его было нельзя. В силу причин, которых смертному не постичь, он был дружен с герцогом Орсино. Если Силен прекратит платить за ее услуги, несомненно, так же поступят и многие из придворных Орсино. Возможно, даже сам герцог. А ведь проезд до Милана обойдется ей во все – до единого дуката, – что удалось заработать за месяц тяжкого труда по всему иллирийскому побережью, обихаживая бесконечные шпалеры олив и нашептывая заговоры над увядшими виноградными лозами.
Что-то прошуршало в воздухе над самым ухом. Сосновая шишка. Упав в дорожную пыль, она покатилась вперед и постепенно замерла. Из зарослей можжевельника, подступавших к самой дороге, раздался раскатистый хохот.
Остановившись, Помона оперлась на посох.
– Очень мило с твоей стороны, Силен, льстить мне, – сказала она, – удостаивая старую ведьму тем же вниманием, что и девиц, навещающих твою виллу ради твоих прославленных прорицаний. Но я прекрасно понимаю, что для меня время подобных любезностей давно миновало.
Силен выскочил из кустов, распихивая ветви несчастного можжевельника. Дорожная пыль взвилась в воздух под ударами его копыт.
– Всего лишь хочу убедиться, что ты благополучно доберешься домой, – ответил он с отвратительной улыбкой. – Сегодня ты спасла мой виноградник от серой гнили, и уже не в первый раз. С моей стороны было бы черной неблагодарностью позвать старую женщину на свой виноградник, а после отправить ее домой одну, по прибрежной дороге, на радость разбойникам и пьяным матросам.
Вздор. Силеном двигала вовсе не забота о ее безопасности, и даже не распутство, а чистое удовольствие от причинения ей неудобств. Он шел за ней по пятам, швырялся шишками и гоготал просто от нечего делать, да еще оттого, что ему нравилось наблюдать, как ведьма всякий раз вздрагивает от неожиданности, досадливо морщится, но держит рот на замке.
– Стоит мне раз пройти по дороге, и я знаю ее так, будто прошла ею пять сотен раз. К тому же, дом мой недалеко. Не смею задерживать тебя, Силен.
Резкий, хриплый хохот Силена вспугнул пару голубей с каменной глыбы, возвышавшейся над поросшей кустарником осыпью. Устремив взгляд вперед, Помона заковыляла дальше. Видала она в жизни и много худшее, чем попутчик-сатир.
– Во время войн все дороги опасны для женщин, – негромко сказал Силен. – Грядет война. Скоро она явится и к нам, на берега Иллирии.
– К нам?
– И к нам явится, и распространится повсюду. Уж теперь, когда сам царь фей берется за оружие, дело мелкими стычками не ограничится.
– Царь фей?! Но Оберон не собирался воевать!
– Да, до сих пор не собирался. Но у него вышла размолвка с герцогом Орсино, и он встал на сторону испанцев. Я слышал это из уст самого герцога. Как видишь, дражайшая Помона, пожалуй, не стоит тебе отвергать мою компанию. Я знаю об интригах сего мира поболе твоего.
Вот напыщенный старый болтун! Если в войну вступил Оберон – проклятье, как трудно сосредоточиться, когда этот сатир скачет вокруг! – то, несомненно, не обойдется и без Венеции, его союзницы, давней обители двора царя фей и эльфов. Тогда путь в Италию по суше будет закрыт, а ехать морем – обойдется намного дороже…
Помона тяжко вздохнула.
– О, как неучтиво с моей стороны тревожить даму высокой политикой, – сказал Силен. – Забудь мои слова и займи мысли целебными травами, что для тебя куда привычнее.
Как бы избавиться от этой занозы? Он вправду намерен тащиться за ней хвостом до самого дома? Это ведь еще час пути или около того…
Слева вдали поблескивала синяя гладь Адриатики, справа высились холмы. Из-за склонов холмов доносились отголоски рокота вод Рассерженной реки, несшихся к морю по дну ущелья. Там, среди речных быстрин, имелись и броды, которые она легко могла преодолеть – с некоторой помощью мхов и трав. А вот Силен, если только он таков же, как все знакомые ей сатиры, воде не обрадуется и не рискнет ступить копытами на скользкие мокрые камни…
Не замедляя шага, Помона свернула с дороги и направилась вверх по каменистому склону, к краю ущелья, по дну которого протекала река.
Силен забежал вперед и преградил ей путь.
– Сударыня моя, ты сошла с дороги, – заметил он.
– Да. Это кратчайший путь к моему дому.
– Но тебе же нужно как-то переправиться через реку. А мост – там, впереди, дальше по дороге, за поворотом.
– Река неглубока.
– Реки противнее на свете не найти! Течение быстрое, камней полно. А, как ты, Помона, сама заметила… я сомневался, стоит ли об этом напоминать, но ты сама сказала, что… немолода.
На самом деле он же сам и сказал это, старый седой козел!
Помона ускорила шаг. Сатир полез наверх следом за ней.
С края невысокого утеса открылся вид на ущелье – его склоны были куда зеленее, чем высушенное солнцем взморье позади. Внизу, бурля, красовалась река.
Быстрым шепотом Помона отдала приказ своему посоху. Тот с готовностью повиновался, сделавшись крохотным прутиком, и она спрятала его в карман.
– Уверена, спуск с этого обрыва не составит для тебя труда, – сказала она. – А мне, лишенной копыт, придется искать другой путь.
Вон та лоза, обвившая высокий и тонкий, точно веретено, куст, прекрасно подойдет. Растение молодое, сильное, прочное… Помона зашептала нараспев, обращаясь к лозе. Та сделалась толще и длиннее, обхватила ее вокруг пояса и вознесла над краем обрыва, в воздух, прохладный от поднимавшегося снизу тумана. Силен изумленно вытаращился на нее, взглянул вниз, на реку, топнул ногой и исчез.
Помона расхохоталась, но смех ее был едва слышен за ревом воды. Должно быть, это все равно что полет – какой простор открывается взгляду, не стесненному преградами! Но Геката никогда не учила Помону летать. Метлы Помоны служили лишь для того, чтобы мести пол хижины, да еще – время от времени – чтоб глупые юнцы с юницами прыгали через них, держась за руки. Но ничего. Так оно даже лучше, чем летать. Надежнее.
Достигнув дна ущелья, крепко державшая Помону лоза опустила ее на плоский прибрежный камень и отпустила. Поблагодарив лозу, Помона отпустила ее восвояси, лоза скользнула вдоль отвесной скалы наверх и скрылась.
Над бурной водой возвышалось несколько валунов. Заставив три из них порасти мхом, Помона легко перешла на тот берег. Здесь, в царстве зелени, головная боль, вызванная жарой и пылью прибрежной дороги, утихла.
Склон ущелья по ту сторону реки немного отступал от воды, словно некогда, в древние времена, река была полноводнее и пробила в камне нишу, а после – отступила, оставив сухой клочок каменного дна у подножия крутого обрыва, заросшего зеленью, из которой там и сям торчали скальные выступы.
Один из этих выступов выглядел крайне любопытно: он был обнесен высокой каменной стеной с резным верхом. Из-за стены выглядывали верхушки плодовых деревьев.
Что за капризный бог или вельможа устроил парк или фруктовый сад за стеной прямо посреди отвесного склона речного ущелья? Тропинок на склоне видно не было, а по обе стороны от выбитой в скале ниши вода подступала к обрыву вплотную.
Оставляя на сером камне влажные следы, Помона шагнула вперед. Ни ступеней, выбитых в скале, ни лестницы, ни веревки… Только несколько чахлых сосенок росли из трещин в скале. Помона попросила одну из них пригнуться так, чтобы дотянуться до нее рукой. Но своенравное, непреклонное дерево заупрямилось. Пришлось пропеть целых три куплета одной старой-старой песни, прежде чем сосна пригнулась и выпрямилась, поднимая Помону наверх, пока она не смогла заглянуть за стену, окружавшую сад.
Да, за стеной и вправду оказался сад. Вдоль сияющих белизной дорожек были посажены лимонные и апельсиновые деревья с кронами, остриженными в форме шаров. А вот и персик, а рядом с ним – отважная сучковатая яблоня…
На дальнем краю сада, в беседке, увитой жимолостью, на каменной скамье сидел человек с книгой в руках. Линия плеча и склоненной головы повторяла очертания кустов бледных мускусных роз и красного шиповника по сторонам беседки. В волосах и бороде сидящего серебрилась седина. Пожалуй, он был одних с ней лет, хотя издали трудно было понять это наверняка. Помона упросила брюзгливую старую сосну поднять ее чуточку повыше и перегнулась через стену, ограждавшую сад.
Едва Вертумн добрался до середины предложения, на страницу въехала карета Маб. Встав на ноги в ореховой скорлупке, закрывшей часть слова «потоп», она скрестила руки на груди и уставилась на Вертумна.
Его крохотная тюремщица была куда могущественнее, чем казалась с виду. Вертумну вовсе не хотелось вдруг покрыться волдырями с головы до ног, как в то утро, когда он наступил на ее шляпу. Нет, он пытался объяснить, что верхушка горохового стручка вовсе не является шляпой в общепринятом смысле, а обретает сию сущность лишь post res[19] – как сказал бы Ибн Сина, ее шляпность следует лишь из того, что в ней видят шляпу, и потому для Вертумна, не разбирающегося в нарядах Маб и видевшего в сем предмете лишь верхушку горохового стручка, он никак не мог быть шляпой…
Дискуссия закончилась для него весьма болезненно.
Уж лучше ему впредь поостеречься и спрятать гордость в карман. Кто знает, долго ли надменная Титания намерена держать их обоих здесь взаперти? Конечно, Титания приставила Маб надзирать за ним в наказание, однако карать и наказывать подданных, по собственному убеждению царицы, вправе лишь она сама. Если Вертумн причинит крошечной фее хоть какой-то вред, Титания так разгневается, что вполне может продержать его здесь – а то и в другом, куда менее приятном узилище – многие годы, пока весь мир не решит, что его нет в живых.
Посему Вертумн удовольствовался тем, что проворчал:
– Предупреждаю: если твоя упряжка оставит следы на страницах моего прекрасного Руми, я целую неделю буду петь. Громко и фальшиво.
Словно в ответ ему, шесть лошадиных скелетиков – крохотных, не более ногтя – зафыркали и застучали копытами. Вертумн почувствовал, что при попытке разглядеть их глаза скашиваются к переносице.
– Ты должен быть осторожнее, Вертумн, – тоненьким голоском проговорила Маб. – Прямо сейчас за тобой следит человек, и если этот человек проговорится, что видел тебя, Титания будет разгневана.
Человек? Здесь? Скорее от изумления, чем от злости, Вертумн едва не захлопнул книгу, но вовремя сдержал руку. Быть может, вот он, случай передать весточку Оберону и обрести свободу? Что сделал бы на его месте сам Оберон? А Чертополох? А Пак? Как поступил бы настоящий эльф?
Вертумн окинул взглядом сад, но не увидел никакого человека. За тонкими стволами деревьев и невысокими кустами спрятаться было бы невозможно.
– Я никого не вижу, – сказал он. – А если в этот сад и проникнет человек, он увидит меня в обличье старухи. Сама Титания наложила на меня такие чары. Неужто ты сомневаешься в ее волшебстве?
– Нет! Глупец, как я могла бы? Разве не ее чарам обязана я тем, что так мала? Когда я правила Коннахтом, Вертумн, у меня был конь, которого не мог оседлать никто, кроме меня…
– Да-да, Маб, но дело в том, что сейчас ты мала, а я – в обличье старухи – точнее, должен выглядеть старухой в глазах людей, если только чары Титании еще не развеялись.
– Не сомневаюсь: если бы эта женщина пробралась в сад, чары Титании обманули бы ее зрение, – сказала Маб, поправляя волосы. – Но женщина, о которой я веду речь, не в саду, а над ним. Думаю, такого поворота Титания могла и не предвидеть.
Отодвинув в сторону ветку с золотистыми и изжелта-белыми, точно слоновая кость, цветами, Вертумн поднял взгляд. Вот она! На ветке сосны, нависшей над ближайшей к реке стеной, стояла женщина. На миг он встретился с ней взглядом…
…и ветка с треском обломилась.
Женщина упала ничком на дорожку. Отложив раскрытую книгу на скамью, Вертумн бросился к ней.
– Вы не пострадали? – спросил он, опускаясь рядом с ней на колени.
Женщина застонала, откинула со лба прядь ярких, крашенных хной волос и взглянула на него. На коже ее щеки блестели крошки белоснежного щебня. Перекатившись набок, она приподнялась на локте и нахмурилась.
– Вышибло дух, вот и все. Или, боже сохрани, еще и разум отшибло? Я ведь не видела вас в саду. Где тот мужчина?
Значит, чары Титании никуда не делись. Однако как же раздражает, когда тебя принимают за кого-то другого! В первое время, когда Титания учила его, подменыша, похищенное эльфами дитя, волшебству, Вертумн пристрастился превращаться в павлина или филина и как-то раз забыл, как превратиться обратно, и был вынужден расхаживать вокруг беседки, где сидела Титания, пока она не узнала его и, рассмеявшись, не взмахнула изящной белой рукой…
– Здесь нет никакого мужчины, – сказала Маб, повиснув в воздухе за его плечом.
– Да вы – волшебный народ! – ахнула женщина, вытаращив глаза.
– Да, – хором ответили Вертумн и Маб.
Вертумн мог бы сказать ей все – без раздумий выпалить, что он посол царя Оберона, облыжно обвиненный Титанией в непочтительности, похищенный при исполнении обязанностей и заключенный в этот сад, точно в тюрьму. Но даже если бы этой женщине удалось покинуть сад прежде, чем Маб сделает с ней что-нибудь неописуемое, ей не добраться до Оберона с весточкой прежде, чем Маб сообщит обо всем Титании.
Лучше продолжать играть перед Маб свою роль и ждать удобного случая.
– То есть она – настоящая фея, – поправился Вертумн, указывая на Маб и думая, как должен звучать его голос для слуха обманутой чарами женщины. – Я же, как видите, простая старуха, а этот сад – мой дом.
Женщина проводила взглядом Маб, порхавшую с цветка на цветок.
– Эта фея – моя компаньонка Маб, – добавил Вертумн.
– Царица Маб! – заявила крохотная мегера.
– Царица… – задумчиво протянула женщина. – Но в царстве фей царствует Титания. Где же тогда ваши владения?
– Вы, конечно же, слышали… – начала Маб.
– О, она заключена в ореховой скорлупке, но полагает себя царицей бесконечных пространств! – перебил ее Вертумн, ведь, стоит Маб лишь начать, и разглагольствованиям ее не будет конца. – Вопрос в другом: кто вы и как сюда попали?
Подняв с земли помятую соломенную шляпу, женщина расправила ее ударом кулака и водрузила на голову. Вертумн подал ей руку и помог встать.
Женщина была невысока ростом и уже достигла того возраста, когда на деревья запрещают забираться внукам, не говоря уж о том, чтоб лазать по ветвям самим.
– Мое имя – Помона. Молю простить мое любопытство. Я шла домой и, срезав путь, увидела этот сад и не удержалась, чтоб не заглянуть. Очень уж странное место для сада! К тому же… Могу поклясться – я видела мужчину, сидевшего на той скамье и читавшего. Читавшего ту самую книгу, что и сейчас там лежит.
С этими словами она направилась к каменной скамье.
Она его видела! Вот это удача! Если бы еще она рассказала о своих подозрениях там, на воле, где весть может дойти до ушей Оберона… Но для этого нужно убедить Маб отпустить ее – убедить, что она не представляет собою никакой угрозы, а значит, в этой женщине нужно пробудить подозрения, делая вид, будто развеиваешь их. Задача, несомненно, пустяковая для прирожденного дипломата.
Если бы только Вертумн был таковым…
Помона обогнула скамью и заглянула за кусты роз, словно надеясь обнаружить мужчину там. Интересно, как выглядит он, Вертумн, в ее глазах? В какое платье или же кертл[20] одета «старуха»? Чары Титании не изменяли его внешность, а лишь скрывали ее от взглядов смертных, и потому он даже при помощи зеркала не мог сказать, приятны ли черты его «женского» лица или как он причесан.
Помона подняла со скамьи книгу. Его книгу.
– Какой роскошный переплет. Никогда еще не видела подобного.
С этими словами она открыла книгу.
– «Для истины иного нет зерцала – лишь сердце, что любовью воспылало», – прочла она вслух по-персидски, словно для себя самой. – Вот как? Этот призрак читает Руми?
Она знает персидский! Кто же эта столь любопытная женщина? Может быть, все это – новая ловушка Титании? По всему – непохоже.
Упряжка Маб закружилась над головой Помоны, словно стая комаров.
– Уж не стрела ли Купидона сбила вас с ветки? – насмешливо пискнула она. – Как ни жаль, сударыня, но вы влюбились в собственную фантазию. Мужей для вас здесь нет.
Помона покраснела.
– Я знаю, волшебный народ любит морочить нас, показывая то, чего нет, и пряча то, что есть. Я видела здесь мужчину. Настоящего или призрачного – не могу сказать, однако ж видела.
– А если бы и так, то что из этого? – пискнула Маб. – Зачем искать его с таким неистовством? Или вы всякий раз, как вам привидится мужчина, бросаетесь туда, где видели его, и принимаетесь искать его за каждым деревом и под каждым кустом? Я и сама немало пожила, и потому могу дать совет: назойливо преследуя предмет своей страсти, вы возбудите в нем одно лишь презренье. Уж лучше бегайте за овцами, а не за мужчинами. По виду судя, вы не так богаты, чтоб скрыть свои морщины от мужчин, достойных этакой охоты.
Помона поджала губы, но промолчала. Если она и была частью коварных замыслов Титании, то сама явно не знала об этом – или же умела играть роль искуснее любого лицедея. Забредя в его сад, она нашла здесь лишь насмешки этой злонравной старой надоеды, обозвавшей ее уродиной и дурой.
Во имя Юпитера! Будь он в своем обличье, он доказал бы, что старая карга Маб неправа!
– Тебе ли, нетопырю, вести такие речи! – язвительно бросил он Маб. – Ты говоришь о любви, как говорила бы о далекой Индии – не смысля ни аза ни в том ни в другом!
В отместку она ринулась к нему, и копытца ее чудовищной упряжки простучали по его носу. Вертумн без раздумий взмахнул руками и поймал ее меж ладоней, сложенных в горсть – всего на мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы Маб обратила против него свои чары. Он вскрикнул: боль, начавшись в ступнях ног, устремилась вверх и охватила все тело. Перед мысленным взором возникло странное видение: на миг Вертумну показалось, будто он заточен не в прекрасном саду, но в промозглом каменном мешке, и воздух пахнет не цветами, а плесенью.
Он разомкнул ладони. Маб упорхнула, и вокруг вновь стало светло.
Помона опустила книгу на скамью и подбоченилась.
– Оставьте фею, сударыня. Она права. Уж я-то прекрасно понимаю, что красотой не блещу. И мужа не ищу – ни здесь, ни где-либо еще. Покажите, где выход, и я не буду более докучать вам. Где же ворота? Не вижу.
Взгляд Вертумна упал на его любимого Руми. Книга принадлежала ему, и на первой странице рукой Оберона, подарившего ему эту книгу в первые дни службы, когда повелитель еще сомневался в его верности, было начертано его имя.
Вся Иллирия наверняка шумит и строит догадки о причинах его исчезновения. И конечно же эта Помона, увидев слова «Вертумну, чтобы скрасить те часы, в какие он не нужен Оберону», догадается связать одно с другим. Но догадка должна прийти к ней не раньше, чем она окажется за пределами сада. Хватит ли ей ума отправить весть Оберону? Должно быть, да. Уж женщине, читающей Руми – и на персидском! – не потребуется лишних просьб и наставлений, как только она увидит факты.
Вертумн шагнул к ней. Настал деликатный момент: чтобы вручить ей книгу, нужна какая-то убедительная причина. Пусть Маб думает, что он очарован этой женщиной, или хотя бы притворяется очарованным из учтивости, чтоб сгладить жестокость насмешек Маб.
– Это моя книга, – сказал он, поднимая фолиант со скамьи.
С этими словами он повернулся к Помоне, взял ее под руку и повел по усыпанной белым щебнем дорожке, зная, что Маб маячит в воздухе за плечом.
– Думаю, – продолжал он, – вы, вероятно, видели за чтением меня, но игра света или проказы богов обманули ваш взор. Мне жаль, что я послужила причиной вашего разочарования и навлекла на вас издевки крошки-феи. Не смею вас долее задерживать – день клонится к закату. Однако позвольте женщине, чьи дни также клонятся к закату, одолжить вам этот экземпляр Руми, если уж он вам так понравился.
Помона покачала головой.
– Когда речь идет о книгах, я и сама не одалживаюсь и другим не одалживаю. Научена долгим опытом.
– И опыт не обманывает вас! Но взяв эту книгу, вы окажете мне неоценимую услугу. Ведь я знаю: взяв ее, вы непременно ее вернете, а значит, я вновь увижу вас. Таким образом, вы не одалживаетесь, но соглашаетесь взять книгу в залог будущей дружбы.
Помона рассмеялась:
– Довод – просто как по писаному!
Приняв у него книгу, она машинально раскрыла ее.
– Нет-нет, сейчас читать не время, – возразил Вертумн, мягко, но настойчиво положив руки поверх ее ладоней и закрывая переплет. – День угасает.
Они остановились – закрытая книга в ее руках, его пальцы поверх ее рук. Руки Помоны оказались теплыми, шероховатыми, грязь въелась в кожу, окаймляя ногти.
– В самом деле, день угасает, и вам, должно быть, тоже пора домой, – прошептала она, оглядываясь вокруг.
– А я – нечто вроде праздной затворницы, – громко и весело ответил он. – Я не покину свой сад. Я отреклась от отношений с мужчинами, но не от общества – тем более приятного. Лучше всего, если бы вы прочли эту книгу и принесли обратно, но поскорее. О, я понимаю, вы читали Руми, но у этого экземпляра весьма интересная обложка и иллюстрации, каких вы никогда не видели. Прочтите же ее – не медля, но внимательно – и возвращайтесь.
Забрав книгу, Помона подняла взгляд к его лицу. Что она видела? Могла ли прочесть истину в его взгляде?
Между тем Помона повернулась лицом к глухой стене, ограждавшей сад. К стене Титании, будто бы вытесанной из цельной глыбы полевого шпата – мелкозернистого, слегка поблескивавшего на свету. Уютный, теплый, добрый камень – лишь в одном месте была видна толстая прожилка, блестевшая, как застывшее льдом молоко.
Поверху жезл Титании вырезал черепа размером с человеческую голову – так тесно, что они почти касались один другого. Эти украшения были сплошь увиты темно-зелеными, матовыми, точно воск, стеблями вьюнов, проросших сквозь пустые глазницы, спиралями уходивших в носовые впадины и возвращавшихся наружу сквозь бреши меж оскаленных в ухмылках зубов.
Напоминание ему, Вертумну, о том, что стена сожжет его, чуть только он дотронется до нее…
– Помочь вам перебраться через стену я не могу, – сказал он. – Но, пожалуй, смогу помочь отыскать на дереве, через которое вы вошли, ветку покрепче.
Помона покачала головой.
– В этом нет нужды, – заверила она.
Шагнув к мальве, поднимавшейся вверх вдоль стены, она сорвала самый крупный цветок, оглянулась через плечо на Вертумна и с улыбкой приложила цветок к губам. Цветок закрутился, и вначале Вертумн решил, что она крутит его в пальцах, но тут же увидел, что это некое волшебство. Однако она была из смертных, а не из волшебного народа! Значит, ведовство. Вращаясь в воздухе, лепестки расправились и принялись расти, пока цветок не стал большим, точно зонтик.
Отвернувшись от Вертумна, Помона подняла цветок над головой и шагнула на широкий, темно-зеленый лист мальвы, напрягшийся под ее весом, будто живой. Ступая с листа на лист, она достигла верха стены, украшенного ухмыляющимися черепами, и без колебаний, без оглядки прыгнула.
Забыв обо всем, Вертумн бросился к стене, перегнулся через нее – и тут же с воплем отшатнулся. Обожженные ладони задымились. Там, за стеной, Помона плавно опустилась на прибрежный клочок суши, а ее цветочный зонтик уменьшился до прежних размеров и сложил лепестки.
Что же это за женщина? Кто она? О, оглянись же, оглянись – взгляни на его истинный облик!
– Какую чудесную пару старух ты увидишь сегодня во сне! – пропищала Маб над его ухом.
Вертумн встряхнул головой, как пес, которому докучают блохи. Он провожал взглядом Помону, пересекавшую реку. Она так ни разу и не оглянулась, так и не увидела его, смотревшего ей вслед из-за стены.
Теперь оставалось лишь ждать. Сколь долго? Но иного выбора не было. Только ждать и надеяться, что нынче же ночью, пока его мучают сны, насланные Маб, Помона сядет читать его книгу и начнет с самой первой страницы.
Акт II
Домой Помона добралась вскоре после заката. Там, у крыльца, заламывая руки, топтался брат Лоренцо.
– Со мной все благополучно, душа моя, – со смехом сказала Помона. – Просто срезала путь.
– Слепая прыть не менее вредна, чем мешкотная вялость копуна, – пробормотал брат Лоренцо, почесывая заросшую щетиной тонзуру. – Мне нужен корень мандрагоры. Одного из людей герцога, некоего Уильяма, мучают воспоминания.
– Что ж, один такой растет у меня в агатовом горшке. Он еще не дозрел, но я попробую уговорить его поторопиться. Однако мандрагора – растение неподатливое, и на это может потребоваться около часа. Входи, подожди, а тем временем выпей вина. Судя по твоему виду, ты в этом нуждаешься.
Помона пошептала над маленькой мандрагорой. Та недовольно застонала, но принялась поспешно дозревать. Пока брат Лоренцо занимался посудой и вином, она подошла к сундуку, чтобы убрать в него книгу старухи из странного сада.
Старухи, как же! Вначале Помона видела в саду мужчину, затем – женщину. Мужчина был там, пока она смотрела в сад, оставаясь незамеченной. Женщина же появилась только после того, как она, Помона, обнаружила себя.
Она поставила бы целый дукат на то, что это один и тот же человек! Допустим, эта женщина – фея или могущественная ведьма, и, когда Помона свалилась в сад, изменила свой облик. Но зачем? Может, крошка Маб была права? Может, этот мужчина решил, что Помона преследует его, и погнушался ею настолько, что счел за лучшее спрятаться? Ха! Да какая, в сущности, разница?
Разницы не было никакой, однако Помону снедало любопытство.
– Слыхала я, – обратилась она к брату Лоренцо, отпирая висячий замок сундука, – что на свете есть одна мазь. Если смазать ею веки, она покажет истинные обличья духов, эльфов и фей, и прочее, что скрыто от обычных взоров.
– О-о, если бы такая мазь существовала, пользоваться ей было бы слишком пагубно, – ответил монах, направляясь к задней стене хижины с двумя деревянными чашками в руках. – Видеть истинную сущность Господа нашего и его тварей – неважно, смертных или фей – нам, смертным, не дано от бога.
Милый старый трусишка! Помона знала кое-что о его прошлом и о причинах, побудивших Лоренцо оставить Верону и обосноваться в одном из самых тихих уголков Иллирии, став простым сельским аптекарем. Что бы он ответил, попроси она составить приворотное зелье? Очистить сок анютиных глазок, зовущихся также «любовью в праздности», чтобы она могла капнуть им на веки… Нет. Она давно утратила интерес к подобным глупостям. Любовники у нее были, а любви – не было. Так пожелала она сама. А если когда и восхищалась чьим-то умом или красой, то – издали.
Помона покачала головой, гоня эти мысли прочь, и подняла крышку сундука. Внутри хранились все ее трактаты о сущности растений: старый, истрепанный Теофраст, рассыпающаяся «Врикша-аюрведа» и ветхий «Китаб аль-Нурат». Вынув их по одному, она добралась до дна сундука, где хранилась драгоценнейшая из ее книг – манускрипт, кодекс в простом переплете из козлиной кожи.
Язык этого манускрипта не принадлежал людям и был передан настолько точно, насколько язык растений вообще можно передать диаграммами, шифрами, изображениями вьющихся стеблей и выделывающих антраша волшебных существ, знаками и преданиями обо всей той волшбе, которой Помона с Сикораксой втайне научились сами. И Помона выполнит то, что обещала давно умершей Сикораксе – отыщет этого мальчишку Калибана и передаст ему эту книгу и знания, завещанные матерью. Скоро. Уже скоро. Как только наскребет достаточно дукатов.
Одолженного Руми она уложила поверх кодекса. Пусть полежит в сундуке, пока у нее вновь не возникнет повода пройти мимо этого странного сада.
Происшествие по пути домой казалось сном, однако книга была здесь. В сундук ее! Поверх Руми, один за другим, легли трактаты о растениях, и Помона захлопнула крышку. Да, пусть себе лежит. Пусть лежит и не отвлекает от мыслей о важном. Ей нужно выполнить обещанное, и времени на всякую блажь нет.
– Неужто Силен расплатился с тобой книгой? – спросил брат Лоренцо прямо за спиной.
Подскочив от неожиданности, Помона поднялась и приняла у него чашку с вином. Монах знал о ее манускрипте. Более того – не кто иной, как он, рассказал ей о миланском пропойце, называющем себя Калибаном, сыном ведьмы Сикораксы.
– Нет, этот сатир не из книжников. Я одолжила ее по пути домой. Скажи мне, святой отец, что творится при дворе Орсино? Силен говорит, что Орсино надоело отправлять на войну корабли, и он решил принести войну прямо к нашим берегам, разозлив Оберона. Поверить в это не могу!
– О, это правда, – вздохнул монах. – Орсино мог бы проявить побольше терпения, если бы его не подзуживала эта Виола. Она любит герцога так истово, что сочла его честь оскорбленной, когда Оберон предположил, что это Орсино расправился с его послом-эльфом.
– С послом-эльфом?
– Разве ты не слышала? Посол Оберона, эльф по имени Вертумн, пропал без следа.
– Пропал?
– Убит. Во всяком случае, так полагает Оберон. Его посол благополучно прибыл к нам из Венеции, отправил первое донесение, и с тех пор о нем – ни слуху ни духу. Оберон винит в этом Орсино и называет его убийцей.
– Но что могло подвигнуть герцога на убийство посла царя фей и эльфов?
– Оберон знает лишь то, что он отправил Вертумна в Иллирию, а теперь Вертумн исчез. Виола усматривает здесь руку дона Педро Арагонского, стремящегося вовлечь Оберона в драку. Орсино, слава богу, пока ничего не решил. Но выглядит так, словно советники рвут его на части, как брошенный собакам мяса кус. Я сам слышал, как он кричал, что любого гражданина Иллирии, знающего, где находится Вертумн, но утаившего это от Орсино хотя бы на день, ждет виселица.
Помона покачала головой. Орсино был добрым человеком, но уж очень легко поддавался влиянию.
– К счастью, у меня сейчас нет дел при дворе.
– Тучи сгущаются, и это нужно прекратить, пока не грянула гроза. Орсино и Оберон, некогда столь глубоко уважавшие друг друга, столь изысканно любезные меж собой, теперь плюются от злости, говоря друг о друге! И все же, я думаю, ни один из них не знает, что сталось с Вертумном на самом деле. Возможно, он затеял какую-то собственную эльфийскую каверзу. Уж если эльф пожелает скрыться, он без труда найдет укромное местечко или примет чужое обличье.
Скрыться! Укромное местечко!
Помону словно обдало волной холода. Дрожащей рукой она опустила чашку на стол.
– Что с тобой, дочь моя? Отчего ты так побледнела?
– О, отче, если бы у тебя была мазь, помогающая видеть истинную суть вещей! Сегодня мне на глаза попалось нечто очень странное. Боюсь, это связано с тем делом.
– С исчезновением посла? Рассказывай!
– Книгу, что принесла сегодня, я получила от незнакомки – та настояла, чтобы я взяла ее. Эта женщина живет в саду на скальном выступе посреди склона речного ущелья, в стороне от всех и вся. Я случайно набрела на него по пути домой.
– В ущелье Рассерженной реки? Странно, очень и очень странно…
– А я о чем говорю?
– Так, – сказал монах, отыскав на столе Помоны, сплошь заваленном вощеными дощечками и бирками и уставленном горшочками с рассадой и черенками, место, чтобы поставить чашку. – Позволь взглянуть на эту книгу.
– О, это всего лишь стихи…
Помона вновь полезла в сундук и принялась – один за другим – извлекать свои трактаты, пока не добралась до увесистого тома Руми в переплете, сплошь изукрашенном золотом и серебром. Вытерев руки о рясу, брат Лоренцо раскрыл книгу.
– Здесь явно название, но я не могу его прочесть. Что это за язык? О, а вот здесь надпись по-венециански, превосходным почерком: «Вертумну, чтобы скрасить те часы, в какие он не нужен Оберону». Святой Франциск!
– Дай-ка взглянуть, отче, – вмешалась Помона, заглядывая ему через плечо. – Здесь вправду написано «Вертумну»?
– Да! По всей вероятности, женщина, что дала тебе эту книгу, получила ее от него!
– Возможно, – согласилась Помона, забрав у брата Лоренцо книгу и легонько коснувшись пальцами страницы с надписью, выведенной выцветшими фиолетовыми чернилами. – Но я думаю, эта повесть намного запутаннее. Простого пути в тот сад я не нашла, и потому поднялась на дерево, росшее у ограждавшей сад стены. Никем не замеченная, я заглянула за стену и увидела мужчину.
– Мужчину? Какого именно?
Образ его до сих пор был ярко запечатлен в памяти Помоны…
– Благородного господина, читавшего книгу. Но, стоило мне свалиться с дерева и оказаться в саду, мужчина исчез. Вместо него появились старуха и крохотная фея, наподобие пикси. Мне еще подумалось, что эта старая женщина чем-то похожа на пропавшего мужчину. Кожа того же оттенка, те же вьющиеся темные волосы, пронизанные сединой – вот здесь, у виска. Я слышала, что некоторые волшебные существа могут менять облик – свой либо чужой. Но вот что непонятно: если эта женщина – действительно пропавший посланник Вертумн, то по своей ли воле он прячется?
– Как бы там ни было, об этом нужно сообщить Орсино – сегодня же. Ты можешь прекратить вражду двух дворов. Ты можешь бросить в землю семя мира! Бери моего осла, скачи на восток и сообщи обо всем герцогу. А я присоединюсь к тебе, как только составлю снадобье для Уильяма.
– Но что станется с Вертумном?
– А что с ним может статься? Скорее всего, он дал тебе эту книгу с тем, чтоб ты узнала его имя. Отсюда следует, что он – пленник. И если его держат в плену, пусть так и остается, пока истина не достигнет ушей Орсино.
– Допустим, мое появление насторожит его тюремщиков, и к прибытию Орсино в том саду не окажется никаких фей и эльфов, а то и сам сад исчезнет, если постройки эльфов так иллюзорны, как говорится в сказках. Нет. Уж позволь мне вернуться туда и самой доставить этого эльфа, будь он мужчиной или женщиной, к Орсино.
– Ты собираешься силой захватить эльфа? В одиночку?
– Можешь пойти со мной.
– О, но ведь я не могу откладывать поручение Орсино! Я должен привезти снадобье его слуге. Я обещал вернуться никак не позже, чем через два дня, а одно приготовление снадобья займет целый день.
Да, в старике не осталось ни капли храбрости…
Помона опустила руку на его плечо.
– Тогда бери корень мандрагоры и займись своими снадобьями. Прошу лишь об одном: если ты окажешься во дворце герцога раньше меня, не говори Орсино ни слова об этом деле.
Монах покачал головой:
– Рисковать головой… Вдруг он прознает, что я скрыл от него этакие сведения?
– Подумай, что будет с нашими головами, если мы ошибаемся, или если этот сад исчезнет, а мы внушим Орсино ложные надежды и выставим его дураком. Молчи и дожидайся меня. Если этот эльф вправду окажется Вертумном, я доставлю его к Орсино, и, клянусь небом, вновь увижу его истинное лицо. Я прекрасно знаю, что еще не выжила из ума!
Помона отправилась в путь перед заутреней и добралась до сада за стеной с первыми лучами солнца, проникшими в ущелье. К счастью, сад был на месте – а то она уже едва не убедила себя, будто все это был только сон.
Главным препятствием была Маб. Если Вертумн, эльф, содержится в плену помимо воли, значит, крошка-пикси действительно сильна.
Помона давно примирилась с тем, что она – всего лишь ведунья-травница. Однако толика боевой волшбы сейчас совсем не помешала бы – если бы только Геката сочла нужным обучить Помону хоть чему-нибудь этакому. Растения можно использовать по-разному, и многие из них ядовиты. Но какова должна быть сила яда, чтобы вывести Маб из строя, не погубив ее? Это было выше понимания Помоны. И, главное, как подсунуть ей яд? Капнуть в ухо, если спит? Подмешать в пищу, если бодрствует?
Нет. Помона всю жизнь избегала брать грех на душу, если только у нее был выбор.
Одно из ее заклинаний могло бы удержать Маб достаточно долго, чтобы благополучно увести Вертумна. Оно не предназначалось для боя и вообще не должно было причинять кому-либо вред. Они с Сикораксой изобрели его вместе, мечтая научиться делать дриад из упругих ив или могучих дубов, чтобы те охраняли границы их крохотного клочка алжирских земель на манер легендарного Колосса, впечатлить этим Гекату и заставить ее учить их высшей магии – магии полета, иллюзий и пророчеств.
Но Сикоракса с Помоной были юны, не в меру торопливы, и задача оказалась им не по силам. Испытав свое заклинание на кошке, они застряли на полпути: несчастная кошка превратилась в дерево лишь наполовину. Из ствола дерева торчала, оглашая окрестности истошным воем, усатая голова, а по другую сторону ствола кору судорожно скребли задние лапы. Оказавшись перед выбором – убить животное или сознаться в своей глупости Гекате – они предпочли последнее. Великая ведьма освободила бедную кошку, после чего обе ученицы испытали на себе всю остроту языка наставницы.
Наверное, именно после этого интерес Сикораксы к магическим штудиям начал угасать. Она была на два-три года старше Помоны и все чаще начала рассказывать подруге о своем возлюбленном, взяв с нее клятву хранить тайну. Другого случая испытать заклинание превращения в дриаду им так и не представилось. Вскоре Сикоракса понесла, наотрез отказалась вытравливать плод, и Геката изгнала ее на пустынный остров, где та и прожила до самой смерти.
За все эти годы Помона так и не отважилась вновь попробовать это заклятье. И если сегодня она воспользуется им, дриады у нее не выйдет. Она ведь – всего лишь ведунья, годящаяся лишь на то, чтобы избавлять от заразы виноградники да выращивать целебные травы. Этим она и удовольствовалась на многие годы – и, надо сказать, не без облегчения.
Однако ей и не требовалось, чтобы заклинание сработало как нужно. Оно должно было завершиться той же неудачей, что и в первый раз – тогда Маб надолго застрянет в ловушке, и Помона успеет освободить Вертумна, если он и вправду в неволе. А после Вертумн, если он действительно эльф, лишь на время лишившийся волшебной силы, может освободить Маб сам или попросить об этом Оберона. В самом худшем случае Помона может обратиться за помощью к Гекате, хотя даже мысль об этом вгоняла в дрожь.
Что ж, если уж браться за дело, то поскорее. Но как? Вновь заглянув через стену в поисках крошки Маб, Помона рисковала быть замеченной и лишиться одного из главных своих преимуществ – неожиданности.
Вдоль берега, склонив ко дну ущелья ветви, росли ивы… Вот то, что нужно: бледно-зеленая гусеница-землемер ползет под листок, чтобы укрыться в его тени. Землемеры были единственными обитателями царства животных, с которыми Помона умела говорить – и то с трудом и лишь благодаря тому, что они считали себя растениями. Сорвав листок, она зашептала, обращаясь к гусенице, дунула на листок, отправив его в полет, и продолжала дуть сквозь сложенные горстью ладони, пока листок не поднялся наверх и не исчез за ограждавшей сад стеной.
Небо становилось все светлее. В ожидании Помона мерила шагами берег. Наконец листок вернулся к ней, неся на себе насмерть перепуганного землемера.
– Ну? – спросила Помона, поймав листок. – Ты видел фею? Маленькую, чуть больше тебя?
Разведчики из гусениц никудышные. Это создание могло лишь кивать или отрицательно качать головой, пока Помона задавала ему вопрос за вопросом. К немалому облегчению обеих ведунье, наконец, удалось понять, что Маб спит в дамской туфельке недалеко от ближней границы сада. Спрашивать о Вертумне у Помоны уже не было сил.
Помона достала из котомки маленькую веточку самшита и закрутила ее меж ладоней, словно суча крепкую буро-зеленую веревку. Прочности должно хватить. Воткнув один конец в ил между камней на берегу, она еле слышно запела растению древнюю песнь.
Самшит рос, повинуясь рукам и словам Помоны, пока не дотянулся до верха ограждавшей сад стены живой изгородью в форме лесенки. Помона прекратила пение, встряхнула руками, успокаивая дрожь, и собралась с духом.
Семнадцать упругих, гибких ступеней вверх по самшитовой лесенке – и Помона достигла цели. Пригнувшись, она заглянула за стену сквозь щель между черепами, ограждавшими сад Вертумна. Он оказался там! Тот самый пропавший мужчина лежал на той самой скамье, на которой сидел вчера за чтением, прикрыв лицо изящной мускулистой рукой. И никаких женщин вокруг…
А вот и туфелька! Сощурившись, Помона разглядела Маб, спавшую внутри, укрывшись лепестками цветка, как одеялом. Лиловый ночной колпачок из чашечки аконита вздрагивал на ее голове в такт похрапыванию.
Напев для заклинания дриад сложила Сикоракса. Многие годы Помона безуспешно пыталась забыть его, но этот мотив неизменно возвращался и навязчиво крутился в голове, когда Помона занималась стиркой или высаживала семена. Порой она просыпалась среди ночи оттого, что напев гремел в памяти, точно в ночных кошмарах она создавала целые полчища дриад.
Но сегодня, чтоб вспомнить его, Помоне пришлось призадуматься. И даже после этого он оказался немного не таким, каким создала его на алжирских берегах давно умершая ведьма. В нем помимо воли Помоны возникли новые нотки: напев звучал не так зловеще, но чуточку живее. Ну что ж, она ведь много старше той, давней Сикораксы. Старше и добрее…
Из туфельки поднялся, выпустив три бледно-зеленые веточки, тоненький побег сосны с крохотным, отчаянно визжащим личиком, едва выступавшим над смолистой корой.
Перебравшись через увенчанную черепами стену, Помона бросилась к скамье. Все верно, все верно! Мужчина и женщина оказались одним и тем же человеком! Все зависело только от того, где находится Помона – в саду или за его пределами. И вскоре они окажутся снаружи вместе…
Плечо оказалось на ощупь таким же, как и на вид – женским.
– Скорей! Просыпайтесь! – прошипела Помона. – Маб в ловушке, но не знаю, надолго ли!
Женщина на скамье открыла глаза.
– Значит, вы прочли надпись, – сказала она.
– Можем поговорить об этом, – ответила Помона. – А можем поскорее убраться отсюда.
– Вы одна? – пробормотала женщина, поднимаясь на ноги и перебрасывая край длинной золотой мантии. – Я надеялся, что вы пришлете сюда Оберона. Как же вам…
– Нет времени на вопросы. И Оберона здесь нет. Придется вам удовольствоваться мной. Идемте же, переберемся через стену, пока нас не схватили.
Было бы быстрее и надежнее схватить женщину за руку и пуститься бежать, как в детстве, но Помона предпочла видеть пленника краем глаза и не сводить взгляда с жуткого деревца-Маб. Поворачиваться к фее спиной она не осмелилась.
Проходя мимо яблони, Помона не удержалась от искушения шепнуть словечко паре прекрасных красно-золотых яблок, свисавших с одной из нижних ветвей, и плоды упали прямо в подставленную ею соломенную шляпу.
Наконец они подошли к стене, и Помона запела, веля самшитовой лесенке еще подрасти, перегнуться через стену и спуститься в сад. По пути наверх ее спутница оступилась – чтоб лазать по живым изгородям, необходим навык, – и ее туфля коснулась стены. Женщина вскрикнула от боли, но добралась до верха стены. Нога ее дымилась и кровоточила…
…а сама она стала мужчиной.
Да, именно его и видела вчера Помона! Только теперь он был рядом с ней. Заниматься его ожогом времени не было. Следовало поспешать.
– Нельзя мешкать, – выдохнула Помона, подхватывая его под локоть.
И вот эта твердая, мускулистая, теплая рука всего лишь миг назад была женской! Да, то были всего лишь чары, однако Помона никак не могла поверить собственным глазам.
– Вы меня видите? – спросил он сдавленным от боли голосом.
Помона кивнула в ответ, не зная, что сказать. Поддерживая его под локоть, она помогла ему спуститься на скальный выступ, усыпанный галькой. Так, бок о бок, они двинулись вдоль обрыва, и вскоре сад скрылся за поворотом. Здесь можно было переправиться на другой берег незаметно для Маб, даже если она уже успела освободиться.
Помона окликнула три плети плюща, росшие на краю каменного карниза, и велела им дотянуться до противоположного края ущелья. Получился простейший мостик: один стебель – чтобы идти, два – чтобы держаться.
– Вертумн, – сказала она, как ни в чем не бывало обращаясь к нему по имени, – справитесь?
– Справлюсь, – процедил он сквозь стиснутые зубы.
Значит, ее догадки верны. Посол Оберона! Опасная компания, что и говорить. Но, отведя его к Орсино, Помона не останется без награды.
Ухватившись руками за плети-перила, Вертумн повис на них и заковылял по мостику, будто на костылях, опираясь на руки и перенося здоровую ногу вперед. Помона последовала за ним, упрашивая плющ стать как можно сильнее и как можно крепче держать их над бурной рекой внизу. Скоро ли Маб сумеет освободиться? Должно быть, сила крошки-феи велика, если ей удавалось держать Вертумна в плену…
Перебравшись через ущелье, они оказались невдалеке от того места, где накануне Помона рассталась с Силеном.
Вертумн низко поклонился, взмахнув перед собой рукой, а другую руку подняв к небу.
– Я – ваш вечный должник, – сказал он. – И весьма сожалею, что не могу задержаться даже на час, как ни искренне мое желание побеседовать с вами. Увы, я нужен Оберону, и плачевное состояние государственных дел не позволяет мешкать.
Ха! Кто бы позаботился о плачевном состоянии ее дел!
Помона покачала головой.
– Вы отправитесь со мной к Орсино.
Вертумн сдвинул брови.
– Я – посол Оберона. Меня держали в плену не одну неделю, ни словом его не предупредив.
– Знаю. Оберон обвиняет Орсино в вашей смерти. Но зачем герцогу убивать вас? И, раз уж на то пошло, как вы оказались пленником в этом саду? Все это очень похоже на уловку, которая обеспечит Оберону повод вступить в войну против герцога и его союзников.
Вертумн всплеснул руками.
– Ничего подобного!
– Как же тогда это вышло? – подбоченясь, спросила Помона. – Как получилось, что эльф, придворный Оберона – не кто-нибудь, а его личный посол и к тому же, если не ошибаюсь, мужчина не из слабаков – оказался отдан на милость пикси и заперт в саду за стеной?
Вертумн со вздохом запустил пятерню в свои черные, как железо, кудри.
– Царица Титания издавна питает ко мне вражду. Она лишила меня волшебной силы, посадила под замок, приставив ко мне Маб в качестве тюремщицы, и наложила на меня чары, меняющие мой облик в ваших глазах. И потому мне необходимо вернуться к Оберону не только ради его спокойствия и прекращения ссоры с Орсино, но и затем, чтобы вновь обрести силу. Стоит мне наткнуться на Титанию здесь, в чужой земле, в моем нынешнем состоянии… Могу себе представить, что она сделает со мной в наказание за побег.
– Складная история, – презрительно усмехнулась Помона. – Но разве Оберон и Титания – не муж и жена?
– Их брак – не из обычных… Когда-нибудь я многое расскажу вам о них. Но сейчас, если только вы не желаете войны между Обероном и Орсино, самое лучшее, что вы можете сделать – это распрощаться со мной и отпустить меня к Оберону, успокаивать его гнев.
– Должно быть, эти чары сквасили вам мозги, – резко возразила Помона. – Двор Оберона – в Венеции. Венеция далека, и добираться туда – хоть по воде, хоть по суше, да с поврежденной ногой… Пока вы доберетесь до Оберона, мы оба окажемся в самой гуще жестокой войны. А до дворца Орсино всего полдня пути – вон по той дороге вдоль побережья.
– О, Помона, вы должны верить в лучшее. Гнев Оберона вспыхивает и гаснет, как сальная свеча. Я отправлю ему весть, как только смогу. Оставьте у себя ту книгу, что я дал вам, как память о том, что мы не закончили беседу. А если пожелаете, приезжайте в Венецию, ко двору Оберона. Думаю, какое-то время меня можно будет застать там – вряд ли он отошлет меня обратно к Орсино, пока положение дел не прояснится. Прощайте же!
С этими словами он развернулся и захромал по каменистому склону вниз, к пыльной прибрежной дороге. Если Орсино узнает, что она, Помона, отпустила Вертумна, ей не сносить головы. Конечно, ей не удержать эльфа против его воли, но он сказал, что лишен волшебной силы… А если это правда, если перед ней – не более, чем простой человек, то она вполне справится.
Сжав в ладони конец плети плюща, игравшей роль перил мостика, Помона вновь зашептала, веля ей сослужить еще одну службу. Плющ метнулся вперед и захлестнул запястье Вертумна. Тот вскрикнул, но Помона принялась тянуть стебель к себе, и Вертумн волей-неволей заковылял по склону обратно.
– Я сказал чистую правду и не сделал тебе ничего дурного! – выкрикнул он. – Чем ты еще недовольна, ведьма?
Плющ выстрелил новым побегом, захлестнувшим второе запястье Вертумна и притянувшим его к первому.
– Дело не в моем довольстве, а в довольстве герцога Орсино, – ответила Помона. – Ты сможешь поведать обо всем ему. Если он останется доволен, то может посадить тебя на корабль и отправить к Оберону за свой счет – или отправить Оберону послание. Герцог – человек справедливый и, вдобавок, мой постоянный заказчик. Так что мне выбирать не приходится. Я должна отвести тебя к нему – хоть волей, хоть неволей.
– Так ты освободила меня лишь затем, чтобы держать в неволе?
– Я освободила тебя лишь затем, чтобы ты смог вместе со мной отправиться к Орсино. Откуда мне было знать, что ты заупрямишься, как осел?
Акт III
Не будь он лишен волшебной силы, Вертумн развеял бы эти колючие стебли в прах. Будь это какой-то год – да хоть месяц – назад, будь он все тем же доверенным лицом Оберона, а не оборванным беспомощным скитальцем… О, будь он настоящим эльфом, Титания ни за что не поступила бы с ним этаким образом!
Титания полагала волшебную силу Вертумна своим даром, потому что сама наделила его этой силой многие годы назад, когда он был простым смертным, мальчишкой-подменышем. Она заявляла, что полюбила его как родного в память о своей близкой подруге, высокопоставленной индийской даме, которая умерла, даровав ему жизнь. Она говорила, что Вертумна пришлось избавить от грубой сущности смертного, дабы сделать его лучше, чем был.
В то, что он истинный эльф, волшебное существо с головы до ног, очень хотелось верить. Он учился так споро и охотно, что придворные Титании хлопали в ладоши от восторга, видя, как он осваивает новые премудрости. Они наделили его знанием языков, и он читал им вслух истории и сказки – сами они терпеть не могли чтения.
Мало-помалу Оберон возревновал и попросил прислать Вертумна в гости к своему двору. Титания не соглашалась, пока Оберон обманом и волшебством не устроил так, что она изменила ему со смертным в облике осла. Этим Оберон надеялся устыдить ее настолько, чтобы она сама отдала ему все, чего он ни пожелает.
Но устыдить Титанию оказалось не так-то просто. Вместо этого столь беспардонная манипуляция ее чувствами – совершенно закономерно – привела царицу в ярость. Гнев Оберона вспыхивал и гас, как сальная свеча, ярость же Титании пылала, точно угли – а они опаснее всего, когда снаружи кажутся всего лишь золой. Она сделала вид, что успокоилась и стала сговорчивей, и отослала Вертумна к Оберону, как троянского коня, втайне наказав ему шпионить для нее при дворе мужа.
– Будешь моими глазами и ушами, – сказала она. – А когда я призову тебя обратно, дитя мое, ты вернешься и сообщишь мне имена всех его фаворитов и все подробности его коварных планов и диких выходок.
Прошел год, за ним – другой, но Титания все не звала Вертумна назад. А когда призвала, Вертумн уже был слугой Оберона.
При дворе Оберона его не выставляли напоказ, будто какое-то диво в клетке зверинца. Он мог взять любую книгу, какую только пожелает, и спокойно предаваться чтению. Он мог пользоваться волшебной силой по собственному разумению, и никто не насмехался и не хлопал в ладоши, когда он вступал в споры с белками или парил высоко над лесом на своем ковре. Там он наконец-то почувствовал себя настоящим эльфом.
Но, как бы то ни было, его никогда не допускали к веселым, судя по взрывам смеха, перешептываниям Оберона с Паком и прочими советниками, и ни разу не пригласили на Охоту вместе с прочими фаворитами. Все это время он был более чем человеком, однако менее чем духом.
Будь он настоящим эльфом, сейчас же ушел бы – растаял в воздухе, как сильф, исчез, как первая любовь. Будь он настоящим эльфом, наверное – наверняка! – Титания не сумела бы лишить его волшебной силы, дарованной ею самой давным-давно.
Но нет, он был связан, ранен и вынужден хромать следом за этой ведьмой, будто свинья, которую ведут на рынок.
– Наконец-то у нас есть время, – заговорила ведьма, прерывая его невеселые думы. – Пора тебе рассказать, как ты очутился в этом саду.
Вертумн рассмеялся.
– Боюсь, чтобы рассказать всю историю целиком, понадобится очень долгий путь! Эта история – длиной не в одну сотню лет, и то если считать только мою часть. Вкратце, суть такова: я родился в Индии, и еще в детстве был похищен – подменен эльфами и взят приемышем ко двору Титании. Но я еще ребенком предпочел ей Оберона и оказался в немилости у царицы. С тех пор прошло много лет, и я думал, что Титания давно забыла о своей немилости, но она никогда ничего не забывает. Этим летом я прибыл в Иллирию, ко двору Орсино, с приветом от Оберона. Тут-то Титания и решила наказать мою дерзость. И заперла меня в этом саду.
Ведьма замедлила шаг, и дальше они пошли рядом, однако их все еще соединял стебель плюща – один конец Помона крепко держала в правой руке, другой же стягивал его запястья. Как прекрасен был мир вокруг! Как парил бы он в юности над этими холмами, над куполами тисов и минаретами кипарисов…
– Но ведь она, несомненно, понимала, что исчезновение посла во время войны приведет к великим бедам, – заметила Помона.
– Она никогда не питала особого интереса к делам людей – хотя бы такого, какой проявляет Оберон. Для них обоих человечество – что-то вроде забавы. Только для Оберона это игра наподобие «Девяти пляшущих мужчин»[21], а для Титании – скорее, нечто вроде медвежьей травли. Если люди начнут рвать друг друга на куски, это ее лишь развлечет.
– А ты сам? Кто ты – человек или дух? Я еще никогда в жизни не встречала подменышей. Даже и не думала, что после этого они как-то живут.
Не думала… Да ведь вся его жизнь прошла «после этого»! В душе и по давней привычке он всегда оставался похищенным ребенком. Даже теперь, когда стал настолько стар, что мог бы иметь не только собственных детей, но и дюжину поколений внуков, если бы остался дома, в Индии, и прожил обычную человеческую жизнь.
Каждый год Оберон спрашивал, не хочет ли он прекратить старение тела, пока, чего доброго, не превратился в бессмертный ходячий скелет. И всякий раз Вертумн отвечал отказом. Поначалу полагал, что, стоит ему перестать выглядеть, как дитя, к нему перестанут относиться, как к ребенку. Затем рассуждал, что, если не будет выглядеть юнцом, его начнут уважать. После думал, что, если в волосах появится чуток седины, Оберон начнет обращаться к нему за советом…
Не тут-то было! Характер Вертумна был слишком цельным, чтобы ему можно было доверять. Поэтому он принялся дробить его, пустившись в разгул. Он стал бо́льшим эльфом, чем сами эльфы. Он устраивал смертным такие пакости, от которых покраснел бы сам Пак. Он менял любовниц так легко, словно собирал цветы…
Так продолжалось, пока Вертумну не стукнуло пятьдесят. В свой день рождения он выпил чару вина и сказал: «Ладно, ладно, на этом и остановлюсь». И Оберон выколол на его спине пятьдесят знаков – пятьдесят чисел, записанных символами малаялама, языка его матери. Жгучая боль родного языка под кожей вновь – в последний раз – толкнула его к вину, а после он вернулся к книгам. Размышляя над трудами философов, он искал те ответы, которые ускользали от него до сих пор.
– Пожалуй, я – ни то ни другое, – ответил он. – Всю жизнь я знал, как я, должно быть, необычен, как уникален… О, вижу, ты закатываешь глаза. Думаешь, что я слишком спесив… Однако я помимо воли чувствую себя не более, чем человеком или эльфом, но и для того и для другого чего-то не хватает. Выходит, я – не то, что я есть? Я искал свою истинную природу везде и всюду, но покуда так нигде и не нашел ее.
– Х-ммм… – задумчиво протянула Помона, доставая из котомки яблоко. – Яблочка хочешь?
В ответ Вертумн поднял кверху связанные руки.
– Освобожу одну руку, если свяжешь себя словом чести.
Вертумн пожал плечами.
– Я отчего-то сомневаюсь, что смог бы освободиться от твоего плюща, даже имея свободную руку.
Помона усмехнулась.
– И правильно делаешь.
Один из побегов, разматываясь, со свистом рассек воздух и исчез. Привязанной осталась только правая рука. Встряхнув левой кистью, чтобы размять затекшее запястье, он потянулся за яблоком. Помона вынула из котомки второе, для себя, и они пошли дальше, бок о бок, жуя на ходу. Яблоко оказалось замечательным на вкус, нежным, как речная вода, твердым, но не слишком кислым. Вполне возможно, оно было лучшим из яблок, какие ему когда-либо доводилось пробовать. Титания потрудилась на славу.
Некоторое время шли молча. Казалось, Вертумн слышит, как ее мысли текут в одном направлении с его собственными, так же, как ее шаги шуршат по пыльной дороге в такт его шагам.
– Природа растений меняется со сменой времен года, – наконец заговорила Помона. – Парацельс говорит, что растение может быть и ядом, и лекарством – все дело в количестве. Таким образом, природа растения зависит от того, как его применить. Я всегда думала, что то же самое можно сказать и о человеке.
– Значит, ты согласна с утверждением Ибн Рушда, что существование есть то же самое, что сущность?
– Ха! У меня сроду не было времени на схоластические дискуссии! Все эти ангелы с иглами, пещеры, стулья… Что в этом проку? Сущность человека можно определить по его деяниям, следовательно, его деяния вполне можно назвать его сущностью.
– Да, но какова кроющаяся под ними истина?
– Истина всегда истина, – ответила Помона. – И под, и над, и снаружи, и внутри…
– И это говоришь ты, только вчера наблюдавшая меня в виде женщины?
– Разве в тебе что-то менялось, когда я видела тебя не таким, каков ты на самом деле? Разве твои деяния изменились от этого? Свою природу, свою сущность невозможно найти. Ее можно только строить, шаг за шагом.
Интересно, когда она на самом деле поняла, кто он? Неужели только потом, усевшись за чтение книги у себя дома?
– Тогда скажи мне, Помона, – заговорил он, – какова твоя собственная природа?
– Она такая, как нужно мне – или тому, кто платит мне за мою службу.
– Так просто? Но вот Руми говорит: во сне и царь не знает, что он царь, а пленник – что он пленник. Так кто же тогда мы, когда мы спим? Когда мы – только мы, в ночи, нагие, не занятые делом никаким?
– Разве ты всегда ничем не занят, когда наг? – возразила Помона.
От изумления Вертумн расхохотался. Помона шла вперед, глядя мимо него на гладь Адриатического моря, сверкавшую в лучах солнца. Солнце светило ей в лицо, и она улыбалась – чуть кривоватой гномьей улыбкой. Пожалуй, она, эта ведьма, вырвавшая его из лап самой Титании, напроказила в жизни побольше иного эльфа!
Помона почувствовала, как угрожающе легок ее шаг. Что-то внушало радость, точно в преддверии чуда.
Солнце припекало все жарче.
Она услышала лай еще до того, как увидела собак и поняла, что впереди у них с Вертумном перекресток трех дорог. Тьфу на ее рассеянность! Долгие годы она опасалась таких перекрестков, готовясь к встрече с могущественной Гекатой, и надо же было этой ведьме появиться именно сегодня!
Собаки Гекаты возникли из воздуха одна за другой. Вертумн попятился назад, стебель плюща натянулся, но Помона осталась на месте. Бессмысленно прятаться от Гекаты, если она желает говорить с тобой. В этом Помона не однажды имела случай убедиться.
Собаки – чертова дюжина, это Помона знала, даже не трудясь считать – тявкали и рычали, пока среди них не появилась и сама Геката. Лай стих.
Царица ведьм выбрала тот облик, в котором издавна предпочитала показываться на глаза чужим. Ее телом служила длинная кривая палка, а руками – другая, привязанная к первой поперек. Голову полностью укрывал кусок черной ткани, завязанный на шее и до того длинный, что все четыре его угла ниспадали почти до самой земли.
Сикоракса называла этот облик пугалом.
Вертумн нахмурился, глядя на Гекату и мастерски делая вид, что ничуть не боится.
– Что это за блажь? – спросила Геката, указав на Вертумна.
Что за голова скрыта под капюшоном, никто не знал, но, стоило Гекате заговорить, всем вокруг казалось, что под облегающей тканью шевелятся губы. Собаки радостно оскалились и раболепно припали перед хозяйкой на передние лапы.
– Это эльф, – ответила Помона.
Врать, когда истина доступна взору Гекаты, было бессмысленно – это она тоже давным-давно поняла.
– Эльф? – язвительно пропела Геката. – Ты хочешь сказать, это тот самый эльф. Тот самый непутевый сын, из-за которого Орсино в гневе. А рядом с ним я вижу мою непутевую ведьму, волокущую того самого эльфа к Орсино, если только я не путаюсь в догадках и направлениях. Конечно, над Мальфи сегодня ветрено, но я не флюгер, и ветру не сбить меня с с толку.
– Но я служу Орсино, – возразила Помона, – и не могу…
– Ты служишь мне, – прошипела Геката, – хотя и не слишком усердно. В последнее время ты стала скрытной, Помона. Ты утаила от меня кое-что из сделанного.
С лозами, охранявшими сундук, в котором Помона прятала свой манускрипт, Геката справилась бы шутя, а Помоны частенько не бывало дома. Конечно, шифр знали только они с Сикораксой, однако Геката, несомненно, догадалась бы, откуда эта книга и для чего.
Если Геката клонит к этому, пусть спрашивает прямо. Помона слишком стара, чтоб состязаться в словесных ухищрениях с кем угодно, а особенно – с царицей лжи и обмана.
– Мои дела не стоили того, чтобы рассказывать о них, – сказала Помона вслух. – Мелкая работенка то там то сям.
– Я посылала тебя в Иллирию не для мелкой работенки то там то сям.
– Верно, сударыня, вы отправили меня сюда в наказание, чтоб я уж точно никогда не поднялась выше торговли рассадой. И потому это все, чем я могу заняться, чтоб заработать на жизнь.
Укрытая тканью голова Гекаты качнулась из стороны в сторону.
– Что за дерзость!
– Если я чем-то и расстроила ваши планы, то ненамеренно.
Геката фыркнула. Ткань вздулась пузырем над ее губами и вновь опала.
– У тебя всю жизнь все выходило ненамеренно. Подумать только, все эти годы ты поступала как душе угодно, и плевать хотела на последствия! Разве ты хоть раз подумала обо мне, когда ты шепталась с Сикораксой и хранила от меня ее тайны? Нет. Я давно поняла, что ты не будешь служить никому, кроме самой себя. Я лишь надеялась, что ты не станешь вмешиваться в мои планы, как я не вмешиваюсь в твои… И вот, пожалуйте!
Помона взирала на нее, ничего не понимая.
– Думаю, эта дама говорит обо мне, – сухо сказал Вертумн.
– О, да он разговаривает! – радостно вскричала Геката. – Верно, я и вправду ума не приложу, как это эльф оказался в руках какой-то ведуньи.
Именно Геката когда-то заставила Помону прочесть Руми и изучить тринадцать известных и еще пару неизвестных языков. Самой Помоне все это не нравилось – на самом деле она никогда не любила поэзии. В изящной словесности для нее было не больше проку, чем в паутине.
– Я сам отдался в руки спасительницы, – ответил Вертумн. – Та, с кем я говорю – Геката?
– Да, я – Геката.
– Весьма странно, что столь великую персону, как вы, заботит положение одного-единственного эльфа, – сказал Вертумн.
– Удачная пропажа этого одного-единственного эльфа подвигла Оберона готовиться к войне. А когда Оберон чем-то увлечен, он куда реже вмешивается в мои планы. Но я вижу все и навожу порядок в мире согласно моим целям – с твоей, Помона, помощью или без нее. Сейчас я пришла как друг, чтобы дать тебе дружеский совет, если ты соблаговолишь принять его.
Помона почтительно – а еще затем, чтобы скрыть вспыхнувший на щеках румянец – склонила голову. Вправду ли Геката способна видеть все? Вот уже сорок лет Помона втайне хранит свой манускрипт. Знает ли Геката и о нем? Знает ли о существовании Калибана и о планах Помоны? Нет, вряд ли. Если бы она знала об этом, одним желчным брюзжанием тут не обошлось бы. Узнай Геката о том, что Помона разыскивает дитя, рожденное Сикораксой, чтобы передать ему тайные знания, земля разверзлась бы под ногами Помоны и поглотила бы ее.
– Так объясните же, в чем, где мои обязанности? – спросила она вслух. – Дорога то и дело уходит из-под ног, разбегается в стороны. Каким путем идти? Путем любви, страха или чести?
– Всеми тремя – все мне на благо, – ответила Геката. – Но моя мудрость не будет тебе проводником. Твою юношескую твердолобость я еще могла простить, но вероломства простить не могу.
Вероломства?! Да ведь Помона положила всю жизнь на то, чтобы хранить верность! Она старалась хранить верность разом и памяти Сикораксы и Гекате, и Орсино тоже. Вероломства в ее делах и поступках не было – был, скорее, избыток обязательств, противоречащих друг другу. Упомянутая Гекатой мудрость и вправду ничем не могла помочь – она была всего лишь еще одним набором требований, которых Помоне никогда не удавалось выполнить.
– Я здесь, в Иллирии, по вашему приказу! – сказала Помона, глядя в жуткое лицо Гекаты. – Я отреклась от высших ступеней мастерства, потому что так пожелали вы. У меня нет провидческого дара. Я не могу видеть последствий своих дел, и вы же упрекаете меня в слепоте. Я поступаю наилучшим образом согласно собственному разумению, и я же вам не угодна – я, плод семени, вами же и посаженного!
Над морем сгустились черные, как сажа, тучи. Но Геката рассмеялась.
– Бедная крошка Помона, – сказала она. – Раз так, выслушаешь ли ты мое пророчество, чтобы выбрать верный путь?
Помона покачала головой.
– Мне от пророчеств не больше проку, чем любому смертному. Я не могу постичь их смысл.
– Вот мое пророчество, хочешь ты того или нет! – пронзительно вскричала Геката. Все четыре угла ее черного одеяния всколыхнулись.
Узилища в замке Орсино темны,
Награды ждешь, а дождешься войны.
Кому свободы ищешь – быть в неволе,
И не расстаться вам в земной юдоли!
С моря подул ветер, и даже собаки Гекаты притихли.
– Милый стишок, – сказал Вертумн. – Но до Руми вам, конечно, далеко.
Звук его голоса мигом разогнал тучи. Помона улыбнулась – не только Вертумну, но и Гекате. Столько лет прошло, а она ничуть не изменилась…
– Покорно благодарю вас, наставница, – сказала она. – Но если я освобожу его здесь и сейчас, то нарушу приказ Орсино, а этого я сделать не могу.
Геката вздохнула. Палки, составлявшие ее тело, разъединились и со звонким стуком упали наземь. Темное облачко взмыло в воздух и исчезло. Миг – и даже лай собак стих вдали.
Ах, как, должно быть, удобно путешествовать таким образом!
Помона с опаской обошла палки. Стебель плюща натянулся в руке, но она не оглянулась, зная, что Вертумн должен последовать за ней. И он действительно пошел за ней без лишних слов. Видимо, он давно привык к внезапному появлению призраков.
– Неужели все ведьмы должны держать ответ перед Гекатой? – спросил он через некоторое время.
Помона ответила не сразу. С одной стороны, перед ним она не должна была держать ответ. Однако держался перед Гекатой прекрасно – смело, сразу же встав на сторону Помоны. А мог бы попросить освободить его. Мог бы пожаловаться на дурное обхождение, пообещать Гекате убрать Оберона с ее пути… Но он не сделал ничего подобного.
– Все благоразумные ведьмы оказывают ей почтение, – сказала она. – Но не все они – ее ученицы. А вот мне некогда посчастливилось.
– Во времена юности?
Помона рассмеялась.
– Порой кажется, что это было во времена юности мира. Я попала к ней в науку еще младенцем и научилась колдовать прежде, чем ходить. У нее в обычае брать к себе сирот. А я была нежеланным ребенком, прижитым берберской пираткой от любовника. Геката вырастила и воспитала меня в своей алжирской школе, и учила на совесть.
– Пока не нашла повода наказать тебя.
– Да.
Помона умолкла, вслушиваясь в неровное шарканье его шагов. Совсем забыла о его ноге! Она замедлила шаг, но лишь самую малость. Задерживаться на дороге было опасно. Геката уже отыскала их, а следом за ней вполне может явиться и Титания, и кто знает, чем это кончится?
– Значит, и ты, и я – оба мы выросли вдали от человеческой жизни, для которой были рождены, – сказал он.
Помоне не хотелось вспоминать прошлое, и потому она лишь рассмеялась.
– Совсем как Ромул и Рем, – сказала она. – Где будем строить город?
Когда они добрались до дворца Орсино, жара еще не спала, но заходящее солнце плавилось в водах Адриатики, точно в огромном тигле. Всему существу Вертумна – от обожженной ступни до пересохшего, будто пергамент, языка – не было нужно ничего, кроме холодного вина, мягкого дивана да книги.
Из привратницкой выступил, приветствуя их, человек в ливрее Орсино.
– Сударыня, какая радость! Добро пожаловать! Здесь вам всегда рады. А песика вашего позвольте устроить вместе с собаками герцога, – прибавил он, взглянув на Вертумна.
– Побойся бога, Джозеф, этакие оскорбления вовсе не делают чести твоему хозяину, – резко ответила Помона.
– Я и не думал никого оскорблять, сударыня. У нас прекрасная псарня, и мясо самое лучшее – сам бы ел, клянусь могилой матери, а уж я матушку ох как любил… Мясо – лучше не сыскать.
– Впусти же нас. У нас неотложное дело к герцогу, – заговорил Вертумн.
– Как злобно лает ваш песик, – заметил привратник, чуть отшатнувшись назад.
Будь проклята эта Помона, связавшая ему руки и выставившая на смех – каждому дураку на радость!
– Еще слово, и ты увидишь, как я кусаюсь, – сказал Вертумн.
Помона подняла ладонь:
– Постойте, постойте. Джозеф, скажи без шуток, кого ты видишь здесь, рядом со мной?
– Э-э… Никого, сударыня. А кого я должен видеть? – опершись на древко пики, он подался вперед и зашептал Помоне, точно Вертумна вовсе не было рядом: – За нами следят?
– И вот здесь, на конце стебля плюща, никого нет? – спросила Помона.
– Отчего же, сударыня, я, конечно, вижу вашего пса на поводке. Весьма ухоженный и воспитанный пес, у меня и в мыслях не было его оскорблять. Красив, чертяка! Жаль, лапу повредил. От таких ран и самая смирная собака рассвирепеет, я уж понимаю. У меня был когда-то спаниель – милейшее создание, подарок самого герцога. Однажды он наступил на колючку, и так злился – даже медведя, пожалуй, растерзал бы, – пока мы эту колючку не вытащили.
Помона взяла Вертумна за плечо, увлекла в сторону и зашептала, щекоча дыханием его щеку:
– Геката. Должно быть, она зачаровала тебя, и теперь ты в обличье собаки.
Чуть отстранившись, Вертумн опустил взгляд и оглядел собственное тело. Выглядело оно по-прежнему, но и под заклятием Титании все было точно так же.
– А ты это тоже видишь? – спросил он.
Помона покачала головой.
– Для меня ты выглядишь как человек. Но этого Джозефа я знаю. Да, язык у него без костей, однако он добр и не склонен к дурачествам. И если он говорит, что видит пса, значит, он видит пса.
Во имя Оберона, как же он устал! Как он устал быть кем угодно, только не самим собой! Как он устал представать перед миром в чужом обличье!
– Ты можешь развеять заклятье?
– Будь ты листком, я могла бы изменить тебя. Будь ты семенем, могла бы заговорить тебя. Но так уж вышло, что ты мне неподвластен. Бог ты мой, только этого не хватало! Но мы здесь, и наш долг – доложить обо всем герцогу.
– Ты ни на миг не забываешь о долге, – улыбнулся Вертумн.
– Я не забываю о собственной жизни, – отрезала Помона. – Если мы будем мешкать, и он узнает об этом, мне не сносить головы.
– А если ты вломишься к нему в тронный зал с брехливой хромой собакой и скажешь, что нашла эльфийского посла? Эх, если бы мне удалось отправить весточку Оберону…
– «Если, если…» Тьфу на твои гипотезы! Постарайся не гавкать и предоставь все дело мне. Орсино меня знает. У него нет причин сомневаться в моих словах.
Помона двинулась к привратнику, волоча Вертумна за собой. Во имя Юпитера, как ему надоело быть пленником!
– Джозеф, ты уверен, что видишь собаку, но твой взгляд обманут колдовством, – сказала она. – На самом деле перед тобой Вертумн, посол царя Оберона.
– О нет, – отвечал Джозеф. – С глубочайшим почтением прошу простить меня, сударыня, но я вижу собаку.
– Если ты передашь герцогу, что пришла ведьма Помона и говорит, что привела с собой Вертумна, он, несомненно, захочет лично увидеть нас обоих.
Джозеф нахмурился, но скрылся за дверью привратницкой и пустился бежать через двор по ту сторону ограды.
Быть может, Помона была права, и Орсино обеспечит ему проезд по морю в Венецию? А может, выйдет еще лучше – здесь найдется представитель двора Оберона, который сможет отправить весть царю эльфов? А если это кто-нибудь из самых могущественных волшебных существ, вроде Чертополоха, а то и самого Пака, то он шутя развеет чары Гекаты! И вскоре Вертумн вновь станет самим собой, кем бы он ни был по природе, а если Оберону или еще кому-либо от него мало толку, то ведь и вреда никакого!
Джозеф уже спешил назад, пыхтя на ходу и отчаянно махая им рукой, будто решил, что они вот-вот уйдут.
– Итак? – спросила Помона.
– Сейчас у моего господина аудиенция с Эсперансой Малхи, – выдохнул привратник.
– Что привело сюда Эсперансу Малхи? – спросил Вертумн.
Джозеф не обратил на него никакого внимания. Ну конечно он же не слышал ничего, кроме лая…
– Гав-гав, – язвительно сказал Вертумн.
– Мой спутник, – заговорила Помона, – хочет знать, кто такая Эсперанса Малхи. Не османка ли?
– Я знаю, кто она, – зарычал Вертумн. – Я спрашиваю, зачем она здесь?
– Может, ты и знаешь, а я – нет, – шепнула в ответ Помона.
– Да, она состоит в секретарях при Сафие-султан, главной наложнице османского правителя, – ответил Джозеф. – Говорят, на самом деле Османской империей правит именно Сафие-султан, но она никогда не покидает своего дома. Малхи же, будучи иудейкой, повсюду представляет ее, говорит и действует от ее имени при иноземных дворах, а после сообщает правительнице все, что узнала, ведет переписку и всякое такое прочее.
– Посланница, короче говоря, – сказал Вертумн.
– Не знаю, как госпожа Малхи относится к собакам, – тревожно заметил Джозеф, косясь на Вертумна. – А, правду сказать, и к животным вообще. Я не спросил, какого она мнения насчет собак или прочих животных. Времени не было.
– Времени не было?
– Не было. Господин велел бежать за вами во всю прыть, на какую только способны мои ноги.
– Бежать во всю прыть и попросить нас подождать?
– О нет! Герцог просит вас войти и предстать перед ним, и перед этой османской женщиной тоже – пусть, мол, убедится, что посол жив, а Орсино не виноват в воинственности Оберона. Он просит вас войти, не мешкая. Я хотел было сказать ему насчет собаки, но…
– Времени не было, – закончил за него Вертумн.
– Цыц, Вертумн! – прикрикнула на него Помона. – Веди, Джозеф.
Вертумн со связанными руками захромал за ними, безуспешно стараясь избавиться от ощущения, будто его волокут за собой, точно пленника или добычу, хотя он не сделал ничего дурного. Хотя – наверняка сделал, иначе жил бы сейчас совсем другой жизнью и совсем в другом обличье. Должно быть, где-то в прошлом ему пришлось выбирать, и он ошибся в выборе…
– Османы будут тревожиться по поводу непрочного мира с Венецией, – сказала Помона на ходу.
– Как ни назови – непрочный мир, ленивая война – с дипломатической точки зрения разницы нет, – ответил Вертумн. – Главное – устроить так, чтобы никому не удалось усилиться. Ни Венеции, ни, конечно же, испанцам – они как раз сейчас угрожают Англии. Малхи желает удостовериться, что Оберон не примет сторону Венеции – что он непременно сделает, гневаясь на Орсино. Раз так, она будет мне рада.
– Тебе все будут рады, – заверила его Помона. – А теперь, ради всего святого, прекрати гавкать, пока нас не выставили вон.
Акт IV
Виола с Орсино восседали на помосте в тронном зале дворца. Кресла были сдвинуты так близко, что руки их то и дело соприкасались – и в то, что это случайность, Помоне что-то не верилось.
Они, эти двое, были подобны двум магнитам – даже сейчас, несмотря на воинские облачения, их лица так и сияли.
Многие годы Помона выбирала себе любовников исключительно по расчету и расставалась с ними без малейшей печали. Частью – из осторожности: она отлично помнила, как Сикоракса была отправлена в изгнание за страшное преступление – желание родить дитя своего возлюбленного, но Помона давно умела предотвращать беременность. Чего ей никогда не приходилось – это предотвращать любовь. По крайней мере, такую, как у Виолы с Орсино.
– Орсино, мой повелитель, – кланяясь, заговорил Вертумн.
– Что это? – перебил его Орсино. – Помона, словами не выразить, как мы рады приветствовать тебя, если ты пришла с вестями о Вертумне. Но где же он?
– Мой повелитель, видите ли вы эту собаку рядом со мной?
Помона выступила вперед. Вертумн, хромая, пристроился сбоку. Кровь, сочившаяся сквозь дырку в прожженной подошве, оставляла бледные пятнышки на синем с золотом полу тронного зала Орсино. Кровь эльфа – превосходная добавка в котел какой-нибудь ведьмы из тех, кто обучен не только присматривать за садом.
Орсино резко рассмеялся, хотя с виду ему было совсем не смешно.
Из толпы придворных навстречу Помоне шагнула женщина – приземистая, толстая, однако одетая в прекрасный шитый золотом жакет, застегнутый до самого горла. Волосы ее были убраны под шелковый платок цвета апельсинов.
– Это Малхи, – прошептал Вертумн. – И она, и Орсино с Виолой, мигом узнали бы меня в лицо, будь я самим собой.
– Весь двор видит твоего пса, – ответил Орсино. – И не только видит, но и слышит.
В толпе захихикали.
– Цыц! – шикнула Помона на Вертумна. – Мой повелитель, история, с которой я явилась к вам, весьма необычна, но клянусь собственной жизнью: она правдива и стоит вашего внимания.
– Приблизься же и говори.
Они двинулись к трону. Малхи наблюдала за ними с едва заметной улыбкой.
– Вчера я возвращалась домой непривычным путем и наткнулась на огороженный стеной сад там, где никакому саду быть не полагалось. Войдя, я увидела в саду женщину примерно моих лет и фею – крохотную, не больше мотылька. И больше – никого. На прощание женщина дала мне книгу. Придя домой, я обнаружила на первой странице дарственную надпись – некоему Вертумну от Оберона.
Вынув из котомки книгу, она подала ее Орсино.
Придворные зашептались. Орсино открыл книгу и прочел надпись.
– Ты допросила ту женщину? Откуда у нее эта книга?
– Я догадалась, что это – не кто иной, как сам Вертумн, но в ином облике. И освободила его из заточения, как только справилась с его тюремщицей.
– Той самой, что не больше мотылька, – вклинилась в разговор Виола.
Придворные вновь засмеялись.
Понимая, что спорить с Виолой – себе дороже, Помона лишь склонила голову.
– Но где же теперь эта женщина? – спросил Орсино, сдвинув брови. – Или, скорее, где же Вертумн?
Помона указала на Вертумна, стоявшего рядом.
– По пути к вам он вновь был зачарован.
– Как, опять? – язвительно спросила Виола. – Какая неудача! Ты хочешь, чтоб мы поверили, будто посол и доверенное лицо царя фей и эльфов, притягивает злые чары, как дохлый пес влечет к себе червей?
Малхи двинулась вокруг них, внимательно разглядывая обоих. Глядя на Вертумна, она присела, словно в нем было не более пары футов росту.
– Вертумн, которого я знала, мог принять любой облик, какой пожелает, – заговорила Малхи. – Отчего же он сейчас не превратится в самого себя?
– Титания лишила меня волшебной силы! – зарычал Вертумн.
Малхи отступила назад.
– Приструни пса! – рявкнул Орсино. Помолчав, он заговорил несколько мягче. – Помона, я знаю тебя как ведьму весьма достойную. Но, боюсь, ты жестоко обманута.
– Все это – дело рук Титании, – устало сказала Помона. – Она пленила его и лишила волшебной силы.
– Но Титания – жена Оберона! – воскликнул Орсино. – Думаешь, я поверю, что Оберон ничего не знает об этом?
– А что видишь ты, Помона, глядя на этого пса? – спросила Малхи.
Помона взглянула на Вертумна. Спина пряма, сильные руки сомкнуты впереди, запястья до сих пор стянуты ее плющом. Она могла бы освободить его заранее, но не подумала об этом, а сам он не жаловался.
– Вижу Вертумна, – ответила она. – В том виде, какой, полагаю, присущ ему от природы. В облике человека.
– Какая-то уловка Оберона, – сказала Виола.
– Как он выглядит? – спросила Малхи.
– Мужчина. Темные, вьющиеся волосы с проседью вот здесь. Золотистая кожа. Борода только-только начавшая отрастать, цвета золота с серебром, блестит на солнце. Взгляд его сердечен, и когда он улыбается, в уголках глаз появляются морщинки. Плечи сильны и крепки, а ростом он чуть выше, чем мой повелитель Орсино.
Малхи насмешливо наморщила лоб, отчего щеки Помоны вспыхнули жарким румянцем. Сама же просила описать его – Помона и описала. И нечего тут лоб морщить!
– Полагаю, все это ты могла от кого-то услышать или увидеть на портрете. Возможно также, вы встречались прежде.
– Не встречались, иначе я бы запомнил, – возразил Вертумн.
Придворные взглянули на него так, будто он залаял.
– Когда он лает, ты слышишь человеческую речь? – с изумлением спросила Малхи. – Так попроси его хоть как-то доказать, что это он. Пусть расскажет о чем-нибудь, что может помнить только он. Или ответить на вопрос, на который никто другой не знает ответа.
Помона повернулась к Вертумну…
Взгляд Помоны был неожиданно ясен, зрачки – словно круглые золотые омуты в темных коричневых берегах. Она смотрела на него и ждала. Что же он может рассказать такого, о чем знает лишь он один? Чем может убедить всех этих людей?
– Скажи им… – зашептал он. – Скажи, что, когда я прибыл сюда и представлялся герцогу в качестве посла, герцог Орсино был простужен. Пока я кланялся ему, он трижды чихнул.
Помона улыбнулась и обратилась к Орсино:
– Он говорит: когда он явился представляться в качестве посла, мой повелитель Орсино был простужен и трижды чихнул.
В толпе поднялся ропот. Но Орсино пренебрежительно отмахнулся:
– Это мог видеть и пересказать всякий, кто был здесь в тот день.
Помона вновь повернулась к Вертумну. Глаза ее горели огнем, губы были поджаты.
– Расскажи что-нибудь о себе. Что-нибудь тайное. Что-то, отличающее тебя – и только тебя – от всех прочих. Но нужно, чтобы они могли это опознать.
– Всего-то? – шепнул он в ответ. – Какие доказательства я могу представить в подобном состоянии? Мог бы показать то, что нарисовано на спине, но ведь они увидят только собачью спину!
– Нарисовано на спине?
А ведь верно! Они не увидят ничего, но Помона увидит – и сможет прочесть эти письмена всем!
Закрыв глаза, Вертумн задрал на голову подол белой рубашки. Интересно, что при этом видят окружающие? Пса, вычесывающего блох? Или вставшего на задние лапы? Но Помона видела человека. Он повернулся к ней спиной и замер, голый до пояса, и его наготы не видел никто, кроме нее, хотя вокруг стояла целая толпа.
В солнечных лучах над его головой кружились пылинки, словно все жизни, которые он мог бы прожить, плясали вокруг него гальярду – выбирай любую!
Вертумн слышал, как прервалось дыхание Помоны. Почувствовал – он мог бы поклясться, что почувствовал – дюйм воздуха, отделявший ее пальцы от его кожи, пока Помона водила рукой над знаками, выжженными Обероном на его теле, чтобы сохранить его от старости. Этот дюйм воздуха словно таил в себе молнию. Тут Помона коснулась его спины. Вертумн вздрогнул.
– Помона! Если тебе есть, что сказать, говори, – велел Орсино.
Помона заговорила. В голосе ее появилась легкая хрипотца.
– Я вижу… знаки. Письмена. Как будто нарисованные индиго, но краска – под кожей. Все они вьются и сплетаются, словно круги пустились в пляс с углами.
Вновь обратившись к Вертумну, она зашептала так, чтобы ее слышал только он:
– Что это?
– Числа, – ответил Вертумн. – Числа, написанные на малаяламе, одном из индийских языков. На этом языке говорила моя мать. Она подарила мне это тело, а Оберон сделал его неподвластным времени.
Сделай он правильный выбор, и чисел было бы девять, всего девять, и боли было бы куда меньше – хотя ребенка, пожалуй, она потрясла бы не меньше. Каждый год Оберон предлагал ему это, а он, Вертумн, все откладывал… Раз за разом делал выбор, и вот однажды выбирать стало не из чего.
– Они сохраняют мое тело таким, как есть, в соответствии с моим ныне бессмертным духом, – продолжал он. – По одному числу на каждый год, прожитый этим телом до того, как Оберон выжег на мне эти числа и остановил увядание, присущее телам смертных.
– И ты ждал… – прошептала Помона. – Сколько же лет ты ждал? Сорок? Я не смогла так быстро сосчитать, а письменности этой не понимаю.
– Пятьдесят, – ответил он. – Я ждал пятьдесят лет.
Прохладный палец снова коснулся кожи – всего на миг, описав дугу, и Вертумн вздрогнул опять.
Отдернув руку, Помона отступила.
– На его спине – письмена, пятьдесят чисел на языке далеких индийских земель. Наверняка ни у кого другого нет таких. Могу нарисовать их для вас, мой повелитель.
– Но как убедиться, что эти письмена – действительно его? – спросил Орсино. – Известно ли кому-нибудь из нас, что настоящий Вертумн вправду носил подобные знаки?
– Он был подменышем, похищенным из Индии, а на спине у этого человека – индийские письмена, нанесенные рукой эльфа. Если вы полагаете меня честной женщиной, если верите, что я рассказываю о том, что действительно вижу, сомнений быть не может.
– Но видел ли эти письмена кто-нибудь еще?
Вертумн отрицательно покачал головой.
– Вспоминай же, вспоминай, – прошептала Помона. – Хоть… Хоть кто-то должен же был их видеть!
Вертумн вновь покачал головой.
– С тех пор, как эти письмена появились, я вел спокойную, замкнутую жизнь. Их не видел даже я сам. Кроме тебя, Помона, их видел только тот, кто начертал. Сам Оберон.
Помона устало обмякла, прикрыла глаза и покачала головой. Да что ей от него надо? Его душа не носит на себе клейма мастера! Кроме тела, у него ничего нет, и даже этому доказательству здесь доверять не торопятся…
– Мой повелитель, он говорит, что видел эти письмена только сам Оберон, – медленно проговорила Помона – но далее слова ее пустились вскачь. – Даже если получить неопровержимых доказательств невозможно, молю вас: подумайте хорошенько обо всех изложенных мной обстоятельствах и о том, как расценить их. О книге с дарственной надписью. О заклятии и о саде. О письменах на его теле. Если он не Вертумн, то кто же?
– Ха! – вскричала Виола, поднимаясь на ноги. Меч, висевший на ее поясе, сверкнул в солнечном луче. – Царь эльфов водит нас за нос! Он замышляет сбить нас с толку, чтобы застать врасплох! Вначале прячет собственного посла, чтобы облыжно обвинить нас в его смерти, а потом присылает ведьму с собакой, чтобы потешиться над нами, отвлечь нас, заставить усомниться в необходимости войны и поколебать нашу решимость. Не лезь в его ловушку, любовь моя!
Орсино крепко растер лицо рукой, затянутой в кожаную перчатку.
– Конечно. Отменять боевую готовность нельзя.
Все это время Малхи, заложив руки за спину, расхаживала вокруг Помоны и Вертумна – неторопливо, точно кошка.
– Однако ж, – заметила она, – если вы не пойдете на мировую с Обероном, Венеция обзаведется сверхъестественным союзником, и это изменит весь мир.
– Если мы не устоим перед Обероном, враги Иллирии лишь умножатся, – возразила Виола. – Среди наших друзей есть и волшебники и ведьмы. А эльфа либо фею можно захватить в плен, им можно пустить кровь, как и смертным. Пусть Оберон однажды ощутит остроту наших клинков, и вот тогда в Иллирии наступит мир!
Орсино встал.
– Довольно. Помона, я ни на миг не сомневаюсь в тебе. Однако, пусть даже ты говоришь чистую правду, вас обоих могли обмануть с самого начала. Что, если Титания заодно с Обероном? В конце концов, она – его жена.
– Вот что я думаю… – Малхи отступила от Помоны с Вертумном на шаг и окинула взглядом обоих. – Мне доводилось иметь дело с Титанией, и вот что я думаю. Она – отнюдь не политик, но таить в сердце злость может столетиями.
Орсино склонил голову.
– Если вы, госпожа Малхи, считаете мои сомнения напрасными, скажите об этом прямо. Удовлетворит ли Сафие-султан та сказка, что поведали нам эта ведьма и ее фамильяр?
Стать фамильяром Помоны и всюду бегать за ней по пятам… Эта мысль едва не вызвала у Вертумна улыбку.
Малхи всплеснула руками:
– О, конечно же, нет. Мы должны докопаться до сути этой загадки. А сейчас – попросим этих двоих остаться здесь до тех пор, пока мы не узнаем правду.
Орсино рубанул по воздуху сжатой в кулак рукой.
– Я не стану просить! Они и без того останутся здесь – в надежнейшей из моих темниц. Я не позволю эльфу вновь ускользнуть из моих рук, если эта шавка в самом деле Вертумн. Уильям! Подойди ко мне, мой верный Уильям. Отведи эту женщину и ее пса в темницу, да присмотри, чтобы им принесли еды и питья.
В темницу… Снова в плену… Его таскают с места на место, из жизни в жизнь… Похоже, такова уж его природная сущность.
– А я пока что отправлю послание царице фей, – добавила Малхи. – Если не ошибаюсь, мне она ответит – в память о прошлых услугах. А если это действительно Вертумн, она явится сюда сама во всей красе своего гнева.
– Она сообщит обо всем Оберону, – буркнула Виола.
– Быть по сему, – решил Орсино. – Мы ничего не теряем. Ради этого не требуется ослаблять бдительность и останавливать приготовления к войне.
Человек по имени Уильям повел их сквозь лабиринт узких коридоров. Массивные каменные стены не пропускали внутрь летний зной, и воздух был милосердно прохладным, едва ли не сырым. Бело-зеленая ливрея Орсино была Уильяму тесновата – шнуровка едва не лопалась на груди. Во рту его недоставало двух зубов, глаза смотрели испуганно.
Должно быть, это и был тот самый терзаемый кошмарами Уильям, которого брату Лоренцо велели исцелить. Интересно, нашел ли он общий язык с выращенной Помоной мандрагорой?
К утру преподобный должен быть здесь. Он встанет на ее сторону, если только ему хватит смелости. Хотя что в этом проку? Ведь он не видел того сада. Да, он видел надпись в книге, но в ее-то существовании и без него никто не сомневается.
Однако, если рядом друг, от этого как-то уютнее.
Наконец Уильям довел их до тяжелой двери с маленьким, не шире ладони, окошком. Распахнув дверь, он жестом велел им войти внутрь.
– Вот здесь, у задней стены, ночной горшок. Позже я принесу хлеба, вина, а для собаки – мяса.
Помона взглянула на Вертумна, вопросительно подняв бровь. В ответ он лишь покачал головой.
– На свете множество чудес я повидал, – негромко сказал Уильям, – но никогда еще не видел пса, в темницу заточенного с хозяйкой. Что ж за злодей? Неужто его мало повесить иль на привязь посадить? Кто заслужил такое уваженье? Сам пес или хозяйка?
Помона молча шагнула через порог в прохладный сумрак темницы, но Уильям остановил ее, придержав за локоть. Будь проклято его беспардонное любопытство!
– Вашу котомку, – сказал он.
Хвала небесам, манускрипт она оставила дома! Помона отдала ему котомку, в которой не обнаружилось ничего, кроме бурдючка с водой. Вынув затычку, Уильям принюхался к его содержимому и вернул бурдючок вместе с котомкой Помоне.
– А вот нож я заберу.
Они могли бы попытаться одолеть его. Их двое, к тому же, Помона – ведьма, а собачий облик, возможно, дал бы какое-нибудь преимущество и Вертумну. Но удастся ли миновать остальных стражей? А если и удастся, оба они превратятся в беглых преступников, тем временем Оберон и Венеция наверняка вступят в войну, и тогда путь в Милан окажется закрыт, даже если Орсино сменит гнев на милость и простит их.
О, как она надеялась, что награда, полученная от Орсино, ускорит отъезд!
Сняв с пояса небольшой нож, она отдала его Уильяму. Вертумн и не шелохнулся, хотя Помона отлично видела нож в ножнах на его поясе.
Уильям осмотрел ее нож, поворачивая его то так то этак в тусклых лучах света, проникавшего внутрь сквозь узкую бойницу в стене коридора.
– И это все? – шепнул он. – У вас нет для меня другого ножа? Кинжала, может?
Помона с Вертумном озадаченно подняли брови и покачали головами.
– Иль хотя бы вести?
Что за интриги плетутся здесь, при дворе Орсино?
– Какую весть тебе угодно слышать? – негромко спросил Вертумн, очевидно, решивший, что этот человек закидывает удочку насчет мзды – и, вполне возможно, так оно и было.
Но Уильям услышал только собачий рык. Отступив назад, он встряхнул головой, точно над ухом его зудела сама Маб. Был он бледнолиц, начал лысеть со лба, заложенная за ухо прядь темно-русых волос промокла от пота.
– Входите, – велел он.
Дождавшись, когда за ними захлопнется дверь, Помона подошла к дальней стене полутемной комнатки. Свет проникал в темницу только через крохотное окошко в двери и такое же крохотное окошко во внешней стене – толстой, сложенной из тесаного камня.
– Если бы только я смог отправить весть Оберону… – сказал Вертумн. – Если бы только ты догадалась вовремя отпустить меня…
– Все эти «если бы» нам не помогут.
– Верно. Мы можем просидеть здесь не один день, а тем временем Оберон пошлет своих сильфов обрушить на Иллирию ядовитые ливни и уничтожить взращенные тобой сады и виноградники, а его нимфы устремятся в ручьи и реки и превратят все воды Иллирии в отраву, а копыта волшебных коней его охотников сравняют селения Иллирии с землей. И тогда смертные поставят на нимф сети из бритвенно-острой проволоки, и реки потекут кровью, а османы пришлют чародея, и он разнесет сильфов в клочья и разметает их по вершинам гор, а английские лучники из-за Пролива придут на наши берега воевать с испанцами и Обероном, и мои друзья, величайшие из охотников, выпадут из седел, пронзенные стрелами… Помона, да прекратишь ли ты расхаживать взад-вперед? У меня уже в глазах рябит!
Очевидно, только после этих слов Помона осознала, что меряет шагами каменный пол. Остановившись, она приложила ладонь к каменной стене, чтобы успокоиться.
– Мне эта война нужна не больше, чем тебе, – устало сказала она.
– Да, но ты хотя бы не обрекаешь своих друзей на ужасную гибель.
– Моя единственная настоящая подруга давно мертва! – прорычала Помона. – Такова уж жизнь, Вертумн! Бывает, мы подводим друг друга. Случается нам оплошать. Я обещала позаботиться о сыне подруги, отправленной Гекатой в горькое изгнание на верную смерть, но думала, сын ее умер на этом острове вместе с ней. Однако брат Лоренцо говорит, что на свете живет человек, утверждающий, будто он – сын Сикораксы, и недавно его видели в Милане. Если и сухопутные и морские пути в Милан будут закрыты, может пройти год, и даже больше, прежде чем я смогу добраться туда и передать Калибану то, что принадлежит ему от рождения. Но к тому времени он может уйти куда-нибудь еще. Или я могу умереть…
Вертумн с улыбкой покачал головой.
– Твоя так называемая оплошность лишь делает тебе честь. В отличие от моей. Я, подменыш, изменник и для людей, и для эльфов, с тем же успехом могу быть псом и бегать по пятам за хозяином.
Тьфу ты! Ладно, пусть упивается своим ничтожеством, а ей и кроме него есть, о чем подумать.
– Скорее всего, не пройдет и дня, как нас освободят, – сказала она. – Должен же Орсино прислушаться к голосу разума.
– А если не прислушается?
Закусив губу, Помона приложила ладонь к камням наружной стены и негромко ответила:
– У меня с собой мешочек самых разных семян. Некоторые из них дают крепкие стебли и толстые корни, и я могу разнести эту стену по камешкам за час, если захочу.
– Где же?
– Х-ммм?
Помона повернулась к Вертумну. Тот развалился на прохладном каменном полу в нескольких шагах от нее. Рука его покоилась на согнутом колене. Он улыбался. Как дрожал воздух между ее пальцами и его испещренной неведомыми письменами кожей! А затем – с тех пор не прошло и часа – она дотронулась до него, никем не видимая, однако у всех на виду. Сейчас, когда вокруг не было никого, кроме них двоих – не осмелилась бы…
– Где же ты прячешь эти семена? Я ведь видел, как ты вывернула котомку, когда Уильям попросил об этом.
– О! – рассмеялась Помона. – За корсетом, конечно. Когда я была молода, прятать там что-либо от лап тюремщиков было опаснее всего. Но теперь, в моем-то возрасте, спрятанному не угрожает ничто – как червяку под камнем.
Вертумн покачал головой.
– Помона, ты к себе несправедлива. Если б ты видела себя моими глазами…
– То что?
Склонив голову набок, он окинул Помону взглядом. Но она не отвела глаз. Пусть говорит, если только ему есть что сказать по делу. Возможно, эльфам и нравится этакое жеманство, однако пустые воздыхания ей сейчас ни к чему.
– Скажи же что-нибудь, Вертумн. Закончи мысль и изложи ее вслух!
– Я хотел сказать…
– Что?
– Как по-твоему, чьему взору больше открыта истина? Мы думаем, что знаем себя лучше, чем кто-либо другой, глядя изнутри наружу. Однако, может статься…
– Да прекратишь ли ты когда-нибудь философствовать?! – воскликнула Помона.
Вертумн широко развел руками:
– А что мне еще остается?
– Кровь господня! Настанет день, и мир погибнет, восстанут мертвые, моря вскипят, а ты будешь размышлять, размышлять, размышлять…
Вертумн рассмеялся.
– А ты?
– И я, – ответила Помона и двинулась к нему – три шага по холодному каменному полу.
– И я, – повторила она.
Брови его озадаченно – а может, от неожиданной радости – вздрогнули.
Взяв его руки в свои, Помона подняла его на ноги.
– И я, – шепнула она.
Подняв ладони к его небритым щекам и чувствуя, как золото с серебром покалывает кожу, Помона привстала на цыпочки и поцеловала его.
Теплые руки легли ей на спину, и Вертумн привлек ее к себе. Ее ладони скользнули вниз по его спине, исследуя каждый дюйм тела, которого она едва осмеливалась касаться.
– Посмотрим, удастся ли мне отыскать твое сокровище, – с улыбкой сказал он.
Акт V
Вертумн проснулся, дрожа от холода. Голова Помоны покоилась на его обнаженной груди. Осторожно, чтобы не разбудить ее, он высвободил правую руку и укрыл их обоих тоненьким одеялом, однако она подняла голову и взглянула – нет, не на него, а на яркий свет из окошка в наружной стене.
– Ну не потеха ли? – сказала она.
– М-м-м, – согласно промычал Вертумн, обнимая ее.
Одежды их были в беспорядке разбросаны по полу: ее испачканная зеленью нижняя юбка сплелась в объятиях с его дублетом, его рубашка – с ее чулками. Соломенная шляпа Помоны лежала у стены, как кошка, ждущая хозяйку.
– Никогда еще не делала этого с эльфами, – сказала она. Голос ее звучал глухо, эхом отдаваясь в теле Вертумна.
– Никогда еще не делал этого с ведьмами, – со смехом откликнулся он.
– Должно быть, такое часто случается с заключенными в темницу.
– Что ж, тогда дело стоит проведенной в темнице ночи, – сказал он.
Улыбнувшись в ответ, Помона села, просунула голову в ворот блузы, задумчиво поджала губы и взглянула на него.
– Что с тобой? Что тебя тревожит?
– Это всего лишь… так сказать, тюремные шалости, и ничего более. Мимолетный роман. Он не может длиться долго, Вертумн.
Он вздрогнул и, чтобы скрыть дрожь, потянулся за рубашкой. Конечно же, она была права. У него своя жизнь, у нее – своя, а когда ее жизнь завершится, он, мучительно бессмертный, будет продолжать жить. Быть может… Но нет, желать, чтобы Орсино продержал их в заточении еще денек, не стоило даже на миг – ведь война с каждым днем все ближе.
– Мы оба давно уж не в том возрасте, чтобы обманывать себя в таких материях, – ответил он так сухо, как только мог.
Дверь распахнулась, и оба они вскинулись от неожиданности. Вертумн был все еще наг, если не считать одеяла, в которое он поспешил завернуться. Помона хотя бы успела надеть блузу, однако ее кертл и передник валялись в дальнем углу темницы.
Но больше всех был изумлен тот, кто стоял в дверях – монах преклонных лет, худой и согбенный, точно прут старой метлы. Неужели Орсино послал к ним исповедника?
– Святой отец? – изумленно ахнула Помона.
– Что это? – в свою очередь изумился монах. – Помона, Уильям сказал, что я найду здесь лишь тебя, но… Но ни словом не обмолвился о собаке. Хотя он, бедняга, был так рассеян… А где же тот эльф?
Вертумн протянул ему руку, но монах попятился назад. Его поразил вовсе не вид обнаженного мужчины, но вид Помоны, делившей одеяло с псом. Вертумн засмеялся, и монах сделал еще шаг назад.
– В пути мы встретились с Гекатой, – объяснила Помона, поднимаясь на ноги. – Вот тот самый эльф. Это и есть Вертумн, но в ином обличье.
– Так, значит… – монах указал на Вертумна, затем покосился на разбросанные по полу кертл, шоссы и дублет. – Я вас оставлю на минутку.
С этими словами он вышел в коридор.
– И это к лучшему, – устало сказала Помона. – Клянусь жизнью, мне будто снова пятнадцать!
Вертумн рассмеялся, не заботясь о том, услышит ли кто-нибудь его лай.
– Одевайся, – зашипела Помона, суя ему его шоссы. – Этот монах – добрый человек и наш лучший друг во всем замке!
Ну что ж, вчера у них не было в этом замке ни единого друга. Возможно, этот монах согласится передать весточку Оберону, если только удастся хоть ненадолго остаться со стариком наедине.
Дождавшись, пока они оденутся и по очереди справят нужду, монах вывел их в зябкую прохладу коридора.
– Небеса полны странных знамений, – сказал он, переводя дух на ходу. – Повсюду в вышине – точно хвосты комет, красные, как кровь, а из вод речных слышен дьявольский хохот.
Значит, сильфы начали строить планы битвы, и нимфы готовятся к войне!
– Это армии Оберона, – сказал Вертумн.
– Уже?! – вскричала Помона.
– Меж тем Титания, вняв призывам Малхи, явилась ко двору Орсино и требует представить пред ее очи ведьму, похитившую Вертумна.
Несмотря на раннее утро, тронный зал был полон придворных. Неужели они только вчера стояли здесь? Весь мир за пределами темницы казался всего лишь сном. Но нет, сном – всего лишь интерлюдией – была минувшая ночь, а вот эта пестрая сумятица и есть явь…
Посреди тронного зала стояла Титания со всей своей свитой. Здесь были феи и эльфы, которых он не видел с самого детства – Душистый Горошек, Паутинка, Мотылек и Горчичное Зерно – парили в воздухе, в футе от пола, волоча за спиной невесомые, точно паутина, шлейфы и ломая руки.
Месяц назад, когда Вертумн видел Титанию в последний раз, она была разъярена – неприбранные черные волосы торчали космами, груди рвались наружу из простого крестьянского лифа. Сегодня ее волосы были рубиново-красны и вздымались вверх толстыми прядями, словно пламя свечей. Тяжелое платье было сплошь расшито золотом. И – не сделала ли она шею длиннее? Трудно было сказать, но Вертумн полагал, что – да: так лучше была видна серебряная шипастая амфисбена, обвивавшая шею Титании наподобие кружевного жабо. Обе головы волшебного ящера лязгали зубами, стараясь укусить одна другую, острые когти впились в плечи хозяйки.
Похоже, царица фей предпочла отнестись к встрече с Орсино всерьез – хотя бы до тех пор, пока это не перестанет забавлять ее.
В упор взглянув на Вертумна, Титания наморщила изящный нос:
– От тебя несет ведьмой!
Вертумн покосился на Помону. Та не смотрела на него.
Титания придвинулась ближе и закружилась в воздухе вокруг Вертумна, демонстративно принюхиваясь. Длинный шлейф ее платья скользил за ней по полу у его ног.
– Что ж, давай вернем тебе облик, знакомый собравшимся здесь достойным людям, – сказала она, протягивая к нему руки.
Волшебство Титании защекотало кожу Вертумна, воздух замерцал. Он оглядел толпу придворных, ожидая увидеть изумление от его превращения, но те лишь нахмурились и зашептались. Титания сердито блеснула глазами. Какой-то сатир протолкался сквозь толпу вперед, звонко стуча копытами по полу.
– Что за ведьма наложила на тебя такие стойкие чары? – проворчала Титания. – Уж конечно, не эта.
– Вы правы, – подтвердила Помона. – Это в самом деле могущественная ведьма. А мне не под силу изменить облик человека.
– Зато это под силу мне.
Титания закружилась вокруг Вертумна красно-золотым вихрем. На этот раз от мерцания воздуха заслезились глаза, все тело покрылось гусиной кожей. Мышцы и суставы ослабли, и Вертумн рухнул на колени.
О! Внезапная тишина, за ней – всеобщий ропот. Вертумн поднял взгляд и увидел, как изумленно таращатся на него придворные. Но для него самого его тело выглядело точно так же, как и мгновение назад.
– Гав, – устало сказал он, вызвав всеобщий смех.
Орсино бросился к нему и схватил его за руку.
– Вертумн, это ты! Или это снова только видимость, новая хитрость Титании?
Титания хмыкнула.
– Зачем мне хитрить с тобой, Орсино?
– Чтобы успокоить нас. Заставить поверить, что нам незачем опасаться армий твоего мужа, – сказала Виола.
– О, у вас есть все резоны опасаться его армий. Я жду крови и славы. Это будет весьма забавно.
– Но Вертумн жив и здоров! – вскричал Орсино, указывая на него. – Выходит, ты признаешь, что его похищение – это ваша с Обероном уловка?
– Оберон ничего не знает о нем. У меня с этим эльфом свои дела. Но меня радует вид идущих на битву армий. Пожалуй, мне самой стоит подстрекнуть мужа к войне. Я имею на него некоторое влияние.
– Должно быть, это и впрямь серьезное влияние, если оно сохраняется вопреки отдаленности ваших дворов и всем вашим обоюдным интригам, – заметила Виола, бросив на мужа быстрый взгляд.
– Девчонка! Нос не дорос судить о таких вещах. Не «вопреки», а «благодаря». Вот проживи замужем лет с тысячу, а уж потом приди и расскажи, что не играешь с мужем шуток, не заключаешь с ним пари, призвав в свидетели подушку с одеялом. Уж ты-то, моя верная Маб, понимаешь, о чем я?
С этими словами Титания открыла висевший на поясе кошель, и наружу стрелой вынеслась карета крохотной феи. Оказавшись на воле, Маб тут же устремилась к Вертумну с Помоной.
– Они должны быть наказаны! – взвизгнула она.
– О, они будут наказаны, – улыбнулась в ответ Титания. – Они увидят, как из-за их измены страдает вся Иллирия. Вся скучная дипломатическая канитель моего дражайшего муженька закончится ничем – все его планы расстроены, а фавориты потерпели крах. Вскоре Оберон смиренно выразит мне свое почтение, и мы начнем все сначала – так было всегда и будет вовеки.
Вертумн взглянул на Помону, но та не ответила ему взглядом. Она смотрела вперед, решительно стиснув зубы. Да, это был не ее бой, однако она стояла рядом, плечом к плечу с ним. Только ради верности Орсино и закону, ради мира и выполнения своего долга. Ей нужно было лишь передать книгу сыну покойной подруги, где бы тот ни был, и он, Вертумн, позаботится о том, чтобы у Помоны все получилось, если только она не откажется от его помощи.
– Ваше величество, – заговорил Вертумн, – раздор – лишь между нами. Пусть между нами он и завершится.
– Однако, Вертумн, ты должен знать свое место. Подумать только! Мой маленький подменыш вырос, обзавелся телом старика и строит из себя дипломата! Моя игрушка – доверенный эльфийского царя! Да, и слона можно одеть в драгоценные одежды, но ведь от этого он не станет принцем!
Щеки Вертумна вспыхнули. Толпа придворных взорвалась хохотом, заклекотала точно туча галок. Оглядевшись, Вертумн увидел сатира, согнувшегося пополам в приступе смеха.
– Но ведь это ты увешана фальшивыми драгоценностями, Титания, – негромко заметила стоявшая рядом Помона.
***
Помона и сама не знала, что хочет этим сказать. Ее просто вывел из себя вид хохочущего Силена. Да и интригами фей и эльфов она уже была сыта по горло.
Однако лицо царицы побагровело так, что почти сравнялось цветом с волосами. Брат Лоренцо, стоявший рядом с Помоной, дрогнул и попятился. Бедный старик…
– Какая-то ведунья смеет оскорблять меня? – вымолвила Титания.
Гробовую тишину нарушили тихие шаги. К ним шла Малхи. Плюмаж из страусовых перьев дрожал над ее склоненной головой.
– Ваше величество! Возможно, вы не знаете об одном обстоятельстве.
Титания повернулась к ней.
– О каком же?
– Если эта ведьма и оскорбила вас, то вовсе не из неприязни. Помона и Вертумн любят друг друга.
– Любят?!
По залу пронесся ропот. Слава богу, подавившийся собственным смехом Силен до сих пор не мог издать ни звука.
Что заставляет эту женщину выставлять их на смех и на стыд? Что дурного сделала Помона Османской империи?
Вертумн открыл было рот, но Малхи подняла руку, призывая его с Помоной к молчанию.
– Мне хорошо известно, – продолжала османская посланница, – что при дворе Титании любовь почитают превыше всего, что из самого Китая везут Великим шелковым путем тюки шелков для ваших будуаров и духи для ваших плеч. Конечно же, вы не ожесточитесь сердцем против двоих, случайно встретивших друг друга в столь неожиданном месте, и не станете сердиться на то, что любовь преодолела стену вашего сада?
Титания прижала к губам длинный ярко-алый ноготь.
– Это так, Вертумн? – спросила она, сдвинув брови. – Потому-то эта ведьма и впуталась в мои дела?
– Помоной двигал лишь ее долг – долг подданной Иллирии, – ответил Вертумн.
Малхи за спиной Титании подняла глаза к небу и всплеснула руками.
– Это правда, – сказал брат Лоренцо, шагнув вперед и встав рядом с Помоной.
И он туда же!
– Сегодня утром, спаси господь мою душу, – продолжал старик, – я застал их в темнице, сплетенных в объятиях любви.
От злости кровь стучала в ушах так, что заглушала рев толпы придворных. Подхватив старого дурня под локоть, Помона отвела его в сторону.
– Что ты задумал, старый проныра? – зашипела она.
– Для Титании и ее подданных нет ничего святого, кроме любви, – ответил монах. – Если мы убедим ее, она вполне может унять своего мужа.
– А может, все это только пуще разъярит ее? К тому же, святой отец, это ложь.
– Это правда, – громко объявил Вертумн. – Я люблю ее.
Голос его осекся. Наверное, он не до конца превратился в эльфа и так и не научился врать изящно. Отпустив локоть Лоренцо, Помона всплеснула руками. Что ни скажи хоть другу, хоть врагу – все как об стену горох!
– Х-ммм, – протянула Титания. – Не верю. Докажи.
– Доказать? Чем же я могу доказать свою любовь?
– Убеди меня, – велела царица фей, разведя руками. – Расскажи, отчего ты любишь ее.
Вертумн сцепил руки за спиной и принялся расхаживать по залу взад-вперед. Дискуссии и рассуждения он любил больше всего на свете.
– Если ты спросишь, отчего стрела Купидона попадает именно в это место именно в этот час, я не смогу ответить, как не смог бы сказать, отчего мне суждено было родиться от матери, дружившей с царицей фей, или почему моей матери было суждено умереть.
– Нет, Вертумн, сейчас от тебя требуется побыть рапсодом, а не философом. Воспой же хвалебную песнь! Поведай мне о своей любви. Выкладывай ее на стол, как шелк и бархат, и дай мне оценить ее вес.
Вот дурак! Ведь он взаправду намерен так и сделать. И угодить прямиком в западню. Эта Малхи – в дружбе с Титанией. Должно быть, она устроила все это, чтобы выставить их на посмешище. Конечно, повешения и четвертования они не заслуживают, однако им явно предстоит вывалить на пол все свои потроха[22] ради забавы придворных.
– Я люблю ее, потому что… – заговорил Вертумн, но тут же умолк.
– Он вовсе не любит меня, – презрительно усмехнулась Помона.
– Я люблю ее за то, что она спорит со мной.
Новый взрыв хохота. Титания подняла брови.
– Недурно сказано, сэр, недурно сказано. Если забыть о ее внешности, да, это к лучшему.
– Но мне очень нравится ее внешность, – возразил Вертумн.
О, господи…
– Я люблю морщинку меж ее бровей, и грязь под ее ногтями. Мне нравится, как щеки ее округляются, словно яблоки, когда она смеется.
Придворные умолкли. Смотрят. Ждут.
– А что скажешь ты, ведьма? Скажи, ты любишь моего подменыша?
Улыбка исчезла с лица Помоны. Она взглянула на Малхи – ее лицо было непроницаемо. Тогда Помона перевела взгляд на Вертумна. Господи всемилостивый, он не врал! Он говорил откровенно, или, по крайней мере, думал, что не лжет. В животе у нее что-то екнуло, точно она взлетела ввысь, только на сей раз рядом не было гибкой и прочной лозы, чтоб подхватить ее и опустить на землю. Ничто не спасет ведунью, если ветер унесет ее прочь.
Помона покачала головой. На глаза навернулись, помутив взор, предательские слезы. Она просто не могла любить его. Она неспособна на такое. Она состарилась, устала, а долг перед покойной подругой мог увести ее очень далеко от Иллирии. Что может принести ему, бессмертному, ее любовь? Только горе.
Вертумн взял ее за руку. Помона крепко сжала его ладонь и почувствовала, что совсем не желает ее отпускать.
– Да, – еле слышно шепнула она.
– Что? – переспросила Титания. – Что ты сказала, ведьма?
– Я люблю его. Господи, помоги…
В уголках глаз Вертумна появились морщинки.
– Докажи.
– У него… – Помона окинула Вертумна взглядом, изо всех сил стараясь придумать хоть что-нибудь. – У него такие плечи…
– Ха! – Титания вновь рассмеялась. – Мой философ обрел страстную любовь! Хорошо! Вертумн, что скажешь ты?
– Я люблю ее за то, что ей нравятся мои плечи, – не задумываясь, ответил он.
– А я полюбила его за то, как он погладил меня по щеке, думая, что я сплю – словно изучая мое лицо.
– А я полюбил ее за ее силу, за то, как повинуются ей растения – точно самой Деметре. Я люблю ее мудрость. Люблю ее верность и честь.
Что еще можно сказать? Что может сравниться с его словами, не оказавшись ничтожным и блеклым рядом с ними?
– Я люблю его за подаренную книгу. Люблю за то, что он без страха и колебаний пошел наверх по моей лестнице. Люблю его за то, что голова его витает в облаках.
– А я люблю ее за то, что ноги ее твердо стоят на земле.
Они умолкли, глядя друг на друга. Помона улыбнулась Вертумну, едва не смеясь от счастья. Оба они споткнулись об истину, едва ступив на путь лжи.
Титания захлопала в ладоши.
– Что за нежданная радость! Отчего же ты молчал, Вертумн? Мой дорогой Вертумн влюблен. Когда устроим свадьбу? Сегодня вечером? Я попрошу Паутинку сыграть нам на арфе.
Помона взглянула на Титанию и снова перевела взгляд на Вертумна. Что ж, они сделали все, чего от них потребовали. Они объявили о своей любви перед всеми этими праздными зеваками. Почему бы теперь не оставить их одних? Волшебной свадьбы ей вовсе не хотелось.
– Премного благодарна, – заговорила она, – но я должна выполнить одно обещание и не могу выйти замуж, пока не покончу с этим. С позволения герцога, я покину Иллирию, как только смогу.
Она отвела взгляд от Вертумна. Конечно же, он должен понимать, что она не может остаться с ним. Любовь – это прекрасно, но она дала Сикораксе слово.
– Покинуть? – ужаснулась Титания. – Ну уж нет. Что за неотложные дела могут быть у ведьмы? Может, собирается ковен, и ты обязана набрать для него жаб да змей? Оставь эту скучную каторгу! Живи среди нас! Стань духом воздуха, лесной дриадой, иль гусеницей стань среди листвы – кем только пожелаешь!
Помона склонила голову.
– Я желаю лишь позволения отправиться в Милан, как только смогу заплатить за проезд, и отыскать того, чье наследство мне доверено хранить.
– И ради этого ты расстанешься с возлюбленным?
– Ей не придется расставаться со мной, – сказал Вертумн. – Если у Оберона нет для меня новых поручений, что вероятнее всего, я волен отправиться с ней. Так я и поступлю, если ей не слишком докучают мои разглагольствования.
Помона резко обернулась к нему. Он широко улыбался.
– А я в награду за спасение посла и прекращение войны оплачу твой проезд, – объявил Орсино.
Виола нахмурилась, но ничего не сказала.
– Что ж, – заговорила Титания, опускаясь на трон из паутины и сумрака, внезапно появившийся за ее спиной. – Вертумн, ты заслужил прощение. Возвращаю тебе волшебную силу. Лети куда угодно и принимай какой угодно облик. Хочешь – будь старухой, а хочешь – псом. Как пожелаешь!
Серебристое облачко, сорвавшись с кончиков ее пальцев, окутало Вертумна, и его кожа засияла, заискрилась в солнечных лучах, падавших внутрь зала сквозь огромные окна.
– Какой же облик ты выберешь, Вертумн? – с лукавой улыбкой спросила Малхи.
– Тот, что больше всего понравится Помоне, – ответил Вертумн, крепко сжимая в ладони руку любимой.
Из всех ударов злейший
То был удар из всех ударов злейший:
Когда увидел он, что Брут разит,
Неблагодарность больше, чем оружье,
Его сразила; мощный дух смутился…[23]
Тоскана, 1601 г.
– Я просто не могу сказать, что ждет тебя в будущем.
Отвернувшись от матери, Лючия приподняла занавеску и выглянула в окно. Ей стало жутко. Отчего мать отказалась ответить? Она всегда знала, что ждет ее дочь в будущем.
Смотреть было не на что, кроме собственного отражения в стекле. За окном кареты, по ту сторону стекла, царила непроглядная ночная тьма, и Лючия опустила занавеску. Было холодно, и меха, окутывавшие плечи, ничуть не помогали унять дрожь. Мать знает, что ждет впереди. Знает, но боится сказать. Других объяснений быть не могло.
– Если ты видишь что-то ужасное, незачем скрывать это от меня, – сказала она. – Ведь я уже не маленькая.
Освещенное фонарем лицо матери было бледным. Она выглядела куда более старой и усталой, чем Лючии хотелось бы. Бледность лица матери так резко контрастировала с багрянцем бархатного капюшона, что казалось, будто та нездорова.
– Сердце мое, я никогда не лгу тебе. Просто не могу сказать, потому что не вижу.
– Разве ты утратила свой дар?
– Нет.
– Значит, будущее других ты все же видишь?
Мать вздохнула. То был вздох женщины, уставшей так, что и слова не вымолвить.
– Поспи, моя милая.
– Но куда мы едем?
– К той, кто знает ответы на все вопросы. К той, что научила меня Видению. Она вновь откроет путь, что лежит впереди, и все будет хорошо.
Мать вновь смежила веки, и Лючия поняла, что больше не добьется от нее ничего.
Значит, вот как живется всем остальным, тем, чье будущее – словно тьма за окном кареты. Как же они могут вынести это? От неизвестности желудок Лючии скрутило в болезненный узел, и мысли ее изо всех сил цеплялись за то, что ей было известно – что ей было известно всегда – уж это-то наверняка осталось прежним?
Мать никогда не лгала ей, особенно когда дело касалось Видения. Истину она преподносила дочери в виде сказок, так глубоко укоренившихся в сознании той, что без них Лючия себя и не мыслила.
Эти сказки начинались с самого рождения Лючии – с того, как мать, взяв кровь из пуповины, соединявшей их в ее утробе, вышла из дому в лунную ночь и смазала той кровью веки и губы, чтобы узнать судьбу дочери. Будущее дочери виделось ей отчетливо и ярко – все равно что пышный карнавал, проходящий под окнами. Радость и празднества, страдания и любовь – все предстало перед ее взором, а в центре всего этого – дочь, ее дитя, предвестница мира. Она увидела, как младенец, отчаянно вопящий и тянущийся к ее груди, растет, превращаясь в прекрасную юную деву, выходит замуж за сына их заклятого врага, и войне наступает конец. Она увидела любовь, которую ей следовало посеять в двух юных сердцах, и поняла, в чем состоит ее долг. Ей предстояло преодолеть все преграды, воздвигнутые войной, и устроить так, чтобы ее девочка как можно чаще встречалась с этим мальчуганом, и сады их сердец украсились бы цветами минут, проведенных вместе. Что за прекрасный юноша! Как благороден – не чета отцу! А ее дочь, сладкая, будто гранат, равно искусная в политике и пении!.. Она увидела внуков: старший правит Тосканой, поля тучны и обильны, народ сыт и счастлив вновь! Все это открыла ей кровь на губах и веках – кровь дитяти, родившегося на свет из ее лона.
Будущее Лючии де Медичи было вычерчено матерью четко, словно береговая линия рукой искусного картографа, и Лючия следовала ее карте со всей охотой. Франческо де Медичи не знал своего пути, но с радостью двигался следом, и любовь их крепла. Сунув руку под меховую полость, Лючия нащупала согревшийся у сердца медальон. Вспомнился миниатюрный портрет внутри и локон черных волос, в которые так хотелось запустить пальцы… Они поцеловались трижды, когда он думал, что ее мать не видит, не зная, что цель их спутницы – позаботиться о том, чтобы их страсть расцвела, а вовсе не увяла. Губы его были – словно лепестки роз, и одно лишь воспоминание о них привело Лючию в трепет. У нее наконец-то появились ежемесячные крови, и мать подготовила ее наилучшим образом. Их матери встретились втайне, чтобы решить исход войны в простой беседе за чашей вина. Это куда цивилизованнее, чем у мужчин, бьющих себя в грудь и размахивающих мечами, не в силах поступиться гордостью и завершить ими же затеянную войну. Помолвка состоялась. Осталось лишь ко времени убедить отцов, чтоб все обычаи были соблюдены, а после – устроить свадьбу.
Словом, все шло так, как увидела мать шестнадцать лет назад, и Лючия была этому только рада. Конечно, без волнений перед первой встречей с Франческо не обошлось, но это же естественно. Как объяснила мать, любовь их была неизбежна. История и мифы наперебой рассказывали о тех, кто шел на все, только бы избежать предначертанных судеб, но любые их усилия неуклонно вели к тому, что предначертано, и только умножали страдания в пути. Ничего не поделаешь, оставалось лишь отдаться на волю судьбы, погрузившись в нее, как голова утопает в пуховой подушке. Лучшего мужа, чем Франческо – благородный красавец Франческо, – невозможно было и пожелать, и незачем было опасаться, что он отвергнет ее внимание. Привлечь его и завоевать его сердце оказалось не труднее, чем дышать. А сама Лючия полюбила его тотчас, как только он поцеловал ее руку, будто ее сердце только этого и ждало.
Но всю последнюю неделю мать по утрам выглядела устало, а ее звонкий смех пересох, точно речное русло в засуху. Когда же Лючия спросила, как ответить на тайное послание Франческо, на лице матери отразилась неуверенность, и даже о свадьбе она ни словом не обмолвилась. Лючия начала избегать ее – уж слишком все это было тревожно! – и проводила время в разучивании свадебного танца, хотя во всем доме только и разговоров было, что о войне. Брат накричал на нее, обозвав глупой девчонкой, радующейся, когда вокруг столько горя, но Лючия простила его. Ведь он, бедняга, не знал, что скоро всем бедам конец!
Но в тот же вечер, стоило ей начать причесываться перед сном, в ее спальню вошла мать и велела собираться в дорогу. И с тех пор уже прошел не один час… Кем бы ни была наставница матери, она, очевидно, предпочитала жить вдали от цивилизованных мест. Тревог, вызванных поведением матери, было никак не одолеть, и в конце концов Лючия прямо спросила ее, что происходит, но ответ ее отнюдь не успокоил. Неужели правда, тревожащая мать, еще хуже неведения?
Лючии стало очень жаль, что она уже не маленькая и не может, как раньше, умоститься на сиденье рядом с матерью, свернуться клубочком и положить голову ей на колени. Она стала взрослой женщиной, и вскоре ей предстояло ездить в карете с мужем и новой свитой, а кроме того она была слишком высока ростом. Наверное, все это – только подготовка. Да, так и есть. Все это – подготовка к новой жизни, когда она не сможет, что ни день, советоваться с матерью и должна будет жить одним лишь собственным умом.
Стоило Лючии успокоиться и набраться терпения, карета накренилась – дорога пошла вверх. Тоскливый вой снаружи заставил Лючию плотнее закутаться в меха. Лакея с ними не было, только кучер. Да, самые жестокие бои шли где-то далеко, но во времена войны жестокость расползалась повсюду, будто чума. Неужели мать забыла о разбойниках и дезертирах? Лючия покачала головой. Будь впереди опасность, мать не отправилась бы в путь. Она бы Увидела ее. Лючия вновь успокоилась, превыше всего надеясь, что мать не утратила дара Видеть, что может угрожать ей самой, даже если дар подводит ее при попытках проникнуть в будущее дочери.
Подъем сделался круче, карета накренилась еще сильнее, и Лючия соскользнула вперед, разбудив мать. Та схватила Лючию за руку, пересела к ней и прижала ее к спинке сиденья. Руки она так и не разжала, и Лючия крепко-крепко обняла ее свободной рукой. Мать поцеловала ее в щеку, и на душе, как всегда, стало легче: они вместе и вместе движутся вперед.
– Почти приехали, – сообщила мать к немалому облегчению Лючии.
– Мы останемся там ночевать?
Судя по улыбке матери, она сказала какую-то нелепость.
– Думаю, нет, – ответила она, целуя руку Лючии. – Вот что: слушай внимательно. Я не смогу пойти с тобой, поэтому вспомни все, что я рассказывала об уважении к ремеслу хозяйки. Говори только когда попросят. А если потребуется задать вопрос, подумай хорошенько, прежде чем спрашивать.
– Как мне представиться лакею при входе?
– Милая, моя наставница ждет тебя в пещере у подножья Монте-Прадо.
Образы изысканной усадьбы тут же исчезли из головы.
– В пещере?
– Да еще в какой! Эта пещера – сама История. В ней – место силы тех, кто Видит. Возможно, с виду она неказиста, но – не верь той лжи, что показывают тебе глаза.
Лючия кивнула. Чем больше информации, тем лучше – особенно когда не знаешь, что ждет впереди.
– О чем с ней нельзя говорить? Чего ей нельзя рассказывать?
Мать вновь улыбнулась. Взгляд ее исполнился любовью и признательностью.
– Ее знания безбрежны, а интерес к политике ничтожен. Если задаст вопрос, отвечай правдиво. Все, чего мне удалось достичь, достигнуто благодаря ее науке, и бояться тебе нечего.
– Будет ли она как-нибудь испытывать меня?
– Думаю, нет. Я попросила ее предсказать твое будущее и взглянуть, что за силы мешают мне Видеть. Ах, сердце мое, мы так близки, так близки к окончанию этой войны и к исполнению желаний твоего сердца! Я не могу допустить ни малейшей угрозы нашим планам и твоему счастью.
Карета сбавила ход, остановилась, замерла. Замерло и сердце Лючии. Отодвинув занавеску, она увидела зев пещеры. Внутри мерцал неверный оранжевый свет.
– Что, если она решит, будто мне чего-либо недостает?
– Наставница увидит твою непорочность и прочие достоинства. Скрыть их не легче, чем эти горы.
Пока кучер спускался с козел, Лючия накинула на голову капюшон плаща – синий, цвета ее глаз, как сказал при последней встрече Франческо. Покопалась в памяти, пытаясь припомнить, когда ей в последний раз приходилось делать нечто важное, не зная наперед, как все обернется. Подавила желание остаться в карете, с матерью, и потянулась к дверной ручке.
Мать положила руку ей на плечо.
– Лючия, ты – весь мой мир. Лучшей дочери ни одна мать не может и желать. Ступай смело.
Поцеловав мать в щеку, Лючия позволила кучеру помочь ей покинуть карету. Дверца кареты захлопнулась за спиной, Лючия двинулась к пещере – и только теперь осознала, как тепло было внутри. Ветер свистел в ушах, рвал с нее плащ и меха, но она плотнее запахнула одежды у горла и пошла ко входу в пещеру. Как бы ей ни хотелось оглянуться, она не оглядывалась из опасения, что, увидев за стеклом встревоженное лицо матери, мигом утратит всю свою решимость.
Войдя в пещеру и укрывшись от ветра, Лючия отпустила ворот плаща и надвинула на глаза капюшон, чтобы защитить их от света и лучше видеть. Пещеру освещали факелы и огромные свечи, стоявшие в естественных нишах – углублениях в каменных стенах. Длина и толщина наплывов застывшего сала под каждой из свечей отмечали время – многие-многие годы. Дальше в глубину пещеры пол шел под уклон – вниз, в темноту, и Лючия поняла, что именно туда ей предстоит спуститься.
Лючия приподняла подол платья и пошла в глубь пещеры, внимательно глядя под ноги и обходя ямы, настолько глубокие, что недолго и лодыжку вывихнуть. Пахло дымом, свечным салом и отсыревшим камнем. Никогда еще ей не приходилось бывать в обстановке столь первобытной. Неужели именно здесь мать выучилась своему искусству? Спуск оказался круче, чем она ожидала, и, отойдя от входа, Лючия увидела, что он ведет в подземелье размером примерно с ее спальню. Здесь было темнее: один-единственный факел горел между нею и чем-то, поблескивавшим у дальней стены – может быть, лужей?
Не понимая, есть ли тут кто-нибудь, Лючия остановилась, но тут же вспомнила, чему ее учила мать. Закрыла глаза, замерла – и тут же почувствовала, что в темноте у дальней стены кто-то есть.
– А-а-а…
Голос – глубокий, звучный, исполненный вековой мудрости – принадлежал женщине преклонных лет. Лючия склонилась в глубоком реверансе.
– Какая красавица, какие манеры… Поди, поди сюда, дитя мое.
Поднявшись, Лючия пошла на голос, в темноту, но стены впереди отчего-то не чувствовалось. Чувствовалось, будто перед ней полукруглая ниша, а сразу за нишей – ущелье, да такое широкое и глубокое, что в него поместились бы разом все ночи на свете.
Едва тьма скрыла ее ноги, Лючия увидела небольшую чашу – естественное углубление в сталагмите на высоте пояса, природную каменную купель, полную воды. Чашу освещал одинокий бледно-желтый огонек, горевший без фитиля прямо посреди водной глади. Волшебство, исходившее от нее, было столь сильным, что волоски на шее встали дыбом.
– Ты боишься, дитя мое?
– Немного. Меня учили, что волшебство – оно как огонь. Если подойти к нему с почтением и осторожностью, оно принесет великую пользу. Но человека невежественного и безрассудного оно может изувечить, а то и сжечь. Я не знаю тебя, здешнее волшебство не повинуется мне. Я отношусь к тебе с почтением – настолько глубоким, что оно граничит со страхом.
– Твоя мать хорошо тебя выучила. Подойди к чаше. Здесь тебя не постигнет никакое зло. Здесь нет волшебства, которое причинит тебе вред, мой птенчик, и никакой кошмар не явится к тебе до рассвета.
Лючия приблизилась к чаше. Хозяйка сделала то же самое. Лючия не видела ее лица, скрытого под вуалью из тонких серебряных нитей, однако несколько прядей волос, выбивавшиеся наружу, были черны, как вороново крыло. Белое платье из венецианской парчи, перепоясанное витым серебряным шнуром, оставляло на виду только тонкие, изящные руки. Лючия невольно принялась гадать, как прекрасно лицо под вуалью, но тут же опомнилась: это было совсем не важно. В этой женщине чувствовалось волшебство такой силы, что она, конечно же, могла выглядеть, как только пожелает.
– Твоя мать была одной из моих лучших учениц. Я видела, что она хочет родить дитя, когда она была еще моложе, чем ты. Другой я бы запретила, но она блистала, словно бриллиант, словно яркая нить в серой ткани судьбы, и отказывать ей в ее желании значило бы пойти против сил, много превосходящих мои. И вот ты стоишь передо мной – созревший, но еще не сорванный плод; женщина, и вместе с тем невинное дитя. Да, ты красива, но красотой бутона розы, которому еще предстоит расцвести, явив миру всю свою прелесть. Зачем твоя мать привезла тебя сюда?
– Мать не может увидеть мое будущее. Какая-то сила препятствует ее Видению. А от моей помолвки с любимым зависит очень многое, и потому ей нужно удостовериться, что нашим планам ничто не угрожает.
Хозяйка пещеры обошла чашу, остановилась за спиной Лючии и скинула с ее плеч меха и плащ. Одежды упали на пол. Несмотря на еще несколько слоев хлопка, шелка и шерсти, Лючии стало холодно.
– Когда у тебя в последний раз были крови?
Хозяйка положила неожиданно теплую руку на чрево Лючии – туда, где будет расти ее дитя. Жар ее ладони чувствовался даже сквозь платье и белье.
– Почти луну назад.
Ладонь хозяйки надавила на живот – точно так же повивальная бабка, которую Лючия однажды видела в доме подруги, нажимала на чрево женщины в тягости, – и за спиной послышалось довольное бормотание:
– Хорошо… Да… Хорошо. Смотри в огонь.
Лючия повиновалась, и хозяйка отошла от нее, вернувшись на прежнее место по ту сторону чаши. Огонек парил над самой водой, и принять его как есть стоило немалых усилий. Но неверие и сомнения могли только помешать. Огонек существовал, горел, а как и отчего – было неважно.
– Вдохни поглубже. Подумай о любимом, о замужестве, и о судьбе, которая, как ты полагаешь, ждет тебя. Задержи дыхание, держи все это в груди, пока не припечет, а затем выдохни – над огнем.
Лючия сделала глубокий вдох, огонек моргнул, и она почувствовала дрожь глубоко внутри – в том самом месте, на которое минуту назад легла ладонь хозяйки. Она заставила себя вспомнить о Франческо, об их грядущем браке, об окончании войны, и мысли сами устремились к любимому – к его телу, к их брачной ночи, к тому мгновению, что их соединит.
Кровь жарко прилила к щекам, и Лючия выдохнула. Боязнь задуть огонек оказалась недолгой. Пламя устремилось в стороны и охватило чашу до краев. Из тускло-желтого огонь стал яростно-красным и запылал так горячо, что Лючия отшатнулась, опасаясь опалить волосы.
– Эта чаша росла тысячи лет, строилась из слез самой земли, – сказала хозяйка пещеры. – В ней сила, которой не постичь человеку. В ней сила, которой не постичь волшебнику. В ней сила, которой не постичь даже духу, эльфу или фее. Но она говорит со мной. Взгляни в огонь, разожженный тобой, моя роза. Хочешь ли ты услышать, что говорит он мне?
– Да.
Хозяйка пещеры подняла руки так, что ладони ее оказались по обе стороны пламени, и запрокинула голову, устремив взгляд вверх, к каменному своду пещеры.
– Лючия де Медичи! – голос ее зазвучал сильнее прежнего. Цвет пламени из красного стал холодным, голубым, точно лед. – Тебе суждено обвенчаться с Франческо де Медичи спустя две луны, в день, который увидит и снегопад и солнце на ясном небе. Ваш союз положит конец войне и принесет мир на тосканские земли. Но путь тебе преграждают страдания. Некто намерен расстроить ваши замыслы, – огонь потускнел и заморгал, точно от внезапного дуновения, которого Лючия не могла уловить. Кончики языков пламени пожелтели. – В руках волшебника Просперо, герцога Миланского, кинжал, который он задумал обратить против тебя и твоего любимого, – пламя вновь сделалось ярче и поднялось выше прежнего. В лицо Лючии дохнуло холодом, будто она склонилась к леднику. – Этот кинжал прольет кровь, которая усугубит вражду. Этот кинжал погубит твоего возлюбленного. Тебе никогда не носить под сердцем его дитя.
Огонь погас, и все вокруг окутала тьма. Лючия принялась шарить по полу в поисках плаща и мехов, изо всех сил стараясь удержаться от слез и взять себя в руки. Она не могла, никак не могла постичь услышанного. Кинжал? Герцог Миланский? Ничего подобного в рассказах матери не было! Все должно было выйти совсем не так!
Над водой вновь загорелся тусклый желтый огонек, и Лючия закуталась в плащ. Ее била дрожь. Пальцы хозяйки впились в края чаши.
– Вот отчего твоя мать не может видеть, – объяснила она. – Вы с ней под властью темных чар Просперо. Он полагает, что ни одной женщине не по силам проникнуть в его замыслы. Но он не знает, как далеко простирается моя сила.
– Он замышляет погубить Франческо? Но зачем? Какой в этом смысл? Если только… – Лючия крепко стиснула медальон, словно от этого и сам Франческо оказался бы рядом, вдали от любых опасностей. – Мог ли Просперо узнать, что наш брак положит конец войне?
– Он – могучий волшебник и может многое.
– Должно быть, он хочет, чтобы война продолжалась! И отец хочет того же – уж не стакнулся ли Просперо с ним или с моим дядей? Я слышала, смерть дочери сильно испортила его нрав. И что же – из-за этого я и мой любимый обречены на смерть? Неужели с этим ничего не поделать? Разве мне не суждено выйти замуж за Франческо? Неужели судьба и любовь не могут помешать его гнусным планам?
Хозяйка пещеры снова обошла чашу и положила ладонь на щеку Лючии. Теперь рука ее была холодна – в сравнении с ней щека Лючии горела огнем.
– Возможно, смогут, если у тебя достанет мужества.
В сердце Лючии зажглась искорка надежды.
– Что я должна сделать?
– Ты должна завладеть этим кинжалом прежде, чем он свершит свое злое дело, убить им Просперо и тем избавить мир от зла.
Лючия покачала головой.
– Но я не способна даже пнуть собаку или раздавить паука! Как же мне убить человека? Мне просто не хватит духу, чтобы убить!
– Быть может, тебе хватит духу, чтоб плакать над гробом суженого. Быть может, тебе хватит духу прожить остаток жизни без него, в семье, раздираемой на части войной и ее братьями – мором и гладом. Возможно, когда все, кого ты любишь, будут мертвы или охвачены скорбью, ты сумеешь найти утешение в чистоте своих помыслов, не позволивших тебе убить человека.
Лючия отстранилась от ее руки и опустила взгляд к огоньку посреди каменной чаши.
– Но как я смогу? Ведь он волшебник, а я… Я не умею, не знаю ничего, что могло бы помочь.
Палец хозяйки коснулся подбородка, заставив Лючию вновь поднять лицо и взглянуть в глаза под вуалью.
– Ты – женщина, а твой любимый в опасности. Значит, найдешь способ. К тому же, ты не останешься без помощи. Расскажи матери, что я увидела в пламени над чашей. Она поможет тебе пробраться в Милан. Но только ты одна можешь войти в башню Просперо и только ты одна можешь убить его, ибо на твою сторону встанет сама судьба. Его деяния влекут тебя прочь с истинного пути, тянут в сторону, точно тетиву лука. Чтоб натянуть тетиву, нужно приложить силу. Убей Просперо его же кинжалом, пока он не убил твоего любимого, и нить судьбы выпрямится подобно спущенной тетиве, вернет тебя на прежний путь и сделает сильнее, чем ты можешь себе представить.
– И если я убью Просперо, все будет хорошо?
– Розочка моя, спроси себя вот о чем: будет ли все хорошо, если я не убью его?
Лючия прикусила нижнюю губу, чтобы унять дрожь. Сумеет ли она решиться на такое?
– Я тоже помогу тебе, – сказала хозяйка пещеры. В руках ее появился крохотный стеклянный пузырек. Вытащив пробку, она наполнила его водой из чаши, вновь закупорила и подала Лючии. – Ты сможешь сделать три глотка и трижды увидеть свое будущее. Но будь осторожна: за применением такого волшебства неизбежно следует расплата.
Лючия приняла пузырек, и желтый огонек вновь заморгал. Волна холода обдала кожу, хлынула в грудь. Лючия так и не смогла унять дрожь, пока хозяйка целовала Лючию сквозь вуаль в обе щеки и желала ей всего наилучшего. Озноб бил ее и по пути к карете и даже внутри, в объятиях матери. Ни нежные пальцы, гладившие ее по голове, ни ласковый голос, уверявший, что они непременно отыщут путь назад, к тому, что ей суждено, не смогли прогнать холод, окутавший сердце.
В конце концов, Просперо удалось сформулировать решение так аккуратно и точно, что на губах его впервые за многие годы появилась улыбка. Уж лучше распрощаться с окончательно разочаровавшей его жизнью, чем плести темные чары, продляя ее. Да, он достиг могущества и в волшебстве и в политике, и все же его недовольство не имело границ. К чему власть, если ничего не желаешь? К чему жизнь, если нет любви? К чему цепляться за настоящее, не имея будущего?
Дочь умерла двадцать лет назад. Конечно, за эти годы скорбь прошла, но неприкаянность, пришедшая ей на смену, сделалась только глубже. На время ее помогали отогнать прочь научные изыскания и нечаянная радость новых открытий, но она неизменно возвращалась. Душу словно объяла тьма, и чтобы развеять ее хоть ненадолго, нельзя было успокаиваться ни на минуту. Порой на это просто не хватало сил.
Брак не принес дочери радости, а он отмахнулся от ее мольбы о помощи. И сколько бы он ни твердил себе, что в ее смерти от родильной горячки нет его вины, невольно думалось, что, если бы он освободил дочь от этого неудачного союза, она была бы жива до сих пор. Возможно, еще нашла бы свою любовь, родила детей… Наследников…
Быть может, следовало обратить внимание на одну из женщин, проявлявших к нему интерес за эти годы, и обзавестись новой семьей. Но он прекрасно понимал, что всем этим дамам интересен вовсе не он, а его титул. К тому же все они были так бесхарактерны и пусты! Шелка, шелка, а под шелками – пустота… А ему нужна была женщина, которой хватило бы мужества драться за то, что ей нужно, которая смогла бы разжечь в его душе огонь и разогнать тьму… Но подобных женщин в Милане не существовало – по крайней мере, среди незамужних. Заводить же себе холеную домашнюю кошку только ради того, чтобы она родила ему сына, совсем не хотелось. А что, если родится дочь? Он ведь давно отвык от этих летучих, подвижных, точно ртуть, созданий, что всей душой желают чего-нибудь, а, едва получив желаемое, тут же охладевают к нему. Ни постоянства, ни глубины духа… Чума на всех на свете дочерей!
Просперо встал и потянулся. Суставы захрустели после долгого сидения в безмолвной жалости к самому себе. Свечи почти догорели, а перед тем, как отправиться в последний путь, следовало написать еще несколько писем. Налив себе еще вина и отрезав ломоть сыра, он окинул взглядом свой кабинет.
Раньше кабинет казался просторнее, но за все эти годы в нем накопилось множество книг и диковин. Каждый шкаф и каждая полка были заполнены доверху. Столы и кресла тоже стали полками, только другой формы. Все вокруг было покрыто толстым слоем пыли. Что до углов кабинета – их он не видел уже более двух десятков лет и был уверен, что в одном из них нашло себе дом целое семейство мышей. Во всех остальных залах и комнатах дворца, благодаря тому, что ими Просперо не пользовался, царил первозданный порядок. Он даже не задумывался, что там, в тех комнатах. Все самое ценное было собрано здесь, и он предпочитал смириться с залежами пыли, но не пускать в кабинет служанок, которые в стремлении к чистоте способны уничтожить что угодно.
Конечно, самое ценное из его имущества могло оказаться не здесь, а на вершине орудийной башни, в двух этажах над его головой. Там он держал самые опасные предметы, собранные за эти годы. Кинжал, завернутый в ткань и перевязанный золотым шнуром, был заперт в особом ларце. Вскоре он, согласно договору с шотландским королем, отошлет его обратно в Шотландию и официально отметит последний год жизни. Решиться вернуть кинжал было нелегко – в конце концов, это значило смириться со смертью и покончить с жизнью, – но это решение было правильным. Оно покоилось внутри, словно хороший обед – вкусный, сытный, естественный. Кинжал сделал свое дело в нужный час, и Просперо был не готов идти дальше по пути исследования других его возможностей. Чудовищная вещь! Просперо исполнит обязательство и вернет его Макбету до зимнего солнцестояния, зная, что к Стефанову дню[24] умрет. Дальше откладывать возвращение кинжала, неразрывно связанное со смертью, было бы глупо. Если его не вернуть до зимнего солнцестояния, Милан и его народ постигнет несчастье. Быть может, он, миланский герцог, довольно хладнокровен, но не чудовище же он! Он позаботится о том, чтобы избавить своих подданных от любых бед, которые он в силах предотвратить.
Внимание Просперо вновь вернулось к груде писем на столе. Последнее дело перед тем, как собрать все нужное и отправиться в последний путь. Могила Миранды была прибрана и украшена свежими цветами еще днем. Завещание – написано и отдано на хранение в присутствии доверенных лиц. Оставлять переписку многих месяцев преемнику не следовало, несмотря ни на какие соблазны. Половина писем была получена от этих треклятых Медичи – обе семейки умоляли принять их сторону в силу самых немыслимых причин, какие им только удавалось выдумать, и их письма можно было просмотреть и сжечь довольно быстро. Он безбоязненно игнорировал эти письма месяцами, но они все приходили и приходили. Просперо не питал никакого интереса к союзам с ними, как бы ни подзуживали его так называемые советники. Он знал: чью сторону он примет, те и победят, и во всех последствиях обвинят не кого-нибудь, а его. Оправиться от войны – дело не из легких, и он совсем не хотел взваливать на свои плечи такое бремя. Пусть спесивые Медичи режут друг дружку сами. Пока они развлекались этим в пределах Тосканы, ему до них не было ни малейшей заботы.
Третья чаша опустела, когда в камине догорало последнее письмо из Тосканы. Просперо громко, от души рыгнул. Дело было сделано. Он начал наполнять чашу в четвертый раз, но шорох за дверью кабинета остановил его. Просперо приоткрыл дверь.
– Виллем? – окликнул он, полагая, что его непутевый слуга опять шатается по коридорам, несмотря на поздний час. – Виллем, это ты?
Никто не откликнулся на зов, но Просперо не оставляло чувство, что в башне кто-то есть. Но, не будь это кто-то из домашних, защитные чары искрили бы вовсю. Между тем, вокруг было тихо, как в могиле дочери. Просперо зажег свечу в подсвечнике, которым пользовался, чтобы ходить по дому по ночам, и шагнул в коридор.
– Виллем?
Просперо двинулся вверх по узкой винтовой лестнице – мимо запертой спальни, прямиком к верхней из комнат. Дверь была заперта, но изнутри слышался шорох. Неужели что-то вырвалось на волю? Подняв кованое железное кольцо, он повернул его, отпирая замок. В центре комнаты, в лунном луче, струившемся внутрь сквозь узкую бойницу, рядом с ларцом, где был заперт кинжал, стоял закутанный в плащ человек. Вор? В его башне? Почему же защитные чары не сделали свое дело? Не будь перед ним столь убедительных доказательств, Просперо решил бы, что такое невозможно. Изумление тут же сменилось гневом, и Просперо ринулся внутрь. Неужто Макбет настолько не доверяет ему, что послал человека выкрасть кинжал раньше назначенного срока? Шаг, другой… Рука Просперо легла на плечо вора и резко развернула его. Девчонка? Серый отблеск металла в свете луны – и боль, жгучая боль в животе…
Выронив подсвечник, Просперо пошатнулся. Ладони сделались мокрыми от крови. В свете гаснущей свечи он увидел рукоять того самого подлого кинжала – будь он проклят! – глубоко вонзившегося в живот. Колени Просперо подогнулись, а девчонка бросилась к нему и крепко ухватила рукоять кинжала, рыдая от неких сильных чувств, природу коих Просперо постичь не сумел. Ненасытный клинок вытягивал из него душу, и он не мог поделать ничего – из раны струилась кровь, а с ней уходили и последние мгновения жизни. Вспомнилась Миранда – вот она, заливаясь смехом, мчится вдоль берега острова прекрасным летним днем, вот она лежит в гробу… Но видения тут же исчезли. Осталась лишь уверенность в том, что, кем бы ни была убившая его юная злодейка, страдания ее будут длиться вечно.
***
Кровь, брызнувшая на руки, едва Лючия попыталась выдернуть кинжал, оказалась неожиданно горяча. Рыдая над умирающим, она едва могла разглядеть ее сквозь слезы. А еще никак не могла понять, как все это вышло. Вот она развернула кинжал… миг – и клинок глубоко вонзился в живот Просперо! Кинжал словно сам, по собственной воле – непреклонной, решительной, жаждущей крови – кинулся к нему, увлекая ее за собой. Ведь она хотела только украсть этот кинжал, чтобы помешать замыслам Просперо, а после найти способ убедить его отказаться от задуманного, однако сделала именно то, о чем просила наставница матери. Все сопротивление ее воле, все планы, все разговоры, постоянные споры с самой собой и с матерью – все, что произошло после ночной поездки к той пещере, пошло прахом. Быть может, сама судьба вонзила в Просперо клинок, оставив ей лишь…
– Черт раздери!
Голос в дверях заставил вскинуть голову. Казалось, сердце вот-вот вырвется из груди. Франческо в Милане? Здесь?
– Любовь моя…
– Любовь? Если в груди моей и жила любовь к тебе, теперь она мертва! Как я мог думать, что ты мила и непорочна, когда ты способна на такое?
Выпустив кинжал, Лючия с трудом поднялась на ноги. Подол платья, рукава, ладони – все было залито кровью.
– Я только хотела…
– Я видел, как ты ударила его! Вот этими, своими собственными глазами! Убийца! Неужели нашего брака было бы мало? При чем здесь герцог? Все из-за того, что он решил принять сторону моего отца?
– Франческо! Я…
– Суть не в причине, а в поступке. Как проклята душа твоя отныне, навеки проклят будь и наш союз.
С этими словами Франческо повернулся к ней спиной и помчался вниз, громко стуча подметками по каменным ступеням. Вот-вот позовет стражу… Как ни болело, как ни рвалось на части сердце Лючии, жажда жизни в ней не ослабла. Обернувшись к телу, она коснулась век герцога, закрыв лишенные жизни глаза, и выдернула кинжал из раны – легко, будто соломинку из волос. Без лишних раздумий Лючия обернула оружие той же тканью, в которой обнаружила его, перевязала тем же золотым шнуром и спрятала в сумочку, укрытую под плащом.
Ключ от комнаты, сделанный матерью, рассыпался в пыль, сделав свое дело, поэтому Лючия просто тихонько закрыла дверь и поспешила вниз, каждый миг ожидая услышать крик Франческо, зовущего слуг. Но во дворце царило то же безмолвие, что и по пути внутрь – даже шагов Франческо было не слыхать. Лючия пустилась бежать тем же задним ходом для слуг, каким проникла во дворец, надеясь, что Франческо поступил так же – в конце концов, это был самый легкий путь, – однако юноши нигде не было видно.
Со времени заката прошли многие часы, но до рассвета оставалось еще больше. Лючия решила как можно скорее покинуть дворец, добраться до своей лошади – а там ей, возможно, удастся перехватить Франческо на дороге и упросить выслушать ее.
Винный погреб был тих и пуст, как и прежде. Лючия зажгла фонарь, спрятанный за одной из бочек, и поспешила через огромный зал, тянувшийся из конца в конец особняка, к черному ходу, оставленному открытым подкупленным слугой. Задув свечу, она повесила фонарь на пояс и выскользнула наружу, во двор.
Из караулки доносился мирный храп стражника. Фруктовый сад в дальнем углу парка был так же пустынен, как и в те минуты, когда она кралась сквозь него в дом. Франческо поблизости не было, и тревоги он до сих пор не поднял. Лючия беспрепятственно добралась до стены, приставила к ней садовую лестницу, взобралась наверх и тихо оттолкнула лестницу прочь, в высокую траву. Спрыгнуть вниз, в кусты, разросшиеся по ту сторону благодаря разленившимся стражникам, было легче легкого.
Зимняя резиденция Просперо находилась на южной окраине города, среди виноградников. Не в силах поверить, что ей удалось выбраться из дворца без малейших препон, Лючия бежала, пока под ней не подломились ноги, и она не рухнула в грязь. Кое-как поднявшись, она продолжила путь. Ее душили слезы, вина лежала на плечах тяжким грузом, будто ярмо раба. Наконец она добралась до неглубокой речки на краю виноградника и без сил опустилась на землю. Горизонт озарился зловещим багрянцем. Стоило смежить веки – перед глазами появлялась кровь, а каждый вдох нес с собой воспоминания об отвращении в глазах Франческо. Пока что ей ничто не угрожало, и Лючия, забыв об осторожности, уткнулась лицом в землю и плакала, пока не защипало в горле.
– Ну вот, теперь в слезы! Да что же ты за тварь?
Взвизгнув, Лючия отпрянула назад – так, что плечи ее оказались в воде. Перед ней стоял волшебник и герцог Миланский. Его одежды тоже были залиты кровью, но с виду он был вполне жив и здоров.
– Разве вы… Но я же…
– …убила меня – да, я знаю. Я при сем присутствовал.
– Клянусь, я лишь хотела забрать этот кинжал, прежде чем вы сможете осуществить свой план!
– Неужто он настолько не верит в то, что я верну его, согласно уговору?
– Я ничего не знаю ни про какой уговор. Знаю только, что вы хотите убить моего суженого.
Герцог наморщил лоб в неподдельном недоумении.
– Представления не имею, кто ты такая и кто имеет несчастье быть твоим суженым. Мой план состоит лишь в том, чтобы отослать этот кинжал обратно в Шотландию, – взглянув на свои одеяния, он пощупал пятна запекшейся крови, но его пальцы прошли сквозь ткань и плоть, будто сквозь туман. – Обгадь тебя господь, теперь я мертв и не могу найти упокоения! Не будь я призрачен, малютка, шею бы тебе свернул!
– Что ж, вы в полном праве преследовать меня.
– Я не нуждаюсь в твоем разрешении, несносная гнойная язва, и даже не думай, что я на этом остановлюсь. Радуйся последним минутам свободы, ибо в самом скором времени я положу ей конец, – герцог повернулся, точно намереваясь куда-то пойти, однако ж не сдвинулся с места. Он просто стоял и смотрел на свою усадьбу, как будто приказывая ей оторваться от земли и самой подойти к нему, затем негромко выругался и покачал головой. – Кинжал… ну конечно же. Что ж, дело плохо. Я не в силах даже вернуться к своему телу и уличить тебя, несмотря на все меры, принятые мною против покушений. Проклятый кинжал… Скажи, кто же послал тебя, если не король Шотландский?
Изумление, охватившее Лючию при виде бранящего ее призрака, мало-помалу прошло, сменившись другим чувством – тревогой.
– Та, что наделена даром Видеть.
– Ведьма? И я убит ее фамильяром? Вот это унижение!
– Никакой я не фамильяр! А она – вовсе не ведьма! Как вы только посмели назвать ее так! Я – Лючия де Медичи, обрученная с Франческо де Медичи, которого вы вознамерились убить этим кинжалом!
Герцог взглянул на нее, будто на помешанную.
– Медичи? И что ж? Я должен быть польщен тем, что убит не простым сервом, а дочерью благородного семейства? А о твоем Франческо мне известно лишь одно: он – не более, чем закорючка на родословном древе, к которой я никогда не питал ни малейшего интереса. С чего бы мне желать ему вреда?
– Я… Мне было сказано, что вы хотите продолжения войны. А наш брак должен был завершить ее… – на глаза вновь навернулись жгучие слезы. – А теперь никакому браку не бывать. Он видел, что я натворила.
– А, это тот, что стоял в дверях… Мне в этот момент было не до него. О, прекрати же рев, жалкое создание! О ком ты плачешь? Уж никак не обо мне! Я убит твоей рукой, и ты же плачешь оттого, что твой нареченный увидел, что ты за злодейка? Ну да, кому, кроме Медичи, свойственен этакий эгоизм!
– Неправда, я плачу и о вас! Кинжал… он будто сам устремился к вам, клянусь своей душой! А Франческо решил, что я это нарочно, но клянусь, у меня и в мыслях подобного не было! Да, я хотела украсть ваш кинжал, это так, но убивать вас не собиралась, хоть мне и велели сделать это, чтобы спасти Франческо и свою семью!
– Ты словно бездна, в которой тонет без возврата здравый смысл. Зачем же было приводить его с собой, если ты не хотела, чтобы он узнал обо всем?
– Да я понятия не имела, что он в Милане! Как он мог здесь оказаться? Что могло побудить его забраться в вашу башню именно этой ночью? В этом нет никакого… – Лючия крепко зажмурилась. – Кто же злоумышляет против нас? Я обманута, а вы из-за этого мертвы… О, расступись, земля, и поглоти меня немедля!
– Довольно трагических завываний. За всем этим кроется чей-то загадочный умысел, а также – его причина, пусть ни то ни другое нам пока неведомо. Что ж, в наших обоюдных интересах – найти разгадку, поскольку теперь мы неразрывно связаны друг с другом, и, как бы мне ни хотелось увидеть тебя на виселице, моего положения это ничуть не улучшит. Мы вместе раскроем эту тайну, а потом ты позаботишься об упокоении моей души. Иначе я буду преследовать тебя так жестоко и неистово, что к новолунию ты поседеешь, а к новому году лишишься разума.
В словах герцога имелась логика, и страдания Лючии отступили на второй план. Она кивнула.
– Если удастся выяснить, как в башне оказался Франческо, это нам очень поможет, – сказала она, задумавшись. Быть может, ему рассказала обо всем та женщина из пещеры? Нет, мать доверяла своей наставнице безоговорочно. Она говорила, что предсказание, сделанное наставницей в столь священном месте, не может быть ничем, кроме правды. Значит, во всем этом замешан кто-то еще. – Я боялась, что он поднимет тревогу, но он не сделал этого. Где он сейчас, не знаю.
– Конечно же, он не стал поднимать шум, – буркнул герцог, безуспешно пытаясь скрестить руки на груди. Из этого ничего не вышло: руки раз за разом проходили одна сквозь другую, и Просперо, выругавшись себе под нос, оставил эту затею. – Как бы он объяснил свое присутствие, не попав под подозрение? Несомненно, он подождет во всеуслышание обвинять тебя, пока не окажется в лоне семьи. Значит, некоторое время у нас есть. Умойся и ступай вверх по реке. Примерно через час дойдешь до охотничьего домика. В это время года он пустует.
В свете утра кровь на руках и одежде слишком бросалась в глаза. Сунув руки в ледяную воду, Лючия принялась отчаянно оттирать их.
– Я оставила неподалеку коня. Отыщу его и сделаю, как вы говорите. Но не лучше ли мне попытаться отыскать Франческо? Правда, неизвестно, какую из нескольких дорог он выберет, и…
– Если хочешь, чтобы его нашел я, я повинуюсь, – горько сказал герцог. – Так уж нынче обстоят дела…
– Хорошо, – Лючия досуха вытерла руки плащом. Под ногтями все еще оставалась запекшаяся кровь, и от ее вида Лючия вздрогнула. – Должна заметить, ваша светлость, вы прекрасно держитесь, несмотря на то, как обернулись события.
Герцог пожал плечами.
– Мне и без того осталось всего несколько недель. Ты всего лишь повергла остаток моей жизни в сущий хаос. Конечно, я предпочел бы хаосу порядок, но, видимо, слишком обленился и утратил бдительность. Вскоре мы еще побеседуем, и ты расскажешь, как сумела проникнуть в мою башню незамеченной. А до тех пор не показывайся никому на глаза. И нечего мне улыбаться – не о тебе забочусь. Забочусь я лишь о том, чтобы ты осталась в живых, пока не упокоишь мою душу.
Поиски Франческо де Медичи оказались неожиданно легкими – при жизни, чтобы отыскать человека, пришлось бы прибегать к куда более сложным методам. Теперь же, когда Просперо стал призраком, а та, в чьей власти оказалась его душа, любила искомого, все вышло проще простого. Он всего лишь пошел вдоль серебряной нити, тянувшейся из сердца Лючии и видимой только ему одному, через виноградник и по дороге к побережью.
Двигаться так быстро без малейших усилий было сущим наслаждением. Эта девица была права лишь отчасти: он не просто прекрасно держался в своем хождении по мукам, он наслаждался им. Злость на девчонку бодрила, как свежий ветер, ворвавшийся в душную комнату через распахнутое настежь окно. Прежде ему и в голову не пришло бы, что только смерть заставит его почувствовать себя живым – впервые за несколько десятков лет!
Хотя причиной этому, пожалуй, была не только злость. Радость принесло настоящее дело. Только теперь он осознал, как засиделся на месте. Сам того не сознавая, он превратил свою жизнь в искусство отворачиваться от всего на свете – от людей, от испытаний, от повседневных забот внешнего мира. Все, что он полагал величайшими достижениями, было просто незначительными мелочами, обретавшими видимость величия из-за одного-единственного простого и трагического обстоятельства: после смерти Миранды он настолько утратил требовательность к самому себе и столь малого достиг в науке волшебства, что любое, самое крохотное открытие казалось гениальным озарением.
Теперь же перед ним была настоящая загадка. Девица Медичи сказала, что послана кем-то, обладающим даром Видения. Несомненно, ведьмой – ведьмой исключительной силы, тут можно было биться об заклад на что угодно. Безусловно, это она снабдила девчонку неким средством, которое помогло той обойти защитные чары, а простой бабке-ведунье подобное не под силу. При первой же возможности нужно расспросить девицу подробнее.
Юноша отыскался в номере на втором этаже постоялого двора, где имелось сносное вино и отменные шлюхи. Следуя вдоль нити, Просперо влетел в окно. Юнец сидел на краю постели, обхватив руками голову. Губы его были мертвенно бледны. Судя по трясущимся пальцам, он до сих пор не оправился от потрясения.
Просперо скользнул вперед, повис перед ним в воздухе и презрительно скривил губу, услышав всхлипывания.
– Видишь меня?
Если Медичи и видел его, то не отреагировал никак. Приблизившись к столу в углу комнаты, Просперо увидел лежавшее на нем письмо.
«Сеньор де Медичи!
Связать себя узами брака – дело немалое. Убедитесь, что отдаете свое сердце достойной избраннице. Если хотите узнать истинную природу вашей суженой, будьте в верхней комнате башни Просперо, что в его зимней усадьбе на южной границе Милана, в ночь полнолуния. Позаботьтесь, чтобы вас никто не видел. Только тогда вы поймете, достойна ли она вашего сердца.
Почерк казался знакомым, но Просперо не мог вспомнить, чья это рука. Определенно, женская… Значит, этот юноша должен был увидеть момент убийства – или же появиться сразу после. За всем этим чувствовались весьма серьезные силы. Мальчишка ведь не прятался в темном углу весь вечер и всю ночь до предрассветных часов? Конечно, нет, иначе был бы обнаружен. Нет, он явился именно к нужному времени – в момент убийства.
Этот факт, вкупе с тем, что на девчонку не подействовали защитные чары, говорил о чем-то большем, нежели простое ведовство. Он указывал на ту, которой поклоняются сами ведьмы.
Франческо подошел к окну и выглянул наружу – как раз в том направлении, откуда пришел Просперо. Глаза его были красны от слез и недостатка сна.
– Ты – не более, чем актер в чьем-то театре, – сказал ему Просперо. – Глупец! Ты слышишь меня?
Ответа не последовало. Тогда Просперо подлетел ближе и помахал рукой между окном и Франческо – в каком-то дюйме от лица юноши.
В кои-то веки ему действительно потребовалось поговорить с одним из Медичи – и это было невозможно! И как же долго было невозможно поговорить с той единственной, с кем хотелось поговорить… Сколько раз он горел желанием поговорить с дочерью – хоть однажды, напоследок? Но смерть – разлучница жестокая и неумолимая…
Комната постоялого двора вдруг сделалась серой. Что-то, словно невидимая рука, подхватило герцога и унесло прочь. В следующий миг Просперо увидел, что стоит посреди дороги, за городом, но окрестности были совершенно не похожи на буколические сельские места, которыми ему доводилось путешествовать раньше. Все вокруг было слишком цветистым и ярким, чтобы оказаться чем-либо, кроме Волшебного царства.
Навстречу Просперо шагал юноша, и оба они увидели друг друга в один и тот же момент. Юноша был хорошо одет, бородка его – аккуратно подстрижена, волосы – ослепительно белые, несмотря на его молодость – ниспадали на воротник густыми, завивающимися прядями. Просперо никогда прежде не видел его, но не мог избавиться от явственного ощущения, будто хорошо с ним знаком. Однако юноша узнал его и остановился так резко, что качнулся вперед, прежде чем отшатнуться, словно с перепуга.
– Не верю собственным глазам, – проговорил он. – Как вы здесь оказались?
– Значит, вы видите меня?
Встречный криво улыбнулся:
– Но вы меня не видите.
– Отчего же, вижу. Рад встрече, юный странник. Сегодня день чудес. Меня зовут Просперо…
– Я знаю, кто вы. Вы вспоминались мне всего лишь миг назад. Вы вообще редко покидаете мои мысли.
Просперо сделал паузу. Что-то в наклоне головы, в осанке, и взгляд, в котором раздражение борется с нуждой…
– Вы очень напоминаете человека, который был мне крайне дорог… но, простите, я не припомню, чтобы мы встречались прежде.
– Я кого-то напоминаю вам? О ком вы? – незнакомец скрестил руки на груди. – Возможно, о старом слуге?
– О моей дочери – единственной дочери, умершей много лет назад.
Казалось, незнакомец намерен сказать что-то жестокое и резкое, но при виде печали Просперо усмешка на его губах увяла.
– Вы скучаете по ней?
– Каждый день.
– Вы были так близки?
– Только пока она была маленькой. Потом она вышла замуж, и мы мало-помалу отдалились друг от друга. Так уж устроен мир. Но я не знаю ни вашего имени, ни отчего мы здесь. Сегодня весьма необычный день…
Незнакомец отвел взгляд, сделав вид, что любуется придорожным цветком.
– Кто я – неважно. Просто прохожий. Скажите, отчего умерла ваша дочь?
– От горячки. Она была так молода… Вы очень похожи на нее.
Глаза незнакомца странно блеснули, и он поднял руку, будто приглаживая волосы. Но его белоснежные волосы, повинуясь движению ладони, начали расти, и Просперо решил, что завел разговор с эльфом или феей и сейчас увидит, как чары спадут. Однако увидел он иное. Мужские плечи сделались у́же, бедра – шире, черты лица мягче… Миг – и перед ним оказалась та, кого он знал лучше всех на свете.
– Миранда! – Просперо шагнул к ней, чтобы обнять ее, но разум в нем возобладал и спас его от унижения. – Что это? Что за жестокие шутки? Кто вы на самом деле?
– Отец… это не шутка. Я здесь, и я жива.
Годы ее не коснулись. Она выглядела точно так же, как в последний раз, когда пришла к нему в печали, разочаровавшись в жизни вне пределов острова. Лепестки едва расцветшей любви съежились и опали, и не было на всем свете места, где она была бы счастлива и любима…
– Хотел бы я поверить, что это ты, но ведь мы в Волшебном царстве, а мне известно, что здесь все – не то, чем кажется.
– А… Один мой друг помог мне спастись бегством от той миланской жизни. Теперь я могу быть кем пожелаю, идти куда угодно и учиться всему, чему захочу, – она шагнула вперед. – Я – в самом деле Миранда, отец.
Крохотный остров радости оттого, что дочь жива – от воплощения того, чего он так мучительно желал все эти годы – поглотило цунами гнева.
– И ты оставила меня скорбеть о тебе? Бросила меня тонуть в тоске и безысходности и влачить сумрачное существование в юдоли скорби ради того, чтоб развлекаться среди фей и эльфов и делать, что захочешь? Задумалась ли хоть на минуту о брошенном муже? О любящем отце? Нет?
Виноватое выражение, на миг возникшее на лице Миранды, сменилось злостью.
– А к чему мне было возвращаться? Мы с Фердинандом никогда не смогли бы жить счастливо, а тебе миланский трон был дороже моей любви. Сколько раз я умоляла тебя помочь мне? Мое счастье не интересовало тебя, пока я была жива, и, даже поверив в мою смерть, ты подумал только о собственном потерянном счастье!
– Какой эгоизм! Я…
– Не стоит винить меня в том, что мне захотелось жить собственной жизнью! Если уж бранить меня за то, чем мои поступки обернулись для тебя, не эгоизм, то что же тогда эгоизм, скажи на милость? Ты вспомнил только о собственных страданиях, но даже не подумал спросить меня, нашла ли я свое счастье за все эти годы разлуки. Но разве любовь – не в том, чтобы в первую очередь желать любимому счастья и радости?
– Твои же собственные слова говорят о том, что и ты никогда не любила меня, – сказал Просперо. – Как я мог быть рад и счастлив, думая, что вместо полноценного материнства ты обрела могилу?
Миранда вскинула руку и вновь приняла облик встреченного на дороге юноши.
– Я – более, чем женщина, какой видят меня мужчины. Я – более, чем просто твоя дочь, которая будет безропотно страдать, лишь бы не навлечь позор на твою голову.
– Вижу, вижу, – ответил Просперо, указывая на Миранду в ее (или его?) новом облике. – Ох, как я скучаю по нашему острову! В качестве моей дочери ты была много разумнее и послушнее.
– Возможно, к сыну ты отнесся бы мягче. Возможно, когда мы жили в Милане, ты прислушался бы ко мне или нашел во мне больше достоинств, будь я наследником мужского пола.
– Не ищи утешения в волшебстве фей, дочь моя. Несмотря на эту бороду, ты капризна и ветрена, как всякая другая женщина!
– Довольно!
Дочь взмахнула рукой, и Просперо закружило в пестром водовороте красок и звуков, вскоре превратившемся в его собственный виноградник. Герцог лежал на земле, лицом к осеннему небу. Невдалеке виднелся охотничий домик, у крыльца топтался конь, и Просперо почувствовал, как его тянет к домику – эта девчонка Медичи ждала его возвращения, забыв о власти над ним, дарованной ей кинжалом.
Значит, Миранда жива. А он – мертв. Как же быстро мир перевернулся вверх тормашками! И если ему не удастся что-либо сделать с этим кинжалом, вскоре все станет еще хуже. Намного хуже.
Слезы иссякли. Оставалась лишь ноющая боль в пустом желудке, но даже мысль о еде, лежавшей в седельных сумках, казалась Лючии невыносимой. Мать осталась дома, во многих лигах отсюда, и ничего подобного она не Видела. После поездки к пещере мать снова была счастлива и каждое утро говорила, что видит ее свадьбу яснее, чем собственное отражение в зеркале.
– Все будет хорошо, – сказала мать, целуя ее на прощание. – Сделай так, как велела моя наставница, и все будет хорошо.
Лючии не хватило духу снова начинать спор, и она просто покорно кивнула.
Но, несмотря на ее намерения ослушаться, все вышло так, как хотела женщина из пещеры. Так почему же все идет вкривь и вкось? Все это было вовсе не похоже на ее истинную судьбу!
Но вскоре ясность мысли вернулась, будто солнечный луч, пробившийся сквозь грозовые тучи. Обе они – и мать и хозяйка пещеры – сказали, что она выйдет замуж за Франческо, и все будет хорошо. Вдобавок, в пещере было сказано: если она устранит угрозу со стороны Просперо, ее судьба останется в целости. Все это могло означать только одно: бояться нечего. Франческо не стал поднимать тревогу, потому что вовсе не желал ей вреда. Значит, все, что от нее требуется – это отыскать его и все объяснить. Тогда любовь сгладит трещину, возникшую в земле меж ними, и они вновь посадят в эту землю семя доверия. Осталось только дождаться возвращения Просперо и попросить его отвести ее к Франческо.
Стоило ей подумать об этом, как призрачный волшебник возник посреди комнаты и бросил на нее неодобрительный взгляд.
– Мой добрый Просперо, наконец-то! Скажите же, где мой любимый? Далеко ли успел отъехать? Куда он…
– Я отыскал его, – сообщил Просперо, двинувшись к ней прямо сквозь грубо сколоченный стол и табуреты. Лючия вздрогнула. – Он на постоялом дворе и сильно расстроен. Кто-то, назвавшийся другом, прислал ему письмо, в котором советовал узнать твою истинную природу, прежде чем связываться с тобой узами брака. Для этого он должен был явиться в мою башню прошлой ночью. Почерк, по-моему, женский.
Лючия покачала головой.
– Но из женщин обо всем этом знали только моя мать и та женщина из волшебной пещеры.
– Достаточно ли твоя мать хладнокровна, чтобы задумать и совершить такое?
Лючия рассмеялась.
– Это так же невероятно, как для меня – отрастить крылья и перелететь океан. Мать положила столько сил на то, чтобы между нами расцвела любовь. Зачем же ей уничтожать ее? Она впервые сказала, что мы поженимся, когда я еще была не выше этого стола. Не желая нашего союза, она могла бы просто солгать в своих пророчествах. Поэтому она вне подозрений.
Просперо изумленно поднял брови.
– Ведьма среди самих Медичи? Устраивает политические союзы при помощи черной магии? Интересно…
Щеки Лючии вспыхнули огнем. Как же она неосторожна! Раньше она никогда и никому не разбалтывала тайн матери. Хорошо хоть, что проболталась всего-навсего перед призраком.
– Вы говорили с Франческо?
– Он не смог ни увидеть, ни услышать меня.
– Значит, вас могу видеть и слышать только я?
Приняв раздраженное ворчание за согласие, Лючия почувствовала немалое облегчение – словно гора свалилась с плеч. Это значило, что тайнам ее матери ничто не грозит.
– А кроме матери обо всем знала только женщина, велевшая мне сделать все это.
– Значит, она и есть наш неприятель.
Лючия покачала головой.
– Нет-нет, ваша светлость, это тоже невозможно. Мать доверяет ей абсолютно, а людей, удостоенных ее доверия, всего двое-трое на весь белый свет. И политического мотива у этой женщины быть не может. В самом деле – ведь невозможно же объяснить, зачем ей это могло понадобиться! Она предрекла мне судьбу и рассказала, как уберечь ее от ваших низменных замыслов…
– Которых не существует.
Лючия поджала губы.
– Мне это известно только с ваших же слов. В конце концов, кинжал ведь действительно хранился у вас.
– Я намеревался всего лишь вернуть его туда, откуда он взялся, и никаких иных намерений не питал! Безмозглая девчонка! Ясно, как день: тебя обманули! Рассказывай толком, во всех подробностях: что произошло в той пещере, и что именно эта ведьма говорила обо мне?
– Теперь это уже неважно. Я…
– Неважно? Неважно?! Ты убила меня, и смеешь говорить, что причина не важна?!
Лючия зажмурилась, прикрыв рот сложенными горстью ладонями. К стыду своему, от расстройства чувств она совсем лишилась способности думать.
– Прошу простить меня. Я просто хотела сказать, что… – она вовремя прикусила язык, сообразив, что едва не выложила убитому ею человеку свои соображения о том, что теперь-то, после его смерти, все будет хорошо. – Я… Я просто хотела сказать, что сделанного не вернуть, и мы, конечно же, ничего не в силах исправить.
– Ты не можешь вернуть мне жизнь, это правда, но мне очень хочется знать, что за кукловод дергает тебя за веревочки. Несомненно, то же интересно и тебе.
Лючия закивала. Зная, кто всему виной, она легко сумеет заделать брешь, возникшую между ней и Франческо. В конце концов, ей еще предстоит отыскать способ сделать это, а мать всегда говорила: сидя на месте и ничего не делая, дождешься, что судьба претворит свои планы в жизнь самым скучным образом. Уж лучше помочь судьбе, чем ничего не делать!
– Тогда рассказывай все о той женщине из пещеры – во всех подробностях, сколь бы незначительными они ни казались, – видя, что Лючия колеблется, Просперо развел руками. – Я не смогу рассказать это никому. Ну же, говори. Держу пари, эта тварь не заслуживает твоей верности.
– А как же Франческо?
– Он еще никуда не уезжает. Кроме того, я всегда могу легко отыскать его.
Медленно, запинаясь, Лючия начала рассказ. Воспоминания о встрече в волшебной пещере были такими яркими, точно она произошла не более пары часов назад. К тому же мать с детства учила ее не упускать ни единой мелочи. Слушая ее, Просперо расхаживал взад-вперед, и его беззвучные шаги очень сбивали с толку. Когда Лючия добралась до описания хозяйки, он поднял палец:
– Руки! Опиши еще раз ее руки.
– Мягкие и изящные.
– Но не старческие?
Лючия помедлила.
– Нет. Но голос звучал совсем как у старухи.
Просперо кивнул.
– Продолжай.
Лючия рассказала обо всем, что было дальше. К концу ее повествования Просперо остановился и замер, уткнувшись взглядом в пол.
– Вернемся к пламени. Вспомни: не стали ли языки пламени голубыми, когда речь зашла обо мне? Подумай хорошенько.
Лючия решительно покачала головой.
– Нет. Пламя сделалось голубым и высоким, только когда она заговорила о моем браке и о том, что случится, если ваши замыслы увенчаются успехом. Я еще подумала, что огонь желтеет и начинает моргать, когда она говорит о вас, потому что вы угрожаете моей судьбе.
– Нет! Ха-ха! Вот оно! Она использовала против тебя твое же невежество и с помощью твоих ничтожных знаний добилась выдающегося эффекта. Чаша находилась в пещере, а пещера, ручаюсь – где-то близ Монте-Прадо.
– Прямо у ее подножья! Но ведь она говорила, что люди не знают ни о существовании этой чаши, ни о ее силе.
Просперо насмешливо хмыкнул.
– Я читал о ней, но до сего дня полагал, что это просто миф. Теперь о кинжале. Где он?
Лючия вынула кинжал из сумки на поясе. Просперо снова двинулся к ней прямо сквозь стол.
– Затяни шнур потуже и снова завяжи на три узла, как сейчас.
Лючия выполнила его указания, и Просперо, похоже, остался доволен.
– Вы знаете, кто эта женщина, верно?
Просперо кивнул.
– Да. Она не ведьма, но та, кому поклоняются ведьмы. Это Геката – та, кто дарует им силу.
– Я разговаривала с богиней? – Лючия почувствовала, как кровь отливает от щек. Ее родная мать была ученицей богини! – Но… Я не понимаю…
– Пламя в чаше становится голубым, если изреченное пророчество правдиво. Никто, кроме Гекаты, не осмелился бы солгать перед этой чашей. Так, говоришь, при первом прикосновении к тебе рука ее была горяча, а при втором – холодна?
– Да, но здесь все просто и понятно: мои щеки были так горячи…
– Нет. Она наложила на тебя чары. Разве ты не мерзла после встречи с ней? А потом не думала целых несколько дней, что простудилась, и тебя бьет озноб, пока не привыкла? – Лючия кивнула, и Просперо указал на нее пальцем. – Вот! Поэтому ты и проникла незамеченной в мой дом, в мою личную башню и в самую надежную из моих сокровищниц. Та комната, что на самом верху, зачарована так, что внутрь не проникнет никто – ни букашка, ни вор. Так ответь же: как тебе удалось войти в нее без малейших усилий?
– Потому, что на мне лежало ее заклятье?
– Именно. Ручаюсь, сейчас тебе теплее, – кивок Лючии вызвал на лице Просперо довольную ухмылку. – Восхищаюсь ее рациональностью! Стоило тебе сделать то, что ей требовалось, и чары развеялись – ведь тебя больше незачем защищать!
– Но… нет, нет! Все равно в этом нет смысла! Зачем она велела мне сделать это? Разве вы – ее враг?
– Лично я – нет. Но ведьмы терпеть не могут упорядоченного, научного подхода к волшебству, применяемого нами, мужчинами. Могу лишь прийти к выводу, что богиня ведьм и колдовства решила обрушить сие неудовольствие на мою голову в десятикратном объеме. К тому же не забывай о кинжале. Я давно заподозрил, что между ним и Гекатой есть некая взаимосвязь. Он был… голоден. Он жаждал крови. Вот почему он сам потянулся ко мне.
– Допустим, я вам поверю, – заговорила Лючия, обхватив руками плечи. – Допустим, она просто воспользовалась мною, чтобы убить вас. Но что же тогда станется с моим замужеством?
– Ни о чем другом ты думать не в состоянии?
– Это моя судьба! – голос Лючии зазвенел, заполнив собою хижину. – Всю свою жизнь я трудилась ради этого! И даже не говорите, будто я совершенно не думаю об окружающих – как раз наоборот! Этот брак завершит войну, в которой гибнут мои родные и многие другие. Мы с Франческо должны помириться! Может, Геката действительно намеревалась покончить с вами, но ведь пламя сделалось голубым, стоило ей только заговорить о моем браке с Франческо!
– Но пламя также было голубым, когда она говорила о кинжале, который убьет того, кого ты любишь, и…
– Это же из-за вашего замысла убить Франческо этим кинж… – голос Лючии осекся. – Но… Теперь я не знаю, чему и верить! Тем самым утром, когда я отправилась в Милан, мать говорила, что видит наш брак. А кинжал убил вас, а не Франческо. О, как жаль, что мать не может помочь мне сейчас!
– Вот что случается, когда волшебство попадает в руки женщин, – буркнул Просперо. – Теперь у тебя нет никаких мыслей, кроме тех, что мать вложила тебе в пространство меж ушей.
– Осторожнее, ваша светлость! Моя мать мудра и желает лишь покончить с войной и увидеть свою дочь счастливой. Разве у других хороших родителей не так? Разве они не желают принести своим детям мир и процветание? Разве не стремятся к их счастью?
Просперо отвернулся.
– Есть более насущные заботы, – заговорил он, немного погодя. – Кинжал надлежит вернуть в Шотландию ко дню зимнего солнцестояния. Иначе на мой народ падет проклятие, и страдания его намного превзойдут беды Тосканы, – с этими словами он вновь повернулся к Лючии. – Ты должна вернуть этот кинжал за меня.
– Не могу! Я должна отправиться к Франческо и примириться с ним. Два столь различных меж собой пророчества не могут быть истинны одновременно. Если бы Франческо погиб от этого кинжала, то брак наш был бы невозможен. Мне приходит в голову только одно: вмешательство Гекаты сделало возможным и то и другое – в конце концов, она ведь богиня. Значит, я должна сделать так, чтобы моя судьба пошла прежним путем. Я выйду замуж за Франческо.
– Нет. Отвези кинжал в Шотландию. Чем лебезить перед тем, кто тебя возненавидел – он ведь считает тебя чудовищем! – сделай по-настоящему доброе дело.
– Я не могу допустить, чтобы он думал обо мне так!
– Как же ты собираешься переубедить его? Скажешь: «Любимый, ты ошибаешься: мы с герцогом всего-навсего разучивали пьесу»?
– Вы смеетесь надо мной… Однако я не какая-нибудь влюбленная дурочка. Мне нужно прекратить эту войну! Как я смогу сделать это, отправившись в Шотландию? Отчего не послать туда кого-нибудь из ваших слуг?
– Я не доверил бы этот кинжал никому. Но пока он у тебя, я, по крайней мере, смогу убедиться, что дело сделано, и помочь всем, что в моих силах.
Лючия непреклонно скрестила руки на груди.
– Первым делом я отправлюсь к Франческо.
– Подумай же как следует, твердолобая девчонка! Допустим, ты явишься к Франческо и начнешь обелять себя в его глазах. Что, если он лишь озлобится? Что, если нападет на тебя, и тебе придется защищаться? А чем? Кинжалом! Отправившись искать его, ты можешь сыграть на руку судьбе и исполнить то самое пророчество, которого опасаешься.
У Лючии мороз пошел по коже. Сколько раз ей приходилось читать сказки о тех, кто спешил обмануть судьбу и тем только способствовал исполнению ужасных пророчеств!
– Знаю! Я оставлю кинжал здесь – здесь он никому не причинит вреда.
– Запрещаю! Его нельзя бросать здесь – он слишком опасен и ценен. Кроме того, если тебе удастся вернуть Франческо, тебе вряд ли будет дело до возвращения кинжала в Шотландию – ведь для тебя все опасности будут позади. Нет, держи его при себе. Это – меньшее, что ты можешь сделать для меня.
Чувство вины кольнуло сердце, словно герцог вонзил в нее этот злосчастный кинжал. Глаза вновь защипало, но – что толку в слезах?
– Подождите. Я знаю, что делать, – Лючия полезла в сумку и отыскала кошелек с пузырьком, полученным в пещере. – Она ведь не могла сделать что-нибудь с водой из чаши, верно?
– Понятия не имею.
– У меня остался последний глоток. Первый помог мне узнать, что вчерашний день лучше всего подойдет, чтобы пробраться в ваш дом.
– А-а, – кивнул Просперо. – Половину слуг я отослал с различными поручениями, а сам был в смятении. А второй глоток?
– Второй помог проверить, не заметят ли меня по пути в дом.
– Постой. Выходит, каждый глоток показывал все возможные варианты развития событий?
– Нет. Я просто была осторожна. Подкупила нескольких человек, чтобы разузнать все о ваших слугах, а после подкупила двоих из них, чтобы попасть в дом и подняться на башню. Второй глоток показал, что мой план верен.
– Подкупила? – Просперо пришел в ужас. – Моих слуг? – Лючия кивнула, и он в ярости попытался пнуть табурет. – Подумать только, а ведь я оказывал им столько милостей…
– Похоже, эти милости были не слишком-то запоминающимися. Ваши слуги мигом забыли о них, увидев немного золота, – на миг Лючия усомнилась, что Просперо вообще известно значение слова «милость», но нет – это, пожалуй, несправедливо. – Я собираюсь отправиться к Франческо и поговорить с ним, а кинжал оставить здесь. Подождите возражать. Клянусь, после этого я позабочусь о том, чтобы вернуть кинжал в Шотландию, если такое развитие событий окажется верным.
– Думаешь, я доверюсь глупой девчонке, которую сумели обманом заставить убить меня?
Вскочив на ноги, Лючия громко хлопнула по столу.
– Вы – как старая оса, не в силах устоять при виде возможности причинить боль! Как надоели мне ваши жестокие речи! Знаю: то, что я натворила, ужасно, но, клянусь всем святым, я не хотела этого! Теперь вы знаете, что все это – дело рук богини, и я, хоть и буду помнить свою вину всю оставшуюся жизнь, не вижу способа что-либо исправить – вы ведь жалите и жалите! А теперь уймитесь, или я вовсе перестану обращать на вас внимание, и мы еще посмотрим, кто кого сведет с ума!
У Просперо отвисла челюсть. Глядя на Лючию, он моргнул – раз, другой – и медленно кивнул.
– Да. Я слишком долго прожил в несчастье и совсем забыл, что такое учтивость.
– Что ж, – сказала Лючия, опускаясь на табурет, – я понимаю, что и вам сейчас нелегко, так давайте же покончим с этим и начнем сначала, иначе так и не избавимся от наших бед.
Смежив веки – по большей части, чтобы отдохнуть от вида Просперо и странных выражений, сменявшихся одно за другим на его лице, – Лючия глубоко вздохнула. Отчетливо представив себе, как отыщет Франческо и что ему скажет, она выдернула из пузырька пробку и залпом выпила последние капли, остававшиеся внутри.
В третий раз потрясение оказалось не таким сильным, но ощущение все равно было не из приятных. Разум словно отделился от тела и на миг погрузился в непроглядную тьму, тут же взорвавшуюся хаотическим вихрем цвета и звука, словно все дни и ночи на земле разом пустились вокруг Лючии в пляс. Но вскоре из множества картин и звуков осталась лишь одна. Комната на постоялом дворе. Глаза Франческо, красные, точно очи самого Сатаны, смотрят прямо на нее.
– Оправдания? Какие тут могут быть оправдания? Ты совершила убийство, и никакие слова не заставят меня забыть о крови на твоих руках.
Страх накатил волной. Изо всех сил стараясь не упустить временный дар Видения, Лючия изменила решение. Что, если отыскать Франческо через день-другой, чтоб дать ему возможность успокоиться и оправиться от потрясения? Вновь хаос звука и цвета – и Франческо снова перед ней, в лесу, по пути к побережью, садится в седло. Ее рыдания звучат отвратительно и громко.
– Ты для меня мертва!
Нет! И здесь все идет не так, как должно. Нужно еще подождать – пусть он достигнет границ Тосканы. За это время он вспомнит об их любви; тогда-то Лючия и поговорит с ним.
– Ты отвратительна, Лючия. Отпусти плащ! Когда моя семья узнает о твоем злодеянии, мы сообщим обо всем в Милан. Преемник Просперо с великой радостью присоединится к нам в войне со столь порочным семейством!
Как ни меняла Лючия свои планы, как ни пробовала переубедить Франческо, его презрение и ненависть раз за разом хлестали ее, точно плеть. И все это время ее не оставляло ощущение неимоверного напряжения в какой-то далекой-далекой части ее естества. Вскоре все возможности поговорить с Франческо и все слова, которые она могла бы ему сказать, иссякли, и картины грядущих событий замелькали перед Лючией так, что в глазах зарябило. Лицо Франческо при встрече с отцом… Гонцы, выезжающие за ворота – один сворачивает в сторону Милана, а прочие скачут к войскам отца Франческо и его сторонников… Снова Франческо – прекрасный, учтивый Франческо – в доспехах, верхом, выезжает на поле боя вместе с братьями, и огонек доверчивой радости совсем угас в его глазах… А вот отец и брат Лючии ведут войско в бой. Падает снег, слышится громоподобный лязг, белая земля обагряется кровью… Отец, возвышаясь над поверженным Франческо, вонзает меч в грудь ее нареченного… С отчаянным криком Лючия рухнула куда-то вниз – и вновь оказалась в охотничьем домике. Над ней парил в воздухе призрак Просперо.
Лицо было мокро от слез, в горле саднило. Все вокруг казалось тусклым, тягучим, нереальным.
– Судя по твоему лицу, спасти любовь не удалось, – заметил Просперо – впрочем, не без сочувствия в голосе. – Повремени, приди в себя. Боюсь, ты цеплялась за крапивный стебель этой волшбы дольше, чем следовало. Я бы помог тебе подняться, да не могу.
Лючия перекатилась набок. Отяжелевшее тело совсем не слушалось. Встать на ноги удалось лишь с огромным трудом. Подняв упавший на пол табурет, она села и молчала до тех пор, пока окружающий мир не обрел реальность.
– Все пропало, – прошептала она. – Ни одно из пророчеств не сбылось. Я обрекла многих и многих на гибель. Франческо невозможно переубедить, и он не женится на мне. И убьет его не этот кинжал, а меч моего отца на поле брани. Я убила невинного, навлекла проклятье на собственную душу, а будущее моей семьи ввергла в адское пекло.
– Ну, не так уж я невинен, однако картина, согласен, мрачная.
Лючия вскинула взгляд на Просперо, потрясенная неуместным легкомыслием его тона.
– Вас это забавляет?!
– Нет. Прошу прощения. Но, пока ты смотрела в будущее, я обратился к прошлому. А именно – к тому самому дню, когда был заключен договор относительно этого кинжала. Он способен далеко не только причинять преждевременную смерть. Я нашел решение, способное остановить войну, но тебе будет очень нелегко.
Утерев с лица слезы, Лючия расправила плечи.
– Так расскажите, в чем состоит ваш план, ваша светлость. Чтобы прекратить войну, я сделаю все, что в моих силах. Как бы мне ни было тяжело.
– О, Лючия! – на глаза матери навернулись слезы. – Как же ты прекрасна!
Не в силах взглянуть самой себе в глаза, Лючия разглядывала в зеркале подвенечное платье – бархатное, цвета полночной сини, расшитое золотом, с корсажем, усеянным крохотными зернами жемчуга. Платье выглядело именно так, как ей хотелось всю жизнь, и, очевидно, было именно таким, каким его неизменно видела мать.
– Отчего ты так печальна? – шагнув к Лючии, мать захлопотала, поправляя одну из драгоценных заколок в ее прическе. – Нервничаешь? Ну, это абсолютно естественно. Но сегодня тебе нечего бояться, сердечко мое. Ты ведь не из невежественных новобрачных, не знающих, где им отныне суждено жить – в чертогах радости или в обители скорби. Уж мы-то с тобой знаем, что сегодня начнется чудесный брачный союз, будь и твой брак, и ты тысячу раз благословенны. Так улыбнись же и радуйся этому дню! Ведь это – не просто свадьба. Это – конец войне!
Лючия заставила себя растянуть губы в улыбке – едва достаточной, чтобы мать бросилась к дверям и закричала на одну из служанок, как делала всегда от излишнего возбуждения.
Лючии давно наскучило разглядывать собственное отражение. Подойдя к окну, она выглянула во двор, залитый зимним солнцем. Снаружи царила неистовая праздничная суматоха. Слуги тащили с кухни в зал блюда, полные угощений, прямиком через двор, так как на крытых галереях было не протолкнуться от тех, кто украшал колоннады цветами и сметал паутину со сводов. Ворота распахнулись, пропуская пышно разодетых музыкантов и целую толпу цветочниц с корзинами. Интересно, остался ли за пределами этого дома еще хоть один цветок?
Посреди двора появился Маттео, брат Лючии. Подняв взгляд к плывущим по небу облакам, он увидел, что Лючия смотрит на него, изящно поклонился и послал ей воздушный поцелуй.
За последний год Маттео не менее пяти раз чудом избежал гибели. Впервые услышав, что ему больше не придется выходить на бой, он со всех ног бросился к сестре, подхватил на руки, закружил, так что Лючия взвизгнула, и поцеловал в макушку.
– Моя жизнь снова принадлежит мне! Надеюсь, ваш союз принесет тебе больше радости, чем огорчений!
– Конечно, – ответила на это Лючия (но только потому, что все вокруг смотрели на нее).
С тех пор она стойко притворялась счастливой целых две недели. Все думали, что она так рано уходит спать, чтобы выглядеть в день свадьбы как можно лучше, но на самом деле к концу дня ей просто безмерно надоедали бесконечные шутки и веселье. Надоедали тетушки, постоянно норовившие утащить ее к себе, чтобы поделиться перлами мудрости, слепленными из макаронного теста; надоедали хвастливые разглагольствования отца о том, как легко ему удалось выторговать мир – будто все многолетние старания матери были тут ни при чем; надоедала тихая радость матери…
Но самым утомительным было – хранить молчание о том, что произошло в Милане.
– Скоро снег пойдет! – крикнул брат в сторону одного из окон первого этажа. – Ставлю сто флоринов!
Дверь за его спиной распахнулась, и к нему подбежал лакей.
– А-хой! Встречайте жениха! – крикнул Маттео. Увидев, что Лючия все еще смотрит на него из окна, он замахал на нее, будто прогоняя прочь кошку. – Ступай, Лючия! Тебя он не должен увидеть!
Лючия укрылась за шторой. Сердце гулко билось в груди. Вот оно. Вот и настал день, которого она ждала с тех пор, как выучилась говорить. Сейчас ей полагалось вприпрыжку сбежать по лестнице и, хихикая, ждать, пока за ней выстроится ее свита. Ей полагалось радоваться… Прикусив губу, она подождала, пока не отступят слезы, готовые вот-вот навернуться на глаза. Мать уже громко звала ее из коридора. Настал час встретить свою судьбу.
Переполох среди слуг, прощальные напутствия взволнованной матери, рука отца, дверь в приемный зал… Шепот вслед – уверения в том, что она ослепительно прекрасна, пожелания удачи, здоровья и радости… и улыбки, улыбки отовсюду, куда ни кинь взгляд. Топот рассаживающихся по местам гостей, скрип стульев, ропот предвкушения… Все вокруг выглядело нереальным, невероятным, словно происходило с кем-то другим, а Лючия лишь наблюдала со стороны. Двери распахнулись, и музыканты заиграли…
– Франческо! Наконец-то я могу назвать тебя братом! – Маттео хлопнул жениха по спине. – Это куда приятнее, чем протыкать тебя насквозь!
Франческо захохотал.
– В самом деле, братьями быть куда лучше! Война превратила нас в глупцов – пусть же теперь за нее это делает вино.
– Осторожнее, брат, – ухмыльнулся Маттео, зазвенев кубком о кубок Франческо. – Как бы дневные глупости не довели до беды ночью!
Лючия покраснела. Видя это, Франческо со смехом обнял ее за талию, привлек к себе и поцеловал в щеку.
– Отныне никаких бед! Я запрещаю! А ты, моя любезная жена, изволь повиноваться своему мужу и господину!
Вымученно улыбнувшись, Лючия высвободилась из его объятий.
– Прости меня, здесь так много тех, с кем нужно побеседовать…
Остаток дня она провела, непрестанно улыбаясь, пока не заболели скулы, болтая, пока не запершило в горле, и танцуя, пока не загудели ноги. И, как и всё, прилетающее на крыльях страха, час провожать жениха и невесту к брачному ложу пришел слишком быстро.
Франческо – смеющийся, раскрасневшийся – позволил шаферам выпихнуть его на середину зала, а Лючия предпочла не сопротивляться своей свите. Жених подхватил ее на руки, и от приветственных возгласов зазвенело в ушах. Их вывели из зала, проводили через заснеженный двор, распахнули перед ними двери в другое крыло усадьбы и остановились, глядя, как Франческо несет ее вверх по лестнице. Дойдя до верхней площадки, он развернулся, позволив Лючии помахать рукой и взглянуть на мать, промокающую глаза кружевным платочком, и зашагал по коридору к спальне. Гости устремились обратно за праздничный стол.
Франческо отыскал на ощупь дверную щеколду и внес Лючию в их супружескую спальню. Урвав поцелуй, он поставил ее на ноги и закрыл дверь.
Ложе было выстелено свежими простынями, подушки усыпаны лепестками роз. Свечи уже были зажжены, камин растоплен, благовония в курильницах насыщали воздух прекрасными тонкими ароматами.
Лючия отошла от жениха – так, чтобы между ними оказалась кровать.
– Не слишком ли далеко все это зашло?
Но он промолчал. Напевая какую-то вульгарную песенку, которой научил его Маттео, он начал расстегивать дублет. Лишь расстегнув все пуговицы, он взглянул на Лючию и увидел, что она все еще стоит, скрестив руки на груди.
– О… Ты боишься. Да… Понимаю. Могу лишь заверить, что приложу все усилия и буду добрым и заботливым мужем, – его улыбка отнюдь не согревала. – В конце концов, разве нам не пророчили счастье в браке? – он обошел кровать и приблизился к ней. – И множество детей?
С этими словами он опустил взгляд к ее груди, и Лючия испугалась, что сейчас ей сделается отчаянно дурно.
Увернувшись от него, она метнулась прочь и опять встала так, чтобы кровать оказалась между ними.
– Но разве у тебя нет других обязательств? Кинжал должен быть возвращен в Шотландию ко дню зимнего солнцестояния, и срок уже близок.
Старый волшебник улыбнулся ей в ответ глазами Франческо.
– О, я тщательно все обдумал и пришел к заключению, что в этом более нет необходимости. В конце концов, мне досталось здоровое юное тело, и сердце в его груди будет биться еще многие и многие годы. Моя душа живет в этом теле, и значит, можно утверждать, что меня никак невозможно считать мертвым. Будучи же живым, я вполне могу оставить кинжал у себя. Так гласят условия договора.
Лючия отвернулась, не в силах вынести звук его голоса – без единой нотки, без единого отголоска души любимого. Она сама отсекла его душу от тела, пока он спал, следуя указаниям старого волшебника, всхлипывая и находя ничтожное утешение лишь в том, что душа Франческо устремится прямо в рай и не будет обречена на вечные земные мытарства. Ритуал оказался очень сложным и утомительным, но другого способа добиться мира не было.
Она заставила себя снова повернуться к нему и попыталась примирить меж собой красу возлюбленного и душу коварного старца, смотревшего на нее из глубины глаз Франческо, словно из-под украденной у прекрасного юноши маски. Сможет ли она жить с ним? Поможет ли ей то, что это был единственный способ прекратить войну?
Все, что было сказано в пещере над языками голубого пламени, сбылось. Лючия вышла замуж за Франческо де Медичи в день, увидевший и снегопад, и солнце на ясном небе, и их союз положил конец войне и принес мир на тосканские земли. И это действительно причинило ей страдания – да еще какие! Кинжал Просперо пролил кровь, которая усугубила вражду, и погубил ее возлюбленного, и ей никогда не носить под сердцем его дитя, потому что на его месте – другой. Теперь, когда все это было предельно ясно, Лючия не на шутку сомневалась в правдивости слов матери, уверявшей, что ее замужество будет счастливым. В пещере об этом не было сказано ни слова.
В ту ночь она была еще ребенком, а после покров невинности начал осыпаться с нее, точно короста, обнажая нежную, кровоточащую кожу. Вот-вот опадет последний клочок, и все – оттого, что, узнав свое будущее, она согласилась с этим без лишних вопросов.
Но больше такому не бывать.
Она уже написала в Эдинбург и позаботится о том, чтобы это жуткое оружие вернулось к хозяину. Ответа еще не получила, но кое-что увидела в снах – одновременно с тем, как в Тоскане установилась необычайная, не по времени скверная погода.
Она разберется во всех тонкостях политики. Она узнает все о богах, духах, феях и эльфах. Она будет учиться дни и ночи напролет.
Что до новоиспеченного мужа… Она даст ему срок – ровно одну луну. Если за это время душа Просперо не переймет от юного тела Франческо его доброты и искусства быть внимательным и нежным, она не станет страдать всю жизнь. В конце концов, теперь она знает, каково это – без оглядки полагаться на других, не зная, что у них на уме.
К тому же – теперь она умеет убивать.
Хоть в пушечном жерле
…А затем любовник,
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
В честь брови милой. А затем солдат,
Чья речь всегда проклятьями полна,
Обросший бородой, как леопард,
Ревнивый к чести, забияка в ссоре,
Готовый славу бренную искать
Хоть в пушечном жерле. Затем судья
С брюшком округлым, где каплун запрятан,
Со строгим взором, стриженой бородкой,
Шаблонных правил и сентенций кладезь, —
Так он играет роль[25].
Акт I
Иллирия, 1601 г.
Пустынный берег после бури.
Обломки мачт и рей, обрывки тросов, доски корабельной обшивки разметаны по берегу в диком беспорядке. Меж ними высятся курганы мокрой насквозь парусины. Вокруг ни души. Кричат чайки; их тени скользят по песку.
Ближайшая груда парусины вздрагивает, приподнимается и кашляет, извергая наружу добрую порцию «соленого стихийного элемента», как, несомненно, выразился бы Жак, будь он поблизости. Сам спасшийся, однако же, сказал бы на это, что все соленые стихийные элементы на свете могут поцеловать его в гузно.
Из-под мокрого тряпья выбирается ПАРОЛЬ.
Пароль не был ладно скроен от природы, но вполне мог бы изобразить довольно внушительный вид, не будь он так потрепан морем. В облепивших его скромные стати одеждах, будь они сухими, всякий узнал бы серый мундир руссильонского лейтенанта. Это также было ролью, которую он мог бы убедительно сыграть, вот только на пустынном берегу не случилось ни нижних чинов, коих можно тиранить и угощать зуботычинами, ни высшего начальства, перед коим надлежит выслуживаться. Прокашлявшись, Пароль перевернулся на спину, тут же пожалел об этом, поспешил встать на четвереньки, и его снова звучно вырвало.
– Клянусь, – сказал он, подняв взгляд к небу, – ни ради золота, ни ради испанского хереса, ни ради женских прелестей в море больше не пойду!
– Прежде, чем покинуть этот берег, научи и меня ходить по водам морским!
Пароль разом сел на песок и потянулся к поясу в поисках поглощенной морем шпаги. Новоприбывший, как и сам Пароль, вымок с ног до головы, но держался не в пример лучше. То был смуглый, приятный на вид малый с аккуратной бородкой, в прекрасно пошитом синем мундире, ныне почти черном от влаги – явно один из арагонцев, недавних попутчиков Пароля.
– Некогда меня выучил этому трюку один алхимик, – с готовностью отшутился Пароль. – И, будь расположение звезд и прочих небесных тел благоприятным, я добежал бы отсюда до самого Милана, глумясь над бурей, гонящейся за мной по пятам, – окинув пришельца взглядом, он оценил его уверенную повадку, а также рапиру на поясе, уцелевшую и при том не утащившую хозяина на дно. – Знаете ли, сэр, случалось моему бренному телу попадать и в худшие передряги. Однажды был я…
– Оставим небылицы до тех пор, пока не усядемся к костру в компании получше, чем мы двое, – перебил его арагонец.
С этими словами он протянул руку, а Пароль был не настолько горд, чтобы отказываться от помощи.
– Оба мы – крысы столь гадкие, что даже море отказалось нас принять, – вяло улыбнувшись, заметил арагонец. – Я – Бенедикт.
– Пароль из Руссильона.
– Из свиты лекарки?
– Ближайший ее друг и конфидент, – подтвердил Пароль, полагаясь на то, что все, кто мог бы уличить его в преувеличении, покоятся на дне морском. – Увы, море поглотило все ее пилюли и снадобья, но даже не изменило цвета.
– Что ж, остается надеяться, что от них морскую пучину стошнит, и ее выбросит на сушу, – сказал Бенедикт без особого оптимизма. – Надеюсь, то же станется и с моим принцем.
Они прошлись по берегу, исхлестанному ливнем и заваленному обломками, но человеческих следов впереди не нашли. По пути Пароль выжал влагу из нескольких историй, которыми обычно угощал случайных знакомцев – наглых выдумок о военных походах, большую часть которых он провел, прячась в обозе, о шрамах, которых он никогда никому не показывал, о победах, ради которых и пальцем не шевельнул. Но настроения врать и хвастать не было – нет, не из-за скорби по погибшим товарищам, а лишь потому, что он промок и замерз, а этот двужильный испанец, очевидно, не собирался позволять ему попросту удрать и где-нибудь укрыться. Небо над головой все еще было темно от туч, хотя внезапный шторм, положивший конец их плаванию и разнесший на куски корабль, умчался так же быстро, как и налетел.
Бенедикт, в свою очередь, мысленно взвесил его ветхие небылицы и из вежливости не стал пробовать их на прочность. Однако в конце концов он поднял руку, призывая спутника придержать язык, и Пароль умолк едва ли не с облегчением.
В наступившей тишине они услышали голос – печальный и звучный, читающий нечто, поначалу принятое обоими за ритуальный стих заклинания.
– Из вод, что в лоне матери, на воздух выходит человек в начале лет; затем с него мать-церковь при крещеньи водой смывает первородный грех. Не хватит ли воды? Или должны мы к сему вдобавок дерзостно плясать над злою бездной, что всегда готова обратно воспринять нас в лоно вод?..
– Я думаю, это он насчет моря жалуется, – таково было веское мнение Пароля.
– Значит, он – наш товарищ по несчастью. Идемте, присоединим к его жалобам и наши голоса.
Бенедикт рванулся вперед, предоставив французу тащиться за ним следом, но вскоре спереди раздался крик – высокий голос велел Бенедикту остановиться.
– Мир! Я из Арагона! – крикнул в ответ испанец. – Насколько мне известно, мы – союзники!
Поравнявшись с ним, Пароль увидел юнца с натянутым луком – тощего, как щепка, и одетого в зеленый мундир арденских егерей. На камне за его спиной сидел постный бородатый старикашка, облепленный потемневшим от влаги балахоном.
– Я вижу лишь одну стрелу, а колчан твой пуст, – заметил Бенедикт. – К тому же, оба мы уже едва не утонули. Лучше сбереги выстрел для настоящего дела – ведь мы и без того полумертвы.
Юноша недоверчиво опустил лук.
– Вы ведь синьор Бенедикт, не так ли? Я видел вас с вашим господином на борту корабля, за столом для почетных гостей.
Сам он назвался Ганимедом, а его старший товарищ оказался Жаком, философом, одним из послов, спутников сгинувшей лекарки, спутницы Пароля. Им надлежало, достигнув Милана, молить престарелого Просперо о помощи в тосканских войнах.
Похоже, в последнее время ни одна битва в Европе не обходилась без волшебства. Совсем недавно сами повелители Волшебного царства едва не пошли войной на Иллирию, но тут война, как обычно, претерпела очередную перестановку сил. Войска Оберона рассеялись, как дым, а Орсино, герцог Иллирийский, ринулся в драку, денно и нощно собирая под свои знамена злых духов, ведьм и прочую нечисть. Каждой из противоборствующих сторон приходилось опасаться заклятий, чар, чудовищ и дурных знамений. И, конечно же, внезапных бурь.
Пароль хмуро взглянул в небо, не понимая, с чего кто-то взял, будто эта чушь приведет к чему-то хорошему.
Юноша из Ардена отправился в лес, тянувшийся вдоль берега, и вскоре вернулся с хворостом и растопкой для костра.
– Как вы полагаете, сударь, удалось ли спастись кому-нибудь, кроме нас? – спросил он Бенедикта.
– Не трогайте его, наивный юноша, – вмешался Пароль. – Ненасытная пучина поглотила его принца! А я лично не сомневаюсь, что из множества пассажиров нашего барка только нам четверым посчастливилось быть…
Он сделал паузу в поисках выражения поэлегантнее и был здорово обижен тем, что фразу за него цветисто завершил Жак:
– …изблеванными прочь соленым стихийным элементом.
К пущей обиде Пароля, старик тут же добавил:
– Кроме того, вот и пятый. Не из ваших ли он родичей, синьор Бенедикт?
Бенедикт вскочил на ноги, но надежда, озарившая его лицо, немедленно угасла.
– Нет, – ровным тоном ответил он, – но из родичей моего господина. Вот доказательство тому, что честь тонет там, где бесчестье держится на плаву среди волн, точно масляное пятно. И что теперь, сударь мой дон Хуан?
Новоприбывший оказался еще одним смуглым и бородатым арагонцем, заметно уступающим статью Бенедикту. Быстро окинув каждого холодным взглядом, он пренебрег всеми.
– Синьор Бенедикт, хвала Господу, море пощадило вас. Увы, среди вас нет моего брата? Будьте уверены, я молился о ниспослании ему спасения из пучин!
Пароль отчетливо услышал скрип Бенедиктовых зубов. Речь Хуана привела его в восхищение – ну как не восхититься человеком, способным вложить столько неискренности в каких-то два десятка слов!
В небесах прогремел гром. Тучи сгущались на глазах, и вскоре пасмурный день сделался темнее ночи.
– Похоже, непогода обрела второе дыхание, – задумчиво заметил Бенедикт.
– Не более естественное, чем первое, – заявил Ганимед, снова накладывая на тетиву стрелу, точно собирался сбить грозу с неба.
– Коль небо своевременно краснеет, – начал Жак, – то радуется пахарь и пастух, но не один лишь пахарь ужаснется, коль небо вдруг чернеет среди дня…
– Да, – оборвал его Пароль, – да, небо черным-черно. Да, очевидно, это какая-то черная магия. Не могли бы мы укрыться вон там, под деревьями, пока не… – голос его затих. – Господи праведный, а это еще что?!
Вдоль берега, по-над разметанными штормом обломками корабля, двигалось нечто, стягивавшее к себе сгущающуюся тьму, точно покрывало, заставляя ее вихрями клубиться в воздухе. Казалось, тучи в небе водят хоровод прямо над головой странного существа, а с пальцев его с треском срывались стрелы молний. Обличьем оно походило на старуху – иссохшую мегеру в лохмотьях. Старуха медленно плыла прямо на них, и шлейф ее рваного одеяния тащился за ней следом, едва не касаясь песка. С виду она была слепа – ее глаза казались не более, чем глубокими складками среди избороздивших лицо морщин, и молнии вспыхивали, ветвились, словно щупальца, отыскивая путь и обшаривая каждый обломок, выброшенный на берег.
– Что-то злое к нам спешит, – заметил Жак. На сей раз его лаконичность оказалась выше всяких похвал.
– Не объявить ли нам ретираду? – предложил Пароль, так как на всех у спасшихся имелась лишь одна рапира и одна стрела, которые вряд ли могли хоть чем-то угрожать приближавшемуся чудовищу.
Никто не питал желания признавать тактический гений руссильонца, однако все невольно попятились назад. Пароль решил, что остальные могут топтаться на месте сколько угодно. К тому же опыт показывал, что завтрашняя похвальба вполне способна покрыть сегодняшнюю трусость в любых количествах. Резко развернувшись, он едва не сбил с ног женщину.
Женщина была очень красива, и мокрое платье облегало ее фигуру так, что при иных обстоятельствах открывшееся зрелище доставило бы ему немалое удовольствие, не говоря уж о поводе для нескромных замечаний. Но так уж вышло, что эту женщину он знал давным-давно и вовсе не хотел бы испытать на себе остроту ее языка и прочие выдающиеся таланты.
– Привет, Елена, – только и сказал он.
– Цыц, дурачье! Тихо! – зашипела она, оттолкнув Пароля с дороги и подойдя вплотную к его насквозь промокшим спутникам.
Ведьма медленно, но неуклонно приближалась. Выхватив из рук Ганимеда лук и ни на кого не глядя, Елена вычертила на песке вокруг спасшихся круг и что-то пробормотала себе под нос. Пароль от души пожалел, что не пустился бежать сразу, едва увидев приближающуюся тварь: теперь он оказался отданным на милость не одной, а целых двух ведьм.
– Молчать. Не двигаться. На ведьму не смотреть, – прошептала Елена. – Даже мысли не выпускайте из головы.
С этими словами она крепко стиснула одной рукой плечо Пароля, а другой – дона Хуана, словно определив их двоих в самые ненадежные.
Но все послушно замерли, не проронив ни звука, и ведьма, окруженная вихрем струй ливня, тьмы и кислого запаха гниющих водорослей, проплыла мимо и направилась дальше вдоль берега. Старая карга давным-давно скрылась из виду, но даже Елена еще долго не осмелилась заговорить.
– Не думайте, что все опасности позади, – наконец сказала она. – Шторм застиг нас в водах Иллирии, и, если волшба здешних ведьм не сумела отыскать нас, эту задачу препоручат простым смертным. Пока не поздно, нужно бежать прочь от берега.
Вскоре после того, как потерпевшие крушение скрылись, на берегу появился отряд всадников. Останавливая коней у каждой кучи мокрой парусины и обрывков канатов, они пронзали ее пиками – на случай, если под ней прячется кто-то живой.
Отряд возглавлял юный офицер. Чистотой безбородого лица он вполне мог бы поспорить с Ганимедом. Солдаты называли его Цезарио, а больше не знали о нем ничего, кроме того, что их предводитель держится в седле, фехтует, играет в кости и ругается наравне с лучшими из них. Только старый сержант, ехавший позади, знал, что на самом деле их командира зовут Виолой.
Молодая жена герцога Орсино уже не в первый раз украдкой покидала дворец, чтобы натянуть бриджи и показать мужчинам, что почем. Старый герцог не возражал; похоже, от этого он только крепче любил своего бывшего верного пажа Цезарио.
Виола окинула взглядом песок, взрыхленный штормовой ведьмой и прибитый струями дождя, и выругалась в выражениях, вогнавших в краску солдат-рядовых. Дождь, заботливо оставленный им удалившейся ведьмой, лил, как из ведра, и сержант поплотнее натянул на голову капюшон плаща.
– Ох, вера истинная! Напомни-ка, отчего меня дернуло второй раз пойти играть в солдатики?
– Оттого, что ты никогда не упускал шанса оказаться в дураках, Фесте, – объяснила Виола.
– Вот как? – склонившись к ней, Фесте перешел на шепот. – А не оказался бы я еще большим дураком, кабы отпустил супругу своего господина играть в солдатики без сопровождения хоть одного мужчины, который мог бы, в случае чего, прийти ей на помощь?
Виола, в силу давней привычки, тут же ощетинилась:
– Если ты полагаешь, что мне нужна твоя помощь… – пожав плечами, она улыбнулась. – Впрочем, за компанию благодарю – пока ты не утратил остроумия. Вижу следы. Наши сомнительные союзники уничтожили большую их часть начисто, но похоже, что в лес ушел небольшой отряд. Около полудюжины человек.
Сощурившись, Фесте пригляделся к песку под копытами коня.
– Что тут можно сказать, при таком-то освещении? Дева Мария, с тех пор, как эти скотты почтили нас своим обществом, мы уже по горло сыты полночными полднями!
Помолчав, Виола позволила отряду спешиться и дать отдых коням. Взяв под уздцы своего коня, она отвела его в сторонку. Фесте послушно последовал за ней.
– Я предупреждала повелителя, что этот скотт нам недешево обойдется, – негромко сказала она, взглянув в необычно темное небо.
– Знаю, знаю, – подтвердил Фесте, – но ведь на всю Европу не осталось ни единого поля честной битвы, не испохабленного черной магией. Все – благодаря несдержанному нраву царя эльфов… А у кого из военачальников ее больше, чем у этого скотта, которого нельзя убить, к поясу которого прикованы цепью три ведьмы, который, вдобавок, в фаворе у Гекаты? Чтобы отказаться от союза с этакой силищей, твоему повелителю пришлось бы облачиться в мой старый колпак с бубенчиками.
Виола лишь покачала головой.
– Разве этот союз принес нам выгоду? Или только потери с обеих сторон возросли? Сейчас их волшба сбила нас со следа, и точно так же из-за нее каждая битва – хоть выигранная, хоть проигранная – обходится все дороже и дороже.
– Святая вера, да ты разумнее многих, позволю себе заметить, – согласился Фесте. – Но пока этот скотт омрачает своим присутствием двор твоего супруга, все мы – все равно что тот малый, решивший прокатиться верхом на медведе. Пусть и тряско ему, и страшно, а слезать-то еще страшнее.
Акт II
Лагерь в низинке среди лесной чащи.
Сцену пересекают длинные тени, отбрасываемые деревьями. В центре – костерок, совершенно бездымный и столь низкий, что со стороны не видно ни язычка пламени; различим лишь неяркий мерцающий свет.
Елена – она-то и развела этот костерок – подкармливает огонь не хворостом, но вязью слов и щепотками порошков из многочисленных мешочков. Прочие потерпевшие крушение, устало сгорбившись, сидят вокруг костерка, греются и сушатся. Не хватает лишь одного.
Входит БЕНЕДИКТ с охапкой хвороста.
Бенедикт без лишних слов взял на себя заботу о поддержании духа спутников на должной высоте, но эта роль оказалась неблагодарной. За исключением дона Хуана, к которому он отнюдь не питал любви, от души улыбнуться способен был один лишь Ганимед. Лакейской душе Пароля не хватало хозяина, присутствие коего могло бы вызвать льстивую улыбку на его лице, Жак мог жаловаться на жизнь до самой смерти, а Елена была просто… холодна. Впрочем, Бенедикт был рад тому, что волны пощадили ее: именно та, чье лекарское искусство, благодаря неустанным штудиям, превзошло пределы, положенные человеку от природы, и открыло перед ней книгу сверхъестественного, была самым многообещающим из послов, которым предстояло молить о помощи Просперо, волшебника и герцога Милана. Бенедикт не без оснований считал, что она добьется от старика Просперо большего, чем Жак, стонущий перед беднягой-герцогом пятистопным ямбом. Вот только ладить с этой женщиной было нелегко. Сам Бенедикт привык покрывать слова сахарной глазурью, согласно требованиям придворного этикета, но Елена не желала играть по придворным правилам. При первой встрече он приветствовал ее, как подобает арагонскому дворянину приветствовать благородную даму, но ее ледяное презрение, словно клинок рапиры, пронзило его обаяние насквозь.
Он ненадолго задумался, не замкнуться ли и ему в угрюмом молчании, но «noblesse oblige» побуждало к действию.
– А теперь, – во всеуслышание объявил он, – взгляните: вот жидкость малая, счастливо спасшаяся от жидкости великой! – с этими словами он выхватил из-под загубленного вынужденным купанием дублета серебряную фляжку. – Дух самой Шотландии! Уискебо[26] из страны проклятого скотта! Кто пожелает выпить со мной в пику ему?
Это вызвало некоторый интерес даже у скорбного старого философа, и Бенедикт поднял фляжку.
– Те, кто оставил дома любимых, пусть выпьют за них! Скоро им предстоит оплакивать нас, но какая радость ждет их, когда мы найдем дорогу домой!
Ответ дона Хуана был вполне предсказуем:
– Я скорее повешусь, чем стану пить за острый язык твоей благоверной, – сказал он, сплюнув.
Исключительно ради него Бенедикт улыбнулся шире прежнего.
– Пью за прекраснейшую из женщин – мою жену, чей язык так же остер, как и ум, и чья единственная трагедия – тот жалкий муж, которым она обременила себя из-за минутного каприза. – Сделав глоток, он передал фляжку дальше. – Ганимед, вскружили ли вы голову какой-нибудь из Арденских девиц?
– Я состою в браке, сэр, – ответил юноша, принимая фляжку и с подозрением принюхиваясь к ее содержимому. – Бьюсь об заклад, моя любовь прекрасней всех на свете: благородна, нежна, верна… Да, поэта хуже среди живущих не найти, но лучшего борца придется поискать!
Тут юноша осекся и покраснел. Пароль громогласно захохотал.
– Парень, любить девок, знающих толк в борьбе – это прекрасно! – выдавил он сквозь смех, не обращая внимания на угрожающий взгляд Ганимеда. – Что до меня, у меня имеется по девице в каждом порту и гарнизоне, и все они, несомненно, наденут вдовий траур, услышав, что наш корабль не вернулся из плавания.
К фляжке потянулся дон Хуан, но тут вмешался Бенедикт:
– Мой господин, разве вы уже женаты?
– Как я могу жениться, – прошипел его соотечественник, – когда этот глупец, мой старший брат, еще не женат? Кто пойдет замуж за нищего младшего сына, когда старший до сих пор ходит в холостяках? И оба мы знаем, Бенедикт: он взял бы замуж твою жену, если бы только она пошла за него. Думаешь, он не заглядывается на нее до сих пор?
Бенедикт прибавил своей улыбке еще дюйм ширины.
– Ты хочешь уязвить меня тем, что мне завидуют принцы? Ганимед, передайте фляжку следующему из тех, у кого есть семья.
– Дайте сюда! – выхватив из рук юноши фляжку, Елена сделала большой глоток. – Скажем так, – продолжала она, отнимая горлышко от губ, – в дни юности я что есть мочи бегала за неким прекрасным юношей. И, потрудившись пораскинуть умом, заполучила его, о чем до сих пор сожалею. Сэр, – тут она обратилась к дону Хуану, – не вздумайте жениться. Брак превратит вас во внешнюю сторону дырки в заднице, а вашу нареченную – во внутреннюю.
Жак было вскинулся, чтоб опровергнуть сей поклеп на мужской пол и институт брака, но холодный, точно камень, взгляд Елены заставил его промолчать. Без лишних слов он передал фляжку Хуану, от которого она перешла к Паролю.
Солдат помедлил, глядя на Елену, затем встряхнулся и торжественно заговорил:
– Признаться, я слишком забочусь о женщинах вообще, чтобы связать себя узами с какой-либо одной из них, лишив всех прочих моего внимания. Но если мы воистину в Иллирии, мне стоит выпить за то, что желаннее, чем любовь, и долговечнее, чем непорочность. Пью за богатство, ибо пьянчужка, с которым я как-то встретился, сказал, что я непременно разбогатею, если когда-нибудь попаду на эти берега.
– Он – бесстыжий враль, – сказала Елена, едва Пароль умолк, чтобы приложиться к фляжке. – Его слова гроша ломаного не стоят.
Фляжка добралась до Жака, обнаружившего, что она таинственно пуста. Видя, что старик вот-вот начнет жаловаться, чем сумеет досадить и самим богам, Бенедикт вновь вскочил на ноги.
– Что ж, я был бы рад отдохнуть у вашего костра, госпожа Елена, но долг влечет вперед. Мой принц, дон Педро, где-то на этом берегу, либо уже в руках врага.
– Либо на дне моря, – мрачно буркнул дон Хуан.
– Да, уж вы бы предпочли именно это.
– И если это так, ты вскоре можешь очень пожалеть о своей непочтительности. Ведь кто тогда займет трон Арагона? – требовательно спросил Хуан.
– Тогда и я, и весь наш народ должны молить господа, чтобы это было не так, – только и смог ответить Бенедикт. – По этой причине от вас я помощи не жду, но сам отправлюсь на поиски, разыщу ближайший город и буду расспрашивать встречных, пока не исчерпаю все возможности.
– Невдалеке на бреге сем есть город, – затянул Жак, – названье Аполлония ему. От нас он к югу. Там ищи счастливцев, что, избежавши волн, попали в плен…
– Хорошо-хорошо, благодарю вас, – поспешно перебил его Бенедикт.
– Мы пойдем с вами, – сказал Ганимед, с некоторой неохотой поднимаясь со своего места у костра.
Стоило Бенедикту сообразить, что это «мы» подразумевает и Жака – сердце его упало.
– Не стоит… – начал он.
– Ваше лицо, речь и платье, – перебил его юноша, – тотчас выдают в вас арагонца – одного из главных врагов Орсино в Тосканских войнах. Сколько раз вы скрещивали мечи с иллирийцами? А мы, арденцы, пока ничем особенным себя не проявили. Уж позвольте нам послужить вашими глазами и ушами, иначе, если и найдете своего принца, то только в соседней камере.
Бенедикт кивнул, признавая его правоту, и резко обернулся, услышав шипение Елены над костром.
– Что там?
– Ведьма, искавшая нас на берегу, возвращается. Бьюсь об заклад, ее бессмертная повелительница недовольна отсутствием пленных, – глаза лекарки блеснули в свете костерка. – Если вам нужно идти, ступайте, да поскорее. Она движется к нам со стороны моря; отправляйтесь на юг, а я отвлеку ее от вас, а остальных спрячу.
Поморщившись, Бенедикт кивнул Ганимеду:
– Тогда идемте, но, умоляю, пусть философия подождет в безопасном месте, иначе мы никогда не доберемся до этого порта.
– Так вам известен парадокс Зенона, столь удививший весь античный мир… – обрадованно начал Жак – и продолжал, и продолжал, пока его голос не затих вдали.
Елена подобрала хворостину и начала чертить на земле круг, обводя линией костер и что-то высчитывая в уме. Волшебство Старой Шотландии основывалось совсем на других материях – духах, эльфах и дьявольских договорах, навеки связывавших его приверженцев с губительными силами, с которыми ей вовсе не хотелось иметь дела. Ее волшебство – книжное – имело корни в натурфилософии, сделавшей ее столь выдающейся целительницей, способной излечить любую болезнь и едва ли не возвращать к жизни мертвых. То было волшебство эпохи разума – алхимия, философия и ясный свет дня, а не дым и паутина темных ночей прошлого.
– Не залить ли мне костер? – тревожно спросил Пароль.
«Надо бы, – подумала Елена, – пугать его почаще». Похоже, лучшие из его человеческих качеств в нем был способен пробудить лишь низменный инстинкт самосохранения.
– Она не глазами ищет, – ответила она, откровенно любуясь выражением его лица: в прошлом им доводилось встречаться, а забывчивостью она не отличалась.
Ведьма была уже близко. Вокруг поднялся ветер. Деревья зашумели.
– Держитесь ближе к центру круга, – предупредила Елена обоих оставшихся с ней. – Молчите и даже не смотрите на нее.
По небу над их головами неслись тучи, и Елена вспомнила об отправившемся на поиски Бенедикте, надеясь, что ей удастся отвлечь ведьму и помочь ему с товарищами уйти. Этот арагонец производил впечатление достойного человека, философ еще мог пригодиться, а Ганимед… Что ж, Елена не могла отрицать некоторую симпатию к тому, кто зашел так далеко, стремясь пробить себе путь в жизни.
Тут дон Хуан якобы споткнулся, зацепившись за торчавший из земли корень, качнулся назад, и его каблук пробороздил землю, разорвав круг.
– Глупец! Что вы делаете? – шикнула на него Елена.
На миг выражение лица дворянина сделалось откровенно злорадным, но эта гримаса тут же скрылась под маской едва ли не театрального раскаяния.
– Увы! Моя неловкость выдала всех нас! – вскричал он гораздо громче, чем нужно. – Но не бойтесь, прекрасная дева, я отвлеку врага и спасу вас и вашего спутника!
С этими словами он откровенно ухмыльнулся, прежде чем ринуться навстречу ведьме, размахивая руками. И в этот миг, оставшись без защиты от вражьей волшбы, Елена невольно восхитилась его беззастенчивостью. «Честность в негодяях встречается редко», – подумала она, осматривая круг в надежде вовремя исправить прерванную линию, но тут Пароль тоже пустился бежать – в противоположную сторону, вслед за ушедшими на поиски принца.
Теперь исправлять было нечего – круг, затоптанный в нескольких местах, окончательно утратил силу. Елена встала над костром, сжав в руке хворостину, будто настоящий волшебный посох. Стоило подождать и посмотреть, не удовольствуется ли ведьма одним Хуаном, и если нет – проверить, чего стоит магия новых времен против волшбы старых богов.
Гарнизонная крепость в Аполлонии Иллирийской.
Одинаково неопрятные солдаты и слуги мельтешат вокруг огромного стола, ломящегося от жареного мяса и выпивки. Во главе стола, над общей суматохой, восседает родственник герцога со стороны жены, сэр Тоби. Он ест и пьет день напролет, то и дело громогласно требуя еще пирогов и пива.
Входит МАКБЕТ.
Все звуки – звон кружек, визг девок, стук игральных костей, божба и ругань – разом стихли. Один сэр Тоби продолжал петь, отчаянно фальшивя, но и его голос осекся и стих, стоило ему увидеть причину повисшей в воздухе тишины.
Скотт, чье имя никто из людей не смел произнести вслух, по нынешним временам выглядел весьма устрашающе. Возможно, именно такой и была вся знать сотни лет назад: темная кольчуга, островерхий шлем, из-под которого почти не видно серого лица… Явился он, даже не затемнив дверной проем. Следом за его плащом тянулись тени, рука покоилась на рукояти кинжала, будто убийство ни на минуту не покидало его мысли. В конце концов, кем же он был, как не убийцей – он, совершивший цареубийство и якшающийся с ведьмами?
По крайней мере, хоть ведьм на этот раз при нем не было. Однако он и сам по себе был страшен. Солдаты при его появлении осеняли себя крестным знамением – но только за его спиной. Нынешний папа римский давно махнул рукой на объявленный было крестовый поход против магии, подобно своему предшественнику, отменившему собственный запрет на применение черного пороха. Впрочем, скотт отрекся от божьей милости и людских законов давным-давно, решившись послушаться супругу. От него веяло холодом, тянуло могильной плесенью и резким, железистым запахом крови.
– Что? – заплетающимся языком пробормотал сэр Тоби, щурясь на полководца налитыми кровью глазками. – Что еще стряслось? – он качнулся над столом, настолько пьяный, что лицо его не утратило румянца даже при виде столь мрачной фигуры. – Орсино определил тебя в гонцы, или ты пришел выпить со мной бурдючок испанского?
Скотт резко двинулся к нему, навис над головой, и старый пьянчуга поспешил загородить локтем кружку. Полководец заговорил; голос его зазвучал низко, гулко, замогильно, точно напев старой Шотландии, погибшей пять веков тому назад:
– Занятного оленя псы мои вспугнули из кустов, – нараспев произнес он. – Твои ж – догнали.
Сэр Тоби важно кивнул, хотя смысл сказанного дошел до него лишь три удара сердца спустя.
– Еще один пленник, говоришь? Еще один матрос или слуга отправится к остальным в плавучую тюрьму?
– Нет. По его словам – из благородных, – возразил скотт. – Пожалуй, к первому его ты поместишь.
Тут громкий топот возвестил о прибытии еще одного отряда солдат, чьего небрежения дисциплиной устыдились бы даже гарнизонные гуляки за столом. Впереди шел молодой офицер по имени Цезарио, а в середине – смуглолицый арагонец.
– Это еще что за новости? – сэр Тоби резко встал, толкнув брюхом стол так, что пиво волной выплеснулось из многочисленных кружек. – Разве это не тот малый, которого мы уже раз брали в плен? Вот подлец! Сбежал, дав слово вести себя паинькой?! Немедленно высечь!
Грузно навалившись на стол, он уставился на Цезарио тяжелым взглядом, означавшим крайнюю степень недовольства.
Глядя в гневное, пошедшее красными пятнами лицо родственничка – к несчастью, дяди ее невестки, – Виола с трудом сдержала желание подойти поближе и дать ему пощечину. Пожалуй, не будь здесь этого ходячего мертвеца, скотта, она бы не сдержалась.
– Это не тот, – сказала она, – хотя сходство очевидно. Надеюсь, вы держите дона Педро под рукой до особого распоряжения герцога?
Тоби выпучил глаза – возможно, придя в замешательство от фамильярности юного офицера, возможно, просто ничего не соображая спьяну. В конце концов он громогласно рыгнул и тяжело опустился в кресло, утратив к происходящему всякий интерес. Виола раскрыла было рот, чтоб приказать отвести пленника в темницу, но тут он шагнул вперед, буквально оттолкнув ее локтем, и заговорил:
– Постойте, храбрые сэры! Верно ли, что вы держите в оковах моего брата Педро, принца Арагонского?
– В оковах? С чего бы, мы же не голландцы какие! – проворчал Тоби. – Нет, он содержится со всеми удобствами, но он наш пленник. Как и вы, так что, если вы явились, чтобы обменять себя на него, вам с самого начала не посчастливилось.
– Обменять себя на него? – захохотал пленник. – Скорее, я пришел предостеречь вас, добрый сэр рыцарь. Сам я – Хуан, по праву принц, чье слово тверже железа, уважающий благородство даже в тех, против кого воюю. Но знайте: мой брат Педро не отличается подобной щепетильностью в вопросах чести. Закуйте его в надежные цепи, иначе он проникнет в любую щель и перережет горло всякому, кто встанет на его пути. Не верьте ни единому его слову: нарушить обещание для него – все равно что преломить соломинку. Увы, я грешу против братской верности, но любовь к истине и жажда справедливости вынуждают меня раскрыть вам всю правду о нем.
Более всего Виолу поразил сухой, деловитый тон, каким все это было сказано. Арагонец ел глазами Тоби и этого проклятого скотта и говорил, даже не пытаясь вложить в свои слова хоть толику страсти и тем придать им убедительности. Зато в оценке интересов слушателей он оказался мастером. Да, угрюмый воин лишь задумчиво взирал на пленника, однако Тоби явно не смог устоять перед возможностью заполучить в свои лапы узника, которого он в полном праве тиранить вместо того, чтоб обходиться с ним достойно.
– Весьма своевременное предупреждение! – воскликнул он. – Ты и ты – ступайте, отыщите этого шельмеца Педро и глаз с него не спускайте, если только он уже не сбежал, воспользовавшись нашим великодушием. Не годится, чтобы столь ценная добыча вдруг исчезла, прежде чем герцог решит ее судьбу. А вы, сэр?
– Я, добрый рыцарь? – пленный арагонец принял позу шутовского смирения. – Я – дон Хуан, злосчастный младший сын, горюющий о том, что ход событий вверг наши народы в ссору. Ибо, будь я на троне в час, когда над нами нависла угроза войны, уж я-то нашел бы способ обойтись без вражды с могучей Иллирией.
Виола открыла было рот, чтоб возразить, но и эти слова прозвучали для сэра Тоби сущей музыкой.
– Подыщите этому доброму малому жилище и устройте его, как подобает, – приказал он. – Ну, а затем, дон Хуан Арагонский, быть может, вы присоединитесь ко мне за этим столом?
– Ничто на свете не доставит мне большего удовольствия.
Даже в этот миг в его голосе явственно слышалась насмешка, но и этого, казалось, не заметил никто, кроме Виолы.
Акт III
Задворки Аполлонии Иллирийской.
Эхо сотни языков и акцентов звучит здесь даже во время войны. Слышны голоса матросов и купцов, спешащих к своим постелям с наступлением ночи, крики уличных торговцев, звуки доносящейся из таверн музыки, звон колокольчика ночной стражи. Повсюду в воздухе – гул сотни грехов и пороков, да таких, что лишь самые гнусные представители рода людского не погнушались бы посещать подобные места.
Появляется ПАРОЛЬ.
В каждой стране имеются свои порты, однако все порты, в каком-то смысле, принадлежат одному народу. Пароль повидал столько портовых городов, что не пропал бы в любом порту мира. Серый руссильонский мундир он благоразумно укрыл под плащом, пожертвованным в его пользу зазевавшейся прачкой.
Он вовсе не чувствовал за собой вины в том, что бросил Елену. Дружбы между ними не было никогда, и на этот раз он оказался в ее свите лишь потому, что супруг Елены сомневался в ее добродетели. Пароль подумал, что мысль о ее супружеской неверности показалась бы правдоподобной только тому, кто совсем не знает ее. Да, она была довольно привлекательна, а с мужем и господином они теперь едва могли находиться вместе в одной комнате – однако Пароль подозревал, что она слишком уж холодна, чтобы найти себе новую любовь, и, к тому же, слишком уж не хочет, чтобы еще кто-то из мужчин лез в ее дела. С некоторых пор ее начал побаиваться сам король Франции, которому она некогда спасла жизнь. Посему лучшего посла к волшебнику Просперо было не сыскать.
А ведь были времена – еще до того, как она вышла замуж и обрела могущество и вес, – когда они с Паролем были способны учтиво беседовать. Она уже тогда отличалась остротой ума… Эта мысль едва не удержала его от бегства. Но грозовая ведьма была совсем близко, а своей отвагой Пароль куда чаще хвастал, чем проявлял ее на деле.
Что ж, пусть себе воюет с ведьмами проклятого скотта. У него, Пароля, есть дела поважнее. Едва он обнаружил, куда их занесло штормом, все его помыслы устремились к сокровищам и богатству. Несмотря на недоверие Елены, в этом он ни капли не солгал. Один человек – точнее, один случайный собутыльник в очередной таверне – в самом деле предсказал, что, оказавшись на иллирийской земле, он отыщет сокровище.
Тот же человек соблаговолил снабдить его некоторыми подробностями, а кроме того Пароль прочел кое-какие книги и выслушал немало преданий. Несомненно, узнав о том, что Пароль поглощен научными исследованиями, Елена подняла бы его на смех, но власть и богатство – превосходный стимул. Ходить в чьих-то прихвостнях Паролю надоело давным-давно.
– Вот когда стану вельможей, и все они явятся выпрашивать милостей, уж я их заставлю льстить и пресмыкаться, – поклялся он самому себе, выходя из третьей по счету таверны, где угощал собутыльников на деньги из позаимствованного у случайного прохожего кошелька и исподволь расспрашивал их о том, что ему требовалось. Пока что все ответы вели в одном направлении – признаться, жутковатом, но Пароль только радовался собственной находчивости. – А все, кто смеялся надо мной – все эти фальшивые друзья, что отвернулись от меня с презреньем – что ж, придется им прийти ко мне и заново притвориться друзьями, а я сделаю вид, будто знать их не знаю, а еще лучше – придумаю, как испытать их преданность! – последняя мысль понравилась ему больше всего. – «Мерси, мерси, великий Пароль, – закричат они, – мы с самого начала видели звезду твоего величия, но нас ввели в заблуждение!» А я им на это…
Но что Пароль ответил бы на это гипотетическим просителям, так и осталось неизвестным: кто-то, неслышно подкравшийся сзади, накинул ему на голову мешок.
Пароль взвизгнул от испуга, но чьи-то руки крепко обхватили его, а грубый голос гортанно прошептал:
– Тихо. Еще один звук станет последним в твоей жизни.
Представив себе целую тьму острых ножей, нацеленных на него извне, Пароль обмяк и послушно двинулся туда, куда его повели.
Вскоре его привели в какое-то тихое место, где отчетливо пахло навозом – очевидно, в конюшню, – и усадили на бочку, поставленную на попа. Один из похитителей крепко стиснул его руки, и Пароль напрягся, ожидая удара, но вместо этого над ухом его прозвучала фраза на каком-то совершенно незнакомом тарабарском языке. Тщательно составленная по дороге сказка о его симпатиях к Иллирии и иллирийцам рассыпалась в прах. Судя по всему, его угораздило попасть в лапы к разбойникам из куда более отдаленных земель.
– Прошу вас, милостивые государи, – глухо забормотал он из-под мешка, – скажите, вы, случайно, не турки? Ибо мне доводилось слыхать о союзе Блистательной Порты с Иллирией…
– Какие еще турки? – ответил тот же яростный голос, что говорил с ним прежде. – Неужто не узнаешь звуков московитской речи?
Пораскинув мозгами, Пароль не сумел отыскать ни единой причины, ради которой шайке московитов стоило бы хватать его на улицах Аполлонии.
– Тогда, благородные господа московиты, скажите, пожалуйста…
Вновь невнятная тарабарщина – на сей раз от нее веяло холодным ветром далеких степей. Несомненно, татарский магнат давал какие-то указания толмачу.
– Нет уж, скажите, пожалуйста, вы, сьер франк, какое дело заставило вас тайком пробраться в этот город? – шепнули ему на ухо.
Пароль представил себе острые сабли, наполовину извлеченные из ножен и ждущие лишь одного неверного слова, чтобы вонзиться в его тело.
– Прошу вас, добрые сэры, – пролепетал он, – только пощадите меня, и я сделаю вас богатыми! Здесь, в этом городе, хранится сокровище – так сказал мне один человек. Да, игрок и пьяница, но, несмотря на это, человек великой мудрости, а звали этого хвастливого ростбифа[27] Уиллом из Стратфорда. Сохраните мне жизнь и свободу, и я отведу вас к этому сокровищу.
Еще порция тарабарщины – и толмач вновь обратился к Паролю:
– Что ж, сьер франк, вы весьма великодушны. Но о каком же сокровище речь?
– Речь о сокровище, разделяющем мир, о кинжале, способном порабощать народы, – торопливо заговорил Пароль. – Так сказал этот малый. Я решил, что он не в своем уме, но он уверял, что на свете в самом деле существует кинжал – простой кинжал, за который любой европейский владыка отдаст всю свою казну до последнего гроша. Прошу вас, друзья мои! Если вас хоть сколько-нибудь волнует богатство, неужели вы останетесь равнодушны к такому сокровищу?
– Кинжал?..
Если голос над ухом и утратил на миг гортанный выговор, Пароль этого не заметил.
– Понимаю, понимаю, я сам страшно разгневался, решив, что он хочет надуть меня, поставив на кон пустопорожние выдумки против звонкой монеты, но он дал клятву – да такую, что убедительнее быть не может! Кинжал, волшебный кинжал, которому подвластны судьбы мира, ждет меня здесь, в Иллирии!
– Ни с места, сьер франк, – велел ему московит.
Трое из похитителей отошли в сторонку и принялись шептаться. Зловещий заговорщический шепот звучал так тихо, что Паролю не удавалось разобрать ни слова. Он мог бы потихоньку снять с головы мешок и кинуться к выходу, но что, если путь на свободу преграждают еще трое московитов, коих его выходка отнюдь не развеселит? Оставалось лишь сидеть смирно и молить господа, чтобы алчность одолела легендарную московитскую кровожадность.
Вскоре толмач вернулся к нему.
– Сьер франк, – сказал он, – вы явились за сокровищем не один. Мы знаем, что, кроме вас, шторм пощадил и других. Что с ними?
– Я бросил их! – поспешно заверил его Пароль. – Бесполезный груз на пути к величию, не более того. Что мне в них проку? Какая-то ведьма с каменным сердцем, пара спесивых испанских павлинов, чья болтовня намного превосходит прочие достоинства, безбородый мальчишка, столь неотесанный, что более всего чтит свою благоверную за успехи в борьбе, да выживший из ума старый дурак, битком набитый безвкусными метафорами. Я оставил их в лесах играть в прятки с ведьмами и иллирийцами. Они нужны вам? Я с радостью приведу их к вам, а, коль угодно, отведу вас к ним, только, пожалуйста… – тут он почувствовал, как рука толмача затягивает горловину мешка на его горле, точно веревку палача. – Прошу вас, пощадите несчастного Пароля, и он будет верно служить вам до скончания века.
Тут с Пароля сдернули мешок, и… Прямо перед его выпученными от страха глазами предстал радостно улыбающийся Ганимед. За ним стояли и Бенедикт с Жаком. На ум Паролю немедленно пришла целая дюжина разнообразных выдумок, которые могли бы помочь снять с себя все обвинения. Конечно же, он просто заговаривал похитителям зубы, чтобы сбить их с толку и надуть либо завлечь в ловушку, или… Но он лишь повесил нос в полном отчаянии.
– Опять… – только и смог вымолвить он. – Да сколько же раз мне попадаться на этот трюк?
– Где же ваши дерзкие речи, отважный Пароль? – спросил Бенедикт. – Не будет ли вам угодно еще раз усомниться в моих достоинствах?
– Нет, сэр, – пробормотал Пароль.
– Так, может, вы отведете нас к нам же самим? И нам самим же выдадите? – вставил Ганимед.
– Пристало ль плуту, речь ведя о просвещенном, разбрасываться термином «дурак»? – с хитрецой осведомился Жак.
– О тебе, старик, я одно скажу: ты сам покрыл позором свои седины, изображая эту тарабарскую чушь, как какой-нибудь балаганный фигляр, – запальчиво ответил Пароль.
– Наречие далеких московитов известно просвещенным с давних пор. Его лишь безнадежный неуч может принять за тарабарщину и чушь, – ледяным тоном сказал Жак.
– А где же похвальба о том, как ловко вы бросили в опасности Елену и Хуана? – перебил его Бенедикт.
– От Елены больше нет никакого проку ни мне, ни вам, ни прочим смертным, – едко ответил Пароль. – А что до вашего соотечественника – он первый сбежал от нас и помчался прямиком в лапы врага. Как будто сам хотел, чтобы его изловили.
Услышав эти новости, Бенедикт тут же оставил насмешливый тон.
– Рассказывайте, как было дело, – ровно проговорил он.
– И про волшебный кинжал – поподробнее, – добавил Ганимед.
Он явно был заинтригован, и это не укрылось от Пароля. «А ты, паренек, можешь мне пригодиться, – подумал он. – Наивного мальчишку, верящего в сказки, всегда полезно иметь под рукой».
***
Таверна.
Шум веселья, звон кружек, вино и пиво льются рекой, воздух полон дыма и кухонного чада, хмельной дух так крепок, что вышибает слезу. В темном углу, вдали от посторонних глаз, идет игра; целые состояния переходят из рук в руки. В общем, то самое место, куда непременно стоит заглянуть чужеземцу в поисках свежих новостей о волшебных сокровищах.
Входят переодетые ВИОЛА и ФЕСТЕ.
– Пока что я их не вижу, – сказала Виола, окинув таверну острым взглядом. – Но если они будут держаться прежнего курса, то рано или поздно непременно появятся. Чужеземцы, четверо, по словам одних – французы, по словам других – московиты, но неизменно задают любопытные вопросы – да, и о гарнизонной крепости, и о пленниках, но не только. К тому же выбирают не кабатчиков или корабельных капитанов, а чумных докторов, уличных магов самого низшего разбора, да знахарок. Прикинемся же теми, кого они ищут – и, возможно, они сами расскажут нам, что у них на уме.
Виола снова надела мужское платье, но на сей раз дополнила дублет и шоссы очками и мантией ученого. Фесте, в свою очередь, нацепил роскошную фальшивую бороду, а поверх мундира накинул сутану.
– Я буду Эдвардом Келли – алхимиком, мистиком и духовидцем, – решила Виола.
– А я – патер Топас, – сказал Фесте с тягучим простонародным акцентом.
Виола бросила на него удивленный взгляд.
– Опять патер Топас?
– Отчего нет? Как черви в молоке зарождаются от солнца, так и погрязшие в темной трясине невежества ждут лишь того, чтоб светоч церкви озарил их путь лучом просвещения. – Пожевав бороду, Фесте небрежным жестом благословил таверну, но вдруг насторожился. – Взгляни, однако ж: они здесь.
Оглянувшись, Виола увидела на пороге четверку иноземцев: старика, жевавшего бороду точь-в-точь как патер Топас, какого-то хлыща, напустившего на себя важный вид, ладно сложенного дворянина и юношу с луком за плечом. Старец тут же направился к камину погреть косточки, а дворянин меж тем протолкался к хозяину таверны. Двое оставшихся огляделись и, конечно, увидели парочку ученого вида, устроившуюся за столом в углу.
– Храни вас бог, почтенные мэтры, – окликнул их юный иноземец. – Прошу, позвольте невежественной младости угостить ученую старость кружечкой-другой.
– Отчего же, – ответил Фесте прежде, чем Виола успела остановить его, – да благословит святой Кинкеленций твою щедрость, милок! Нечасто людям знанья и искусства, тем, в чьих руках…
– Очень любезно с вашей стороны, – перебила его Виола. – Но разве вы, питающие такое уважение к учености, не составите нам компанию?
Некоторое время они обменивались любезностями, затем отправили испанского дворянина за новой порцией выпивки, предоставив ему проталкиваться к кабатчику сквозь все девять кругов ада. Предоставив Фесте нести чушь, Виола некоторое время наблюдала за иноземными гостями, изо всех сил старавшимися уследить за путаными петлями логики мнимого святого отца. Наконец она перешла к делу:
– Да, мы – вероятно, два самых ученых мужа во всей Иллирии, однако сами видите, как обходится с нами фортуна! Я сам почти еженощно веду беседы с ангелами и бесплотными духами и штудировал науки вместе с самим доктором Ди, а патер Топас оттачивал свое мастерство в незримой коллегии веруккопоркусов и сумел получить философский камень. Но с тех пор, как кто-либо в последний раз оказал любезность двум бедным ученым, прошло так много холодных дней… Скажите же: чем мы можем отплатить за вашу доброту?
Юноша, очевидно, хотел было ответить с осторожностью, но его спутник, едва не лопающийся от важности солдат, опередил его:
– Что ж, мои премудрые друзья, коль вам угодно в свою очередь оказать нам уважение, быть может, вы сумеете разрешить наш спор? Вот этот тощий юнец утверждает – и это прекрасно соответствует вашим словам – будто волшебникам и магам в Иллирии не место, ибо здешние земли для столь высокоученых людей, как вы, бесплоднее пустыни. Но мне, почтенные мэтры, доводилось слышать, что в Иллирии имеются чудеса на зависть всему миру. Отмечу среди многих хотя бы кинжал, о коем говорят, что он способен разделять миры, единственный в своем роде клинок, обладающий необоримой силой. Прав ли я, доверяя молве?
– Святая вера! Сэр, ясно, как ночь, вы – малый, чьи уши столь открыты, что междуушное пространство подвержено влиянью всех ветров, – поспешно затараторил Фесте.
Виола замерла. «Я привела с собой одного шута, а здесь их – целая шайка, – подумала она. – Так вот на что они нацелились, безумцы?»
Она оглянулась, проверяя, чем заняты остальные двое. Испанец все еще пытался пробиться к кабатчику за выпивкой, а старик у камина, похоже, успел задремать.
– Вещь, упомянутая вами, мне известна, – негромко сказала она, коснувшись локтя Фесте, чтобы прервать его невнятную болтовню. – Она не из Иллирии, но я точно знаю, что в эту самую минуту она находится в наших краях. Однако, если вы ищете ее, то вы – глупцы. Конечно, она порой странствует от владельца к владельцу, но сейчас вернулась к своему первому хозяину.
– И кто бы это мог быть? – спросил юноша, мало-помалу заразившийся мрачностью Виолы.
– Его имя не произносят вслух; люди называют его по прозвищу, происходящему от названия земли, которой он некогда правил. А путь к трону ему открыл тот самый кинжал, который вы ищете. В одном ударе этого кинжала, попавшего к нему неведомо из какой адской кузницы, сошлись убийство и измена. Так значит, ваша цель – Шотландский Кинжал?
– Это вы о Макбете? – манерно протянул солдат.
С проворством атакующей змеи Виола выхватила нож и вогнала его в столешницу, пригвоздив рукав солдата к доскам. Второй нож, миг спустя появившийся в ее руке, нацелился в лицо иноземца. Фесте вскочил и обогнул стол, зажимая обоих в угол.
– Именем Орсино, герцога Иллирийского, вы арестованы, – объявила Виола. – И если в вас осталась хоть толика ума, данного вам от рождения, никогда больше не произносите это имя!
Солдат выругался и потянулся к ножу, пришпилившему его рукав к столу, юнец же качнулся назад и въехал локтем в грудь Фесте с криком:
– Бенедикт!
Виола пригрозила ему ножом, но тут же заметила, что в таверне стало сумрачно. Повеяло холодом и могильной сыростью.
– Идиот! – бросила Виола в лицо солдата, таращившегося на нее с отвисшей челюстью.
Толпа гуляк резко раздалась в стороны, освободив центр зала. Посреди зала возвышалась темная фигура в доспехах пятивековой давности, с испятнанным ржавчиной двуручным мечом наготове. Ввалившиеся глаза шарили по залу из-под края островерхого древнего шлема.
– Кто звал меня? – спросил скотт.
– Ч-ч… святая вера! – пробормотал Фесте, срывая с лица бороду патера Топаса. – Теперь мы все остались в дураках!
Виола взглянула в лицо иноземного юноши. Мысли понеслись вскачь. Скотт двинулся к ним, а всем прочим оставалось лишь гадать, что он способен сделать с этой парочкой безмозглых дурней. Судьба солдата не слишком-то заботила Виолу, но вот юноша… Открытое, симпатичное лицо, так молод и так похож на брата – и на нее…
Быстрым движением она вырвала из столешницы нож, освобождая руку солдата.
– Я собиралась отдать вас в руки иллирийского правосудия, но не предать древней шотландской казни. Бегите.
Оба стрелой рванулись к выходу, а Виола развернулась лицом к доспехам, могильному праху и вековой тьме.
– Ты знаешь меня, скотт, – заговорила она. – Я служу Орсино, твоему союзнику.
– Кто имя произнес, повинен смерти, – проскрежетал древний полководец.
– Здесь для тебя нет законной добычи, – возразила Виола. – Ступай туда, откуда пришел.
В ответ скотт поднял меч, и она отскочила назад. Сколько раз она жалела о том, что этот жуткий выходец с того света явился на подмогу ее мужу! Фесте забежал вперед и заслонил ее, но она отшвырнула шута в сторону. Если уж все закончится трагедией, то только для нее.
Меж звеньев кольчуги посреди широкой груди скотта блеснуло острие рапиры. Издав победный крик, зашедший со спины испанец пронзил скотта насквозь.
– Одна лишь сталь, а внутри пусто! – весело провозгласил он, но тут же заметил, с каким ужасом все смотрят на него.
– Бегите, – посоветовала Виола. – Бегите немедля!
Скотт передернулся, но, скорее, от раздражения, чем в попытке освободиться от клинка смертного. Он просто развернулся к испанцу, и рапира выскользнула из его доспеха сама собой. Из-под древнего шлема раздался гулкий смех, от которого всех и каждого пробрало холодом до самых костей.
– Увы, – во всеуслышание сообщил скотт, – я дерзок, смел, кровав, мне нет препон – ни один муж, что женщиной рожден, Макбету не опасен, – скотт качнул мечом. – Был однажды тот, кто решил, будто смог меня убить. Да я и сам так думал, но хозяйка отринула пустой сутяжный бред. Худую смерть обрел тан файфский. Я же победоносен и неуязвим!
– Вот как? Ну что ж, – сказал испанец, встряхнув бутылкой, которую держал в левой руке. – Так, может, выпьем?
Рык скотта прорезал тишину, заскрежетав, как ломающееся железо. Призрак взмахнул мечом, но внезапно замер, не отрывая взгляда от бутылки. Выглянув из-за его плеча, Виола разглядела грубо отпечатанный с резной доски ярлык с изображением деревьев и надписью: «Бирнамский лес. Особый запас». Что-то в этом ярлыке на миг остановило руку скотта, а в следующее мгновение испанец с маху ударил бутылкой прямо в лицо противника. Осколки брызнули в стороны, а испанец с отменной быстротой метнулся к двери и скрылся. Отчаянно протирая глаза, залитые крепким виски, скотт грязно выругался – казалось, при звуке древних шотландских проклятий пошел волдырями сам воздух. Тем временем Фесте ухватил Виолу за локоть и потащил прочь.
Вторжение скотта не до конца помешало делу. На полпути к выходу, несмотря на спешность отступления, они не забыли прихватить с собой старика-чужеземца, дремавшего у камина и забытого своими товарищами.
***
Ночь в иллирийском лесу.
Холодный свет луны пробивается сквозь сплетение ветвей, отбрасывающих наземь причудливые тени. Слышно уханье филина, визгливый лисий лай, тихий посвист крыльев нетопырей. Ночь, столь обильная дурными знамениями, как нельзя лучше подходит для темных дел и злобных выходок.
Вбегает ЕЛЕНА, спасающаяся от врага.
Гроза прошла – в конце концов ведьма сообразила, что гром и молнии над головой охотника плохо способствуют охотничьему счастью. Теперь древняя колдунья беззвучно плыла среди деревьев, нащупывая дорогу вытянутыми вперед пальцами с чудовищными ногтями, изогнутыми, точно серпы. Лицо ее было сплошь, словно высохшая слива, покрыто морщинами, среди которых давным-давно скрылись глаза.
С тех пор, как ведьма учуяла Елену, ей пришлось бегать почти без остановки. Как ни гордилась она своим мастерством, достигнутым усердными трудами, перспектива противостояния первозданной мощи древнего чудища не внушала надежд. «В те времена применяли совсем другие методы», – подумала Елена. Целых пять сотен лет эта старуха таскалась за скоттом на цепи, и кто знает, сколько лет оттачивала свое искусство до этого… Елене доводилось читать о том, каким было волшебство до Парацельса, Роджера Бэкона и Просперо. В те давние времена в основе всякого волшебства лежали сделки с демонами и прочими силами древнего мира, и волшебник всегда оставался их рабом без малейшей надежды стать хозяином. Теперь она воочию увидела, куда на самом деле ведет этот якобы путь к могуществу. Во что превратилась эта ведьма? В иссохшую, одряхлевшую, но неподвластную смерти игрушку в чужих руках…
Впрочем, игрушку очень сильную, этого Елена отрицать не могла. Древняя тварь гнала ее через лес по кругу, шаря среди деревьев, вынюхивая, нащупывая ее. И Елена прекрасно понимала: стоит этой мегере дотянуться до нее или хотя бы точно узнать, где она находится, все кончится крайне скверно. А ведь у скотта в неволе не одна, а три таких твари, готовые по первому его слову сеять ужас на полях сражений всей Европы.
Но Елена все время держалась на шаг – жизненно важный шаг – впереди, а порой и не на один. Она металась взад-вперед, на миг появляясь в пределах чутья ведьмы, чтобы тут же исчезнуть, и добрую половину ночи вела ее по лесу, описывая широкий круг.
Таким манером она и вернулась обратно в свой лагерь. Костер, конечно же, давным-давно погас. Здесь она и даст ведьме бой – юная сила против вековечной злобы.
– Ну что ж, иди сюда! – воскликнула она. – Довольно ты гонялась за мной. Мне это надоело. Иди сюда, принимайся за свое ведовство, и поглядим, чего стоит твоя сила против моей!
Показавшаяся из-за деревьев ведьма залилась кудахчущим смехом. Ноги с длинными, скрученными, точно бараний рог, ногтями безжизненно висели в воздухе, вместе с подолом ее одеяния, в нескольких дюймах над ковром опавшей листвы.
– Прекрасная встреча для нас обеих, – прошипела она сквозь беззубые десны. – Какое одаренное дитя – ну и пляску мне задала! Но зачем же убегать от старшей сестрицы, деточка? У нашей повелительницы Гекаты давно не было новых прислужниц. А мы с сестрами подыщем тебе место у огня, сердечко мое.
– Речь, несомненно, об адском пламени, – бросила в ответ Елена. – Не для того я набиралась сил, чтобы впустую тратить их, служа духам, дьяволам и древним богам. Моя сила принадлежит мне и только мне.
Ведьма вновь закудахтала и придвинулась ближе, широко раскинув руки в стороны.
– Все так говорят, дорогуша, – прошептала она, пересекая линии, начерченные Еленой на земле. Одним движением ноги Елена замкнула круг и отступила за его границу.
– Что ж, вот и пришло время испытать, чего стоит твоя сила против моей.
На самом деле Елена напряглась, приготовившись к бегству: раньше ей доводилось применять волшебные узы лишь против мелких духов, призраков и сильфов, а эта древняя тварь была существом совсем иного порядка. Некоторое время ведьма просто парила в темноте, бормоча что-то себе под нос. Затем она потянулась вперед, коснулась границы круга – и вспышка зеленого пламени опалила ей руки. Взвизгнув, ведьма устремилась назад, но лишь для того, чтоб обнаружить такую же границу у себя за спиной. Елена молча наблюдала, как она мечется внутри круга, точно муха в бутылке, не в силах понять, что выхода нет.
– Сестры, на помощь! – закричала старуха. – Госпожа Геката, я в западне!
Елена подождала еще немного, вслушиваясь в ночь всеми доступными чувствами – природными и сверхъестественными. Но на зов ведьмы никто не откликался.
– Ты в самом деле в западне, – сказала Елена. – Да, ты сильна, но я усердно училась, и мое средство познания тайн мира – наука, а твое – заплесневелые суеверия.
– Моя госпожа сотрет тебя в порошок за этакую дерзость! – поклялась ведьма.
Пошарив вокруг кострища, Елена нащупала опустевшую фляжку Бенедикта. Он хвастал, что внутри – дух самой Шотландии… При этой мысли в голове Елены родилась неплохая идея. Обернувшись к яростно плюющейся ругающейся пленнице, она улыбнулась.
– Если бы я слушала всех, кто говорил, что я «не могу», «не должна» или «жестоко поплачусь, если поступлю по-своему», то была бы не более чем почтенной супругой какого-нибудь захолустного сквайра, – любезно сказала она. – Вельможи, учителя, лекари, мудрецы и даже будущий муж – все они пытались указывать мне мое место и положение, но я им не вняла. Не стану внимать и твоим предсказаниям. Итак, «старшая сестрица», я наношу на этот сосуд знаки, что удержат тебя в заточении. Прошу прощения, темница тесновата, но позже ты, возможно, получишь жилье попросторнее – если, конечно, я буду довольна тобой. А пока – заточаю тебя в эту фляжку, и, сидя там, ты будешь отвечать на любые мои вопросы.
Акт IV
Гарнизонная крепость.
Пьяный родственничек Виолы продолжает шумную гульбу. Здесь ничего не изменилось – разве что дон Хуан сидит подле захмелевшего рыцаря, и его шепот, струящийся в уши сэра Тоби, исполнен яда, и без того переполняющего голову старого забулдыги.
Входят ВИОЛА и ФЕСТЕ, ведущие за собой связанного ЖАКА.
Сэр Тоби Белч бросил на новоприбывших мутный взгляд.
– Что еще тут? Уж не привели ли вы на службу своего деда? Или он сам решил, что старческое слабоумие – лучший возраст, чтобы таскать пику? У нас здесь достаточно крепких парней, потерявших зубы в драке. Кто обеззубел естественным путем, тот нам ни к чему!
– Сэр, этот старец – с испанского корабля, потерпевшего крушение, – ответила Виола, приглаживая накладные усы под взглядом сэра Тоби.
– Это правда? – заплетающимся языком проговорил пузатый пьянчуга.
– Крайне нудный старикан, – подтвердил дон Хуан, несомненно, гадая, где могут быть остальные его бывшие товарищи. – Никогда не забуду тех дней среди моря, на одном корабле с ним. Стоит кому-то сказать слово, у него в ответ найдется девять, и все – некстати. Скажите ему, что солнце стоит высоко – он будет разглагольствовать целых двадцать минут, что твой Дельфийский оракул.
– То есть этого за стол приглашать не стоит? – рассудил сэр Тоби.
– Нет, если только вы не желаете изгнать прочь из-за стола всю радость и веселье, – подтвердил Хуан. – Он – просто жалкий осел.
– Однако он может знать что-нибудь о своих друзьях… – начала было Виола, но сэр Тоби тут же оборвал ее:
– Что нам еще нужно знать, когда с нами столь надежный и честный человек? – он с размаху опустил мясистую руку на хилые плечи дона Хуана, и Виола поняла, что все время ее отсутствия этот арагонец прилежно льстил ее родственничку. Тут на старого пьяницу явно снизошло вдохновение – он разразился бурным хохотом. – Бросьте его в темницу к этому негодяю Педро! Если уж он так невыносимо уныл, пусть изводит своим занудством испанского принца!
Фесте искоса взглянул на Виолу, и та кивнула. По крайней мере, двоим злосчастным узникам не придется страдать от одиночества.
Как только верный сержант Виолы вышел за дверь, зал заполнила знакомая неуютная тьма, тени в углах взвились, взвихрились в воздухе, устремились к центру зала и сплелись в мрачную фигуру скотта. Виола отступила на шаг, но скотт не обратил на нее внимания – практически отодвинув ее локтем с пути, он встал перед сэром Тоби.
– Что сделал ты с пленным испанцем? – загрохотал гулкий замогильный голос.
Сэр Тоби подождал, пока слуга не наполнит его кружку, и залпом осушил ее. Перед разговором с призраком он явно нуждался в подкреплении сил.
– Прохлаждается в темнице, как и подобает лицемерному негодяю – или как там аттестовал его этот добрый малый.
– Если он такой негодяй, то почему не повешен? – спросил скотт.
– Мудрая мысль, – согласился дон Хуан. – Прежде кое-кто считал, будто он заперт надежно, но в том, что касается избавления от оков и решеток, он просто-таки маг и волшебник. Как и в перерезании глоток своим пленителям, оказавшись на свободе. А его обещания не стоят ни гроша.
– Гр-ррм… Ну что ж… – сэр Тоби широко взмахнул рукой, едва не угодив дону Хуану по физиономии. – Но дело в том, что один не в меру старательный офицер поспешил сообщить о пленном принце моему кузену, герцогу, и теперь нам остается только дожидаться его высочайшего решения.
Виола кивнула, радуясь собственной предусмотрительности. Идея принадлежала ей, и под отправленным герцогу письмом стояла ее подпись.
– И скоро ли Орсино оторвется от своей поэзии и музыки и соблаговолит ответить? – проворчал древний полководец.
И тут от входа зазвучал новый голос. От неожиданности скотт вскинулся и резко развернулся, потянувшись к кинжалу.
– Орсино не потратил времени ни на один куплет, ни на одну ноту, и даже не приказал писцу написать в ответ сонет! – с этими словами в зал вошел сам Орсино, а следом за ним хлынула целая толпа слуг и прихлебателей. – Какая новость порадовала бы меня сильнее, чем весть о том, что у нас в руках сам арагонский принц?
– Милорд… – сэр Тоби встал, угрожающе пошатнувшись. – Вот этот достойный малый рядом со мной – дон Хуан Арагонский, младший сын, явившийся предупредить нас о коварстве старшего брата. Он советует обойтись с его родичем по всей строгости, а иначе мы пожалеем.
– Странное дело, – сказал Орсино, щурясь на дона Хуана. – Молва гласит, что Педро – человек чести, но о Хуане ничего подобного не слышно.
– Увы мне, как я оклеветан! – напыщенно провозгласил дон Хуан. – Сами видите, злословие Педро шествует впереди меня, пороча его несчастного младшего брата перед всем миром! Язык Педро коварнее жала гадюки, сэр.
В его заверениях вновь чувствовалась очевидная фальшь, и Виола с облегчением отметила, что Орсино они вовсе не убедили.
– Я уже решил его судьбу, – объявил герцог. – Даже если бы благородство его духа не тронуло мое сердце, нельзя забывать о государственных интересах. Участие в этой войне, что тянется месяц за месяцем и губит страну за страной, не приносит Иллирии никакой пользы. Наши крестьяне и ремесленники идут на войну, держа оружие в обеих руках, и зачастую возвращаются домой однорукими, а то и вовсе безрукими калеками. Неубранные урожаи гибнут на корню. Женщины остаются вдовами, а дети – сиротами. Какой-то ничтожный семейный спор среди Медичи о том, у кого больше прав на тосканский трон, превратился в водоворот, втянувший в омут войны всех государей Европы. Обдумав заново все льстивые уговоры и страстные просьбы, подвигнувшие меня ввергнуть в войну и Иллирию, я сожалею о том, что поддался им.
– Ваша светлость, это не по-мужски, – проскрежетал скотт. – Где ваш воинский дух?
– Да, где? – добавил Тоби, неизменно храбрый там, где нет врага. – Война не по ноге, жмет да трет? Так марш, марш вперед, пока не разносится!
– Ты говоришь о войне, словно это сапог, – ответил Орсино. – И я со страхом думаю о том, скольких придется растоптать в прах, пока этот сапог разносится. Я получил известие: в морском бою близ Саленто мой шурин был захвачен никем иным, как арагонцами, подданными дона Педро. Что ж, я буду только рад исполнить свой долг, обменяв их принца на моего родственника.
Виола ахнула, но ее голос утонул в общем ропоте. Ее переполняли смешанные чувства – к ней вернулся страх, с которым она провожала брата на бой, и в то же время она отчаянно гордилась мужем, поступавшим по чести вопреки всему этому сборищу забулдыг, подлецов и чудовищ.
– Как знать, – продолжал Орсино, – быть может, этот жест поспособствует и более долговечному взаимопониманию между нами и противником? Мне сообщили о браке сына Франческо с дочерью Фердинанда. Неужели ненависть между братьями может быть сильнее подобной любви? А что касается меня, я давно сыт этой войной по горло.
Но скотт продолжал настаивать на своем:
– Война – единственная игра, достойная принцев. Неужели ты станешь единственным карликом среди всех правителей Европы и по-бабьи уклонишься от драки? Подумал ли ты о том, как будут смеяться над твоим народом и под какой угрозой окажутся твои рубежи? Путь к возвышению в жизни лишь один: вцепиться в нее зубами, как хищный зверь!
Взгляд Орсино остался невозмутим:
– Но что, если у нее есть шипы? Я видел в вересковых зарослях множество ястребов, погибших оттого, что не смогли выпустить схваченного. Когда пришла война, ты явился ко мне и предложил мне свою мощь, и до сих пор твои ведьмы летают над полями битв в далеких землях, губя солдат противника и наши собственные души. Ты уверял, будто пришел на помощь лишь потому, что наше дело правое, но теперь я начинаю думать, что ты – не благородный орел, каким объявляешь себя, а ворон, падальщик, готовый завалить трупами весь мир, чтоб только прокормиться.
– О, добрый герцог, – вклинился в разговор Хуан, – не думайте, что брат мой сдержит хоть одно из данных вам обещаний. Освободите его – и он перережет горло вашему родственнику, едва ступив на арагонскую землю. Коль вы готовы вступить в переговоры с противником, вот перед вами я, сын Арагона, чье содействие может решить дело миром, если только мой брат не получит свободу и не испортит все, чтоб насолить мне.
Холодный взгляд Орсино обратился на него.
– Не стану препятствовать сэру Тоби, взявшему вас себе в собутыльники – этой казни с вас будет довольно, но не думайте, будто я не слышу змеиного коварства ваших слов, дон Хуан. Теперь пусть мне приготовят комнаты – удобные и прибранные, в коих пристало остановиться если не герцогу, то хотя бы доброму христианину. Я должен написать письмо, которое отправлю в Арагон с доном Педро.
Стоило Орсино удалиться, дон Хуан почувствовал, что больше не способен даже делать вид, будто наслаждается пьяной компанией сэра Тоби. Один раз, один-единственный раз он оказался так близок к тому, чтобы избавить мир от братца и открыть себе путь к арагонскому трону – к мечте, которую фортуна постоянно держала у него перед носом, да так и не уронила ему на колени…
Протиснувшись мимо выдающегося брюха сэра Тоби, он вышел из-за стола и углубился в крепость, чтобы остаться наедине со своими мрачными мыслями.
Иметь такого брата, как дон Педро, означало неминуемо загубленную жизнь. Какие шансы, какие надежды могли быть у него, с рождения росшего в тени человека, приводящего в восхищение всех и вся и битком набитого различными достоинствами? Как мог несчастный Хуан претендовать на честь, благородство и доброту, когда все это было монополией старшего брата? Что осталось Хуану, кроме общества негодяев и умения говорить им то, что они хотят слышать.
Очевидно, Орсино не поддался его лицемерию. Молва называла его ширмой, тряпкой под каблуком мужеподобной женушки, человеком, не способным ни к чему, кроме мечтаний и поэзии. Увы, дон Хуан только что видел перед собой совсем иного человека. Пожалуй, Иллирия находилась в лучших руках, чем он думал, и это оставляло Хуану куда меньше возможностей преуспеть в своих интригах.
Отыскав комнату подальше от шума пирушки, он прокрался внутрь и привалился к стене, прислонив голову к холодному, грубо отесанному камню. Он вовсе не хотел плыть на этом обреченном корабле на переговоры с Просперо, волшебником и герцогом Миланским. Куда охотнее он остался бы дома, снедаемый тревогой о судьбе этого предприятия, предоставив братцу рисковать жизнью перед лицом стихии и старого колдуна. Дон Педро настоял на том, чтобы возглавить посольство к Просперо лично – в знак особой важности дела. Конечно, духи, феи и эльфы Оберона воздержались от вмешательства в войну, но вставшие против Арагона и его союзников армии – включая иллирийскую – выставили в поле впечатляющие количества магов, астрологов и еще худшей чертовщины, не говоря уж о скотте и его проклятых ведьмах. Если бы Просперо вступил в войну на стороне Арагона, хотя бы только обеспечив защиту от вражеских проклятий и чар, это изменило бы весь ход войны. Всей Европе было известно, что в волшбе ему нет равных.
Поэтому в дело и было пущено все, что могло бы привлечь старого волшебника на нужную сторону – страстные просьбы принца, мудрые речи философа, снадобья и чары целительницы… И Хуан, так как Педро не доверял ему настолько, чтобы оставить брата дома.
«Если бы ты, братец, когда-нибудь доверился мне, – подумалось дону Хуану, – возможно, я и не стал бы тебе врагом». Однако дон Хуан был достаточно честен с самим собой, и прекрасно понимал, что это чувство – не более, чем отговорка: он не из тех, кто удовольствуется жизнью в тени другого.
Он сгорбился под гнетом невеселых мыслей, но тут услышал еле различимое бормотание, скорее отдававшееся в камне стены, чем звучавшее в воздухе. В поисках одиночества Хуан забрался в самую глубь крепости, а все слуги были заняты утолением жажды хозяина и его собутыльников. Так кто же мог бормотать себе под нос здесь, в самом сердце здания?
Осторожно выступив в коридор, дон Хуан двинулся на звук, собирая отдельные слова воедино, и вскоре узнал голос скотта. Это заставило его остановиться. Сей мрачный реликт прошлого был не из тех, кто внушает доверие, однако Хуану стало любопытно, о чем кровавый древний монстр может беседовать с самим собой в тиши темной кладовой. Подкравшись поближе, он навострил уши.
– Он не мужчина, – скрежетал замогильный голос. – Орсино – сущее дитя и тряпка. Но ничего. Найдутся другие армии, которым нужна помощь, и другие правители, у кого хватит духу продолжать войну.
В ответ ему зазвучал еще один голос, женский, от которого веяло неприступным величием и холодной, как лед, яростью. Хуан не мог слышать этот голос без дрожи, но в то же время почувствовал в нем ужасную притягательность и понял: зло в этом голосе перекликается со злом в его собственной душе. В тот же миг все иллюзии насчет того, как жестоко обошлась с ним жизнь, рассеялись. Он осознал, что он – всего лишь подлый негодяй и раб этого голоса.
– Разве вечная жизнь и неуязвимость для всех клинков и стрел мужей, рожденных женщинами, дарована тебе затем, чтобы ты отвечал мне: «Не могу»? – требовательно спрашивала невидимая женщина. – Разве власть над моими ведьмами дана тебе затем, чтобы ты пожимал передо мною плечами, разводил руками и лепетал оправдания?
– Орсино не питает любви к войне. Я не могу сделать воина из поэта, – вздохнул скотт с удивительным в нем, почти человеческим разочарованием. – А если поднажать, выйдет то же, что в Датском королевстве – сплошные смерти без всякой цели.
– Порой смерть и есть основная цель, – мрачно заметила женщина.
– И еще… – голос скотта дрогнул. – Я не вижу, что сталось с твоей прислужницей. Она скрылась от моего взора.
На миг сделалось тихо, и Хуан затаил дух. Затем женский голос вновь заговорил – куда медленнее прежнего:
– И от моего, а это дело нешуточное. Но это моя забота. Твои заботы – огонь и меч, и в этом ты оплошал передо мной. Если Педро вернется в Арагон, ты познаешь всю глубину моего недовольства. Если Иллирия прекратит войну – тоже. Сделай свое дело, бывший король Шотландский, и я увижу всю Европу в огне. Я сокрушу их троны, спалю их церкви и утоплю их хваленый свет разума в крови. Мы вернем нашу эпоху, Макбет, эпоху крови и ярости, страха и смерти. Вот цель, ради коей я сберегла тебя, вот моя воля, которую ты должен исполнить. Иначе познаешь крайнюю степень моего недовольства.
С этими словами говорившая исчезла – Хуан не мог этого видеть, но безошибочно почувствовал ее отсутствие, словно нечто вроде разочарования. Каждое слово ее повергало в ужас, но и внушало невольное восхищение. Конечно, в мире было полным-полно дурных людей наподобие Пароля или сэра Тоби, всю жизнь напролет сеющих вокруг себя обиды и оскорбления, угрозы и обман. Но изредка встречались и другие – те, кто искал наслаждения не просто в богатстве, силе и власти, но в злодействе. Именно таков был он сам, именно таких считала своими повелительница скотта, Геката.
Поэтому, вместо того, чтобы убраться прочь и вернуться к скучному веселью обеденного зала, дон Хуан пошел вперед и вскоре оказался в комнате, где было так темно, что он едва смог различить внутри фигуру в доспехах. Однако скотт был здесь. Повесив голову, он размышлял над выговором, полученным от своей хозяйки.
Дон Хуан полагал, что двигается беззвучно, но голова в островерхом шлеме тут же вскинулась, скотт быстро шагнул к нему и ухватил за ворот, заставив подняться на носки. К горлу прижалось холодное лезвие кинжала, и Хуан отчетливо почувствовал, что металл пульсирует, точно живой. Ошибки быть не могло: ритм этого пульса совсем не совпадал с биением его собственного сердца.
– Ты подслушал нашу тайную беседу, – медленно проговорил скотт. – Значит, сегодня мне достанется толика арагонской крови, пусть и не из жил принца.
– Постойте, разве вы не знаете меня? – торопливо заговорил Хуан.
– Знаю. Ты – самый лицемерный и глупый младший брат на свете.
– Так знайте же и то, что я меньше всех на свете заинтересован в возвращении дона Педро на арагонский трон. Знайте: я не из ваших врагов и не из безмозглых пьянчуг сэра Тоби, но из тех, кто вместе с вами восхищается вашей блистательной повелительницей.
Рука скотта чуть опустилась – по крайней мере, воротник перестал сдавливать горло.
– Говори, – велел скотт.
– Вы – муж небывалого могущества, вас защищают столь сильные чары, – зашептал дон Хуан, – так зачем вам повиноваться вздорным приказам Орсино?
– Он здесь хозяин, – пророкотал скотт. – Я здесь – по его приглашению, как ни жалеет он о нем теперь.
– Но что вам подобные мелочи? – воскликнул Хуан.
В ответ скотт вдруг резко толкнул его к стене. Хуан выпучил глаза; кровь застыла в его жилах.
– Я встал на этот путь, убив своего гостя, – сказал древний король. – Да, он был моим королем и моим другом и весьма благоволил мне, но наихудший из моих грехов – в том, что он был моим гостем, а я – хозяином дома. С тех пор мне доводилось убивать детей, стирать с лица земли королевства, ввергая их в войны, не оставлявшие за собой ничего, кроме голода и руин. Я с ног до головы в крови… но никогда не доводилось мне быть гостем, ополчившимся на хозяина дома, – в голосе древнего полководца послышалась едва заметная дрожь, отголосок страха простого смертного. – Быть может, дьявол не сумеет окончательно наложить на меня лапы, пока на мне нет хотя бы этого греха.
Глядя в сумрачное серое лицо под шлемом, Хуан внезапно почувствовал жалость, смешанную с толикой презрения. Неужто даже это чудовищное создание вынуждено так лгать самому себе?
– Но Орсино все еще корпит над своими приказаниями, – заметил он вслух. – Как всякий поэт, он будет писать и переписывать их семь дней и семь ночей. Или, по крайней мере, до завтрашнего утра. Что, если вы тем временем проберетесь в темницы и прикончите Педро своей властью?
Скотт мрачно, задумчиво вздохнул и покачал головой.
– Это лишь половина плана, – решил он. – Орсино прекрасно поймет, что произошло, и тем скорее запросит мира, ибо в нем нет истинной любви к войне, подобающей правителю. А меня и мою повелительницу прогонит прочь за урон, нанесенный чести его дома. Но есть другой путь, о, будущий повелитель Арагона.
Дон Хуан слегка дрогнул под немигающим взглядом призрака, но глаз не отвел.
– Так продолжайте же! В какой стороне лежит этот путь?
– Нет, дона Педро не найдут в клетке мертвым, – провозгласил скотт. – Пусть лучше все увидят, что твои предостережения истинны: пусть ускользнет он из клетки и окажется на свободе. И что же ему делать на свободе, как не поквитаться с самым главным из тех, кто пленил его?
– Но я думал, вы отказываетесь причинять вред хозяину дома.
– Я? Я еще ни слова не сказал о том, что сделаю я. Я унесу твоего брата из темницы, подыщу безлюдную вересковую пустошь и прикончу его там. Я не подниму руки на Орсино. Но ты…
Дон Хуан почувствовал в ладони что-то твердое – тот самый кинжал, что лишь несколько минут назад щекотал его горло. Сквозь кожу, оплетавшую рукоять, слабо пробивался все тот же ужасный пульс.
– Этот кинжал дала мне моя темная повелительница, – благоговейно выдохнул скотт. – Один удар этого клинка принес смерть моему королю, а мне – вечную жизнь в обмен на порицанья и награды смертных. Да, времена подобных мрачных сделок канули в прошлое, однако ты еще успеешь заполучить арагонский трон. Возьми кинжал и им убей Орсино. Стань убийцей хозяина, как я стал убийцей гостя. Оставь у его тела такую улику, чтоб, обнаружив исчезновение Педро, никто не смог усомниться, что это – дело рук твоего брата. Так подстегнем мы к продолжению войны измотанных владетелей Иллирии и Арагона. Так ты получишь корону. Так я верну благосклонность моей госпожи.
Улица в Аполлонии Иллирийской.
Окрестный вид мрачен и скуден: стена гарнизонной крепости, у ее подножья кучами громоздятся пустые бочки и разбитые ящики. Земля под ногами усыпана осколками бутылок – вместилищ основной провизии сэра Тоби. В воздухе – вонь гниющих отбросов: сюда волны жизни выносят все, что осталось от канувших в Лету дней и ночей пропойцы.
Крепостная стена высока и глуха – ни оконца, ни выступа. Все вокруг – в ее тени.
Входят БЕНЕДИКТ, ПАРОЛЬ и ГАНИМЕД.
После столкновения со скоттом они вели разведку куда осторожнее, однако за несколько ночных часов, миновавших с той поры, услышали более, чем достаточно, чтобы освоиться в городе и оказаться здесь, прямо у вражьего порога.
– Верно, львиную долю команды держат на корабле, что стоит на якоре в отдалении от берега, – подтвердил Ганимед, обращаясь к Бенедикту. – Но ваш повелитель – здесь, в этих стенах, а вместе с ним и бедняга Жак.
– А-а, ну конечно же, давайте прольем нашу кровь ради пары оставшихся ему лет, – язвительно сказал Пароль. – Какая досада, что его нет с нами! Он выстроил бы из своих словес такую осадную башню, что мы без труда поднялись бы вон до тех бойниц и пробрались внутрь!
– Если вам не приходит на ум ничего, кроме желчи, лучше молчите, – велел ему Бенедикт.
Пароль насупился и погрузился в молчание. Он очень жалел, что так и не смог избавиться от спутников. Сокровище – после того, как он воочию увидел, каков его владелец – его больше не привлекало. Теперь он думал о мириадах возможностей, открытых в портовом городе для таких ловких парней, как он. Не в последнюю очередь – о бегстве во Францию.
– Говорят, комендант крепости – пьяница, – заметил Ганимед. – А его люди, которых мы видели в городе, держались распущенно и выглядели неопрятно. Слуги неизменно подражают хозяевам во всем, как обезьяны.
– Охрана у ворот несет службу довольно ревностно, – вмешался Пароль. – И не думайте, мундиры Орсино я ни с чем не спутаю. В крепость явился если не сам герцог, то еще какая-то важная особа, и вам, выходит, не повезло. Мимо злодеев, что сейчас стоят в карауле, не проскользнуть.
– И что же ты посоветуешь? Бросить товарища, не говоря уж об испанском принце? – спросил Ганимед.
– Юноша, я видел больше битв, целовал больше женщин и штурмовал больше городов, чем ты провел дней, посасывая мамкину титьку, – сказал Пароль юному лесному стрелку. – Храбростью в атаке никто не сравнится со мной. Но в солдатском ремесле, не приобретя толику жизненной мудрости, до моих лет не дожить. Принц в плену? Так пусть подданные заплатят за него выкуп! Философ? Пусть пользуется одиночеством и оттачивает ум. Нас всего трое, с одним клинком на всех. Нам не пробраться в крепость, а если случайно и удастся, то те, кто внутри, уж позаботятся, чтобы мы не вышли обратно. В лучшем случае – окажемся в плену, в худшем – местной страже придется потрудиться вырыть еще три могилы. К тому же, если нас схватят, сэр Бенедикт, скорее всего, принесет своему пленителю неплохой прибыток, а какого-то арденского пентюха сочтут не стоящим той похлебки, что ему придется скормить. Ну, кто станет платить выкуп за этакую неотесанную деревенщину? Что же до меня… Конечно, все девицы Франции заплачут обо мне горючими слезами, но среди тех, кто мог бы тряхнуть мошной ради моего освобождения, мой кредит, боюсь, исчерпан.
– А что, если переодеться? – предложил Бенедикт.
– Ах, переодеться?! – взорвался Пароль. – О да: доброго утречка, беспощадные иллирийцы, мы, трое путешественников из далекой Московии, желаем аудиенции с вашим лордом герцогом. Возможно, вы слышали, что в нашей стране есть обычай: кто пожертвует лишних пленников пришлым московитам с неубедительным акцентом, тому обеспечена удача во всех делах сроком на один год и один день. Особенно если пленник – испанец королевской крови, такие уж у нас диковинные обычаи! Какой дурак поверит в этакие небылицы? Только тот, кто глуп, как… – увидев взгляды товарищей, Пароль сплюнул. – Тьфу! Даже не знаю, с чем сравнить! И вообще я просто притворялся, что готов помогать вам, пока вы делали то, что нужно мне. Будьте прокляты и вы оба, и ваш философ, и ваш принц! С меня хватит!
– Тогда ступайте, – невозмутимо ответил Бенедикт. – Ищите свою фортуну среди местных городских подонков и всю жизнь помните о том, что бросили товарищей.
Ко всему названному Паролю было не привыкать. Воспользовавшись шансом, он решительно направился к выходу из переулка. В кошельке у него звенело несколько монет, а в городе было полно гуляк и матросов, у которых запросто можно было выманить еще – ведь в запасе у него имелись сотни небылиц о деяниях, которых он никогда не совершал, и о странах, где никогда не бывал. Этого было достаточно, чтобы разжиться едой и выпивкой, а то и подцепить бабенку-другую.
Поглощенный своими грошовыми планами, он едва не наткнулся на Елену.
При виде нее, как всегда, стоящей у него на пути, сердце Пароля оборвалось. Ее роскошные одежды – сплошь в пятнах засохшей морской соли – изорвались в зарослях вереска, ноги были грязны и босы, волосы спутаны. И, конечно же, она была прекрасна. Ее красота не нуждалась в одеждах и украшениях и не могла быть смыта ни одним океаном.
Пароль вспомнил ее, явившуюся ко двору короля Франции – неуклюжую девицу со странными манерами, жадно ловившую каждое слово Бертрама, богатенького дружка Пароля. Но затем она оказалась необычайно одаренной лекаркой, исцелила короля, а Бертрама обвела вокруг пальца и заставила взять ее в жены, ибо это было нужно ей. Со временем она превратила свое искусство врачевания в настоящее волшебство – и все по той же причине: она рассматривала мир с точки зрения собственных желаний и не принимала от него ответа «нет». «Вот это-то, – решил Пароль, – в ней и пугает. Эта женщина всегда обращалась с миром, как подобает мужчине».
Паролю вспомнились их давние беседы и споры – еще до того, как она достигла нынешнего своего положения. В те времена она ему нравилась, хотя и частенько брала над ним верх. С ней можно было скрестить клинок мысли, не опасаясь за свою репутацию при каждом обмене репликами. Но потом она вышла замуж, обрела власть, и, наконец, начала внушать ужас. А он… он так и остался тем же дурнем, каким был всю жизнь, потому что попробовал было вырвать из лап мира то, чего хотел, однако мир сбил его с ног и насмеялся над ним. Казалось, Елена стала взрослой, а сам он так и остался ребенком.
– Дай пройти.
Но командный тон, который Пароль хотел было принять, съежился и увял под ее взглядом.
– Да это храбрый Пароль, – лукаво улыбнувшись, сказала Елена. – Конечно же, ты не бежишь с очередного поля боя?
– От этой парочки безумцев нет никакого толка для того, кто внемлет только голосу разума, – ответил он. – Поэтому позволь мне пройти.
– А вот у турок говорится, что безумцы отмечены господом, – заметила Елена. – Идем, поговорим с нашими боговдохновенными товарищами. Возможно, они окажутся не так безумны, как ты полагаешь.
Пароль собрал все остатки храбрости, какие сумел наскрести, и ответил:
– Я в эту затею насчет спасения принца не полезу. Не желаю играть роль копьеносца в этой баталии. Мне довелось повидать слишком много полей битв, и я прекрасно знаю, что случается с простым людом в столкновениях меж великими.
Рука Елены легла на его грудь. Ее прикосновение потрясло Пароля. Оно заставило на миг страстно захотеть стать тем, кем он мог бы быть – не хвастуном, а храбрецом, не продажным, а верным – словом, тем, кто заслуживал бы ее прикосновения. Ему вновь вспомнились их шутливые перепалки, и сердце пронзило острой, мучительной тоской. «Блаженные дни, – подумал Пароль. – Стоило ли надеяться, что когда-нибудь они повторятся?»
– Нужно ли заставлять тебя? – спросила Елена. – Нужно ли напоминать, что может статься с твоим здоровьем, удачей и мужской силой, если пойдешь мне наперекор?
– Что за заклятье ты на меня наложила? – хрипло спросил он в ответ.
– Пока никакого.
– Что за заклятье выложило передо мной всю мою жизнь, как на ладони? И осветило каждый уголок моей души?
Елена отступила на шаг, убрав руку с его груди.
– Такие чары мне не под силу. Единственный волшебник, способный так зачаровать тебя, – ты сам.
Пароль – враль, трус и плут Пароль – почувствовал, как слезы выступают из его глаз. Он отмахнулся от Елены и, оправдываясь, забормотал, что не спал с тех пор, как был выброшен на берег, что чертовски устал, что в глаз попала соринка, от которой никак не избавиться…
К тому моменту из проулка показались Бенедикт с Ганимедом, успевшие составить некий сумасбродный план. Увидев Елену, они остановились.
– Сударыня, – заговорил испанец, изящно кланяясь, – рад видеть вас живой и здоровой. Вы пришли как раз вовремя, чтоб проводить нас. У нас с Ганимедом сложился отчаянный план спасения наших…
– Нет, – ответила Елена без лишней резкости, но твердо. – План их спасения составила я, и для его осуществления пригодятся некоторые знания и силы, обретенные мною в последнее время, – с этими словами она, в силу никем не понятых причин, вынула серебряную фляжку Бенедикта и помахала ею в воздухе. – Вот это поможет нам проникнуть в крепость, не потревожив стражу у ворот.
Ганимед с Бенедиктом переглянулись, и юноша пожал плечами.
– Придется ли нам для этого переодеваться московитами?
Впервые на памяти Пароля во взгляде Елены отразилось полное непонимание происходящего.
– Н-нет, – неуверенно ответила она.
Ганимед слегка развел руками, словно извиняясь перед Бенедиктом.
– Значит, ваш план лучше нашего, – решил он.
– Тогда на нем и остановимся, – подытожила Елена. – Вы двое пойдете в крепость со мной, – после этого она с устрашающей любезностью улыбнулась Паролю. – А для тебя приготовлена особая роль – та, для которой ты подойдешь как нельзя лучше. От тебя, Пароль, потребуется как можно больше шума. Ты будешь отчаянно врать и хвастать и плести самые красочные небылицы из тех времен, когда ты тянул солдатскую лямку. Ты будешь не рядовым копьеносцем, а трубачом, трубящим победу.
Пароль глубоко вздохнул, чувствуя, что весь его мир балансирует на лезвии ножа.
– Вот эта роль по мне!
– Еще бы. И клянусь: о сохранении твоей жизни я позабочусь не меньше, чем о жизни принца, которого мы должны спасти. Собирайтесь поближе, и я объясню, как все произойдет.
Акт V
Тюрьма в подвалах гарнизонной крепости.
Тюремные камеры устроены в расчете на разгулявшихся матросов либо на купцов, не уплативших в срок подати, но никак не на принцев. Если взглянуть со стороны, тюрьма – это просторный подвал, разделенный на крохотные клетушки решетками.
В одной из камер имеются некоторые удобства: каменный пол застелен половиком, внутри имеется стол, стул, свеча, а также бумага и чернила. После приезда Орсино о доне Педро, по крайней мере, хоть немного позаботились.
В соседней с ним камере нет ни половика, ни стула, однако свет свечи сквозь прутья решетки проникает и туда. Сидящий внутри Жак, по своему обыкновению, пространно рассуждает вслух.
Входит ДОН ХУАН.
Спустившись в темницу, дон Хуан обнаружил, что разглагольствования старого дурня – в полном разгаре. Сидя на твердых каменных плитах, Жак не испытывал ни малейших неудобств. В конце концов, он много лет прожил в Арденском лесу и, несмотря на почтенный возраст, был вовсе не из тех, кто избалован домашним уютом.
– Раздел магической науки номер пятый – о духах воздуха, способных в миг един свершить для мага чудеса такие, что не под силу больше никому. Для этого подлейшие из магов обманом завлекают духов в плен. Но праведный – дарует им свободу и волен к их услугам прибегать. Пример тому – Просперо иль тот мальчик – из лампы джинна выпустивший мавр. Вот так и в нашем мире: есть злодеи, что силы черпают в бессилии других, но любят люди тех, чья сила в правде, тех, кто спасет товарища в беде.
– А Макьявелли пишет в «Государе», что страх есть стимул лучший, чем любовь, – заметил в ответ дон Педро.
Дон Хуан закатил глаза. «Ну неужели ты не можешь хоть немного помучиться перед тем, как скотт прикончит тебя?» – подумал он. Но нет, братец определенно был более чем доволен разглагольствованиями старого буквоеда.
– Увы, сия трактовка популярна, однако ж в корне! – в корне неверна! – забубнил Жак, и дон Хуан решил оставить эту парочку наедине друг с другом. Возможно, он и надеялся покрасоваться перед братцем и позлорадствовать всласть, но, оказавшись здесь, почуял, что это слишком рискованно, да к тому же дон Педро наверняка отыщет какой-нибудь новый способ обратить ситуацию в свою пользу.
– Пусть скотт с ним разбирается, – пробормотал он себе под нос.
Не снимая руки с рукояти кинжала, он прокрался к лестнице и направился наверх, к комнатам, занятым Орсино.
Странным это было делом – расхаживать повсюду, имея при себе Шотландский Кинжал. Куда бы ни пошел дон Хуан, вокруг сгущались тени, укрывавшие его от чужих глаз. Ни стражники, ни слуги не замечали его, любая дверь открывалась перед ним. А стоило сжать в пальцах рукоять… дон Хуан всю жизнь был далек от душегубства, предпочитая ему интриги, достойные похвал самого Макьявелли. Когда без крови было не обойтись, он просто подыскивал для исполнения своих замыслов подходящих людей. Мысль о том, чтобы вонзить клинок в тело Орсино, внушала отвращение – нет, не оттого, что это грех, всего лишь из-за грубости и грязи. Будь его воля, он предпочел бы дырявить чужую репутацию, а не плоть.
Но стоило взять в руку кинжал, орудие Гекаты, толкнувшее скотта на цареубийство – и все сомнения вмиг исчезли. Сжав в пальцах рукоять, дон Хуан воистину стал дерзок, смел и кровав.
А Орсино у себя, наверху, прилежно трудился над письмом, которое собирался отослать в Арагон с доном Педро. Над тем самым письмом, которое вернет дону Педро трон, навсегда лишит Хуана наследства, а у скотта отнимет участие Иллирии во всеобщей резне. И, сколь бы много стратагем ни роилось в голове дона Хуана, все они свелись к одной-единственной, едва лишь пальцы его сомкнулись на рукояти.
Но Орсино был не один: стоявшая у стола служанка вновь наполняла кубок своего господина. Увидев это, дон Хуан замер у двери. «Пей до дна, герцог Иллирийский, – подумал он. – Заглуши боль, пока не поздно».
Загодя разжившись перстнем с печатью, отнятым у дона Педро тюремщиками, когда сэр Тоби велел содержать пленника в строгости, дон Хуан намеревался оставить его у тела герцога. А там скотт уж позаботится о том, чтобы во всеобщем гневе никто не усомнился в достоверности этой улики.
Наполнив кубок Орсино, служанка удалилась по своим делам, и дон Хуан напружинился: время пришло. Никем не замеченный, он вошел в комнату, на миг отпустил кинжал – и ощутил легкий проблеск здравого смысла. Едва Орсино умрет, кровавый Рубикон будет перейден, и он, дон Хуан, зайдет так далеко, что легче будет продолжать путь, чем воротиться назад. Конечно, он не сделается жутким темным властелином из старинных мифов, вроде скотта – как сказал древний воитель, те времена давно миновали, – но превратится в некое его современное подобие, чья власть зиждется на страхе и подозрительности, а душа обречена на вечные адские муки.
«Но перед смертью я хотя бы посижу на троне», – подумал дон Хуан. Это утешение казалось вполне достаточным, и потому он целиком положился на него и вынул кинжал из ножен.
И тут снизу раздался громкий вопль. Поначалу Хуан решил, что это всего лишь Тоби Белч, на которого вновь напал буйный стих, но внизу тут же разгорелся шумный спор, а затем все голоса перекрыл один-единственный – и этот единственный голос от слова к слову звучал все громче и громче…
«Это же тот самый идиот-военный… как его… Пароль?!»
Муза разом покинула поэта. Орсино вскочил на ноги, гневно нахмурился, вихрем пронесся мимо невидимого дона Хуана и устремился вниз – посмотреть, что там за шум. Как, несомненно, и все прочие обитатели крепости, имевшие уши.
Дон Хуан обнаружил, что его бьет дрожь: сама судьба предотвратила роковой удар. Осторожно спрятав кинжал, он тоже пошел вниз. «Ничего, будет и другой шанс, – подумал он, чувствуя, как непомерная жажда власти сдает позиции перед любопытством. – Однако что же там стряслось?»
Внизу, в пиршественном зале, обнаружился Пароль, громогласно излагавший описание какой-то небывалой битвы.
– Что происходит? – негромко спросил дон Хуан, пробравшись к сэру Тоби.
– Этот замечательный малый, – отвечал сэр Тоби, – был вражеским солдатом, но, прослышав о всем известном великодушии Иллирии, решил сдаться нам на милость, как и ты сам. Примчался к нам прямо из-под Лепанто, где, как он говорит, турецкий флот бросил вызов морским силам Венеции.
Герцог Орсино был откровенно очарован рассказом Пароля. Расхаживая по залу вокруг него, он ставил под сомнение каждую невероятную подробность, но на каждый его вопрос у Пароля находилось еще более невероятное объяснение. Зал меж тем неуклонно продолжал наполняться стражниками, придворными и слугами, желавшими тоже послушать сию необычайную историю.
– Добрые сэры, – заливался Пароль, – ведь я стоял прямо по левую руку от величайшего из венецианских полководцев, от самого Моора! Уж он был страшен в гневе! Потеряв на берегу и ногу, и коня, он прыгнул в барку – крохотную, не больше рыбачьей шаланды. Я – за ним! Он велел мне поднять парус, и, хотя венецианские галеры уже устремились в атаку, мы вырвались вперед и пошли во главе их всех – прямо на боевые суда османов!
– Но где же были турецкие пушки? – спросил Орсино. – Любому солдату известно, что их пушки намного превосходят нашу корабельную артиллерию как дальностью, так и точностью боя.
– А как же! Их ответный залп был ужасен! – вскричал Пароль. – Свинец обрушился на нас, точно летний ливень, и целых семь галер в мгновение ока ушли на дно со всеми командами! Но ни меня, ни Моора это не устрашило, и, когда раскаленное, шипящее ядро полетело прямо в нас, бравый Отелло приказал мне ослабить шкоты, чтобы парус надулся, как дублет на брюхе вон у того крепкого малого.
Сэр Тоби возмущенно взревел, но его протест утонул в общем хохоте.
– И затем! – Пароль еще сильней возвысил голос. – Затем я дернул румпель и развернул наше суденышко кормой к врагу! Ядро прокатилось по нашему парусу, развернулось, следуя его изгибу, понеслось назад к туркам и продырявило то самое судно, с борта коего было пущено!
В ответ зал разразился радостными криками. Казалось, даже Орсино забыл о том, что формально турки – его союзники в этой войне.
– Но как же турецкий огонь? – во всеуслышание спросил какой-то академически мыслящий малый. – Общеизвестно, что турецкие корабли способны выдыхать адское пламя, которого даже море не в силах погасить!
– И в самом деле, так оно и вышло, стоило нам приблизиться! Волны вспыхнули так, что…
И Пароль продолжал свой рассказ, отчаянно, громогласно, без оглядки громоздя выдумку на выдумку и не замечая ничего вокруг. Однако дон Хуан обнаружил, что, как ни странно, целиком поглощен небылицами. Почти против собственной воли, он спихнул с места какую-то мелкую сошку, расположившуюся рядом с сэром Тоби, и сел.
Голая сцена.
Ни декораций, ни задников. Освещение ровное.
Откуда-то издали, на грани слышимости, доносится тихий ропот, словно великое множество актеров репетирует роли, каждый – свою.
Входит ЕЛЕНА, ведущая за собой БЕНЕДИКТА и ГАНИМЕДА.
– Что это за место? – спрашивает Бенедикт. – Видал я и пустынные берега, и прочие пустыни и пустоши по всему миру, но такого, да еще в одном-единственном шаге от той аполлонийской улочки…
– Мы – меж страниц книги мироздания, – напряженно отвечает Елена, крепко сжимая в руках серебряную фляжку. – Каждая сцена, каждый миг наших жизней рождается на этих страницах, прежде чем наступить для нас. Мы – там, где никому из нас быть не положено.
– Так зачем же вы привели нас сюда? – шепчет Ганимед, изо всех сил прижимая к себе свой лук.
– Затем, что это место – не просто в одном шаге от покинутой нами аполлонийской улочки. Оно в одном шаге отовсюду – от любого города и лесной чащи, от всех выжженных пустошей, безлюдных островов и губительных прибрежных скал в мире, – встряхнув фляжку, Елена внимательно вслушивается в то, что происходит внутри. – Если только найти нужный выход, я могла бы отвести вас в Египет и потревожить саму Клеопатру, или на римский форум, своими глазами взглянуть, как умер Цезарь. Я могу отвести вас в Венецию, в Верону, в Лондон – в тот кровавый замок, для благородных пэров роковой, или в Эльсинор – нужно только знать, каким путем идти…
– А по-моему – точь-в-точь как фиглярские подмостки, – слегка разочарованно замечает юноша.
– Да, ведь любой театр есть целый мир, – объявляет Елена. – И нас в эту минуту больше всего заботят выходы и уходы. Иными словами, входы и выходы.
– А нет ли здесь выхода в Милан? – спрашивает Бенедикт.
Елена смеется.
– Я ведь сказала, что мы можем шагнуть отсюда в древний Рим, а вы еще спрашиваете о Милане! Да-да, в Милан, но… но… – Елена вглядывается в пространство за кулисами, и ее лицо становится печальным и задумчивым. – Однако, я вижу, там расставлены декорации совсем иной пьесы. Там – комната в башне Просперо в миг его смерти.
– Старый Просперо при смерти уже не первое поколение, – усмехается Бенедикт, но Елена поднимает руку, призывая его к молчанию.
– И все же он достигнет этой неизведанной страны быстрее, чем мы можем достичь Милана, – шепчет она в ответ.
Юный арденец разочарованно стискивает кулак.
– Но ведь мы… Если мы можем попасть во времена древнего Рима, то отчего не пройти во вчерашний Милан?
– Оттого, что вчерашний Милан принадлежит Гекате, а с ней мне не тягаться. Мы сможем увидеть лишь завтрашний Милан, где уже нет Просперо.
– Тогда зачем? Зачем нам это все? – восклицает Бенедикт.
– Ч-шшш, – отвечает Елена. – О Милане подумаем позже. Теперь же сделаем шаг покороче. Идемте в гарнизонную крепость и спасем вашего принца.
– Итак, куда нам? – с готовностью кивает Бенедикт.
Елена снова встряхивает фляжку и сосредоточенно прислушивается.
– Подождите, не мешайте. Конечно, послушать, как Марк Антоний властвует над толпой, было бы прекрасно, однако Древний Рим – не то место, куда стоит попадать по ошибке. А есть и множество путей, ведущих в те места, которых в мире нет.
Ганимед тревожно оглядывается, но любопытство в нем пересиливает страх:
– Это в какие же?
Елена смотрит со сцены – со страницы – прямо на тебя, оценивающе глядит тебе в глаза, подводя итог твоим словам и делам.
– Весьма странные места, – говорит она. – Возможно, я навещу их, покончив с нашими делами. Всегда чувствовала, что стены нашего мира мне тесны. В конце концов, разве я не заслуживаю сцены попросторнее?
Бенедикт дипломатично кашляет.
– Сударыня доктор, нас ждет гарнизонная крепость, – напоминает он.
Елена улыбается в ответ. Ее улыбка заставляет Бенедикта невольно отступить на шаг, но целительница тут же соглашается:
– Да, конечно.
Выбрав выход, Елена уходит со сцены, уводя за кулисы спутников. Перед тем как исчезнуть, она вновь оглядывается на тебя. Впрочем, ее прощальный взгляд столь мимолетен, что это могло тебе и почудиться.
Тюрьма в подвалах гарнизонной крепости.
Сверху доносится ропот публики, которую Пароль продолжает потчевать баснями.
Дон Педро пишет за столом, воспользовавшись бумагой и чернилами, предоставленными ему иллирийцами. В соседней клетке, держась одной рукой за прут решетки, стоит Жак. Вид его задумчив.
Входит МАКБЕТ.
***
– Милорд, к нам посетитель, – сообщил Жак.
Не тон его, но лаконичность заставила Педро вздрогнуть и поднять взгляд. В следующий миг он оказался на ногах, отступая к решетке, чтобы выиграть пространство, и безуспешно шаря у пояса в поисках шпаги.
Меж тем скотт неторопливо приблизился вплотную к клетке.
– Знаешь ли ты меня, дон Педро Арагонский?
– Я знаю: ты – враг мне и всему миру, – подтвердил принц. – Из-за тебя нам пришлось отправиться в Милан, чтобы найти средство противостоять твоей дьявольской силе.
Древний воитель беззаботно махнул рукой.
– О, как много прекрасных планов пошли на дно, стоило им лишь оказаться в море! В конце концов, в мире нет лучших заклинателей бурь, чем мои ведьмы.
– Кроме Просперо, – упрямо возразил Педро.
Скотт хмыкнул, издав гулкий металлический звук.
– Как, разве ты не слышал? Волшебник из Милана мертв уж две недели. Зарезан в собственной башне.
Педро разом обмяк.
– Нет! – простонал он.
Макбет лишь слегка пожал плечами под кольчугой.
– В любом случае это неважно. Твои дни закончатся здесь, ибо я пришел отвести тебя на казнь. Мы с твоим братом уже достигли соглашения: он отвезет вашему народу весь о твоей гибели, и, мстя за нее, арагонцы будут драться в этой войне еще неистовее. И гибнуть на всех полях Европы вместе с остальными.
Латная перчатка Макбета сомкнулась на замке, пальцы его сжались, корежа металл, и дверь камеры с лязгом распахнулась. Одним плавным движением Макбет обнажил ржавый меч.
– Бой – так бой! – воскликнул Педро. – Только принеси мне шпагу, и я встречу тебя лицом к лицу, как подобает солдату.
– Я мог бы принести тебе шпагу, кинжал, мушкет, секиру и даже пушку, – сообщил в ответ скотт. – Но это тебе не поможет. Что бы ты ни сделал, я для тебя неуязвим. Но ты ошибаешься во мне. Разве ты не слышал моей повести? Разве нянька в детстве не пугала тебя ею? Что помнит нынешний ничтожный век о том, кто был Макбетом? Что он был великим душегубом. Посему я убиваю, и буду убивать и впредь. Кровь еще одного человечишки вряд ли хоть сколь-нибудь заметно отяготит чашу весов, если я когда-нибудь предстану перед Страшным судом.
– Постой, но я слыхал совсем иное, – вмешался в разговор Жак. – Твою историю я знаю.
– Что за вздор? – прорычал скотт.
– О вздоре речи нет. Хоть я на грани отпущенных мне дней, мой разум остр, – возразил престарелый философ. – Неужто ты уверен, что «убийца» – все, что осталось в памяти людской? Так слушай! Есть рассказ о полководце, чьи помыслы всегда стремились ввысь, грозе врагов, защитнике народа! Известна также мне другая повесть – о том, кто сбит был с верного пути. Доверившись пророчествам и чарам, он страшно обманулся – и погиб. Но трогательней всех шотландских былей считаю я другую – сказ о муже, что преданно любил свою жену.
– Свою жену?.. – скотт замер, пораженный внезапно нахлынувшими воспоминаниями.
– Давно ли, интересно, ты вспоминал в последний раз о ней? Но люди помнят: ты ценил ее превыше всего на свете. Помнят, как была сильна, как яростна, во всем тебя достойна жена твоя была. И как ушла из жизни.
– Да, ушла… – эхом откликнулся древний воин. – Ушла из жизни…
– Ты не один, в тебе – сто человек, у каждого из них – иная повесть, – мягко сказал Жак. – Жить «душегубом» вовсе ни к чему.
Скотт продолжал стоять на пороге. На что он смотрит – на дона Педро или на направленный на него клинок – понять было невозможно. Долгое-долгое время судьбы всей Европы висели на волоске. Наконец островерхий шлем качнулся, и древний воитель сказал:
– Нет. Я служу повелительнице строгой и жестокой. Что станется со мной, не исполни я ее волю?
С этими словами он шагнул вперед и протянул руку к своей жертве.
Но тут раздался звук – точно хлопанье крыльев стаи вспугнутых птиц или шелест страниц огромной книги – и за спиной скотта прямо из ниоткуда появились Елена, Бенедикт и Ганимед. Споткнувшись, Елена рухнула на пол. Наткнувшись на нее, попадали и Бенедикт с Ганимедом.
Скотт резко развернулся к ним. Увидев и поняв, что происходит, Бенедикт издал боевой клич и выхватил рапиру из ножен как раз вовремя, чтобы отвести удар меча. Изящно развернув кисть, он обошел защиту скотта, и тонкий клинок вонзился в грудь врага, пройдя меж кольцами его кольчуги.
Скотт захохотал. Рука в латной перчатке сомкнулась на гарде рапиры Бенедикта и вырвала оружие из руки арагонца. Не обращая внимания на торчащий из груди клинок, скотт развернулся к арагонскому принцу и взмахнул мечом, но Педро, прыгнув на него сзади, помешал ему нанести удар. Взревев, древний воин отшвырнул принца и встряхнулся.
– Что ж, неважно, умрешь ты где-то еще или прямо здесь – я убью и тебя, и всех прочих!
Елена, успевшая разжиться осколком камня, безуспешно пыталась нацарапать на каменном полу круг. Ганимед встал поодаль и натянул лук, нацелив на скотта свою единственную стрелу.
– Ни с места, чудовище, – предостерег он. – Вложи меч в ножны, или я проверю, не разит ли моя стрела надежнее, чем клинок Бенедикта.
Ответом ему был презрительный хохот.
– Людской закон мне жалок и смешон, – напомнил юноше скотт, – ни один муж, что…
– …женщиной рожден, да-да, – согласился Ганимед. – Только пророчество это несколько двусмысленно, тебе не кажется?
– Оно сбылось и продолжает сбываться уже пять с лишком сотен лет, – объявил скотт.
– «Будь смел, кровав, презри людской закон – ни один муж, что женщиной рожден, Макбету не опасен», – процитировал юный лучник. – Но относится ли это ко всем вообще, или только к «мужам» – к тем, кто наделен мужской силой?
Скотт угрожающе шагнул в сторону юноши.
– Какая тебе разница, недоросль?
– Разница всего лишь в том, что во мне нет и никогда не было мужской силы, – объяснил Ганимед. – Мое настоящее имя – Розалинда. Я – женщина.
Макбет умолк и замер неподвижно.
– Вот как? – недоверчиво спросил Бенедикт, отступая к Елене: в подземелье спустились двое иллирийцев – те самые, что так ловко провели всю компанию в таверне.
Но Ганимед – или же та, что носила это имя – не сводила взгляда со скотта.
– Я – Розалинда де Буа, хоть об этом и не знал никто на борту, кроме этого старика, – объявила она. – И то, что тебе напророчили, я понимаю так: неуязвим ты лишь для мужской силы. Желаешь оспорить мое толкование – сделай еще шаг, и моя стрела рассудит, кто из нас прав.
– И мой клинок, – добавил младший годами гвардеец, обнажив меч и встав рядом с Розалиндой. – Ведь я – Виола, герцогиня Иллирийская, и мне доподлинно известно, что мой супруг даровал этим пленникам жизнь и свободу.
Трижды скотт напружинивался, готовясь испытать свою неуязвимость, и трижды его пыл угасал. Быть может, ему, прожившему пять столетий, ничего не боясь, слишком давно не приходилось испытывать свое мужество. Теперь случай, наконец, представился, но оказалось, что оно давным-давно проржавело и рассыпалось в прах.
– И знай, – добавила Розалинда, видя его колебания, – что с сего дня на каждом поле боя, куда упадет твоя тень, тебя будет ждать девушка с мушкетом. Сим объявляю твое кровавое владычество достоянием прошлого!
Взревев в бессильной ярости, древний полководец вскинул руки и исчез, окутавшись тенями, собравшимися к нему из всех уголков подземелья. Стрела Ганимеда свистнула в воздухе, но только раскололась о каменную стену напротив. Скотт исчез.
С его исчезновением все облегченно вздохнули, но Бенедикт тут же заговорил:
– Он унес мою рапиру. Сударыня доктор, можете ли вы вытащить нас отсюда так же быстро, как только что убрался этот скотт?
– Нет. Мне требуется время для расчетов, – строго ответила Елена.
Виола вложила меч в ножны и переглянулась с Фесте.
– Один лишь дурень-шут сообразил: тот клоун наверху – лишь для отвода глаз, – отметил ее сержант. – Но даже этот старый шут не думал, что он способен отвести глаза столь многим. Чей такой?
– Мой, – отвечала Елена, не сводя взгляда с Виолы. – Итак, позвольте узнать, какова теперь будет воля Иллирии?
Пиршественный зал в гарнизонной крепости.
Воздух сотрясается от хохота, криков и аплодисментов. Все внимают Паролю – тот ходит гоголем, фиглярствуя в урочный час на сцене. Сэр Тоби, от смеха не в силах удержать во рту эль, то и дело прыскает им в бороду. Орсино лихорадочно трудится над куском пергамента, пытаясь сохранить небывальщину Пароля для потомства. Дон Хуан выступает в роли строгого критика.
Входит целая компания – ВИОЛА с ФЕСТЕ, РОЗАЛИНДА с ЖАКОМ, БЕНЕДИКТ с ДОНОМ ПЕДРО и, наконец, ЕЛЕНА.
Пароль все еще продолжал рассказ о своих небывалых подвигах в битве при Лепанто. За это время он успел и прокатиться верхом на пушечном ядре, и вытащить самого себя из воды за волосы… Каждый слушатель пытался бросить вызов его вракам – и каждого Пароль поверг, чтобы, взобравшись на груду тел поверженных, достичь еще больших высот абсурда. Куда могли бы зайти его выдумки, если бы не появление товарищей, оставалось только гадать. Он был из тех, кто, разжившись веревкой, отнюдь не спешит повеситься, но вместо этого плетет лестницу до самой луны.
Запнулся он лишь при виде своих спутников, и в зале воцарилась мертвая тишина: уши каждого с нетерпением ждали продолжения.
Тишину нарушила отрывистая команда Виолы:
– Стража! Взять этого арагонского злодея дона Хуана!
Стражники повиновались не сразу, но сам дон Хуан, услышав свое имя, тревожно оглянулся и увидел брата. Тот вновь был на свободе, и взгляд его не сулил дону Хуану ничего хорошего. Возможно, приняв самоуверенный вид и нагло отперевшись от любых обвинений, он смог бы вновь втереться в доверие к дону Педро, но на сей раз смелость изменила дону Хуану. В мгновение ока он вспрыгнул на стол, ударом ноги отправил кружку сэра Тоби с опивками в сторону Орсино, соскочил на пол по другую сторону стола и метнулся к выходу.
Но тут Пароль, наконец-то оказавшись лицом к лицу с противником, победа над которым не требовала особой храбрости, сделал ему подножку, и младший из наследников арагонского трона распростерся на полу. Пока дон Хуан плевался и сыпал проклятиями, его обидчик склонился над ним и аккуратно освободил его от кошелька и, дабы отвлечь внимание многочисленных свидетелей от столь наглой покражи, также и от кинжала. Так и сбылось пророчество случайного собутыльника: сокровище, способное управлять судьбами мира, попало в руки самого заядлого в мире враля.
К этому времени и иллирийские солдаты пришли в движение и навалились на дона Хуана грудой, окончательно пресекая его попытку к бегству.
Орсино бросил гневный взгляд на юного офицера, отдавшего столь неожиданный приказ.
– Измену ль вижу? Кто настолько дерзок, что пленных моих выпустить посмел? Кто учинил насилие над гостем?
– Та, в чьей власти ты клялся вечно быть, – ответила Виола, выступая вперед.
Узнав жену, Орсино улыбнулся ей навстречу.
Не меньше часа герцог выслушивал рассказы обо всем, что произошло – порой совпадающие, а порой и противоречащие друг другу, – от собственной супруги, от старого шута, и от каждого из пленников. После этого он изгнал прочь из зала всех, кроме Виолы, не пощадив и шумно протестовавшего сэра Тоби, сел и задумался.
– Вот каков будет приговор Иллирии, – объявил Орсино, вновь призвав к себе всю пеструю компанию.
Он восседал за столом, прямой и строгий, словно судья. Слева от него обвис в кресле полупьяный сэр Тоби, справа сидела Виола. По такому случаю она облачилась в платье и выглядела, как и подобает герцогине. Ее красота и пышность ее наряда приковывали к себе все взгляды. Одна лишь Розалинда, глядя на нее, думала: «Она же ждет не дождется возможности сбросить с себя все это, вновь натянуть бриджи и вернуться к прежней роли!» Сама Розалинда неизменно отвергала все предложения снова влезть в вериги женского платья. И, если это и наносило ущерб достоинству семейства де Буа, по крайней мере, муж ее прекрасно понимал.
Пароль пребывал в чудесном расположении духа – он провел целый час, досказывая свою повесть сэру Тоби и его собутыльникам, на чем изрядно разжился золотом и элем. Бенедикт был рад спасению своего принца, а Педро – исполнен оптимизма в предвкушении свободы. Дон Хуан в сопровождении стражи, сгорбившись, стоял позади и злобно поглядывал на окружающих исподлобья. Розалинда успела кое-что узнать о нем от Бенедикта и не сомневалась в том, что вскоре старший брат снова простит младшего. Впрочем, сожалеть об этом ей, супруге младшего из наследников, вовсе не хотелось.
Жак с головой ушел в раздумья. Начни он пространными пятистопными ямбами рассказывать всем и каждому, каких высот мысли достиг, она сказала бы, что он вновь стал самим собой. Но Жак, очевидно, все еще размышлял над печальной историей древнего шотландского воина – нечасто философу доводится столкнуться нос к носу с таким осколком ушедшей эпохи. Да, в свое время он, несомненно, еще удостоит товарищей рассказом обо всем, что думает по этому поводу, но пока что он был на редкость немногословен.
И, конечно же, Елена… Но нет, ее Розалинде не удавалось однозначно классифицировать и разобрать по косточкам. Волшебница, целительница, способная ходить меж миров, она стояла за спинами спутников неподвижно, величественно, словно король и ферзь в одном лице, тогда как прочие – не более чем пешки. Конечно, именно она расставила всех по местам и добилась победы, однако ее растущая сила внушала страх. «А был ли нам вообще нужен Просперо?» – подумалось Розалинде.
– Я всем вам дарую свободу, – провозгласил Орсино, – но при одном условии. Вы, сэр, – обратился он к дону Педро, – оставите свой изначальный замысел, но вместо этого сядете на корабль, отправитесь обратно в Арагон и там распорядитесь освободить Себастьяна, брата моей супруги. Взамен я отдаю вашего брата под ваше попечение. Судить его я не стану, ибо главный свидетель свершенных и несвершенных им поступков скрылся в стране мрака.
– Да. Хоть я и возлагал надежды на наше посольство в Милан, – согласился дон Педро, – похоже, наше предприятие потерпело крах, еще не начавшись. Посему принимаю ваше условие с благодарностью, – он хлопнул Бенедикта по плечу. – Что ж, тем раньше ты увидишься с женой! Надеюсь, за время разлуки ты успел пополнить запасы остроумия?
– И отвезите в Арагон мое письмо, – добавил Орсино, жестом повелев передать дону Педро свиток. – Иллирия устала от этой войны и предлагает условия, на каковых готова выйти из нее. Пусть судьба тосканского трона решается в Тоскане. Передайте это письмо арагонскому альянсу, и, быть может, вашим союзникам не придется сожалеть о том, что вам не удалось достичь Милана.
Во время общего праздника, последовавшего за объявлением решения Орсино, Пароль окончательно пришел в доброе расположение духа. Ему предстояло зимовать в солнечном Арагоне, и это было куда лучше, чем невесть сколько времени торчать в мрачной башне миланского волшебника. Молва о том, что там творится, гремела по всей Европе. Мельницы слухов без устали крутились, перемалывая в муку рассказы о статуях, что говорят и ходят, о ветерках с человечьими лицами, о тайном городе, где полным-полно бестелесных голосов, блуждающих огней и прочих ужасных чудес.
Но, стоило Бенедикту с Педро отойти в сторонку, чтобы обсудить возвращение домой, Елена придвинулась к Паролю, ведя за собой Ганимеда – вернее, Розалинду – и Жака.
– Пусть испанцы бегут домой и там грызутся из-за войн и пленных, – негромко сказала она. – Нас ждет Милан.
– Туда нам не найти судов попутных, – предупредил ее Жак. – Хотя все ветры…
Елена подняла руку, обрывая его на полуслове.
– Чтоб достичь Милана, не нужен нам ни ветер, ни корабль.
– Но чего мы этим добьемся? – вмешалась Розалинда. – Просперо мертв и от союза с нами далек, как никогда.
Елена пожала плечами.
– Но каких плодов вообще можно было ждать от нашего путешествия? Старик Просперо много лет пренебрегал политическими дрязгами соседей; не думаю, что нам удалось бы склонить его вмешаться на сей раз. Но в его опустевшей башне наверняка остались книги и множество магических вещей. Быть может, ученая дама, которой хватит знания и силы, найдет там много ценного. Пойдете ли вы со мной?
– Увидеть тайный город чародея? Конечно! – поспешил ответить Жак.
Помедлив, Розалинда тоже согласно кивнула.
– Детей и хозяйство вполне можно поручить заботам мужа еще на несколько месяцев, – решила она. – Моя жажда странствий еще не утолена.
И тут холодный ясный взгляд Елены, конечно же, обратился к Паролю. Он тут же вспомнил тот миг озаренья у крепостной стены, ту вспышку воспоминаний о давно ушедших временах… С тех пор он и сам отнюдь не был безгрешен, а тому, во что превратилась Елена, не мог даже названия подобрать…
Но в то же время кого, как не ее, он мог бы назвать старым другом?
– Что ж, имущества у меня дома, в Руссильоне, всего-то ничего, зато долгов – выше крыши, – сознался он с несвойственной ему откровенностью. – А в Милане полным-полно тех, кто не знает ни моих историй, ни моих пагубных пристрастий. Но сможешь ли ты после отвести меня обратно в Иллирию?
– Если твоя тяга к странствиям столь скудна, будь по-твоему, – согласилась Елена. – Но у меня к тому времени, несомненно, появятся еще более грандиозные амбиции. Возможно, я отправлюсь в те страны, о которых не мечтал и сам Просперо, – с этими словами она протянула Паролю руку, но вовсе не затем, чтобы скрепить уговор рукопожатием. – Раз уж так вышло, кошелек дона Хуана можешь оставить себе, но кинжал его должен быть у меня.
– Кинжал? Какой кинжал? – Пароль наморщил было лоб, но его тут же озарило. – Вот этот? – вытащив тускло поблескивающий клинок, он недоверчиво уставился на него. – Это… тот самый кинжал?
На миг Пароль почувствовал, как тьма струится в его душу: кинжал наготове, а рядом, лишь руку протянуть, столько людей… Но среди великого множества его грехов и пороков греха убийства не бывало никогда. Он молча отдал кинжал Елене. Какой бы ценностью ни обладал этот клинок, Пароль был искренне рад избавиться от него.
Елена взвесила кинжал на ладони.
– Я кое-что видела, когда мы оказались меж миров. Знаете, откуда в нем такая сила? Он не отсюда. Один поэт, фигляр и мим переправил этот кинжал, запятнанный кровью, из своего мира к нам одной лишь силой слова. Вот как сильна была его печаль о друге, – с этими словами она спрятала кинжал. – Теперь держитесь ближе, – предупредила она, выуживая из-под накидки серебряную фляжку. – Сегодня – в Милан нашего мира, – взгляд ее устремляется со страницы прямо на тебя. – А завтра, глядишь, встретимся в твоем.
В ночь двенадцатую
О дух любви, как свеж ты, как ты жив!
Как океан, ты принимаешь все,
Но что ни попадет в твою пучину,
Каким бы ценным ни было оно,
Всю ценность безвозвратно потеряет.
Любовь так преисполнена мечтаний,
Что истинно мечта – одна любовь[28].
В ночь первую
25 декабря 1601 г.
Первые признаки надвигающейся катастрофы возникают среди ночи, в день праздника в память о рождении твоего бога.
Ты пробуждаешься от теплого, бездонно глубокого сна, разбуженная громким и резким звуком наподобие барабанных раскатов грома, предвещающего начало грозы, или лязга оружия и лат на далеком поле битвы. Этот звук безжалостно приводит тебя в чувство, принося с собой ту самую нежеланную полночную ясность мысли, ту самую тягу к бесконечному самокопанию, что наступает, когда весь мир, кроме тебя, погружен в дрему.
Первая мысль – о том, что шумел муж, твой супруг вот уж двадцать с лишком лет, тот, кто сейчас спит у тебя под боком, краснолицый, небритый, пивное брюхо выпирает из-под одеяла, пивной дух рвется наружу изо рта; его вольготная поза говорит о животном довольстве жизнью, а склонность громко храпеть по ночам (вначале послужившая даже причиной небольшого скандала) известна тебе еще с тех нескольких долгих и насыщенных месяцев, что предшествовали венчанию в церкви, проходу меж рядов и хоть какому-нибудь публичному признанию вашей любви. Поначалу ты едва замечала ее, но за десятки прожитых вместе лет привыкла ко всем звукам мужнина сна – к их шумным ритмам, зубодробительным крещендо и монотонным длинным пассажам, не говоря уж о печальной зависимости их громкости от количества и крепости выпитого накануне.
Однако на сей раз твои обвинения несправедливы, ибо сон мужа если и не совсем беззвучен, то хотя бы спокоен и тих – с уст его слетает разве что тихое, мерное сопенье. Ты садишься, кутаешься в одеяло, так как ночь холодна и отнюдь не нежна, и прислушиваешься.
Звук повторяется. Нет, это не в спальне – шум доносится снизу, источник его вне поля зрения. И это, несомненно, настойчивый стук во входную дверь. Стук в дверь. Заполночь. И этот стук немедленно внушает тебе только худшие – самые худшие на свете – предчувствия.
На миг ты замираешь в постели. В голове полным-полно старых сказок о природе неожиданных звуков, слышанных еще в детстве у домашнего очага небывальщин о стучащих духах, о гостях из чистилища, о зловредных домовых-боггартах, о безымянных ходячих ужасах, о странных пророках и о пришельцах из мира, что лежит за гранью смерти. Но, конечно, будучи женщиной здравомыслящей – правду сказать, известной (если не славящейся) в этом маленьком городке за крепостной стеной своей твердолобостью и тупой практичностью, – ты отбрасываешь прочь все эти глупости, нежно, но настойчиво тычешь мужа в мягкую и обширную область, что спускается от грудной клетки вниз, и шепчешь:
– Уильям? Уильям?
Твой лучший друг, отец твоих троих детей и (с неуклонно убывающей, но не особенно огорчительной частотой) твой любовник, недовольно мычит, вздрагивает и отворачивается к стене; каждое его движение по-медвежьи неуклюже. Но опыт долгой совместной жизни давно приучил тебя к его довольно скромным недостаткам; ты лишь вздыхаешь с показным раздражением, надеясь, что он слышит твой вздох сквозь сон, и от этого становится легче. Рядом с твоим изголовьем – подсвечник, свеча в нем превратилась в крохотный огарок, но все еще горит. Должно быть, ты не удосужилась задуть ее перед сном, как будто ждала этого полночного визита, как будто загодя откуда-то знала о нем.
Дотянувшись до мерцающего неровным светом огарка, дрожа от холода, ты выбираешься из постели, плотнее закутываешься в ночную рубашку и осторожно выходишь из спальни. В доме тишина, все дети спят, и кажется, что ночь исполнена того самого закостенелого деревенского покоя, неизменно напоминающего тебе детство – суровую лесную тишь, строгие шеренги недремлющих дубов и ясеней.
Лестница по пути вниз скрипит под ногами, будто ворчит на тебя за то, что ты не спишь в столь поздний час, да еще имеешь наглость шляться по земле в эту святую ночь. Ворчит, а еще, пожалуй (так думается вдруг в новом приступе суеверного страха), предостерегает, призывает повернуть назад, улечься в постель, зарыться носом в подушку и не обращать внимания на зловещее и беспардонное полночное вторжение. На миг ты даже начинаешь колебаться – а не послушаться ли? – и замираешь на предпоследнем лестничном пролете.
Ты помышляешь об отступлении – не предпочесть ли трусость встрече с неизвестностью? Но ты есть то, что ты есть, и колеблешься лишь мгновение. Ты идешь вперед, прямо к входной двери, делая единственно разумный в твоем понимании выбор, и тем приводишь в движение череду событий, которые распорют и перекроят на свой лад все, что ты любишь.
У порога твоего дома – незнакомец.
По крайней мере, поначалу он кажется незнакомым. Но если приглядеться… в нем есть что-то знакомое – что-то ужасно, пугающе знакомое – в чертах лица, в неожиданно умном взгляде, в его горячности (успевшей забыться за десять с лишком лет), в решительном, медвежьем разрезе губ.
Малый этот высок ростом, небрежно одет, экстравагантно оброс бородой. В нем есть что-то от дикаря, что-то от нищего попрошайки, но более всего – так думаешь ты, окинув этот призрак настороженным взглядом – от властителя дум, пророка, мудреца, того, кто спустился с гор со скрижалями в руках, того, кто наделен знанием.
– Энн? – говорит он, и, к немалому твоему удивлению, стоит ему всего-навсего произнести твое имя, на глаза его наворачиваются слезы.
– Разве мы знакомы, любезнейший? – спрашиваешь ты с надменностью, которую традиционно держишь наготове для лоточников, разносчиков и бродяг всех мастей – для всех, кто имел неосторожность явиться в дом Шекспиров без приглашения, да еще в столь неподобающий час. – Где мы могли встречаться?
– Прости, моя милая Энн. Прошу, не обращай внимания на мою фамильярность. Я и не думал, что встреча с тобой породит во мне столь огромную волну печали.
– Кто вы? – спрашиваешь ты. – Что вам здесь нужно в такой поздний час? Весь Стратфорд почивает в своих постелях, и вам бы, по всем правилам, тоже следовало почивать. Судя по вашему виду, сэр, где-нибудь в канаве или в лесу под кустом. Подальше от глаз приличных людей.
Незнакомец грустно улыбнулся.
– О, твой язычок, как всегда, остер. И ум – также.
– Вы говорите так, сэр, будто мы с вами – давние знакомые. Однако ж я, боюсь, никак вас не припомню.
– О, Энн, милая Энн! Что за горчайшая из встреч! Я совсем не таков, каким ты меня знала, и к этому я был готов. Но неужели во мне нет хоть чего-то – чего-то, что узнает твое сердце? Того, что взывает к тебе из прошлого – или из будущего?
Ты морщишь лоб, сомневаясь, разумно ли хоть самую малость раскрывать душу перед этим возмутительным незнакомцем, но тут же, сама не понимая, отчего, отвечаешь:
– Возможно… да, пожалуй… думаю, есть что-то знакомое в чертах вашего лица, сэр…
Стоящий на пороге кивает, словно благодаря неизвестно за что.
– Этого вполне довольно. Приятно слышать. Что ж, сударыня, у меня есть сообщение для вашего мужа. Для Уилла.
– Правда, сэр? Но кем вы ему доводитесь? Меж вами есть некое весьма отдаленное сходство. Хотя, если вы ему и родственник, то очень и очень дальний.
– Нет, сударыня, я ему не родственник. По крайней мере, не совсем.
– Я вижу.
– Думаю, пока еще не видите.
– Вот как? И неужто ваше сообщение настолько спешно, что его нужно передать хоть среди глухой ночи, но непременно сегодня?
– Передайте ему… – говорит незнакомец, и в это время в его внешности что-то неуловимо меняется. Требуется несколько секунд, чтобы понять, что именно. Внезапно он становится прозрачным, бестелесным. – Передайте ему: Гильдия идет. Передайте: пустота сочится сквозь переплет миров, и он, Уилл Шекспир, в самом сердце событий.
Ошеломленная стремительностью и полной необъяснимостью его слов, ты медленно делаешь вдох и пытаешься подвести итог ночному вторжению:
– Ваши речи странны, сэр. Более чем странны.
Человек на пороге становится еще прозрачнее и бесформеннее, словно призрак на крепостной стене.
– Ваше сообщение, – настаиваешь ты. – Что оно значит?
Незнакомец моргает, делается еще прозрачнее, еще бестелеснее, начинает мерцать и искриться, точно на самом деле его здесь вовсе нет, и тебе кажется, что причиной всему этому – мимолетное движение его век.
– Оно означает… – голос его тоже слабеет, словно ночной гость уходит все дальше и дальше. – Оно означает, что все мы в наихудшей из опасностей. Мы в осаде, нам угрожает полное и окончательное уничтожение.
– Сэр! – поспешно восклицаешь ты. – Сэр, вы с каждым мигом утрачиваете облик. И голос ваш звучит тише и тише. Скажите, кто вы? Вы из Чистилища или из куда более мрачных мест?
– Гильдия, – говорит он, оставляя твой вопрос без ответа. – Передайте мужу: он нужен Гильдии. Скоро за ним придут.
Он продолжает мерцать, постепенно тает в воздухе. «Совсем как блуждающий огонек, – думаешь ты. – Точнее, как отражение в пруду, разбитое брошенным в воду камнем».
– Кто вы? – вновь спрашиваешь ты. – Кто вас послал? Что вам на самом деле нужно от меня?
Незнакомец склоняет голову и снова – в последний раз – печально улыбается.
– На все три вопроса ответ будет один, – отвечает он.
Следует пауза – нарочитая, совершенно неуместная сценическая пауза, наводящая на мысли о второразрядном актере.
– Твой муж, – отвечает он наконец, взглянув тебе в глаза.
Едва произнесен последний слог, незнакомец пропадает окончательно – исчезает из этого мира, будто никогда не принадлежал ему. Ты остаешься на пороге, дрожащая от ночного холода, в испуге, в тревоге, исполненная неослабевающего липкого ужаса.
В ночь вторую
26 декабря 1601 г.
Ты просыпаешься, если судить по свету за окном, ближе к середине утра – на несколько часов позже, чем проснулась бы по собственной воле или просто в силу привычки. В постели ты одна. Уильяма нет.
Разом нахлынувшие чувства более всего похожи на панику. Ничего подобного ты не испытывала с тех пор, как дети были маленькими: твой дом, твое небольшое королевство больше не подвластно одной лишь тебе. В твоей крохотной вселенной возник новый элемент – некая мерзкая злая стихия.
Стоит тебе осознать, что ты совершенно не помнишь, как вернулась прошлой ночью в постель, откуда-то снизу доносятся звуки оживленной беседы. Прислушавшись, ты различаешь три голоса. Один – брюзгливый, несколько скандальный и вместе с тем смущенный – ты тут же узнаешь: так звучит голос твоего благоверного в один из тех моментов, случающихся время от времени меж любых супругов, когда он вынужден взглянуть в глаза какой-то неприятной правде. Два других голоса тебе незнакомы, но оба они полны трагического, тревожного надрыва. Столь бесцеремонное нарушение обычного жизненного уклада тебе ничуть не нравится. Спокойная, однообразная жизнь словно бы перевернулась вверх тормашками под хитрым, злокозненным напором чего-то пышного и чудно́го.
Ты поспешно встаешь, вновь запахиваешься в ночную рубашку и торопишься вниз, поприветствовать незваных гостей.
Приблизившись к дверям в комнату, где собрались трое заговорщиков – однако как же поразительно быстро и неотвратимо это слово, это определение пришло тебе в голову! – ты слышишь фразу, которая еще сильнее обостряет сосущую тревогу в груди, уверенность в том, что неведомая беда вот-вот появится на горизонте.
– Кинжал, что здесь пылился не у дел, отныне в лапах скотта.
Странность этих слов, произнесенных именно в таком порядке, холодная обыденность, с которой они были сказаны – не мужем, но одним из чужаков, незваным гостем, – ввергает в страх и заставляет тебя замереть на месте. На первый план немедленно выходит мысль о том, что все вы – и ты, и твои дети – смертны.
Ты делаешь тихий вдох в попытке вновь обрести равновесие. Разговор в гостиной разом затихает.
Быстрые шаги внутри – и дверь распахнута.
Перед тобой – напуганный, встрепанный, без малейшего следа того сытого довольства, живым воплощением коего он был всего лишь несколько часов назад – появляется муж.
За его спиной видны гости, стоящие по обе стороны от очага, словно часовые. Ни того ни другого ты не знаешь, однако в обоих чувствуешь нечто необычайно знакомое. Оба носят бородки, оба богато одеты. Один чем-то похож на паяца, другой – на ученого мужа. Но тебе позволяют взглянуть на обоих лишь мельком. Муж поспешно затворяет за собой дверь, запускает пятерню в редеющие волосы – этого жеста мучительной тревоги за ним не замечалось со времен долгой болезни, поразившей Хемнета полтора года назад – и говорит:
– Любовь моя, боюсь, у меня мрачные новости.
Напуганный, он всегда говорит в такой возвышенной манере, словно ища утешения в витиеватости выражений.
– Грядут судьбоносные события, любимая. События, что потрясут наш мир до самых основ.
– Что ты хочешь сказать? – с легким раздражением спрашиваешь ты. – Что происходит, Уильям? Кто эти люди, и что им нужно от нас?
– Они… – он осекается, собирается с мыслями, утирает вспотевший лоб. – Это наши союзники.
Ты снова спрашиваешь, что он хочет этим сказать, но в ответ муж лишь качает головой.
– Большего я сказать не могу. Они взяли с меня клятву хранить тайну, и я поручился в том своим словом.
– Они знакомы тебе, дорогой? Ты как-то связан с ними?
– Да, мы знакомы. И связаны друг с другом. Связаны крепчайшими из уз. Хотя до сегодняшнего дня я никогда не видел их.
– Тогда что все это… Что им нужно? Ты каким-то манером попал под их власть?
– Любовь моя, я должен уйти.
– Что? Ты должен уйти? Зачем? С ними?
– Да.
– С чужими людьми?
– Они не совсем чужие. Как я уже говорил. Не совсем.
– Но куда ты пойдешь? И когда вернешься?
– Не могу сказать. На эти вопросы у меня нет ответов.
– Но ты же должен… Нет… Не можешь же ты бросить нас так внезапно.
– Я вовсе не бросаю вас, любимая. Прошу, поверь мне на слово. Все наоборот: то, что я делаю сейчас, я делаю во имя тебя и во имя наших детей – Сьюзен, Джудит и Хемнета. Нам предстоит великое сражение, и я… и я, так сказать, зачислен в ряды сражающихся.
От этой жуткой неожиданной новости щиплет глаза, и слезы застилают взор.
– Но ты же не солдат, дорогой! Ты и шпаги никогда в руках не держал. На поле боя тебе не прожить и минуты.
– На свете есть иные поля сражений. Иные виды войн.
– И тебе необходимо идти? В самом деле?
– Я должен. Ради всего, что мы создали вместе, я должен идти. Пожалуйста. Ну, отчего ты мне не веришь? Неужели я когда-нибудь давал тебе повод не доверять мне?
– Нет, – отвечаешь ты. – Нет. Конечно же, нет. Я всегда была самой счастливой из женщин.
– Благодарю тебя.
– Но… твоя одежда… И нужно же хоть харчей тебе в дорогу собрать.
– Нет времени, любовь моя. Времени не осталось совсем.
Уильям склоняется к тебе и целует тебя в губы с тихой и искренней страстью, какой не проявлял уже много лет, и в этом поцелуе ты вновь чувствуешь всю истинную силу его любви.
Он отстраняется, и ты вновь изо всех сил стараешься понять, что происходит.
– К нам приходил человек, – говоришь ты. – Явился прошлой ночью к нам на порог. Он говорил о какой-то катастрофе. О том, что приближается что-то ужасное. Он – тоже часть всего этого, верно?
Муж удивлен – удивлен, однако для него эта новость не оказалась совсем уж неожиданной. Значит, он понимает, что творится; он что-то знает обо всех этих событиях – и, конечно же, гораздо больше, чем рассказал тебе.
– Уильям, что за гроза собирается над нами? Что за беда нас ждет?
– Молчи, – отвечает муж. – Пока – ни звука.
С этими словами он снова целует тебя. Отчасти – затыкая тебе рот, отчасти – ища помощи и набираясь храбрости перед предстоящим ему загадочным походом.
Он долго, не отрываясь, смотрит тебе в глаза.
– Все будет хорошо, – говорит он. – Гильдия победит. Мы выиграем бой. И катастрофа, грозящая всем нам, будет предотвращена.
Слова его исполнены надежды, однако с каждым словом страх в его взгляде становится все сильнее, и ты ничуть не сомневаешься, что муж лжет.
В ночь третью
27 декабря 1601 г.
Нежное прикосновение к твоему лицу и знакомый голос из темноты пробуждают тебя от сновидений об убийствах и катастрофах.
Да, ты проснулась, но сон не оставляет тебя – окутывает, будто туман, сообщая каждому мигу жизни некую отрешенность, непреходящее ощущение сна наяву.
– Мама?
Ты садишься в постели, отчаянно моргаешь и заставляешь себя окончательно проснуться. В дверях стоит темноволосая молодая женщина – полногубая, решительная, во взгляде дичинка, рука упирается в бедро. По бокам – двое других, близнецы, несколько младше годами, но столь же своенравны и своеобразны.
Сьюзен, Джудит и Хемнет, величайшие в твоей жизни достижения, лучшее, что тебе удалось, твои будущие надежды.
– Где отец? – спрашивает Сьюзен. – Когда он вернется?
– Ваш отец должен был срочно уехать, – отвечаешь ты со всей убедительностью, на какую только способна в сложившихся обстоятельствах, – по очень важным и неотложным делам. В скором времени он вновь будет с нами.
– В скором времени? – это Хемнет, ему уже шестнадцать, но до сих пор выглядит намного младше. Кожа его нежна, лицом он чист – скорее, мальчишка, чем юноша. – А когда именно наступит это «скорое время»?
– Хемнет, дорогой, точно я не знаю. Ничего сказать не могу.
– Но, мама… – голос Джудит необычайно печален, она в высшей степени расстроена. – Пожалуйста! Отчего ты не можешь сказать точно?
– Я уже сказала, – отвечаешь ты, пожалев о раздражении в голосе в тот же миг, как оно вырвалось наружу. – Я сказала вам все, что знаю.
Хемнет шмыгает носом.
– Раньше он никогда не покидал нас. Ни разу. Он всегда был с нами.
– У многих людей отцы уходят из дому, – отвечаешь ты. – Идут в город, в поле, на армейскую службу. Некоторые даже отправляются в Лондон. А стоит человеку угодить в этот устричный садок, он никогда не вернется назад. По крайней мере, таким, каким был.
– Но отец… – продолжает Сьюзен. – Он всегда был… другим. Не таким, как остальные мужчины. Он всегда был с нами. Его место – здесь, разве не так?
– И он будет с нами снова, – отвечаешь ты, изо всех сил стараясь убедить ее, вкладывая в голос как можно больше теплоты и уверенности, которых в тебе нет ни на грош. – Он вернется, и все снова будет по-прежнему. Попомните мое слово: все станет, как раньше.
Снаружи доносится первый слабый раскат грома, рокочущего баса-профундо готовой вот-вот разразиться грозы, и ты, сама не зная отчего, уверена, что эта гроза будет страшнее всех гроз, какие тебе только доводилось видеть.
В ночь четвертую
28 декабря 1601 г.
Дождь льет, как лил последние пятнадцать часов – жестко, беспощадно, без передышки. Струи ливня хлещут в окна, барабанят по стеклу, впиваются когтями в стены твоего дома, словно стремясь пробиться внутрь и разметать в прах все, что ты всю жизнь возводила с такой заботой и любовью.
Ты сидишь в гостиной, едва заметно пахнущей дымом очага, и смотришь, как темная вода за окном бьет по раскисшей земле. Рядом сын. Он насторожен и угрюм, сидит, отвернувшись от тебя, и кажется (хотя ты подозреваешь, что на самом деле его мысли витают вдали, где-то там, куда ушел тот, кто произвел его на свет), что его внимание приковано к битве стихий снаружи, к совокуплению неба с землей. Его сестра наверху, вышивает за пяльцами, а старшей сестры нет дома – вероятно, укрылась от этого великого потопа у подруги.
Тебе совсем не хочется задумываться ни о том, где она может быть на самом деле, ни о личности этой подруги, ни о том, как крепко ее угораздило влюбиться, так как ее милый – вполне благовоспитанный малый по имени Джон – произвел на тебя впечатление человека праведного и достойного. Да, ты много рассказывала Сьюзен об опасностях, поджидающих девиц в период созревания, о соблазнительности мужчин, об их мускусном запахе, о твердости их мускулов и неожиданной нежности, однако сама понимаешь, что, сказанные тобой, эти слова утрачивают изрядную долю должной весомости – ведь именно ты некогда была эпицентром городских сплетен и пришла расписываться в приходской метрической книге с выпирающим брюхом, готовая вот-вот разродиться первенцем. Посему сейчас ты сидишь и молча вслушиваешься в мерный ритм дождя, льющего с небес.
В конце концов, первым нарушает молчание твой мальчик, сбивая тебя с мрачных мыслей о будущем словами, странным образом – но это, конечно же, просто случайное совпадение – соответствующими твоему необычному переменчивому настроению, навеянному курьезными событиями последних дней:
– Мама, а тебе снятся сны?
Ты слегка удивлена вопросом: в нем чувствуется такое глубокомыслие и даже лукавство, каких за твоим простодушным, чистосердечным мальчуганом прежде не водилось.
– Конечно, – отвечаешь ты. – Обычно – снятся.
– О… – ответ тут же приводит Хемнета в уныние. – А я думал… Я сомневался…
– В чем?
– Я почти забыл, как это.
– Что ты такое говоришь?
– Ведь мне ничего не снится уже много лет. С тех пор, как мне исполнилось… одиннадцать. Да, одиннадцать.
Он криво улыбается, но от этой печальной, слишком взрослой улыбки у тебя тут же становится тоскливо на душе.
– Не грусти, мой милый, – говоришь ты с нежностью, с какой не говорила с ним давным-давно, с младенчества. – Сны обязательно вернутся. Я много слышала о таких случаях. Думаю, с мальчиками так всегда. Вот и с отцом твоим было то же самое.
Эта ложь во спасение слетает с твоих губ легко, оставив за собою лишь легкий привкус вины.
– Темнота, – говорит он. – Каждую ночь, и так долго… Только пустота, темнота и безмолвие.
– Ох, Хемнет… – начинаешь было ты, но тут же умолкаешь, чтоб не расстраивать его еще сильнее во время полной неопределенности. Вместо этого ты говоришь со всей непринужденностью, на какую способна: – А твой последний… то есть самый недавний сон… Ты помнишь его? Что тебе снилось тогда?
На некоторое время он задумывается, уходит в себя. Затем, подбирая слова с тщательностью какого-нибудь старого богослова, связывающего воедино нити запутанной дискуссии, твой милый хрупкий мальчик говорит:
– Мне снились люди, живущие в лесу. Но эти люди – не люди. А дивные создания, что, как говорят, коварно наши души… прельщают…
Он умолкает и смотрит на тебя с серьезной откровенностью, отчего вновь кажется много старше своих лет. Подобающего ответа тебе на ум не приходит, и потому вы оба умолкаете. В гостиной снова слышен лишь буйный, настойчивый шум дождя.
Вдруг словно резкий толчок пробуждает тебя от покоя – недолгого, однако ж исполненного необъяснимой важности. Что-то вынуждает вновь встать лицом к лицу с реальным миром.
Чья-то рука сильно, настойчиво стучит в стекло, и сквозь завесу ливня, раздвинутую ею, ты различаешь знакомую фигуру и лицо.
Первая мысль? Уильям! Уильям, он вернулся! Но надежды тут же развеиваются: за стеклом – вульгарное, сплошь в оспинах, лицо нищего попрошайки, хорошо известного в здешних местах бродяги, чьи появления и исчезновения с годами стали столь же предсказуемыми и неизбежными, как смена времен года. Он опять барабанит в стекло. Он изможден, и взгляд его безумен, и в этом пьяном безумии чувствуется что-то театральное, точно он давным-давно вызубрил назубок роль, отведенную ему жизнью, и решил во что бы то ни стало сыграть ее до конца.
– Отвернись, – говоришь ты сыну – осунувшемуся, без кровинки в лице. – Ты же знаешь, это всего-навсего опять старый Том. Ты знаешь его пристрастие – чрезмерное пристрастие – к вину и элю. Ты знаешь, что он – человек пропащий.
– Он не в себе, мама. Он нездоров.
– Это его обычная манера. Туда ему и дорога. Все мы в свое время изо всех сил старались оказать ему помощь, но всякий раз он с презрением отвергал наше милосердие. Всякий раз кусал руку дающего. Порой – с совершенно ненужным насилием и злобой.
Оборванец опять стучит в стекло – пожалуй, в последний раз, ведь твое внимание он уже привлек – и прижимается лицом к его поверхности.
Он что-то кричит, стараясь перекричать грозу, и ты, хоть и не можешь разобрать каждое слово, все-таки слышишь большую часть его бредовой тирады. И, конечно, узнаешь ее структуру и тему, несмотря на многоточия, вставляемые в нее грохотом ливня.
– Я видел это… да… переплет миров… забытье, пустота надвигается… ненасытная… неумолимая… безжалостная…
– Мама?
– Не бойся, – отвечаешь ты. – Ты же знаешь: он вполне безвреден.
Бродяга смотрит на вас снаружи, и искорки безумного знания пляшут в его глазах. Не говоря больше ни слова – ведь сообщение передано, – он отворачивается от окна и бежит прочь, обратно в лоно непогоды. Потерянный для мира, он дико скачет под дождем. Ты и твое обреченное дитя смотрите вслед удаляющейся фигуре безумного бедняги Тома, а он тает и тает вдали, пока ливень, наконец, не поглощает его целиком.
В ночь пятую
29 декабря 1601 г.
– Дорогая! Позволите ли нам войти?
Что бы могло означать это внезапное нашествие визитеров? Что может значить это странное обилие гостей на пороге, явлений и уходов, вторжений одного мирка в другой? И, кстати, что стряслось с течением времени, утратившим размеренность, из непрерывной череды событий превратившимся в нечто избирательное, как будто теперь ты способна воспринимать только отдельные подробности и сцены, как будто жизнь твоя – море, а ощущения и чувства – плоская галька, скачущая по его поверхности, и ты присутствуешь в собственной жизни только в те мгновения, когда камешек соприкасается с водой.
Не будь ты рождена за несколько сот лет до изобретения кинокамеры, этот эффект наверняка показался бы тебе кинематографическим. Однако ты живешь в самом начале семнадцатого столетия, и посему ближайшая точка отсылки принадлежит к иной ветви жизни – к той, что также в последнее время занимает твои мысли. И ты внезапно понимаешь, что это – все это – очень похоже на сон.
– Дорогая, прошу простить нас. Надеюсь, мы не очень помешали?
В дверях стоят две женщины – примерно твоего возраста, одетые с унылой, возможно, чуточку преувеличенной благопристойностью. Дождь прекратился, но тем не менее тебя не оставляет ощущение, будто эту почтенную парочку прибило к твоему порогу штормом.
Ты знаешь их давным-давно; знакомство ваше длится ровно столько же, сколько ты состоишь в браке, и все это время ваши отношения были замешаны на зависти, соперничестве и легкой скуке – так часто случается с отношениями, завязавшимися не по твоей собственной воле, а благодаря замужеству.
– Миссис Куинси, – говоришь ты, – и миссис Локк, – твой тон нарочито вежлив, но и достаточно холоден, чтобы показать твое истинное отношение к их неожиданному визиту. – Какая радость – видеть вас обеих.
Куинси – она на несколько месяцев старше своей спутницы, грузнее и степеннее на вид – держит в руках корзинку из ивовых прутьев, накрытую белым полотном. Локк, до сих пор сохранившая чуточку девичьей стати и манер, с насмешливым энтузиазмом взмахивает руками над этой корзинкой, делает большие глаза и театрально-наивно восклицает:
– Яички! Мы принесли вам яичек, миссис Шекспир! Яичек для нашей дорогой Энн и ее чудного семейства!
– Точнее, – встревает ее спутница, – для тех, кто от него остался.
Твоя улыбка становится еще раздраженнее, а взгляд – холоднее.
– Как это мило, – говоришь ты. – Как любезно с вашей стороны. Но в этом, конечно же, нет никакой надобности.
Говоря это, ты размышляешь о том, сумеешь ли попросту забрать их жалкую корзинку и спровадить этих кикимор с лисьими улыбками восвояси, не приглашая в дом. Даже протягиваешь руку, чтобы осуществить этот план. Но прежде, чем тебе удается сделать хоть что-то, Куинси без приглашения шагает через порог, а Локк следует за нею по пятам.
– А Уильяма дома нет? – спрашивает одна из них.
– Дорогая, – подхватывает вторая, – до нас дошли весьма тревожные слухи. И обе мы так озабочены. Да-да, так озабочены!
На твоем лице возникает гримаса унылой любезности.
– Леди, – говоришь ты так, будто их визит с самого начала был затеян тобой, – прошу вас, задержитесь ненадолго. В конце концов, мне хотелось бы не просто посидеть и побеседовать. – Ты делаешь паузу и вкладываешь в последнюю строку малую толику своих реальных чувств. – А посидеть и посплетничать.
На этот раз провал в восприятии недолог – всего-то несколько минут; он ощутим, но не так уж сбивает с толку.
Ты у себя в гостиной, принимаешь гостей. Кресла сдвинуты треугольником. На столе перед вами – корзинка, полотно с нее снято, внутри – шесть нежно-кремовых яиц, словно подготовленных для некоего фокуса, словно центральный элемент чуда, которое вот-вот сотворит в угоду вам какой-нибудь паяц или уличный фокусник. И, сколь бы явно надуманным ни было это впечатление, вскоре окажется, что оно не так уж далеко от истины.
– Мы были так встревожены, – говорит одна из женщин – та, что постарше.
Локк радостно кивает:
– Четыре дня! Целых четыре! А о нем – ни слуху ни духу!
– Подумать только – Уильям… Наш дорогой Уильям… Обычно – такой работящий…
– Всегда на виду…
– Неизменно преданный своей семье мужчина! – миссис Куинси надувает губы и поднимает брови. В ее позе появляется что-то кошачье. – Хотя, конечно, сейчас мы говорим «всегда» и так подчеркиваем его верность… Но все же, все же… Ох, батюшки, память у меня уже не та, что прежде… Но не было ли кой-чего такого однажды… давным-давно, когда ваши дети были еще совсем маленькими? Кратчайшего периода, недолгих времен, когда он отдал должное… как бы это выразиться… преходящим увлечениям?
Ты медленно делаешь вдох, стараясь думать о чем-нибудь другом, напоминая себе, что эти квочки так изощренно докучают тебе лишь от скуки, от разочарования, из вредности, оттого, что их семейная жизнь пресна, однообразна и, насколько тебе известно, напрочь лишена любви. Но про себя ты, конечно, думаешь о том же, о чем думала с момента скоропалительного, неожиданного исчезновения мужа: «Уильям, о, Уильям, где же ты, Уильям, когда ты вернешься домой?» Несмотря на эти мысли, тебе удается улыбнуться в ответ, будто при виде невинной оплошности со стороны незваных гостий.
– О нет, мой муж всегда был верен мне.
– Безусловно, – вздыхает миссис Локк.
– Уильям ни с кем не целовался украдкой, – говоришь ты. – Ни на кого не заглядывался. Никому не дарил предательских ласк. Уж поверьте моему слову, леди, ему не было нужды растрачивать свое семя на стороне.
– Естественно, – стонет миссис Куинси, отнюдь не потрясенная сказанным. – Об этом никто и не помышлял. Речь совсем о другом. Я имела в виду… Единственное, на что я намекала – на тот довольно щекотливый, давний, ныне позабытый эпизод, когда ваш благоверный позволил себе поддаться опасным соблазнам… театра.
– О, – отвечаешь ты. Напоминание об этом эпизоде, давно похороненном в глубинах памяти, причиняет неожиданно сильную боль. – Все это было так давно. И он сделал свой выбор еще в те времена. И выбор его был верен.
– Но мне, дорогая моя, помнится, что он был ввергнут в соблазн. Разве нет? Актерами. Их обаянием. Их вульгарным искусством!
Ты изо всех сил стараешься сохранить равнодушный вид.
– Юношеская блажь. Не более. Невинное мимолетное чудачество.
Миссис Куинси обнажает зубы в фальшивой улыбке.
– О, но мне помнится, что соблазн был гораздо серьезнее. Ведь он хотел играть на подмостках, не так ли? И писать пьески – тоже. И, возможно, когда-нибудь даже отправиться в Лондон.
– Может он и говорил нечто в этом духе, – уступаешь ты, – размечтавшись или выпивши. Но так и не сделал ничего подобного. На первом месте для него всегда была семья.
– Поэтому я и в недоумении, дорогая моя. В серьезном недоумении…
– Теперь вы понимаете, – встревает в разговор миссис Локк, – почему мы так взволновались, едва услышав об отсутствии вашего супруга. Мы опасались, что к нему вернулись… соблазны минувших дней.
В конце концов ты позволяешь раздражению вырваться наружу.
– Значит, вы полагаете, что он сбежал? К актерам? В их балаганы? Вы это хотите сказать? Стыдитесь, сударыни! Стыдитесь!
Одна из них – а, может, и обе сразу – готовы раскудахтаться, разразиться исполненной самомнения речью, но тут, в наступившей паузе, над столом раздается неожиданный звук.
Слабый треск. Едва уловимая дрожь.
«Яйца», – понимаешь ты. Звук исходит от одного из них.
– Боже мой! – восклицает миссис Локк. – Во имя всех святых!
Подавшись вперед, все вы с тревожным недоверием наблюдаете, как скорлупа трескается изнутри. Нечто крохотное, темное, окровавленное пробивает себе путь в этот мир и издает пронзительный, жалобный писк – исполненный муки, предвещающий беду.
Жалкое создание высвобождается из скорлупы. Перья его слиплись от слизи. В его облике что-то не так – оно уродливо, искажено. Оно поднимается на тонкие липкие лапки, пошатывается, ковыляет вперед, спотыкается, падает, дергается и замирает, расставшись со своей ничтожной жизнью. Только теперь твой разум принимает истину, что лежит перед глазами: бедное крохотное создание имеет нелепый, фантастический изъян. Оно явилось сюда не целиком, но страшно, ужасающе изувеченным.
Гостьи разражаются воплями и визгом, но тебе нет дела ни до них, ни даже до этого кошмарного явления – до худшего из всех дурных знамений. Все твои мысли – там, в темных глубинах вселенной, в межзвездном пространстве, в неустанном поиске твоей пропавшей любви.
В ночь шестую
30 декабря 1601 г.
Уже потом, позже, проведя в тревогах еще одну ночь и еще одно утро, ты вновь возвращаешься туда – в то место, что прочнее всех прочих связано с твоим детством, что содержит в себе всю твою прошлую жизнь, в которой еще не было ни детей, ни Уильяма, ни зрелости.
Лес для тебя всегда был местом, не подверженным переменам, неподвластным бесконечным, неуемным притязаниям времени. Однако сегодня он кажется – невероятно! – немного не таким, как раньше. Лес отчего-то сделался темнее и теснее. Деревья словно придвинулись друг к другу, крепче переплелись и заметно состарились. За сплетением ветвей не видно неба, кусты вокруг тебя – куда выше прежнего, общая атмосфера неласкова, враждебна, лесная идиллия детских лет сменилась зловещим сумраком.
Ты все еще недалеко от опушки, и, поначалу радуясь одиночеству, углубляешься в лесную глушь. Неясно, что привело тебя сюда во время кризиса. Пожалуй, в основном – сентиментальность, да еще стремление найти убежище, обрести утешение в прошлом, раз уж настоящее и будущее столь ненадежны.
Идя вперед, ты слышишь шорох в кустах – несомненно, это какой-то мелкий зверек, потревоженный твоим появлением. Естественно, ты не обращаешь на него внимания и продолжаешь свой путь, все дальше углубляясь в чащу. Однако невидимый в зарослях зверек, похоже, следует за тобой.
Ты слышишь, как он спешит следом, шурша листвой, потрескивая ветками. Он держится рядом, и от этого становится жутковато. «Лиса? – думаешь ты. – Барсук, или, может, пугливая лань?»
Но, кем бы ни был этот зверек, он, конечно же, не настолько велик, так как изо всех сил старается не показываться на глаза – возможно, терпит боль, лишь бы только не оказаться на виду.
Ты останавливаешься, и он останавливается вместе с тобой. Ты вновь идешь вперед, и зверек, очевидно, продолжает держаться поблизости. Все это ты понимаешь не только по шороху в кустах, но и по внутренним ощущениям. Ты чувствуешь его присутствие, странную целеустремленность и неожиданную хитрость.
И вдруг ты понимаешь – сама не зная, отчего, – что за тобой следит не зверь и не человек, но, скорее, одно из тех существ, что, по словам ведуний и опытных охотников, обитают в здешних лесах, из тех, кто одновременно и более, и менее, чем человек, из тех, кто снился бедняжке Хемнету в его последнем сне.
– Кто здесь? – выкрикиваешь ты, чувствуя себя глупой, наивной и беззащитной. – Кто следит за мной?
Нет, ты не видишь его (и век бы не видать), но слышишь его голос – высокий, озорной, переливчатый, исполненный коварства и ума.
– О, сударыня моя, – отвечает голос, и ты осознаешь, что совсем не в состоянии определить пол говорящего, понять, кто он – мужчина, женщина или, чего доброго, нечто среднее, гермафродит, живущий на свете вопреки всем известным жизненным законам. – Ваш муж уже потерян для вас.
– Что?.. – ты запинаешься от удивления. – Что знаешь ты о моем муже?
– Ваш Уильям сейчас на войне. Его противники втайне трудились здесь не один месяц. Присылали послов, лазутчиков, соглядатаев. Однако вся их закулисная дипломатия и все их убийственное коварство не принесло им ни грана пользы. Кинжал все еще на воле и рассекает наш мир. Вот почему теперь идет бой за будущее всех существующих миров.
– Кто ты? Что тебе нужно? – этим ты хотела бы показать свое бесстрашие и готовность к драке. На деле же эти слова, скорее всего, лишь выдали твою слабость, нерешительность, отчаянную недостаточность опыта и сноровки. – О чем ты говоришь?
Смех. Глиссандо беззаботного злорадства.
– Вы сами увидите это вскоре, миссис Шекспир, бывшая маленькая мисс Хатауэй – ведь так вас некогда звали, если я не ошибаюсь? Еще до того, как вы созрели и были с корнем вырваны из здешней почвы – да еще с таким неуклюжим энтузиазмом?
– Ответь мне, – упрямо говоришь ты, – увижу ли я своего мужа вновь?
– Да, и в самом скором времени. Но прежде…
– Что? Что ты хочешь сказать?
Конечно, тебе известно, что эти создания лгут так же легко, как дышат, но отчаянное желание знать, что ждет впереди, заставляет тебя требовать ответа от невидимого существа.
– Да, прежде… Влюбленный уже в пути. Да, сей кавалер идет на зов, а глаза – о, как пылает его взор! А о бок с ним шагает… разрушение.
– По-моему, ты говоришь загадками.
– Тогда позвольте, я скажу прямо, миссис. Грядет всеобщее разрушение. Все, что вам дорого, будет уничтожено, сгинет без следа!
И существо в кустах, лесная тварь, вновь разражается смехом – еще более резким, визгливым и безумным, чем раньше. Его смех заставляет тебя развернуться и гонит из леса назад, к цивилизации, к дому, к сыну и дочерям, и ты, объятая липким ужасом, несешься прочь от зловещего хранителя тайн, пророка тьмы, коварного духа Арденского леса.
В ночь седьмую
31 декабря 1601 г.
Очаг вновь слегка дымит, а ночь бархатиста и тиха. Это время суток по праву должно быть счастливейшим из всех: вся семья собирается вместе, в доме царит атмосфера всеобщей любви и заботы, все вокруг озарено мягкой, уютной аурой понимания. Но вместо этого сейчас, в преддверии смерти старого года, ты сидишь за столом чуть поодаль от детей. Голова полна мыслей об Уильяме (его все еще нет, и тоска о нем не отпускает) и обо всех тревожных, загадочных дурных знамениях, непрерывной чередой пронизывающих твою жизнь с самого рождества.
Время позднее, довольно много выпито вина. Близнецы сидят бок о бок, дремлют. Когда-то им не терпелось увидеть рождение нового года, теперь же оба они близки к тому, чтобы отправиться спать. Сьюзен – ближе, чем позволяют какие-либо приличия – подсела к Джону, своему нареченному, уже успевшему (в этом ты почти уверена) стать и ее любовником, молодому человеку непримечательной наружности и весьма ограниченного ума, что, однако ж, не помешало ему твердо встать на путь, который в конце концов приведет его к ремеслу доктора. Уильям всегда считал его хорошей парой для дочери, тогда как ты сомневалась в этом с самого начала, гадая, способна ли его скучная привязанность сравниться с пылкой страстью, что, как тебе доподлинно известно, таится в твоей дочери и (ох, как вытаращились бы миссис Куинси и миссис Локк, услышав от тебя столь восхитительно скандальное признание!) так живо напоминает тебя саму, твое собственное отчаянное сердце, неодолимую тягу к плотским усладам и готовность позабыть про стыд.
Все эти размышления, пронизанные ноткой нежной грусти, в мгновение ока изгоняются прочь будущим доктором: тупорылый ухажер Сьюзен ворочается в кресле, выпрямляется и тянется к своему бокалу.
С усталым раздражением ты понимаешь, что в отсутствие мужа этот молокосос возомнил себя де-факто хозяином дома и в своей тупой самонадеянности (одна из его главных отличительных черт) полагает, что в данный момент ему следует сказать тост. Ты мысленно вздыхаешь.
– Я полагаю, – говорит Джон с плохо скрытым удовольствием, – что, ввиду прискорбного отсутствия дорогого мистера Шекспира, в данный момент мне следует предложить тост.
Ты улыбаешься без малейшего энтузиазма. Близнецы, встрепенувшись, моргают, садятся прямо и пытаются сделать вид, будто с самого ужина сна у них – ни в одном глазу.
Сьюзен сжимает плечо любимого, подбадривая его – что, как ты подозреваешь, ей не раз и не два придется делать в течение многих лет брачного союза, что ждет ее впереди.
Джон поднимает бокал.
– За отсутствующего мистера Шекспира, – провозглашает он. – За его скорейшее возвращение, а также за все хорошее, что, без сомнения, принесет нам наступающий год.
Ты вежливо соглашаешься. За этим следует звон бокалов и множество оптимистичных добрых пожеланий. Сьюзен, похоже, вполне счастлива, а близнецы хоть ненадолго отвлеклись от тоски по отцу, однако ты не в силах скрыть тревогу, поднимающуюся в груди, словно разлившаяся желчь, словно нечто темное и злое, стремящееся вырваться на волю.
Поэтому, предоставив событиям идти своим чередом, ты превращаешься в простого зрителя, и каждая мысль твоя исполнена страха перед грядущей бедой.
Ты думаешь об Уильяме, о странном голосе в чаще леса, о людях, что увели твоего мужа, о том наполовину иллюзорном пророке, чье появление и исчезновение послужило предвестием этих событий… И, глядя, как дочь целует своего недостойного ухажера, а близнецы обнимаются, ища уюта друг в друге, ты слышишь голос – голос мужа – так ясно, словно он сидит рядом, а вовсе не ушел, не пропал где-то в далеких краях:
– Переплет миров, – вот что ты слышишь, немедленно, не нуждаясь ни в каких доказательствах, понимая, что это – послание, возможно, самое важное за всю твою жизнь.
– Переплет миров, дорогая моя.
Да, это он! Несомненно, он!
– Переплет миров горит. Кинжал разъединил мир. И пустота уже близко.
В ночь восьмую
1 января 1602 г.
Следующий из этой долгой череды нежеланных гостей прибывает без фанфар и без доклада. Он – совершенно внезапно, без малейшего предупреждения – появляется, возникает перед тобой, точно балаганная иллюзия, призрак, призванный на сцену именем трюкачества и обмана. Этот появляется не в грозу, не в глухую полночь, а прямо посреди тихого, погожего дня.
Детей нет дома, а ты стоишь в саду, среди уснувших на зиму деревьев и трав, ждущих весны, чтоб вновь зазеленеть. Вокруг, насколько ты можешь судить, никого. Ты глубоко вздыхаешь. Все существо твое никак не может привыкнуть, приспособиться к долгому, почти невыносимому отсутствию мужа.
Ты закрываешь глаза, чтоб обрести уют и покой в темноте, наступившей по твоей собственной воле, и начинаешь подыскивать подобающие слова для молитвы о бедном Уильяме, пропадающем где-то вдалеке от дома. Но что-то вдруг заставляет прекратить обращение к богу, даже не начав. Ты открываешь глаза – и вот он, улыбается, стоя перед тобой на жухлой прошлогодней траве.
Он молод, поразительно красив, на голове его полно волос, бородка – шокирующе элегантна. Одет он богато, весьма изысканно, и явно не упускает возможности покрасоваться.
– Хелло, – говорит он. – Приветствую тебя, Энн.
Ты держишь оборону, изо всех сил стараясь не поддаться странному сочетанию тревоги и желания, пробужденному в твоем сердце этим незнакомцем, который, впрочем, отчего-то кажется не столь уж незнакомым.
– Кто вы такой, сэр? – спрашиваешь ты. – Какое дело привело вас к нам?
Он строит обиженную гримасу – кокетливо надувает губы, и сей привычный жест явно не требует от него ни малейших усилий.
– Энн! Умоляю, только не говори, что ты не узнаешь меня. Боюсь, мое сердце не вынесет этого.
– Сэр, я совершенно уверена, – отвечаешь ты (однако твоя уверенность – лишь притворство), – что до сего дня не встречалась с вами ни разу в жизни.
Его улыбка лишь становится еще шире и обаятельнее, и это приводит тебя в бешенство.
– Прошу тебя, – говорит он. От уверенности в его голосе, от его убежденности в своей правоте твое сердце сладко замирает, несмотря на все тяготы последних дней, и от невольного волнения мурашки бегут по коже. – Прошу тебя, любовь моя. Ты знаешь, кто я. Я знаю это.
Истина раскрывается перед тобой – медленно, но неуклонно, однако ты еще не готова принять ее. В голове рождаются тысячи возражений, но перед лицом непринужденной красоты этого юноши все они рассыпаются в прах, и тебе удается лишь, заикаясь, вымолвить ряд бессмысленных отрицаний:
– Нет, я никогда… никогда не… этого не может… Безусловно… в этом нет никакого…
Он подступает ближе, почти вплотную, и теперь, стоит лишь одному из вас сделать первый шаг, вы сможете взяться за руки и обнять друг друга вновь. Он так близко, что ты чувствуешь его запах – до безумия знакомый, сладкий, однако мужской, душистый аромат английских полей, приправленный мрачной и соблазнительно-пряной ноткой столичной жизни.
– Ты знаешь меня, – повторяет он.
– Но вы же не можете… Нет, вы не можете быть им!
– И все же, любовь моя? Думаю, теперь ты видишь. Видишь истину. Она прямо перед тобой.
Ты снова вспоминаешь человека, явившегося к тебе в рождественскую ночь, и двоих пришельцев в полумраке гостиной за спиной мужа, и мозаика – фантастическая, невероятная, чудесная – начинает складываться в единое целое. И потому ты, наконец, решаешься просто сказать все вслух. Ты произносишь его имя:
– Уильям…
Он вновь улыбается, но теперь улыбка его мрачна, как церковное благословение.
– Не совсем, – говорит он в ответ. – Я, так сказать, не совсем твой Уильям.
– Говори же, – с внезапной алчностью в голосе требуешь ты. – Расскажи все.
– Проше показать, – отвечает он.
С этими словами он придвигается еще ближе. Руки его – на твоих плечах, губы – на твоих губах, и перед тобой, словно сон наяву, возникает видение: бесконечное множество возможностей, бессчетное количество миров – каждый из них существует благодаря иному решению или противоположному выбору. И в каждом из этих миров ты видишь мужа в новой роли – властитель дум, заговорщик, сердцеед, твой собственный пузатый, лысеющий домосед, и тысячи, тысячи других. Все эти иные миры разворачиваются перед тобой, проносятся мимо нескончаемой чередой несбывшихся возможностей.
Наконец тот, кто не совсем тот, за кого ты вышла замуж, отстраняется.
– Видишь? – спрашивает он. – Теперь понимаешь?
– Смутно, – отвечаешь ты. Твой разум, порождение семнадцатого века, изо всех сил старается приспособиться, свыкнуться с системой знаний, далеко превосходящей твою. – Как будто брезжит что-то в темноте… Все эти вероятности, множество миров…
– Переплет, – настаивает он. – Это называется переплетом миров. И во всех этих мирах – во всех до единого – существует Уильям. Но лишь в одном из них – в этом – он (или мы, или я) никогда в жизни не покинул Стратфорд.
– Я не… – ты моргаешь и вздрагиваешь, точно ужаленная. – Нет, я не понимаю, о чем вы.
Конечно же, это заверение правдиво лишь отчасти.
– В любом другом мире, – объясняет Уильям-красавец, – Уильям ушел из этого городишки. Отправился странствовать с актерами, добрался до Лондона, взялся за перо, прославился и создал целые вселенные. Я тоже. Я ушел в столицу и – боюсь, что вынужден сказать тебе об этом – влюбился. И не раз. И только здесь, в этом, так сказать, томе реальности, он остался дома. И, боюсь, раз все началось именно здесь, здесь все должно и закончиться. Ваш мир избран. В конце концов, кинжал ведь выбрал именно его.
– Избран? – переспрашиваешь ты. – Для чего избран?
– Для того, чтоб дать последний бой. Здесь завершится война, здесь мы встанем лицом к лицу с правдой жизни, здесь принесем последнюю жертву.
– Эти речи звучат зловеще, – говоришь ты. – Они не предвещают ничего хорошего.
– Боюсь, так оно и есть, миссис Шекспир.
Уильям тянется к твоей левой руке, подносит ее к губам и целует.
– Переплет миров выгорает, – продолжает он. – Превращается в ничто. Забытье поглощает все.
– Скажи же, чем я могу помочь, – предлагаешь ты.
– О, Энн, моя отважная Энн… Отчего ты полагаешь, будто можешь чем-то помочь? Пустота надвигается. И ничто, ничто в мире не в силах устоять перед ней.
Миг – кратчайшее мгновение, едва достаточное, чтобы перелистнуть страницу – и его нет.
В ночь девятую
2 января 1602 г.
Рано поутру, как и во всякое утро с сотворения мира, над горизонтом, крадучись, поднимается рассветная заря, но ни один из бессчетного множества дней существования нашей земли не видел такого рассвета. Первый утренний луч не золотится предвестником погожего летнего дня и не болезненно, по-зимнему, бледен. Рассвет – небывалый, чужой.
Солнечный свет темно-красен, багров. Цвет его – цвет ненависти и отчаяния. Багровые отблески падают на землю, превращая все вокруг в преисподнюю, окрашивая мир в цвета Аида.
Ты просыпаешься, открываешь глаза – и словно оказываешься в новом кошмарном сне. Спальня озарена странным кровавым светом, и ты тут же вскакиваешь, охваченная паникой. Самые худшие подозрения роятся в голове. Все уже на ногах, все встревожены внезапной переменой бытия, и дом гудит от испуганных криков.
Ты кличешь детей, они мчатся на зов, и вдруг все вы каким-то образом оказываетесь снаружи, в саду, и смотрите в неожиданно незнакомое небо – насмерть перепуганные и ничего не понимающие. Ты прижимаешь детей к себе.
– Отец возвращается, – сообщает Хемнет с непоколебимой уверенностью в голосе. – Идет домой, и с ним множество других. Совсем таких же, как он, но других.
– Отчего ты так уверен в этом, Хемнет? Откуда тебе знать?
– Потому, что, – с гордостью, странной в сложившихся обстоятельствах, отвечает сын, – я видел это во сне. Этой ночью. В первом сне с того дня…
Ты вопросительно смотришь на него, зная: то, что он скажет дальше, исполнено ужасного, хоть и невысказанного пока что смысла.
Сын пожимает плечами с ужасающей детской безмятежностью:
– С того дня, – говорит он, – когда я должен был умереть.
В ночь десятую
3 января 1602 г.
Едва войдя в церковь, ты понимаешь: не стоило сюда приходить. Помещение переполнено сверх всяких пределов, и находиться среди такого множества человеческих тел, втиснутых в такое крохотное пространство, совершенно невыносимо. Если бы не страх за бессмертные души тех, кого ты любишь, ноги бы твоей не было на улице, но Сьюзен настаивала, а близнецы поддержали ее, и потому ты неохотно согласилась, вышла из дому и совершила сие паломничество, на каждом шагу ужасаясь ярким пурпурным сполохам в небесах.
Страх овладел стратфордцами, и то же самое – в этом ты уверена благодаря многолетним наблюдениям за родом человеческим – творится сейчас в каждом городе Англии – да, даже в самом Лондоне, не говоря уж обо всех других уголках необъятной земли, озаренных кровавым, безжалостным солнцем. Страх на улицах и в пивных. Страх за каждым обеденным столом, от самых богатых до последних нищих. Скотина ходит некормленой, поля оставлены без присмотра. Страх – в глазах каждого встречного. Страх – в отчаянных, безумных выходках некоторых. Страх – в сдержанном отчаянье остальных. Страх в лицах твоих детей, и, несомненно, хоть ты так и не отважилась проверить, в тебе самой – в каждой жилке, и, конечно же, как бы ты ни стремилась скрыть его, отчетливо отражается на лице.
Протолкавшись вместе с детьми сквозь плотную толпу прихожан при входе (одни страстно молятся, упав на колени, другие стоят в театральных молитвенных позах, обхватив руками головы) в обитель господа, ты видишь за высокой кафедрой приходского священника, мистера Стилвела, коренастого, покрытого испариной, рубящего ладонью воздух. Обычно пышущий здоровым румянцем, сегодня он раскраснелся как никогда. В глазах его – странная смесь ужаса и восторга. Все его благолепие, весь тонкий налет цивилизованности осыпался с него перед лицом неведомого, и, хотя большую часть его проповеди в галдеже толпы молящихся прихожан не разобрать, ты узнаешь кое-какие цитаты из Откровения Иоанна, из Книги Иова – но ни словечка о смирении, об утешении, о надежде. Слишком много огня и серы, слишком мало милосердия…
Близнецы держатся рядом, в каждой твоей руке – по теплой ладошке, Сьюзен же немедля отбивается от вас и непристойно громким возгласом приветствует своего возлюбленного. Джон устремляется к вам наперекор встречной волне прихожан. Он зовет тебя по имени и тут же берет под свою опеку всех вас в равной мере – не спуская, однако ж, взгляда с твоей старшей дочери.
– Идемте, – говорит он. – Я занял нам всем скамью.
Ты позволяешь провести себя туда, где будущий доктор занял вам всем места, и вы втискиваетесь меж двух других семейств, двумя рядами впереди миссис Куинси и миссис Локк – они сидят вместе, держась за руки, взгляды их возведены горе, губы шевелятся в такт мрачным фанатическим речам попа. Ты проходишь мимо них, не говоря ни слова, садишься там, где указано, и, несмотря на недавно обретенное миропонимание, нарастающую уверенность в том, что Вселенная устроена совсем не так, как ты привыкла думать, устраиваешься со всеми возможными удобствами. Поддавшись старому ритму библейских стихов, ты присоединяешься к общему хору и молишься вместе со всеми вокруг.
Небеса снаружи становятся ярче и ярче, яростнее и яростнее, готовясь вот-вот разразиться бедствиями. Что за неведомый, незримый мир породил их? Но что-то – сговор жаркой духоты с усталостью и тревожной бессонницей, не отпускающей тебя с самого рождества, а может, чье-то незаметное вмешательство – помогает тебе, несмотря на жуткий гвалт, на пронзительные визги паствы и надсадный рев пастыря, погрузиться в легкую, прерывистую, рассеянную дрему. Стоит лишь уснуть, ты видишь сон, а во сне видишь все и все понимаешь.
Ты видишь целый легион, целую армию Уильямов – одинаковых и в то же время таких разных. Одни из них толсты, другие худы, одни прославлены, другие – в безвестности. Вот чванный фанфарон, опьяненный вином и самомнением. А вот изнуренный, меланхоличный книжник; он мертвенно-бледен, и каждое слово, доверенное им бумаге, для него – словно мучительная жертва. Вот потаскун, не пропускающий ни одной юбки; лицо его раскраснелось от грязной похоти. Вот человек, состарившийся до срока, полупомешанный, исполненный решимости высказать свою правду любой ценой. Вот делец, а вот пророк. Вот гений, а вот везучий дурак. Трубадур, актер, библиотекарь, путешественник, надсмотрщик, бродяга и мот и многие-многие другие. В одном человеке – вся жизнь! Весь человеческий опыт – в тысяче тысяч версий одной и той же личности!
Ты встречаешься взглядом с теми, кто тебе уже знаком – со стройным, прекрасным Уильямом, явившимся в твой сад; с глашатаем беды, первым пришедшим к твоему порогу – и понимаешь: оба они – все они – и есть члены той самой Гильдии.
Какова же природа их битвы? Конечно, речь не о войне в буквальном смысле слова. Ни строя, ни оружия… скорее, тут что-то иное – расплывчатое, аморфное…
Вот оно! Вот и враг.
Огромная белая волна несется навстречу. Пустота. Чистая белая страница, поглощающая все на своем пути. Точно лавина, катится она из мира в мир, обволакивая их, пожирая, обращая в ничто, будто всех этих миров никогда и не бывало на свете.
Ты вглядываешься в массу Шекспиров, ища среди них своего – толстячка-семьянина, до недавнего времени не покидавшего дом. Но его нигде не видать. Тебя пробирает дрожь. Неужели он пропал, исчез в пустоте навсегда?
И тут ты просыпаешься, разбуженная громкими криками, руками детей, стиснувшими твои пальцы, общей сумятицей и отчаяньем.
Разом открыв глаза, ты инстинктивно тянешься к тем, кого любишь, и тут же замечаешь, что изменилось вокруг.
Свет. Свет стал другим.
Все, что с утра было темно-красным, теперь изменилось.
Багрянец сменился ослепительной, беспощадной белизной – яростной, неумолимой и (ошибки тут быть не может) ненасытной.
– Она здесь, – шепчешь ты тем, кто рядом, а заодно и самой себе. – Она здесь. Пустота пришла к нам.
В ночь одиннадцатую
4 января 1602 г.
Ты бежишь – уже не первый час, мчишься к пределам сил, к границам разума.
Выбежав из церкви, ты понеслась по стратфордским улицам, мимо своего дома, бок о бок с детьми. Вы бежите, а мир за спиной пожирает пустота; все, что ты когда-либо знала, растворяется, исчезает, сметенное прочь неумолимой, безжалостной белой лавиной, волной ослепительной смерти. Она преследует тебя по пятам, не отставая ни на шаг, как бы отчаянно ты ни неслась вперед.
Если уж твои силы на исходе, то дети, должно быть, готовы вот-вот сдаться, хотя все трое – стоически мужественные, целеустремленные Джудит с Хемнетом и Сьюзен, тихо плачущая с той минуты, как ненасытное ничто поглотило этого олуха, ее возлюбленного, в паре ярдов от дверей перчаточника – терпеливо, безропотно продолжают бег.
Так, вчетвером, вы, тяжко дыша, на исходе сил, бежите от верной гибели. Наконец – пожалуй, этого было не миновать – впереди поднимается лес, и ты с болезненной ясностью понимаешь, что именно здесь, в Арденском лесу, все и закончится.
Но, как только эта мысль приходит в голову, сзади, будто из самого сердца пустоты, будто зов с того света, доносится тот самый голос, которого тебе так не хватало все эти дни:
– Энн! Энн, любовь моя!
Ты уже потеряла надежду когда-нибудь услышать этот голос вновь, и потому, едва заслышав его зов, несмотря на всю свою непоколебимую твердость, замедляешь бег. Последние дни и часы научили тебя подозрительности и страху, и потому ты гонишь себя вперед, первым делом решив, что это ловушка, что тебя дурачат, ввергая в сомнения. Но голос – тот самый искренний, сердечный голос – не умолкает:
– Энн, прошу тебя!
И ты уступаешь. Ты позволяешь себе толику доверия, останавливаешься и оборачиваешься назад. В тот же миг ты понимаешь, что дети исчезли, стерты с лица мира. И, когда ты вновь поворачиваешься к мужу, с губ твоих срывается пронзительный вопль отчаяния.
Невероятно, но пустота остановилась. Нет, не исчезла, однако выжидающе застыла огромной, неподвижной, монолитной, белой стеной, воплощением абсолютного ничто.
А прямо перед ней темнеет на фоне сияющей белизны, точно чернильная фигурка на чистом листе пергамента, мистер Уильям Шекспир. Твой Уильям Шекспир.
Он в синяках и в крови, волосы спутаны, борода не ухожена, кровь сочится из двух скверных с виду глубоких ран на лбу, но все же это, несомненно, он – тот, за кого ты вышла замуж, кому родила троих детей.
При виде тебя он улыбается наперекор всему, но улыбка его исполнена печали.
– Энн, – повторяет он. – Любовь моя…
– Уильям…
– Путь домой, к тебе, оказался так странен и долог…
– Я знаю. Я видела… Мне позволили взглянуть одним глазком…
– Я пришел с дурной вестью. Боюсь, всему в мире настал конец.
– Пустота, – шепчешь ты, прибегая к странному языку Гильдии. – Пустота достигла нашего мира. Ее притягивает сюда кинжал? И, наверное, ее уже ничто не остановит?
Твой муж склоняет голову. Поначалу ты думаешь, что ему горько от осознания масштаба надвинувшейся вплотную катастрофы или оттого, что его так долго не было с тобой.
Но вот он поднимает глаза, встречается с тобой взглядом, и ты понимаешь, в чем истина. Ему вовсе не горько. То, что ты видишь на знакомом лице – лице человека, которого знаешь лучше, чем кого бы то ни было, – тебе совсем незнакомо. С замершим сердцем ты понимаешь, что ему отчаянно стыдно.
– Мы победили, – признается он. – Победили пустоту. Тут-то ей и конец.
– Что ты хочешь сказать?
– Мы начисто стираем этот мир, любовь моя. Уничтожаем его собственными руками, пока сюда не явилась настоящая пустота.
– Не понимаю, – бормочешь ты. – Нет, Уильям, я ничего не…
– Тактика выжженной земли, любимая. Встречный пал, призванный остановить буйство лесного пожара.
– Нет. Нет, этого не может быть.
– Теперь переплет миров в безопасности. Миллионы миллионов будут жить дальше. Погибнет лишь один ничтожный мирок – один из бесконечного множества. Одна-единственная звездочка исчезнет со звездного неба. Чтоб могли жить и здравствовать все остальные.
– Нет…
– Мы приняли решение все вместе. Вся Гильдия проголосовала, и все были единодушны. Кинжал слишком опасен, и у нас не было иного выбора.
– Но почему?.. – протестуешь ты, однако ответ до боли очевиден.
– Любимая, ты ведь знаешь, отчего были избраны мы.
В уголках глаз появляются жгучие слезы.
– Оттого, что только в этом мире – единственном из всех сущих – ты не покинул семью и дом. Ничего не написал. Всю жизнь прожил с нами. С семьей.
– Да, – отвечает Уильям. – Да, любовь моя.
Он шагает вперед, распахнув объятия тебе навстречу. В его глазах тоже слезы, хоть он и смаргивает их со всем возможным упорством.
А пустота – вернее, псевдопустота – за его спиной вновь приходит в движение.
– Скажи, – спрашиваешь ты, оказавшись в теплых, пахнущих дымом объятиях мужа. – Скажи, а Хемнет? В тех, других мирах он тоже… Или – только здесь… потому, что ты остался дома?
– Прости, – отвечает муж. – Ради бога, прости. Но иного пути нет.
Он еще крепче прижимает тебя к себе, ты тоже обнимаешь его еще крепче, но это не приносит облегчения: огромная, ужасная белая стена все ближе и ближе.
И тогда ты поднимаешь голову, смотришь через плечо мужа в лицо этому воплощению жуткой бесчеловечной логики и со всей таящейся в тебе страстью кричишь, и крик твой исполнен негодования и презрения. Ты выкрикиваешь в пустоту собственное имя и имя мужа, имена дочерей и твоего бедного обреченного мальчика…
Ты кричишь обо всем, ради чего живешь, обо всем, что наполняет твою жизнь смыслом и радостью. И последние слова, звучащие перед тем, как пустота накрывает тебя с головой, неся с собой сладкую целительную прохладу забвения, исполнены глубокой нетленной любви.
В ночь двенадцатую
5 января 1610 г.
В тот вечер, когда он вернулся домой, миссис Энн Шекспир – пятидесятипятилетняя, измученная заботами, давно привыкшая к цене одиночества во всем разнообразии ее форм – была в своем саду одна.
Нет, она не ждала его – по крайней мере, именно в этот день, – ибо не получала о его возвращении никаких известий, да к тому же не питала ни надежд на сие событие, ни желания, чтобы оно, наконец, произошло. И, даже зная о его возвращении загодя, даже заподозрив, что он вернется сегодня, она ни за что не стала бы специально выходить из дому ему навстречу. Она и не подумала бы стоять в саду на манер почетного караула в предвкушении его прибытия. Хотя сей джентльмен, конечно же, обошелся с ней и с детьми вполне достойно, по крайней мере, в материальном смысле – в смысле широких благотворительных жестов, доступных всеобщему обозрению, наподобие этого дома с просторным садом при нем, – она терпела его отсутствие (как физически, так и эмоционально) долго, но, наконец, решила, что он не заслуживает столь нежного отношения, что он, в главном и целом, стал недостоин ее любви и сам разорвал узы их брака.
Конечно, до нее доходило множество слухов. Люди изо всех сил старались уберечь ее от самого худшего, но и того, о чем она слышала – любовные интрижки (столь унизительно для нее затевавшиеся у всех на виду), мальчики (во множестве, самые разные, и – тоже не особо скрываясь), пьянство, кутежи, азартные игры, не говоря уж о целом легионе шлюх – хватило, чтобы понять: он изменил данной у алтаря клятве окончательно и бесповоротно. Слыша очередные новости, она ничуть не удивлялась и не горевала, так как давно, почти что с самого начала, знала о его скрытой темной натуре, о его неуемной похоти и прочих разрушительных страстях. Очередное откровение, услышанное на рынке или на улице, в перешептываниях за спиной, внушало лишь ощущение опустошенности и разочарования той готовностью, с какой он отдался пороку, вкупе с тщательно скрываемым – ради приличия и ради двух дочерей – отчаянием.
Это отчаяние было при ней всегда, не оставляя ее ни на миг, мелькая в глубине ее взгляда, когда при ней восторгались его пьесами, в презрительном подъеме подбородка, когда в ее присутствии принимались перебирать возможных адресатов его тошнотворно-слащавых сонетов, что были у всех на слуху, в мрачном молчании в ответ на вопросы, когда же Уильям, наконец, намерен воротиться домой навсегда. Да, оно, ее безмолвное отчаяние, было при ней всегда. То было ее бремя, за долгие годы совместной жизни каким-то непостижимым образом ставшее ей другом.
Поэтому ничего подобного она не планировала, ни о чем подобном не помышляла, однако все вышло именно так.
Был вечер, час печали, и Энн была одна (Сьюзен давным-давно вышла замуж и переехала к мужу, и малышка Джудит намеревалась в скором времени последовать ее примеру) – дышала холодным зимним воздухом, вспоминая прошлое, а еще, при всем своем материальном достатке, размышляла о природе своих утрат.
Поначалу, увидев человека вдалеке, она решила, что это какой-то приезжий, либо жулик, либо цыган – и во всех трех предположениях была не так уж неправа.
Но по мере его приближения Энн вдруг охватил странный прилив чувств – нечто вроде смятения и одновременно надежды.
В конце концов силуэт сделался узнаваемым: к дому, несомненно, к немалому удивлению Энн, но не того, кто искушен в мастерстве рассказчика, шел мистер Уильям Шекспир собственной персоной – заметно старше, чем при последней встрече, одетый в незнакомое платье, во всем своем лондонском убранстве, лишь самую малость обтрепавшемся по краям, чуточку износившемся и слегка запылившемся в долгих странствиях.
С собой он не нес ничего, и поступь его – опасливый, осторожный шаг – была исполнена раскаяния библейского блудного сына.
На краткий миг взор Энн был – да, конечно, иначе и быть не могло – обманут иллюзией, созданной изменчивой природой последних лучей заходящего солнца. Почудилось, что рядом с мужем идет ребенок – маленький мальчик. Но эта иллюзия, эта видимость исполнения желаний тут же исчезла. Остался один лишь Шекспир.
Он вскинул руку в торжественном приветствии, но, памятуя о его поведении, уверенная в том, что он позабыл все, что связывало их, оставив для нее лишь формальную вежливость, Энн не ответила на его приветствие.
Однако, едва муж подошел ближе, она увидела, как он неухожен, как спутана его борода, как поредели волосы на темени.
Некоторые воображали, что Уильям вернется с триумфом, увенчанный славой, облеченный множеством связей в высшем свете, пышущий важностью столичного жителя перед провинциалами. Однако когда он подошел к садовой калитке, Энн увидела на его лице лишь скорбь, глубокую печаль, и всякому, оказавшемуся свидетелем его возвращения, непременно вспомнилась бы старая истина: ни одному мужчине на земле не быть героем для собственной жены.
Он отворил калитку и размеренным, неторопливым шагом вошел в сад. Он подошел к Энн, и долгое время оба они хранили молчание. Наконец он нерешительно, но предельно искренне, проникновенно, задушевно взял Энн за руку.
– Прости меня, – сказал он. – Ради бога, прости меня.
Подняв на него взгляд, она кивнула, чувствуя, как стремительно сокращается разделяющее их расстояние.
– Иди в дом, – ответила она куда мягче и нежнее, чем предполагала. – Должно быть, ты устал. Должно быть, голоден.
– Спасибо, – просто сказал он, и благодарность его, несомненно, была неподдельна.
Этого было бы достаточно – более, чем достаточно для столь трудного возвращения домой, – но Энн, сама не зная, отчего, потянулась к его свободной руке, привлекла мужа к себе, запрокинула голову и поцеловала его в губы с неожиданной даже для самой себя страстью и всепрощением.
Затем они вошли в дом, и сели к очагу, и заговорили об остатке жизни, что ждал их впереди, на время забыв о прошлом и помня только о будущем.
Той ночью, непонятно, отчего, Энн снился переплет миров, и тот самый Шотландский Кинжал, и безжалостная пустота. Снился бедный утраченный сын, снилась история. Снились возможности и вариации, снились решения – принятые и отвергнутые, снились все те развилки жизненных путей, что таит в себе каждый день и каждый час.
И – хоть этот образ, пришедший из совсем иных времен и мест, был для нее невероятнее, причудливее всего на свете – в одну лишь эту единственную ночь случилось и тебе присниться ей.
написанное доктором Джоном Лаванино из Королевского колледжа Лондона
Конечно, точно так же поступал и сам Шекспир. Ни для кого из нас давно не секрет, что в его пьесах используются и развиваются сюжеты из других источников, не говоря уж о литературных материалах других авторов. «Голоса чертовски тонки» отличаются от произведений Шекспира в первую очередь тем, что не изменяют, но развивают и обогащают старые сюжеты.
Шекспир не только щедро заимствовал из иных источников, но и пользовался собственными произведениями как основой для сиквелов и приквелов. Нагляднее всего мы можем наблюдать это на примере его исторических хроник. Первое «Фолио» и большинство современных ему изданий построены так, будто Шекспир с самого начала планировал две крупномасштабные исторические тетралогии, тогда как на самом деле они писались урывками, собирались по кусочкам. Эти хроники в «Голоса чертовски тонки» используются меньше, чем другие пьесы – возможно, потому что Шекспир первым в полной мере использовал этот материал, сам отыскал в нем множество новых возможностей.
В первой тетралогии, состоящей из трех пьес о Генрихе VI и пьесы «Ричард III», «Генрих VI, часть первая» – приквел, написанный после создания второй и третьей частей. Но самой популярной из первой тетралогии стала последняя пьеса, «Ричард III», впоследствии привлекшая к себе еще большее внимание. Никто не сомневается в том, что она – самая захватывающая из всех четырех, но лишь немногие читатели и зрители нашего времени способны оценить, как меняется ее восприятие, насколько богаче она становится, если читатель или зритель уже знаком с событиями трех первых пьес.
Позже Шекспир еще смелее использовал творчество своих предшественников: вторая тетралогия начинается с того, на чем заканчивается анонимная пьеса «Томас Вудсток», а затем, после «Ричарда II», в «Генрихе IV» и «Генрихе V» перерабатываются события и характеры из «Знаменитых побед Генриха V», еще одной анонимной пьесы шекспировских времен. Разнообразие стилей и подходов к материалу во второй тетралогии гораздо шире, чем в первой: тщательно спланированный гармоничный «Ричард II», знаменитый своим стихом, множество комических элементов в обеих частях «Генриха IV», военно-патриотический «Генрих V» – эти столь разные пьесы объединяет не стиль, но мастерство Шекспира. Неожиданнее всего то, что в разгаре работы над этой серией Шекспир изъял из нее Фальстафа, лишив его роли в исторических хрониках и сделав главным героем чистой комедии – «Виндзорских насмешниц». Даже аккуратный, приглаженный текст современных изданий Шекспира не может скрыть его решения – последовать за теми же героями совсем в другую сторону. Таким образом, переосмысления и допущения, к которым часто прибегают авторы данного сборника – вполне в духе самого Шекспира.
Эти тетралогии – единственный у Шекспира пример намеренного использования в разных пьесах одних и тех же миров и персонажей. Все прочие пьесы стоят особняком, не связанные между собой какими-либо героями или событиями. И в сборнике «Голоса чертовски тонки» сделано то, чего никогда не делал Шекспир: нам рассказывают новые истории, соединяющие эти отдельные пьесы между собой. Мы уже привыкли говорить о созданном Шекспиром мире так, будто он является общим для всех его произведений, но в этой книге повествование сопровождается смелым литературным экспериментом, умелым подбором и развитием характеров и идей, наглядно показывающим, насколько цельным может стать этот мир, будучи дополнен там, где нужно.
Почему так получается? Многие задумывались о продолжении истории того или иного шекспировского персонажа, но авторы сборника идут гораздо дальше – они не просто продолжают сюжет Шекспира, но комбинируют материалы многих пьес, простирая истории их персонажей не только в будущее, но и в прошлое относительно того, что уже поведано нам о них Шекспиром. Эти персонажи становятся основой новых произведений: да, из них мы гораздо больше узнаем о Миранде, Елене и многих других, это правда, – но все это строится на заранее внушенном нам ощущении их реальности. Мы чувствуем, что знаем их, и хотим услышать их истории до конца.
Не менее, чем персонажи, важно и место действия: в пьесах Шекспира уже имеется огромный мир Средиземноморья, представленный Миланом, Флоренцией, Неаполем, Венецией, Вероной, Афинами и другими местами. Все это связано в данном сборнике воедино и естественным образом превращается в просторную общую арену для новых приключений. И этот мир описан как реальный, в деталях, впервые – ведь на сцене шекспировского театра, в отличие от художественной прозы, никогда не было декораций, изображающих место действия. Театр тех времен – без декораций, без современного освещения – рисовал образы дальних земель, не располагая ничем, кроме костюма и слова, тогда как для художественной прозы описание пейзажей совершенно естественно.
Кроме мира людей, существует еще мир фей и эльфов, с которым мы сталкиваемся прежде всего в «Сне в летнюю ночь», а также – вскользь – в некоторых других пьесах. Шекспир немало поработал над доступными ему материалами на эту тему и привнес в них много нового. Следуют его примеру и авторы данного сборника. Одним из главных творческих достижений современной фэнтези является детальная проработка воображаемых миров, – гораздо более подробная, чем было принято раньше, и на страницах этой книги шекспировские феи из случайных гостей в нашем мире, заглядывающих к нам лишь мимоходом, превращаются в полноценный социум. Но вспомните: в пьесах Шекспира простые смертные не знали о существовании фей и эльфов почти ничего: и воспоминания Основы о странной любовной истории, и рассказ Меркуцио о Королеве Маб – для них не более чем сон, чем сказка.
Однако на этих страницах феи бесспорно реальны, от их существования так просто не отмахнуться. То, на что Шекспир в «Буре» только намекает, здесь превращается в основательный, детально проработанный фон. Все, что мы видим, точно совпадает с событиями шекспировских пьес, но нам предоставлена новая точка зрения, с которой царство фей хорошо видно и понятно. Да, волшебство фей и эльфов зачастую опасно; с первых страниц мы понимаем то, что было ясно сказано и у Шекспира: приоритеты фей намного превосходят рамки мира смертных, и, даже обратив на нас внимание, волшебные создания вовсе не стремятся сделать жизнь людей более мирной или счастливой.
Идеи и приемы современного фэнтези, лежащие в основе этой книги, не менее важны, чем новые драматургические приемы елизаветинской эпохи были важны для Шекспира. Наряду с современными творческими достижениями здесь присутствуют и современные взгляды на общество и человеческую психологию – точка зрения, которой нам порой так не хватает у Шекспира, исследование областей, едва затронутых в его пьесах. Поэтому, пожалуй, не стоит удивляться, когда в этой книге счастливый конец для знакомых нам героев на деле оказывается не таким уж счастливым. Но, пусть даже самая страстная любовь может угаснуть, мир Средиземноморья и царство фей предлагают такие возможности, о которых в английской реальности не приходилось и мечтать. Так Миранда и Елена обретают будущее, которого заслуживают согласно своему разуму и находчивости, и даже никчемный Пароль оказывается жизнеспособнее, чем можно было бы подумать: оказавшись на своем месте, он играет вполне положительную роль.
Реальный средиземноморский мир шекспировских времен представлял собой куда более живописную смесь культур, чем Англия, и мог бы предоставить гораздо больше литературного материала, чем было известно Шекспиру. Поэтому среди персонажей и книг наших историй есть не только любимый Шекспиром Овидий, но и Джалаладдин Руми, и агент Оттоманской империи Эсперанса Малхи… И, конечно, трагический, полный опасностей мир Медичи, богатейший источник материала для драматургов времен Шекспира – в частности, Марло, Уэбстера и Миддлтона. Однако сам Шекспир прибегал к этому источнику нечасто, да и, в любом случае, тема Медичи становится намного продуктивнее, если место действия интернационально, а не ограничено только одним городом.
Но более всего на «Голоса чертовски тонки» похожа та пьеса Шекспира, которая в сборнике нигде не упомянута – это «Перикл». Эта пьеса написана в соавторстве: считается, что ее первые два действия написаны Джорджем Уилкинсом, и, действительно, их стиль заметно отличается от стиля остальных. Но есть у этой пьесы и другие авторы. В списке действующих лиц имеется средневековый поэт Джон Гауэр. Появляясь на сцене, он рассказывает историю, частично основанную на его произведениях, но в конечном счете восходящую к древнегреческому роману «Аполлоний Тирский», послужившему также источником материала для «Двенадцатой ночи».
Читатели, озабоченные благочинием и пристойностью литературы, обрушили на эту пьесу лавину яростной критики – она оказалась чересчур развлекательной. Во времена Шекспира она была одной из его самых популярных пьес, и в последние десятилетия ее ставят все чаще и чаще, и это говорит о том, что она во все времена захватывает и трогает публику. Текст, что кажется читателю разрозненным и неряшливым, представляет собой превосходный материал для актера. Сюжет развивается по всему Средиземноморью, с частыми путешествиями из одного экзотического места в другое – это и Митилена, и Антиохия, и Тарс, и Эфес, и Тир, расположенные в современных нам Греции, Турции и Ливане. В пьесе есть царские дворы – гостеприимные либо коварные, длинный список самых разных действующих лиц, кораблекрушения, неожиданные повороты судьбы и, превыше всего, волшебство. Это произведение почти фэнтезийно: ему тесно в собственных рамках, оно стремится занять гораздо больше пространства и времени, чем может вместить театральное представление, оно стремится сделать все на свете.
Как и в некоторых других поздних пьесах, в «Перикле» Шекспир возвращается к развязке, которую использовал еще в «Комедии ошибок» и всю свою жизнь находил увлекательнейшей из всех возможных – к чудесному воссоединению тех, кто, казалось, потерян друг для друга навсегда. Таких чудес у нас, конечно, не случается: то, что подходит для пьесы, не совсем уместно в наших новаторских изысканиях. Вместо этого мы наслаждаемся богатствами вымышленного мира, который постоянно поворачивается к нам новой стороной, заводит в новые края и изумляет нас, не возвращаясь к началу, но развиваясь дальше и дальше.
Д-р Джон Лаванино,
Декабрь 2015 г.
Джонатан Барнс
Родился в 1979 году, учился в Норфолке и в Оксфордском университете. Его первый роман, «Сомнабулист» (The Somnabulist), вышел в 2007 году, а второй, «Люди домино» (The Domino Men), в 2008, оба романа были переведены на восемь языков. Регулярно пишет для Times Literary Supplement и Literary Review. С 2011 года преподает литературу в Кингстонском университете.
Кейт Хартфилд
Фантастика Кейт Хартфилд появлялась в таких изданиях, как Strange Horizons, Crossed Genres, Podcastle и Daily Science Fiction. Она независимый журналист, живет в Оттаве, Канада. Ее любимой студенческой работой, написанной почти двадцать лет назад, было эссе об употреблении Шекспиром единственного слова – «mount». Ее сайт: heartfieldfiction.com; твиттер: @kateheartfield.
Джон Лаванино
Профессор цифровых гуманитарных наук Королевского колледжа Лондона, работает как на кафедре английского языка, так и на кафедре цифровых гуманитарных наук. Был одним из главных редакторов издания собрания сочинений Томаса Миддлтона (Издательство Оксфордского университета, 2007), в последнее время исследовал восприятие драмы раннего нового времени в XVIII и XIX веке.
Фоз Медоуз
Автор двух романов в жанре молодежного городского фэнтези, «Утешение и скорбь» (Solace and Grief) и «Ключ к Старвельдту» (The Key to Starveldt). В 2014 году была номинирована на премию «Хьюго» как лучший автор фанфиков (Best Fan Writer). Пишет также статьи для The Huffington Post и Black Gate и обзоры для Strange Horizons, A Dribble of Ink и Tor.com. Фоз родом из Австралии, но сейчас живет в Шотландии, где у нее недостаточно книг, зато есть собственный философ и маленький ребенок. И оказывается, это хорошо.
Эмма Ньюман
Пишет научную фантастику и городское фэнтези. «Меж двух шипов» (Between Two Thorns), первая книга из серии «Разделенные миры» (Split Worlds) присутствовала в списке финалистов Британской премии фэнтези и премии за лучший дебют (Best Newcomer Award). Последнее произведение, «Посадка» (Planetfall) – это отдельный научно-фантастический роман, опубликованный через Ace/Roc. Эмма – профессиональный актер озвучания аудиокниг, а также соавтор и ведущий онлайн-радиопрограммы Tea and Jeopardy, где любят чай, пирожные, риск и поющих цыплят. Ее хобби – шитье и компьютерные RPG. Блог: www.enewman.co.uk.
Адриан Чайковски
Родился в Вудхолл-Спа в Линкольншире, изучал психологию и зоологию в Рединге. По причинам, неясным даже ему самому, в конце концов стал юристом и работал судебным исполнителем в Рединге и Лидсе, где и живет в настоящее время. Женат, любит ролевые игры, иногда играет в любительских спектаклях и принимает участие в постановочных боях, не имеет никаких экзотических или опасных домашних зверей, за исключением, возможно, сына. Он автор известной серии книг Shadows of the Apt, отдельных романов «Ружья рассвета» (Guns of the Dawn) и «Дети времени» (Children of Time), а также многих коротких рассказов.
Дэвид Томас Мур
Редактор-составитель сборников «Бейкер-стрит, 221Б» (2014 г.), «Голоса чертовски тонки» (2016 г.), а также «Дракула: Возвращение зверя» и «Не просто сказки», которые будут выпущены издательством Abaddon Books в 2018 г. Автор романа «Абсолютная тайна» (The Ultimate Secret, 2013 г.) и множества рассказов и статей. Родился и вырос в Австралии, в настоящее время живет в Рединге (Великобритания) с женой и маленьким сыном, увлекается историческим фехтованием.
1
Баз Лурман (англ. Baz Luhrmann) – австралийский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер. Речь идет о его фильме «Ромео + Джульетта», снятом в 1996 г., где действие пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта» было перенесено в современность. (Здесь и далее – примеч. переводчика).
2
Название сборника является вольной цитатой из пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь», взятой из эпизода, где несколько простолюдинов собираются ставить пьесу по вавилонскому мифу о Пираме и Фисби.
Флейта: Нет, черт возьми, я не хочу играть роль женщины – у меня пробивается борода.
Пигва: Это ничего не значит. Вы будете играть эту роль в маске и говорить таким тоненьким голоском, каким вам будет угодно.
Основа: Если я могу спрятать мое лицо под маску, то дайте мне играть роль Фисби. Я буду говорить чертовски тоненьким голоском: «Фисби, Фисби! Ах, Пирам! Мой дорогой, мой возлюбленный! Твоя дорогая Фисби, твоя дорогая возлюбленная!» (перев. Н. М. Сатина).
3
На английском языке этот рассказ был опубликован отдельно от корпуса текстов, входящих в книгу, в качестве своеобразного «тизера» сборника. В российское издание он включен по любезному предложению правообладателей.
4
Кристофер Марло – английский поэт, переводчик и драматург-трагик Елизаветинской эпохи, наиболее выдающийся из предшественников Шекспира, также – разведчик.
5
У. Шекспир. «Ричард III», действие I, сцена 3. Пер. Б. Лейтина.
6
Эдвард Аллен, известнейший актёр елизаветинской Англии, современник Шекспира. «Молодой Бербедж», упоминаемый далее – Ричард Бербедж, английский актер, друг и соратник Шекспира, первый исполнитель ролей Гамлета, Ричарда III, Лира, Генриха V, Отелло, Ромео, Макбета и др.
7
Средневековое нижнее белье, предшественник кальсон и трусов.
8
Роберт Поли, один из агентов Тайного Совета, занимавшихся делом Марло.
9
Т. е. королеве Елизавете.
10
Ингрэм Фрайзер, убийца Кристофера Марло.
11
Т. е. для короля Якова (Иакова) VI Шотландского, он же Яков I Английский.
12
У. Шекспир. «Макбет», действие II, сцена 1. Перев. В. Кюхельбекера.
13
Первая полная луна после осеннего равноденствия, приходящегося в северном полушарии на 22 или 23 сентября. В период восхождения охотничьей луны английские охотники начинали сезон преследования дичи.
14
Серениссима (итал. serenissima – «светлейшая», «сиятельнейшая») – торжественное название Венецианской республики.
15
У. Шекспир. «Буря», акт I, сцена 2. Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник.
16
Миранда (от лат. Miranda) – удивительная, поразительная, восхитительная.
17
Торк или торквес – кельтское украшение в виде кольца, чаще всего – шейного.
18
У. Шекспир. «Сон в летнюю ночь», акт I, сцена 1. Перев. Т. Л. Щепкиной-Куперник.
19
В данном случае – «в силу обстоятельств» (лат.).
20
Средневековая одежда, надеваемая под верхнее платье на сорочку. Носилась как женщинами, так и мужчинами.
21
Старинная настольная игра, отдаленно напоминающая шашки и известная в России под названием «Мельница».
22
Имеется в виду вид смертной казни, существовавший в Англии до середины XIX века – «повешение, потрошение и четвертование».
23
У. Шекспир. «Юлий Цезарь», акт III, сцена 2. Перев. М. А. Зенкевича.
24
В северном полушарии зимнее солнцестояние приходится на 21 или 22 декабря, а день памяти и почитания святого Стефана отмечается католической церковью 26 декабря.
25
У. Шекспир. «Как вам это понравится», акт II, сцена 7. Перев. Т. Л. Щепкиной-Куперник.
26
Виски (гэльск.).
27
Пренебрежительное прозвище, данное англичанам французами.
28
У. Шекспир. «Двенадцатая ночь», акт I, сцена 1. Пер. А. И. Кронеберга.