Книга: Суфизм


Эрнст Карл
СУФИЗМ
Суфизм / Карл В. Эрнст. — Пер. с англ. А. Горькавого.
Предисловие
Десять лет назад, получив фулбрайтовский грант, я отправился в Пакистан с целью написать книгу о южноазиатском суфизме. Это был удивительный год, когда моя семья и я сам ощутили на себе все гостеприимство и культурное богатство жителей Лахора. Но самое занимательное происходило всякий раз, когда мои пакистанские знакомые осведомлялись о моей работе. Иногда, услышав, что я изучаю ислам, и в частности суфизм, любопытствующий всем своим видом выражал удивление и говорил: «Ну вы же должны знать, что суфизм не имеет ничего общего с исламом!» В иных случаях мой собеседник, разгорячившись, придвигался ко мне, чтобы сказать следующее: «Вы изучаете суфизм! Это просто изумительно! Между прочим, мой дед был пиром (наставником), я могу, если пожелаете, показать вам его могилу». Столь разное восприятие отражает двойственное отношение к понятию суфизм и его связи с исламом, что глубоко чувствуется в мусульманской среде нынешнего мира.
В большинстве мусульманских обществ сегодня можно отыскать течение ортодоксального благочестия, которое достаточно критически относится ко многим занятиям и верованиям, связанным с суфизмом. Данную тенденцию, которая стала проявляться с начала XIX века, ее последователи часто изображают в виде «возрождения» или «реформаторства» исламского вероисповедания. В большинстве своих идеологических и политических проявлений данный подход больше известен как фундаментализм, или исламизм, для тех, кто не имеет опыта общения с современными исламскими мужчинами и женщинами, это столь политизированное средствами массовой информации представление об исламе оказывается истиной в последней инстанции. Специалисты же предпочитают пользоваться понятием фундаментализм для описания идеологии антимодернизма, которой придерживаются примерно двадцать процентов последователей всех основных мировых религий. В этом отношении исламский фундаментализм обладает весом и значением, сравнимыми с христианским, иудаистским, индуистским и буддийским фундаментализмом. Многие наблюдатели воочию видят, как фундаменталисты весь свой гнев обрушили на секуляризм и падение нравов, связывая это с влиянием Запада, служащего ныне условным обозначением власти политического, экономического и научного тельца, которому поклоняются в европейских и американских странах и, в меньшей мере, в их бывших колониях. Получается, что подобная риторика фундаментализма в мусульманских странах до некоторой степени является полемическим ответом на широкомасштабную колониальную политику порабощения, проводившуюся западными странами. В ходе завоевательных войн, от наполеоновского вторжения 1793 года в Египет и до распада Османской империи в 1920 году, почти все мусульманские страны оказались завоеваны и порабощены иностранными державами. Поэтому не стоит удивляться, что сопротивление западному господству продолжает оставаться тем краеугольным камнем, на котором зиждется политика таких идеологов, как Аятолла Хомейни в Иране.
Западные средства массовой информации оставляют в тени другую главную тему риторики фундаменталистов, которая обращена против того, что видится внутренней угрозой исламу. И на первое место здесь с точки зрения фундаментализма выступает суфизм, который рассматривается как пережиток средневековых суеверий, идолопоклонство и нравственное разложение. Суфизм представляется порождением идолопоклонства христиан, чтящих мощи святых, и еретических учений пантеистических греческих философов. Фундаменталисты видят в нем такие отвратительные вещи, как поклонение могилам, заимствованная у индусов языческая музыка и обирание доверчивых верующих алчными и нечестивыми суфийскими наставниками. Всю важность, которую придавали фундаменталисты суфизму, можно видеть на примере ваххабитского движения в Аравии начала XIX века, которое считают предтечей нынешних движений фундаментализма; когда их племенной союз впервые пришел к власти, один из первых предпринятых ими шагов был направлен на разрушение всех величественных могил суфийских святых и шиитских имамов* в Аравии и Ираке. Могилы были сочтены творениями идолопоклонников, когда отдельные людские создания были вознесены над всеми остальными в виде полубогов; стало быть, их следовало разрушить. Даже народное поклонение Пророку Мухаммаду отвергается большинством фундаменталистов. Поднаторевшие в манипулировании средствами массовой информации, фундаменталисты пытаются монополизировать риторику религиозной законности как у себя дома, так и на Западе. Их авторитарные замашки, прикрываемые словами о повиновении Богу, пресекают всякие иные взгляды на религиозную истину.
По иронии судьбы вследствие стратегических успехов фундаменталистских движений в некоторых ключевых регионах, наподобие Аравии, и наличия огромных нефтяных запасов, которые попали в руки саудовской власти, многие нынешние мусульмане знакомятся с историей исламской религиозной традиции, из которой полностью исключен суфизм. Между тем еще не так давно, на исходе XVIII века, и значительную часть предшествующего тысячелетия большинство выдающихся религиозных ученых Мекки, Медины и других главных городов арабского мира были теснейшим образом связаны с тем, что мы ныне именуем суфизмом. Ирония судьбы здесь двояка, поскольку история, созданная фундаменталистами, опровергается религиозной обрядовостью более чем половины нынешнего мусульманского населения. Поклонение Пророку Мухаммаду и суфийским святым оказывается во главе угла всех мусульманских верований. Более того, мы видим, как миллионы людей жаждут получить посвящение в многочисленные суфийские ордены, которые возводят священное учение, поколение за поколением, неизменно к Пророку Мухаммаду. Способы созерцания и распевания имен Бога, иногда в сочетании с музыкальным сопровождением и танцами, продолжают практиковаться учениками под наблюдением суфийских наставников. Несмотря на попытки многих постколониальных правительств управлять суфийскими святилищами и орденами ввиду огромного числа последователей, способных стать могучей политической силой, суфийские организации по большей части проявляют самостоятельность, не поддаваясь воздействию извне.
Полемические нападки на суфизм со стороны фундаменталистов преследуют цель отделить суфизм от ислама, даже представить его враждебным исламу. Такая стратегия позволяет фундаменталистам определять ислам по собственному усмотрению, выборочно привлекая для этого отдельные священные тексты. Новизна подобного подхода почти не замечается на Западе, так как изучение исламской культуры не играет заметной роли в значительной части систем просвещения Европы и Америки. Арабское понятие ислам само по себе имело сравнительно малый вес в классическом богословии, основывающемся на Коране; буквально оно означает «покорность, предание себя единому Богу» и подразумевает минимальные внешние формы выражения согласия с религиозным долгом. Согласно трудам богословов, например знаменитого Абу Хамида аль-Газали (ум. 1111), ключевым понятием религиозного самосознания является не ислам, а иман — вера, и тот, кто обладает ей, есть мумин - верующий. Вера оказывается одной из главных забот Корана, в священном тексте о ней говорится сотни раз. А вот ислам предстает сравнительно редким понятием второго плана, в Коране оно упоминается лишь восемь раз. Но поскольку сам термин ислам имеет производное значение, связанное с сообществом тех, кто покорился Богу, в практическом плане он обрел вес, став чем-то вроде межевого знака для сторонних и для своих, пожелавших как-то отделиться.
Имам (букв.: стоящий впереди) — предстоятель на молитве; глава общины; религиозный авторитет.
Исторически понятие ислам вошло в обиход европейских языков на пороге XIX века с подачи таких востоковедов, как Эдуард Лейн, по аналогии с возникшей в Новое время христианской концепцией религии; в этом отношении ислам представлял собой такой же неологизм, как некогда понятия индуизм и буддизм. Прежде последователей Пророка Мухаммада европейцы называли магометанами. Взятие на вооружение немусульманскими учеными слова ислам совпадает с растущей частотой его употребления в религиозных спорах теми, кто ныне именует себя мусульманами. Иными словами, слово ислам обрело популярность в реформаторских и прогофундаменталистских кругах примерно в то же время или вскоре после того, как оно было пущено в обиход европейскими востоковедами. И сторонние «научные» наблюдатели, и внутренние идеологи обрели для себя в понятии ислам идеальное орудие. Рассматриваемый одновременно как ряд неизменных религиозных доктрин и как выражение социальной общности (сейчас обыкновенно прикладываемое к арабскому меньшинству), ислам стал незыблемым символом противостояния европейской цивилизации. То обстоятельство, что большая часть исламской истории и культуры оказалась вне поля зрения, представляется не слишком большой ценой, которую пришлось заплатить обеим сторонам. В настоящей книге я стараюсь избегать ссылаться на ислам как неизменную, представляющуюся монолитом религию, которая неким образом приводит к одному знаменателю сотни миллионов людей разных эпох и стран. Я привлекаю понятие исламский (Islamic), когда подразумеваю течение, где во главе угла стоит Коран, а главным образцом личности служит Мухаммад, не требуя более никакой особой официальной структуры, скрывающейся за этой простой формулировкой. Вслед за Маршаллом Ходжсоном я привлекаю слово исламический (islamicate) при описании общественных и культурных установлений, принятых равным образом у мусульман и немусульман и связанных с религиозной исламской традицией, но не восходящих к первичным исламским священным источникам.
Понятие ислам имеет сложную историю, о которой пойдет речь в начальной главе настоящей книги. Подобно исламу, понятие суфизм ввели в европейские языки востоковеды, но эти слова считаются не имеющими ничего общего. Мусульманские общества, предшествующие Новому времени, не знали подобного разделения. Для них понятия суфизм и ислам не существовали обособленно и не были вообще отделимы от религиозной жизни. До XIX века невозможно было даже представить утверждения типа:
«Суфизм не имеет ничего общего с исламом». Хотя некоторые читатели, возможно, желают перейти непосредственно к последующим главам, где говорится о различных сторонах суфийской традиции, я советую им все же ознакомиться с первой главой, чтобы научиться разбираться в предлагаемых ныне толкованиях суфизма.
Но обуявшая ныне всех страсть к определениям привела к новым расхождениям и недоразумениям, которые и не мыслились в предыдущие эпохи. Недавно я выступал с публичной лекцией на тему «Суфизм и искусство» в одном вашингтонском музее, где присутствовало более сотни человек. После лекции я ожидал услышать вопросы, касающиеся затронутых мною тем. Вместо этого мне пришлось отбиваться от нескольких слушателей, которые, вставая друг за другом, с негодованием отвергали саму идею, что суфизм может иметь нечто общее с исламом. Выяснилось, что это были высланные из своих стран иранцы и афганцы, которые поносили фундаменталистских толкователей ислама за весь тот ужас, который им пришлось пережить. Ведь они глубоко чтили великих суфиев, продолжали их боготворить, особенно персидского поэта Руми. Они не могли принять, что милый их сердцу Руми как-то связан с ненавистными предводителями исламской революции в Иране или фанатически настроенными предводителями исламической милиции в Афганистане. Поэтому для тех, кого фундаментализм сделал изгоями, ислам стал символом авторитарного насилия, а суфизм — дорогой свободы и соборности. Над их умами тяготели фундаменталистские определения.
Я не имею никакого намерения провозгласить на страницах данной книги некое окончательное определение понятий суфизм и ислам. Дело в том, что это действительно крайне спорные понятия. Желание дать им некое непререкаемое определение имеет смысл прежде всего при политических разногласиях идеологического характера или при самоопределении групп, которые опираются на суфийскую традицию. Иными словами, понятие суфизм не имеет четких рамок; напротив, это своего рода символ, присутствующий в нашем обществе, им пользуются различные группы в различных целях. Если востоковеды были заинтересованы в суфизме как описательном понятии для обозначения совокупности религиозных верований и занятий, то мусульманские мистики обыкновенно использовали понятие суфизм для выражения неких этических и духовных идеалов. Многочисленные формы деятельности, практикуемые ныне мусульманскими мистиками, имеют четко определенные названия и имена. Современные суфийские авторитеты, желающие узаконить свои собственные взгляды, порой ставят под сомнение иные представления, полагая их «псевдосуфизмом», особенно те группы, которые умаляют значение исламских обычаев и исламского самосознания. Фундаменталисты осуждают суфизм как извращение ислама, тогда как светские модернисты клеймят суфизм как средневековое суеверие.
Научные труды, опирающиеся на исторические свидетельства, обычно представляют суфизм мистической стороной ислама. Как следствие, он предполагает личное общение с Божественным, постижение сокровенного смысла исламской религиозной практики, и в этом отношении он определенно нечто сообщает. Однако подобное объяснение нельзя назвать абсолютно бесспорным. Научные формулировки предполагают ясность и точность и поэтому никак не подходят для определения суфизма. Так, с одной стороны, мистицизм действительно в своей основе подразумевает личный опыт, но с другой — научное определение не учитывает коллективную жизнь суфиев, их политическую деятельность. К тому же само слово мистицизм является предметом споров и недоразумений, что привело некоторых ведущих ученых мужей суфизма к решительному отказу от него для описания суфизма2. И, как утверждалось выше, понятие ислам, которое вообще считают всеобъемлющим толковательным термином, также оказывается одним из наиболее темных понятий в современном религиозном словаре.
Народ вкладывает в слова мистицизм и ислам все, что заблагорассудится.
Ненаучные источники, включая обнародованные суфийскими орденами, наоборот, описывают суфизм как всеобщий, универсальный дух мистицизма, который заложен в сердцевине всякой религии. С этой позиции ислам предстает в лучшем случае как нечто несущественное (а возможно, и помеха) в любом разговоре о суфизме. В настоящей книге я употребляю слово суфизм в самом широком описательном смысле, чтобы охватить им не только тех, кто представляет себя или изображается другими суфием, но и весь спектр исторических традиций, текстов, памятников материальной культуры и обрядов, связанных с суфиями. Используя такой подход, я добровольно отказываюсь от всякой попытки определить, кто же есть «истинный суфий» и какова настоящая связь между суфизмом и исламом. В понятиях суфийской риторики подобные формулировки имеют смысл лишь в отношении духовного авторитета суфийского наставника, о чем я не имею никакого намерения что-либо утверждать. Будучи критически настроенным к некоторым политическим взглядам, которых придерживается востоковедческая школа старой закваски, я все же полагаю возможным изучение и благожелательное восприятие традиции на подобие суфизма. Единственно допустимым в настоящей книге авторитетом являются исторические свидетельства, на их основе строятся умозаключения и доказательства; одним словом, данная книга представляет собой опыт описательного толкования затрагиваемого предмета.
Настоящий труд не предназначен знатокам ислама, я также отказываюсь от диакритических знаков, используемых при передаче написания иностранных имен и понятий, что так любят специалисты. Здесь дано широкое толкование предмета, цель которого — как описание суфизма, так и отражение сопровождающих его спорных моментов. Сегодня в любом музыкальном магазине можно приобрести чудесные записи музыки, рожденной в кругах суфиев и занявшей ныне место на мировых музыкальных подмостках. Пакистанский исполнитель каввали Нусрат Фатех Али Хан и марокканские музыканты из Джаджуки получают приглашения от ведущих звукозаписывающих фирм и пользуются горячей поддержкой популярных европейских и американских музыкантов, их музыка использовалась даже в кинематографе («Ходячий мертвец»*). Персидский поэт Руми во многих английских переложениях теперь имеет славу самого раскупаемого поэта в Америке. Вертящиеся дервиши из Турции регулярно дают представления в главных концертных залах на Западе. Есть несколько десятков сайтов в Интернете, связанных с обосновавшимися в Америке суфийскими группами. Некоторыми группами, наподобие иранского суфийского братства Ниматуллахи, ныне осевшего в Лондоне, выпускаются высококачественные литературные журналы с цветными фотографиями и написанными блестящим слогом статьями. Как оценивать все эти проявления суфизма? Прежде всего, нужно знать, как возник современный суфизм, в чем настоящая книга послужит читателю подспорьем.
Учитывая спорный характер нашей терминологии, данная книга содержит краткое и осторожное обсуждение того, как суфизм стал предметом интереса на Западе и каким образом само это понятие функционирует в западных языках. Я постараюсь также представить обряды, учения и деятелей, неразрывно связанных с суфизмом как в далеком прошлом, так и в наши дни. Данная книга не претендует на полноту охвата; знатоки, несомненно, обнаружат в представленном мной труде пристрастность в отношении примеров, черпаемых из мусульманского Востока, особенно персидского и индийского происхождения в сравнении с турецким, арабским или юго-восточным азиатским ареалом. Сам предмет столь обширен, что полное рассмотрение истории, литературы, философии, искусства, институтов и обрядов, связанных с суфизмом, потребовало бы не одного тома и знаний ученых, сведущих во многих языках3. Данный же труд, напротив, имеет форму обзорного, поясняющего очерка, в котором представлены темы, позволяющие увидеть суфийскую традицию с различных точек зрения.
Пояснительный, общеознакомительный характер моей книги, вероятно, покажется решительным отходом от принятых исторических и узкоконцептуальных исследований по суфизму, поскольку я вовсе не полагаю, что всякий рассматриваемый термин имеет некое четкое определение, разделяемое всеми. К тому же меня больше заботит разъяснение обрядов и учений суфизма, нежели истолкование умозрительных философских доктрин. В отличие от большинства прежних исследований по суфизму, данный труд не трактует это течение прежде всего как явление прошлого; изучение истории суфизма существенно для его понимания, но не достаточно, знания истории необходимо сопрячь с анализом современных проявлений суфизма, чтобы выявить его нынешнюю значимость. Признавая правомерность существования противоречивых точек зрения относительно толкования суфизма и поясняя доводы оппонентов, я надеюсь предстать истинным проводником для читателя, который жаждет уяснить, что за предназначение уготовано ныне суфизму.
Вслед за вступительной главой о концепции суфизма я рассматриваю его истоки и развитие, постепенно двигаясь от начального периода к современности. Зачином моего рассказа служат священные источники, на которые опирается суфизм, особенно кораническое Откровение и образ Пророка Мухаммада. Вслед за обсуждением природы святых и святости идет обзор созерцательных практик, сосредоточенных на повторении имени Бога. Затем показывается, как шло распространение суфийских орденов и ритуалов. Потом приходит черед суфийской поэзии и музыки с обзором их присутствия в современной культуре. Заключительная глава посвящена дилемме, с которой столкнулся суфизм в нынешнем мире, где вопрос о взаимоотношении суфизма с исламом решается по-разному. Некоторые суфийские вероучители сегодня настаивают на том, что суфизм есть не что иное, как истинное воплощение ислама в его наиболее полном выражении. Другие суфии оставили всякую попытку следовать исламскому праву или обряду и представляют суфизм как всеобщую духовность, вне всяких религиозных границ. Здесь представлены оба взгляда, но в задачу книги не входит указывать читателю, какого из этих взглядов придерживаться. Суфийская метафизика изучается чаше, нежели всякая иная сторона данного предмета; если я кратко останавливаюсь здесь на этой теме, то лишь потому, что хочу подчеркнуть практическую сторону ислама, которая не нашла должного освещения в большинстве прежних изысканий.
Фильм 1995 года; режиссер Тим Роббинс.
Настоящая книга основывается на моем более чем двадцатилетнем исследовании суфизма на арабском, урду и персидском языках, на аспирантской работе в Гарвардском университете, затем, уже в качестве профессора, в Помонском колледже, а ныне в Университете штата Северная Каролина, что в городке Чапел-Хилл. Мой багаж пополнили длительные научные поездки в Индию и Пакистан и путешествие в Турцию и Иран. Я также в неоплатном долгу перед своим давнишним учителем - профессором Аннемари Шиммель, наиболее влиятельным современным ученым в области изучения суфизма; настоящий труд посвящается ей в благодарность за ту огромную помощь, которую она оказывала всем, интересовавшимся суфизмом. За двадцать лет я многое узнал от различных ученых из Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока, Европы и Северной Америки. Особенно много я почерпнул благодаря щедрости и дружескому участию двух моих коллег по Университету Дькжа, Северная Каролина; оба — знатоки суфизма. Винсент Корнелл, острый критик и блестящий собеседник, просмотрел предварительный набросок книги и сделал ряд ценных замечаний. Брюс Лоуренс — с ним я сотрудничал последние десять лет, половину из которых — в области изучения и преподавания ислама и суфизма, — оказался настоящим кладезем полезных советов и метких замечаний; без его участия настоящая книга не увидела бы свет. Выражаю особую признательность студентам, которые посещали мои занятия, их воодушевление и прямодушие помогли мне выработать этот подход к суфизму. Я благодарен также научной сотруднице Джен-нифер Сандерз за ее блестящую и тщательную подборку материалов. Фотограф Джеральд Блоу из Окленд-ского музея искусств показал незаурядное умение в подготовке иллюстраций (нас. 20, 108, 120, 178). Хотелось бы выразить признательность и суфийским руководителям, которые щедро делились своими мыслями со мной и были столь гостеприимны, прежде всего -покойному капитану Вахиду Бахшу Сиалу Раббани из братства Сабири-Чишти (Пакистан) и д-ру Джаваду Нурбахшу, главе братства Ниматуллахи (Иран). Разумеется, я несу всю ответственность за представленные здесь взгляды. Особая благодарность Кендре Кроссену из издательства «Shambhala», который подсказал идею настоящей книги. Как всегда, я признателен своей жене Джудит Эрнст за ее понимание и поддержку.
Примечание. Коран цитируется с указанием порядковых номеров суры и аята по общепринятому каирскому изданию*. Даты приводятся по христианскому летосчислению согласно григорианскому календарю, за исключением примечаний в конце книги: в них даты издания книг даются по мусульманскому лунному календарю, ведущемуся со дня переселения (арабск. хиджра) Мухаммада из Мекки в Медину (16 июля 622 года), затем после косой черты приводится год по григорианскому календарю.
*Издание 1919 года; в нем были окончательно канонизированы орфография, структура текста и правила чтения.
ГЛАВА 1. Что такое суфизм?
Аннетари Шиттель, с признательностью и любовью
С Платоном вознестись ты в Этпирей,
В первичное сияние идей;
И в пабиранте грез теряя нить,
Себя ты можешь Богом возомнить;
Так, видя в солнце мнимый образец,
До головокруженья пляшет жрец,
Дай разуму Всемирному урок
И убедись, чти ты умом убог.
Александр Поуп. Опыт о человеке(1734)*
Цит. по: Поуп А. Поэмы. М.: Худ. литература, 1988. С. 155.
«Дервиш» и «факиp»: сторонний взгляд на суфизм
О суфизме писать трудно. Подобно всякому сложному не европейскому религиозному явлению, то, что мы ныне именуем суфизмом, до наступления Нового времени не представлялось на Западе достойным внимания. И лишь последние два столетия европейцы и американцы обратили свой взор на мировые религии. Само понимание религии, которое представлялось им совершенно естественным, большей частью основывалось на их восприятии христианства, особенно протестантизма.
Интерес европейцев к не христианским религиям возрос в период захвата территорий и колонизации, что было главной политической целью европейских держав. Колониальные власти нуждались в сведениях о религии «туземцев», чтобы успешно управлять ими. Изучение этих религий велось знатоками языков и культур Востока — ориенталистами, которые плодили многочисленные тома исследований и переводов, касающихся восточных религий. Для нынешних американцев понятие восточный представляется причудливым обозначением того, что мы сегодня именуем азиатским, словом, которое в первую очередь связывают с Китаем и Японией; мы забываем, что для Европы ближайшие к ней восточные области лежат во владениях турок, арабов и персов.

Ибн Араби, суфий на веки вечные . Скульптор Мустафа Али.
Дамаск, 1995. Из собрания Ми-риам Кук и Брюса Лоуренса.
Жаркие споры разгорелись недавно в отношении политики востоковедческой науке, особенно после выхода в 1978 году книги Эдуарда Сайда «Ориентализм». Некоторые все еще отстаивают востоковедческие штудии прошлого как незапятнанный и непредубежденный поиск знания, тогда как другие утверждают, что востоковеды были соучастниками колониального притеснения народов. Не являясь сторонником упрощенного подхода к разрешению подобного спора, я хотел бы заметить, что ученые, работающие на неевропейском материале, особенно касающемся культур Ближнего и Среднего Востока, рано или поздно обнаруживают, что их изыскания имеют политический резонанс. Средства массовой информации, евро-американские внешнеполитические ведомства и главы правительств ближневосточных и азиатских стран — все они привлекают религиозные понятия и представления, и зачастую исключительно из политических соображений. Исследования, проводимые евро-американскими учеными, с интересом читают в странах Востока. Изучение суфизма не представляет исключения. По этим соображениям мне хотелось бы проанализировать терминологию, которую прикладывают к суфизму как в европейском, так и в не европейском контексте, особо обратив внимание на выражение неодобрения или доброжелательности, заключенное в каждом из понятий. Тем самым станет возможным выявить противоречивые тенденции, которые составляют подоплеку современных споров о суфизме.
Начало современного изучения суфизма относится к колониальной эпохе (примерно 1750-1950 годы), когда многие из основных концепций и категорий, определяющих наше понимание данного термина, были впервые сформулированы. Поскольку само понятие суфизма горячо оспаривается сегодня и мусульманами, и не мусульманами, прежде всего важно вкратце рассмотреть историческое становление европейских исследований по суфизму, чтобы выявить причины нынешних разногласий. Современная концепция суфизма возникла на основе множества европейских источников, включая повествования путешественников об экзотических странах и востоковедческие представления о суфизме как о секте, имеющей смутное отношение к исламу. При сравнении такого изображения суфизма с трактовкой суфийской традиции «изнутри» возникает ряд несоответствий. Терминология сторонних наблюдателей, касающаяся суфизма, подчеркивает все экзотическое, особенное в нем, образ жизни суфиев, который отличается от норм европейского общежития; в условиях колониализма такая терминология заостряла внимание европейских властей на опасности сопротивления «туземных фанатиков».
Два понятия, которые лучше всего подытоживают раннее отношение европейцев к суфизму, это факир (арабское слово) и дервиш (тюркское произношение персидского слова дарвиш). Оба слова означают практически одно и то же: факиром арабы называют бедняка, а дервиш является персидским словом с тем же смыслом. Европейские путешественники с XVI века то и дело приводят описание дервишей как нищих, которые, подобно католическим монахам, ведут уединенный образ жизни. Для протестантов одного такого сравнения было достаточно, чтобы обвинить дервишей в тяжком религиозном заблуждении. Однако в XVIII и XIX веках дервишей увидели в новом, необычном свете. Европейские наблюдатели, особенно путешествовавшие по Османской империи, обратили внимание на группы дервишей, совершающих прилюдно свои обряды. Эти группы становятся известны как танцующие, или вертящиеся, дервиши и воющие дервиши — названия, которые отражают их более всего бросающееся в глаза поведение; в отсутствие какого-либо объяснения европейцы могли рассматривать подобные действия как проявление экзотичных восточных нравов. В приведенных выше язвительных стихах Александра Поупа: «...видя в солнце мнимый образец, // До голово-круженья пляшет жрец», без сомнения, изображен вертящийся дервиш, член суфийского ордена, известного в Турции как Маулави(йа). Поуп явно видел в нем заблудшего последователя Платона, поскольку считалось, что дервиши отвергают плоть во имя духа. Книги путешественников и посланников, вроде труда «Дервиши, или Восточный спиритуализм», сочиненного в 1868 году американским посланником и переводчиком Джоном Брауном, снабжены рисунками с изображениями обычаев дервишей как одной из диковин Востока.
Слово факир имеет более замысловатую историю, поскольку писавшие на персидском языке служащие державы Монголов в Индии употребляли это понятие для описания наряду с суфийскими аскетами и странниками и немусульманских аскетов, вроде йогов.

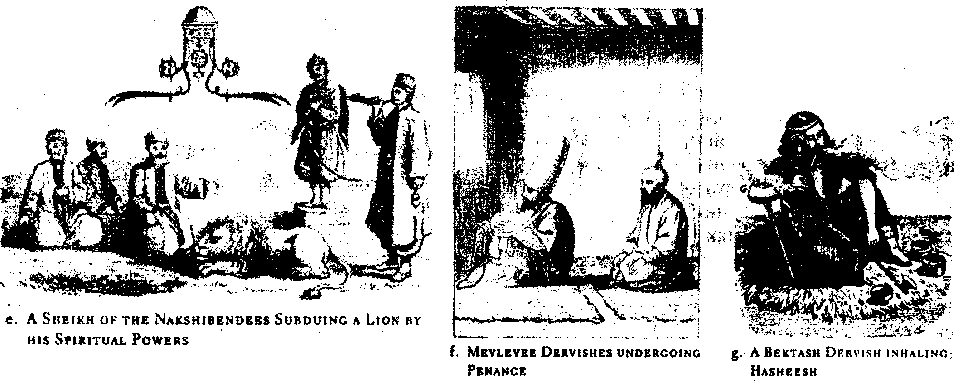
Изображения суфиев в книге Джона Брауна «Дервиши, или Восточный спиритуализм» (Лондон, 1868):
a. Дервиш братства Маулави из Дамаска;
b. Абдап мурабит, или святой, в состоянии одержимости;
c. d. Дервиши братства Руфайи в исступленном состоянии;
e.Шейх братства Накшбанди, посредством своих духовных сил;
f. Дервиши братства Маупави, совершающие покаяние;
g. Дервиш братства Бекташи за курением гашиша укрощающий льва
Британцы заимствовали эту терминологию, когда завоевали большую часть Индии, и в английском языке XIX века факир почти исключительно означал индусских аскетов, будьте организованные монашеские братства или те, кого британцы называли «бродягами». Случайное сходство этого слова с английским словом faker (мошенник, плут) создало впечатление, что эти аскеты поголовно являются обманщиками и плутами.
В отличие от подобного стороннего восприятия, в своей родной языковой стихии и слово дервиш, и слово факир означали духовную нищету, нищету по отношению к Богу, а значит, зависимость от Него. Как и в иных религиозных традициях, нищета для суфиев была признаком отвращения от мира и обращения к Божественной реальности. «Нищета есть моя гордость», - согласно преданию, сказал Пророк Мухаммад. Так что сообщения путешественников, касающиеся факиров и дервишей Востока, создали совершенно иной портрет, который еще столетие назад стал неким культурным штампом. Популярные американские песни XIX века трактуют танцы дервишей как пример дикого, неистового поведения. Нынешние рисунки в журналах все еще сохраняют образ факира, лежащего на гвоздях. Сообщения путешественников основывались на разрозненных сведениях, так что факир или дервиш порой мог предстать одинокой фигурой, а порой оказывался членом странного братства с особыми обычаями. Несомненно, что отрицательный образ дервиша имел своего собрата и в некоторых мусульманских странах, например в Персии, где возвышение шиизма сопровождалось созданием дурной славы суфизму.
В XIX веке европейское колониальное господство в мусульманских странах набирает силу. Любопытство путешественников к образу одиноких факиров или собраний дервишей, занятых странными обрядами, сменилось более насущными заботами колониальных властей. Местная знать в Индии, Египте, Алжире, на Яве была лишена всякого влияния британским, французским и голландским колониальным чиновничеством. Центры традиционного обучения, которые зависели от покровительства мусульманских правителей, утратили их поддержку. Во многих мусульманских областях суфийские ордены, часто воспринимаемые европейцами как монашеские братства, оказались единственными местными организациями, которых не задело установление колониального господства. В Северной Африке французские чиновники пристальное внимание обратили на «марабутов» (франц., от арабского слова мура-бит — насельник суфийской обители, известной как рибат), опасаясь наделенных харизмой вождей, которые могли сплотить местные племена. В местах, подобных индийскому Пенджабу, потомки суфийских святых были смотрителями ставших популярными мест паломничества, и британцы придумали план их ввода в собственную систему правления в качестве влиятельных землевладельцев. В иных случаях суфийские предводители, имевшие много последователей, оказывали сопротивление европейским завоевателям. В Алжире эмир Абд ал-Кадир сражался с французами не один год, вплоть до своего поражения в 1847 году; находясь в ссылке в Сирии, он много писал о суфизме и заведовал публикацией важнейших арабских суфийских текстов. На Кавказе шейх Шамиль из суфийского ордена Накшбанди создал независимое государство, которое отбивало натиск русских вплоть до 1859 года. Мессианское движение суданских махдистов, подавленное британскими войсками в 1881 году, своими истоками восходит к суфийскому ордену; британские сообщения о поражении «дервишей» в битве при Омдур-мане стали одной из вех наивысшего колониального могущества.
К концу XIX века изучение жизни суфийских братств стало насущной потребностью для европейских колониальных властей. В этих кругах изучение суфизма представляло собой смесь полицейских донесений и попыток проникнуть в суть «опасных культов». Суфийские предводители изображались как обладающие магнетической силой трибуны, чьи фанатичные последователи умерщвляют себя по одному указанию их наставника. В Сомали британцы отстранили от власти консервативного суфийского предводителя шейха Мухаммада Абдуллаха Хасана (1864—1920) под предлогом того, что он оказался «безумным муллой», хотя тот не был ни безумцем, ни муллой; сегодня соплеменники чтят его как отца сомалийской нации. Пожалуй, наиболее впечатляющий пример противостояния государства и суфизма засвидетельствован в Турции, где в 1925 году были распущены все дервишские ордены; перенимая опыт европейской колониальной политики, светский национализм открыто убирает возможного противника, имеющего солидную поддержку среди турецких граждан.
«Открытие» суфизма востоковедами
Путешественников и чиновников заботило общественное и политическое поведение дервишей и факиров. Слово суфизм впервые вошло в обиход через литературные каналы. Примерно двести лет назад несколько британских востоковедов обнаружили удивительное религиозное явление, которое существенно изменило их представление о Востоке. Эти блестящие ученые, связанные по роду деятельности с британской Ост-Индской компанией, особенно сэр Уильям Джонс (ум. 1794) и сэр Джон Малколм (ум. 1833), были весьма сведущи в фарси — языке международной дипломатии и властей в Персии, Афганистане, Средней Азии и большей части Индии. В своих исторических и литературных изысканиях по Востоку, которые из Европы виделись почти одинаковыми, сии ученые мужи приступили к розыскам некой мистической формы религии, которая как-то была бы связана с последователями Мухаммада (то есть «магометанами»). Так называемые суфии встречались при каждой мечети, но они казались привлекательней ненавистных османских турок, которые столетием раньше угрожали завоевать христианскую Европу. Эти суфии прежде всего были поэтами, они слагали гимны во славу радостей винопития, чего ни один благочестивый «магометанин» не стал бы делать. Более того, они обожали музыку и танец, были любвеобильными, а их дерзкие высказывания представляли открытый вызов Корану. Малколм и Джонс усмотрели в них вольнодумцев, которые имели мало общего с непреклонной верой арабского Пророка. В соответствии с приводимыми доводами они больше походили на истинных христиан, греческих философов и мистических мыслителей индийской веданты. Книжный суфизм имел мало общего с неряшливыми бродячими дервишами и факирами, которые позорили города и веси Востока. Поэтому и было в конце XVIII века пущено в обиход слово суфизм как соответствующее той части «восточной» культуры, которая пришлась по вкусу европейцам. Появившиеся в то время определения суфизма отличало утверждение о том, что он не связан никакими узами с исламской верой.
Оглядываясь сейчас назад, необычный взгляд британских востоковедов на суфизм мы можем отчасти объяснить необычными источниками, с которыми тем приходилось иметь дело. Джонс, в частности, отталкивался от персидского текста под названием «Даби-стан», где зороастрийский автор XVII века представил причудливый образ религиозной истории Индии и Персии, основанный на вольных трактованиях автора, вместившего все главные мистические откровения и философские достижения в историю Древней Персии. Опираясь на прочитанное, Джонс сделал вот такое описание суфизма:
«Я лишь задержу ваше внимание на немногих замечаниях касательно метафизического богословия, кое проповедует с незапамятных времен обширная секта персов и индусов и кое отчасти было занесено в Грецию, а ныне преобладает даже меж ученых мусульман, порой предающихся ей без остатка. Нынешние любомудры сего толка именуются суфиями, толп от греческого слова мудрый (или софос), то ли от шерстяной накидки (арабск. суф), в кою сии облачаются в некоторых областях Персии; их столп учения в том, что ничего не существует, кроме одного Бога; что душа человеческая есть излияние Его сущности и, хоть отделена на время от своего небесного истока, по концу вновь воссоединится с ним; что высшее мыслимое блаженство произойдет из сего воссоединения и что главное благо людей в сем преходящем мире заключается в единении с Вечным Духом, совершенном в той мере, в коей позволят препоны тленной оболочки; что ради сей цели им следует порвать все узы (тааляук, как те именуют их) с наружными предметами и шествовать по жизни без привязанностей, подобно пловцу в море, свободно скользящему без груза одежд; что им следует быть прямыми и свободными, подобно кипарису, чей плод едва приметен и который не гнется под тяжестью, как плодовые дерева, привязанные к своей подпорке; что, ежели просто земные прелести имеют власть завладеть душой, идея небесной красоты должна захватить ее в исступленном наслаждении; что, жаждая подходящих слов для выражения Божественного совершенства и пыла поклонения, мы должны заимствовать такие выражения, дабы как можно ближе приблизиться к нашим идеям и говорить о Красоте и Любви в запредельном и мистическом смысле... Такова отчасти (ибо я не вдаюсь в самые дебри метафизики суфиев, которая излагается в "Дабистане") дерзкая и вдохновенная религия современных персидских поэтов, особенно сладкозвучного Хафиза и великого маулави (Руми); такова система философов веданты и лучших лирических поэтов Индии; и, будучи системой глубокой древности в обеих странах, она может быть присовокуплена к множеству иных доказательств незапамятного их сродства»1.
Позже ученые XIX века выступили против необычного бытописательства «Дабистана» и отвергли его, посчитав подделкой. Недавно наука вновь стала считаться с данным источником, относясь к нему как к выразителю важного интеллектуального течения в персидской мысли на пороге Нового времени, но большинство ученых сегодня не считают его основополагающим источником знаний о суфизме. И все же общее звучание данного сочинения совпадает с настроениями романтического энтузиазма, подтолкнувшего Джонса к изучению фарси, арабского и санскрита во время создания Азиатского общества в Калькутте в 1784 году. Для него все глубоко мистические учения представлялись в конечном счете едиными; их выражают посредством «тысяч метафор и поэтических фигур, изобилующих в священных поэмах персов и индусов, кои, представляется, по сути, выражают одно и то же и различаются лишь в средствах выражения ввиду различия корнесловия их языков!2». В среде романтиков широко утвердилась гипотеза об индийских истоках всего мистицизма. Подвигавшие Джонса в его толковании суфизма поиски всеобщего делали исламские связи любопытными, но случайными.
Отделение суфизма от ислама приняло более явную форму в работах сэра Джона Малколма. Будучи посланником британской Ост-Индской компании при персидском дворе в 1800 году, он близко сошелся с ведущим религиозным авторитетом в городе Керманшах, которого называл Ага Магомед Али. Магомед Али был представителем шиитской верхушки, крайне враждебно настроенным к суфийским группам, которые в то время стали привлекать к себе огромное число последователей в Персии. Он и другие шиитские ученые мужи убеждали персидского шаха начать гонения против суфийских вождей на том основании, что те проповедуют падение нравов и расшатывают религиозные устои.
Следует мимоходом заметить, что возвышение шиизма в Персии с XVI века поставило суфиев в крайне двусмысленное положение, когда теоретическая и практическая стороны их движения, большей частью по политическим причинам, решительно размежевались. Теоретический мистицизм, известный как ирфан, или гнозис, сохранил весьма высокую репутацию в Иране до нынешней поры; ведущие ученые, наподобие Аятоллы Хомейни или Аятоллы Мутаххари, хорошо известны своими трудами по философскому и теоретическому мистицизму. С другой стороны, всякий, кто действительно практикует мистицизм в социальном плане, напротив, известен под именем дарвиш, которое в Иране стало выражением презрения к наркомании, лености, безнравственности и злу всякого иного рода. Такое разделение позволило религиозной верхушке Ирана избавиться от соперников, способных покуситься на их авторитет, сохранив при этом те суфийские доктрины, которыми они восхищались.
В любом случае, хотя Малколм признавал, что его персидский знакомый отличался предубежденностью, в своем сочинении 1815 года «История Персии» он все же воспроизвел крайне враждебный взгляд последнего на суфизм. Касаясь суфиев, он писал:
«Мы обнаруживаем на основе свидетельств магометанских авторов, что эти ревнители соответствуют своей религии. Их неугомонный пыл, возможно, ни в малой мере не помогал ее первоначальному угверждению; но с тех пор в них стали усматривать самых опасных ее врагов»3.
Вслед за Джонсом Малколм приемлет представление об индийских корнях суфизма:
«Именно в Индии, а не в иных краях более всего расцвела сия обманчивая и призрачная доктрина. В обычаях сего народа и в самом характере индусской религии есть то, что особенно лелеет таинственный дух святой отвлеченности, на коей та и зиждется; и мы можем признать верным предположение, что Индия является тем истоком, из коего все иные народы производят сие мистическое поклонение Божественному»4.
В своем повествовании о суфизме Малколм удовольствовался тем, что дал перечень из двадцати еретических толкований этого учения, согласно тому, что поведал его духовный собеседник. Суфии крайне опасны для религии, заявляет Малколм, по причине утверждения, что они обретают единение с Богом:
«[Они] также обвиняются правоверными магометанами в отсутствии всякой твердой веры, но в притворстве уважения к религии, коего у них нет, так что они могут увести тех, кого хотят прельстить. Они, по словам врагов их, клянутся в почитании Пророка и имамов, даже помышляют себя выше образов и обычаев, кои эти святые угодники не только лицезрели, но и полагали Божественно вдохновенными»5.
Из этого обширного повествования, основанного на свидетельствах враждебного шиитского главы, можно лишь заключить, что суфизм имеете исламом крайне зыбкую связь. Другие британские посланники приходили к подобным выводам. Монстюарт Элфинстоун (1779-1859), будучи членом посольства 1808 года в Афганистане, наблюдал, что «суфии... считают частные догматы всякой религии излишними и отвергают все обычаи и религиозное поклонение, рассматривая малозначимым то, коим образом мысли обращены к Богу, опричь того, дабы оные упокоились в созерцании Его благости и величия»6.
До сих пор обсуждение суфизма ограничивалось краткими наблюдениями в связи с замечаниями касательно персидской истории и культуры. Первым отдельным изысканием по суфизму на европейском языке оказалась статья приставленного к Малколму чиновника Джеймса Уильяма Грэхема; изначально это было выступление, прозвучавшее в 1811 году и затем обнародованное в «Transactions of the Literary Society of Bombay» («Труды литературного общества Бомбея») в 1819 году. Грэхем осознавал, что ступил на незнакомую землю, когда решил описать «знаменитый, хоть и малоизвестный, предмет вроде суфизма», и выразил полагающуюся в этом случае признательность Джонсу и д-ру Джону Лейдену (ум. 1811), которые затронули данный предмет7. В статье, озаглавленной «Трактат о суфизме, или Магометанский мистицизм», Грэхем проявил ту же самую склонность к умозрительным обобщениям, что и его предшественники. Вместе с тем Грэхем пошел дальше; он усмотрел привлекательность суфизма в том отношении, что он отрицает закон Му-хаммада и сближается с христианством:
«В отношении религии (если ее можно так определить в общем понимании этого слова) или скорее доктрины и догм секты суфиев наперво следует отметить, что всякий человек, иначе — представитель всякой религии или секты, может быть суфием, тайна заключается именно в этом. Всецелое отрешение разума от всех преходящих забот и мирских удовольствий, полный отказ не только от всякого предубеждения, сомнения или прочего, но и от практического образа поклонения, обрядов и прочего, лежащего в основе всякой религии, что магометане именуют словом шариат, сиречь закон, иначе — каноническое право, предание себя исключительно умственному разумению и созерцанию души и Божества, их сродства и соответствующего положения, в коем они обретаются, — словом, сие есть духовное сношение души с ее Творцом, кое пренебрегает и отвергает все предписания и внешние формы какой бы то ни было религии либо секты: строгое соблюдение поста, празднеств, отмеренного срока молитвы, еды мяса особого рода, омовений, паломничества и иных обычаев и обрядов, кои проводятся под началом практического поклонения (джисмани амуа), представляются деяниями закона, в отличие от умственного или духовного поклонения (рухани амул), то бить, как я понимаю оное, благодати или веры»8.
Грэхем воспринимает это мнимое отсутствие связи с религиозным законом и ритуалом как подобное проповеди апостола Павла из его Послания к римлянам в Новом Завете*. Далее суфии представляются им презирающими материальный мир и созерцающими свою собственную душу как излияние, эманацию Бога: «Сие есть чудная система иогинов, или индийских аскетов, и джняни**, иначе — человека, обладающего Божественной мудростью, или всеведением; от них, как полагают, суфии и заимствовали свое учение». Во всех своих рассуждениях Грэхем исходит из того, что суфийские представления совпадают с представлениями индийцев, христиан и греков (эпиграфом к статье взята греческая надпись на вратах дельфийского оракула «Познай себя», к тому же в тексте присутствуют обширные выдержки из трудов индийского поэта Кабира (1440-1518]). Грэхем не скрывает того обстоятельства, что суфизм кажется ему привлекательным, когда замечает: «На протяжении всего устного общения с туземцами из разных слоев я с некоторым удовольствием слушал многие истории об этом чудесном братстве».
Возможно, наиболее примечательным суждением Грэхема является его утверждение, что сами британцы видятся их индийским подданным суфиями: «На нас, вообще-то говоря, по меньшей мере в этой стране, смотрят как на разновидность суфиев, видя несоблюдение нами местных обрядов и форм общения, мысленное творение молитвы и достаточно строгое следование своим правилам поведения. Словом, нынешний вольнодумец или современный философ в Европе предстал бы своего рола суфием в миру, а не отстранившимся от него отшельником». Грэхем по сравнению со своими предшественниками приводит значительно больше сведений о суфизме, опираясь на персидские трактаты, к которым он получил доступ в Западной Индии. Правда, большинство ученых сегодня посчитали бы привлеченные им источники малозначимыми. И все же от чтения данной статьи остается впечатление, что суфии — это удивительные мистики, почти или вовсе не имеющие ничего общего с исламской верой.
Первая европейская книга по суфизму, опубликованная на латыни в 1821 году немецким теологом по имени Толук, открыто признавала ведущую роль британских востоковедов в открытии суфизма. Толук также указывал, чего могут ожидать европейцы от открытия такого любопытного течения, очевидно, лишь поверхностно связанного с исламской верой; он приводит сообщение из «Миссионерских ведомостей» («Missionary Register») за 1818 год, где утверждается, что «в Персии есть примерно 80 000 человек, именуемых софиями, которые около десяти или двенадцати лет назад открыто отвергли магометанство»9
* Апостол рассуждает об осуждении законом и об оправдании верой через Иисуса. Мы и до закона были грешниками, но не знали, что есть грех. Закон лишь стал «диагностическим инструментом», показавшим нашу неспособность жить по воле Божьей. Дело в том, что закон является «материальным выражением духовной природы Бога», а мы, плотские, лишены этой природы. Мы грешники по своей плотской природе и осуждены на смерть. И лишь путь ко Христу через осуждение закона делает человека духовным, то есть он начинает жить не по плоти, а по духу, «во Христе». Крестившийся «во имя Иисуса Христа» крестится в Его смерть и, умерев, становится неподсуден закону. Так обретаются духовная жизнь и уподобление Богу.
** Предсказатель будущего (санскр.).
. Это сообщение, которое скорее порождено воображением миссионеров, еще раз свидетельствует о желании востоковедов отделить суфизм от ислама. Название сочинения Толука на латыни: «Sufismus, sive theosophia Persarum pantheistica» («Суфизм, или Пантеистическая теософия персов») — говорит об огромной важности умозрительных категорий для данного изыскания. Пантеизм служит понятием для обозначения европейских философских учений (например, Спинозы), в которых Бог и природа признаются тождественными, а слово теософия (ныне больше всего связываемая с немецким мистиком Я. Беме) использовали для представления учения о том, что человечество в состоянии обрести Божественную мудрость; оба слова с позиции протестантской теологии имеют уничижительный оттенок. Однако при всей неточности толкований Толук затем видоизменяет их, связывая суфизм преимущественно с персами; позже, когда получит распространение расовая теория, этот вывод обернется представлением о суфизме как об «арийском» мистицизме, превосходящем «семитское» законопослушание арабов. Исследование Толука было все же достаточно обстоятельным, на более чем трехстах страницах он попытался подытожить сведения об истоках суфизма и о его наиболее видных представителях, приводя данные об антропологии, космологии, свободной воле, мистической терминологии и уровнях учения. В Императорской библиотеке Берлина было немного арабских, персидских и тюркских рукописей, но они дали ему более обширные знания, чем те источники, к которым имели доступ Джонс и Малколм. Так, отвечая на вопрос о греческом или индийском происхождении суфизма, Толук вынужден признать, что зачатки того, что позже станет известно как суфизм, можно различить во взглядах уже первых последователей Мухаммада. Однако поначалу Толук заключил, что суфизм выродился в чистый пантеизм в сравнении с истинными основами учения Мухаммада.
Он замечает, что «остатки учения суфиев, такие, как теории Божественного в человеке и эманации мира, стирание различия между добром и злом и даже отрицание гражданских законов (все это, как свидетельствуют факты, имеет место в позднем суфизме), составляют ядро пантеистического учения о единстве всего сущего с Богом»10. С этой поры суфизм окончательно стал объектом научного интереса. Религиозные и политические устремления Европы Нового времени создали само понятие суфизм, которое заняло подобающее место в списке учений и философских систем, заслуживших почетный суффикс -изм.
Самым примечательным в «открытии» суфизма, как описано выше, оказывается то, что его вряд ли бы признало большинство суфиев. Хотя такие авторы, как Грэхем, знали о выдающихся деятелях суфизма вроде Халладжа и Шамсаддина ат-Табризи, а Джонс определенно был знаком с великими персидскими суфийскими поэтами, эти британские ученые мужи в первую голову опирались либо на поэзию, либо на малозначимые и необъективные источники. Толук добавил немного арабских источников, но и он был явно не свободен от шор протестантской богословской догмы. Рассматривая суфизм как умозрительную мистическую философию, эти ученые полностью пренебрегали его общественным устроением, отражающимся в суфийских братствах, его установлениями, которые формировались вокруг могил святых, и ролью суфиев в политической жизни — теми факторами, которые будут представлены позже на страницах настоящей книги. И самое главное: отделяя суфизм от ислама, востоковеды, таким образом, отрицали важность Корана, Пророка Мухаммада и исламского права и обряда для суфизма — а ведь для большинства тех, кого именуют суфиями, все эти элементы определяли значительную часть их мировоззрения и обычаев. Творивший в Северной Африке в XV веке прославленный мусульманский философ и историк Ибн Хальдун, снискавший славу арабского Геродота, писал следующее:
«Суфизм относится к наукам о религиозном праве, что породил ислам. Он основывается на посыле, что обычаи его приверженцев всегда уважались влиятельными первыми мусульманами — теми, кои окружали Мухаммада и людьми второго поколения, а также пришедшими вслед за ними — как путь истины и праведного наставления. Подход суфиев зиждется на неизменной приверженности бо-гопочитанию, полной преданности Господу, отвращении от мнимого величия мира, воздержании от удовольствий, собственности и положения, коего жаждет великое множество, и на уходе от мира в затвор ради богопочитания. Сии вещи были обычны меж людей вокруг Мухаммада и первых мусульман. Затем мирские помыслы стали обретать силу во втором (восьмом) веке и далее. В то время особое имя суфия давалось тем, кто алкал богопочитания»11.
Такое отношение к суфизму было привычным для большинства мусульманских интеллектуалов вплоть до XVIII века.
В годы, последовавшие за «открытием» суфизма востоковедами, был достигнут значительный прорыв. Благодаря печатным изданиям все больше суфийских текстов становились доступными на языке оригинала как в мусульманских странах, так и на Западе. Растущее число толковых переводов на европейские языки позволяет читателям приблизиться к суфизму для его изучения или познания через личный опыт. И все же доступность суфийских источников пока не сравнить с теми возможностями, какими мы располагаем в отношении европейской литературы; предположительно лишь менее десяти процентов арабских рукописей увидели свет, не говоря уже о манускриптах на персидском, турецком, малайском, берберском, суахили, урду и ряде других языков, которыми пользовались суфии. И что еще важнее, взгляд на нынешнее состояние исследований по суфизму показывает, что многие предпосылки первых востоковедов еще имеют большое хождение, несмотря на сравнительно расширившийся багаж знаний, которым мы сегодня располагаем. Все еще встречаются ученые, которые тщат себя надеждой, что они, дескать, смогут открыть и обнародовать истинные «источники» суфизма в отношении индусского, буддийского или христианского на него «влияния». Оказывается, что еще многие сочинители некритически воспринимают исламских фундаменталистов, считая их истинными представителями ислама, а значит, исподволь признают обличение фундаменталистами суфизма как течения, стоящего вне ислама. Предвзятые мнения об исключительно правовом характере ислама (прежде «магометанства») используются в качестве критерия, по которому судят суфизм как отдельное явление, которое может противоречить религии как таковой. Труды колониальных чиновников XIX века (на которые ныне не распространяется авторское право) до сих пор перепечатываются в бывших колониях, и тамошние светские высшие круги считают эти исследования подлинными источниками исторических и культурных сведений12. Реформистские и фундаменталистские мыслители, не раздумывая, воспользовались склонностью востоковедческой науки видеть в прошлом «золотой век»; такой подход позволяет им выказывать почтение отдельным ранним суфиям, которых можно представить благочестивыми мусульманами, и в то же время горько сожалеть о нравственном упадке современного суфизма. Тех, кто не хочет невольно впасть в такого рода заблуждение, лучше всего сможет уберечь понимание крайне запутанной родословной самого представления о суфизме на Западе.
Понятие «cyфий» как нормативное этическое представление
Как же все-таки ответить на вопрос, что такое суфизм и кто такой суфий? В арабском и персидском языках имеются десятки обозначений для мусульманских мистиков с различными, порой противоречивыми, определениями, которые все переводятся на английский язык словом суфизм. Подобно другим понятиям, выковывавшимся в эпоху Просвещения для описания религий, понятие суфизм ныне стало общепринятым, нравится нам это или нет. Легко предположить, что данная реальность — или феномен — как раз и занимает нас и что все иные понятия оказываются лишь вариациями на эту основную тему. Такое предположение является следствием того пути, который претерпела в своем развитии социальная и интеллектуальная история в
Европе и Америке. Понятия, создаваемые в виде «измов», описывают философские учения и общественные движения, так что в идеале можно свести их к описательным определениям, зиждущимся на собственных искомых свойствах. Такой подход к классификации, особенно при сравнительном методе изучения религий, основывается на сравнительной зоологии. Первичными категориями, соответствующими биологическому роду, рассматриваются основные религии, а секты и отдельные типы религиозных верований предстают как различные виды или подвиды. При таком подходе к изучению религий возникает ряд трудностей. Здесь проявляется склонность представить всякую религию неизменной сущностью, и тем самым секта или школа мысли, которая нам мнится вступающей в противоречие с религией, может быть отброшена как некое отклонение, вероятно, вследствие «воздействия» другой религии. Как раз такого рода рассуждения привели к разделению ислама и суфизма в востоковедческой литературе. Ислам считают имеющим искомые свойства жесткого следования закону, тогда как суфизм рассматривают проявляющим безразличие к вопросам религиозного права; отсюда всего один шаг, чтобы положить внешний источник суфизма в Индии или еще где-то. Все большее при исследовании религий обращение в сторону социологии и идеологии как раз приводит к нынешнему пониманию суфизма как своего рода мистической философии, распространенной в мусульманских странах, куда можно запрятать обитающих на окраине общества некоторых его представителей-маргиналов (дервишей и факиров), а заодно и политически значимые массовые движения.
Такой описательный подход к понятию суфизма резко отличается от употребления слова суфий в суфийских текстах. Там мы видим нормативное, предписывающее употребление этого понятия, которое определяет цели нравственного и духовного совершенствования. Историческое происхождение слова суфий определено со всей ясностью; оно берет начало от арабского слова, означающего шерсть (суф), которую использовали в грубой одежде типа власяницы, веками носимой аскетами на Ближнем Востоке. Некоторые суфийские авторы освещают данное значение слова, полагая, что именно шерсть предпочитало носить большинство пророков. Отраженная в данной этимологии позиция отрешения от мира в начале исламской эпохи, когда завоевательные арабские армии создали при дворе культуру, отличающуюся чрезмерной роскошью и сибаритством, приобрела крайне важное звучание. Суфии сумели представить простой образ жизни Пророка Мухаммада (ум. 632) и многих его сподвижников как важный прецедент аскетического существования (иная этимология, впервые предложенная философом Бируни, связывает понятие суфий с греческим словом, означающим мудреца, софос, и значит, с греческой философией; однако такая трактовка не играла никакой роли в суфийской литературе, хотя ее и пытались возродить востоковеды, начиная с Джонса и Толука, в своих поисках внеисламских истоков суфизма). И все же, несмотря на важность облачения в позднейшем суфийском ритуале, этимологическая связь с шерстью имела лишь второстепенное значение для понятия суфий в сравнении с его духовным смыслом.
Создание понятия суфий в его концептуальном значении в огромной мере связано с усилиями тех, кто жил в четвертом веке исламской истории (X век н. э.), хотя были и более ранние прецеденты. Если мы хотим выделить основного создателя данной концепции, лучше всего подходит на эту роль Абу Абдуррахман ас-Сулами (ум. 1021). Судами, живший в Восточном Иране, написал много книг по-арабски, включая самое раннее основное собрание житий суфийских святых*. Он заложил основы исторического толкования суфиев как наследников и последователей пророков, создавая образ мусульманской духовности и мистицизма, который охватывает предшествующие три столетия. Сула-ми, подобно другим суфийским писателям, считал, что слово суфий возникло не во времена Пророка Мухаммада; как и прочие религиозные специальные понятия (в правоведении и изучении Священного Писания, например), оно, по его мнению, возникло позже, отражая возросшую разветвленность мусульманских религиозных занятий. Ансари (ум. 1089) в своем персидском переводе свода житий Судами замечает, что первым, кто вызвал к жизни имя суфий, был сириец, прозываемый Абу Хасим ас-Суфи (ум. 767), но при этом добавляет, что «до него были святые, отличающиеся аскетизмом, воздержанием и добродетельными деяниями на стезе преданности Богу и стезе любви»13
«Табакат ас-суфийа».
. Арабское слово тасаввуф, которое мы переводим как «суфизм», буквально означает «становление суфия».
Тасаввуф представляет собой отглагольное имя*, производимое от пятой формы глагола, используемой в арабском языке для образования от названий племен, религий, сект, местностей глаголов со значением «относить себя к данному племени, местности и т. д.»; отсюда танассур означает «принять христианство» (от насрани — христианин), а тафарнус — «стать французом». Хотя само слово было новым, извлечение из Лн-сари показывает, что оно использовалось для охвата широкого спектра духовных качеств. Поэтому первые жития суфиев пера Сулами и других авторов могли включать жизнеописания религиозных деятелей, которые в свое время не были известны как суфии. Подобным образом Умар ас-Сухраварди (ум. 1234) заметил: «Бог весьма хвалебно отзывается в Коране о собраниях добродетельных и благочестивых, и Он называет их благословенными, так же как и тех, кто около оных, и среди сих пребывают еще терпеливые, прямодушные, чтецы и возлюбленные. Прозвание суфий охватывает все, что заключается в оных именах. Сие прозвание не существовало во времена посланника Аллаха (да благословит его Бог и приветствует), хотя и говорится, что оно наличествовало во времена его сподвижников»14.
Литературные источники суфизма, появившиеся в X веке н. э., употребляли слово суфий осмотрительно и осознанно для озвучивания нравственных и мистических целей ширящегося движения. Ряд сочинений, прежде всего на арабском языке, излагает идеалы суфиев и разъясняет их связь с иными религиозными группами в мусульманском обществе. Крайне трудно с приемлемой степенью надежности воссоздать самую раннюю историю исламской духовности и мистицизма, и я не буду здесь затевать подобное предприятие отчасти потому, что большинство текстов, описывающих первых суфиев, сочинялись позже и отражают представления современников.
Тем не менее первые авторы, писавшие о суфизме, ясно осознавали его самобытность. Они говорят о суфиях просто как о народе (аль-каум) или общине единоверцев (аль-таифа). Такое выражение самосознания, уже очевидное в IX веке, основывалось на постепенном формировании небольших неформальных объединений единоверцев, которые обменивались между собой мнениями по поводу уклада их религиозной жизни. Те авторы, которые выстраивали в рамках понятия суфий вполне внятную духовную дисциплину, называли этих первых мусульманских ревнителей своими предшественниками. Определения суфизма, выдвигавшиеся ими, представляются историческими лишь в том смысле, что история доставляет чудные примеры религиозной жизни, которые можно привлечь в качестве образцов в суфийских сочинениях. На этой основе понятие суфий связывалось с арабским словом суффа — скамья (источник английского слова sofa), и в этом значении оно вызывает из исторической памяти «народ скамьи» - - бедных сподвижников Пророка Мухаммада, у которых не было крова и которые были вынуждены спать на скамье в Медине, делясь друг с другом скудным скарбом и пропитанием. Находя в слове данный исток, авторы, очевидно, пытались связать суфиев с ранней обшиной аскетических последователей Пророка, но тем самым, что важнее, они создавали идеал общежития как основу суфийского мистицизма.
В результате слово суфизм приобрело скорее наставительный, нежели пояснительный, характер. Ответы на вопрос «что такое суфизм?» множились и стали приобретать новое звучание, почти всегда размещаемые на видном месте в зачине каждого нового трактата по суфизму. Обычно эти определения начинаются с приведения дополнительной этимологии, которая связывает понятие суфий с прочими арабскими корнями, особенно сафа (чистота) и сафва (избранные). Аналогично образ суфия представил Кушайри (ум. 1074): «Бог сотворил сию обшину избранных меж Его друзей и возвысил оных над прочими Своими верующими после Своих посланников и пророков... и очистил их от всяких темнот»15.
* Точнее, имя действия (арабск. масдар — источник), передающее абстрактное название самого действия, выраженного глаголом.
Кушайри был достаточно откровенен, когда утверждал, что понятие суфии не кроется ни в каких словесных корнях, предлагаемых для его производства, ибо большей частью происходит насилие над правилами языка. «Сия группа также хорошо известна тем, что требует определений посредством словесного сходства и розысков корнесловия», — говорит он. Тем не менее поэтическое и риторическое воздействие подобного производства слов очевидно. Связывание суфизма с чистотой позволяет ему предстать в качестве чистилища сердец (тасфийат аль-кулуб), которое означает суровую нравственную дисциплину, основанную на созерцательных упражнениях. Введение представления об избранных означает, что Божия благодать выше всего в любом определении святости у человеческих существ, тем самым побуждая в них взращивание чувства покорности всемогущему создателю. Однако, несмотря на отвержение языкового определения понятия суфий, Кушайри выстраивает впечатляющий список речений различных ранних суфийских наставников, которые создают различные предписывающие нравственные и духовные цели для тех, кого привлекает подобный идеал. Вот несколько примеров:
«Суфизм есть врата к примерному поведению и отвращение от недостойного поведения.
Суфизм означает, что Бог побуждает вас умереть для себя, дабы вы жили в Нем. Суфий един по существу; ничто не переменит его, как и он не изменяет ничего.
Знак неподдельного суфия в том, что он ощущает себя бедняком, будучи богатым и смиренным, имея власть, и неприметным, имея славу.
Суфизм означает, что вы ничем не владеете и ничто не владеет вами. Суфизм означает, что вверение души Богу превыше всех иных желаний.
Суфизм означает овладение духовными сущностями и оставление того, чем владеет тварное.
Суфизм означает преклонение колен у врат Возлюбленного, пусть даже Тот гонит вас прочь.
Суфизм есть состояние, при коем исчезает все, что свойственно состоянию человеческому.
Суфизм есть ослепительно сверкающая молния»16.
Можно привести бесконечное число подобного рода примеров17. Все эти определения туманны с точки зрения описательной истории и социальной науки. В них отсутствует какое бы то ни было ясное указание на вполне определенную группу людей. Напротив, их цель — воздействовать на слушателя своим риторическим запалом; того, кто внимает этим определениям или читает их, побуждают вообразить духовное или этическое свойство, которое провозглашает данное определение, пусть даже оно парадоксально. Определения суфизма, по существу, являют собой орудия назидания.
Создание сознающей себя общности, зиждущейся на этих суфийских идеалах, имело определенные отрицательные последствия. Некоторые из наиболее значимых психологических и этических целей этого учения подменились самовлюбленным эгоцентризмом в осознании себя суфием. С возникновением понятия суфий мысль о возможном появлении мнимого суфия не заставила себя ждать. Среди примеров Кушайри есть и такие:
«Знак неподдельного суфия в том, что оный ощущает себя бедняком, когда богат, смиренным, когда могуществен, и неприметным, когда знаменит. Знак мнимого суфия в том, что оный преподносит себя миру богатым, когда беден, могущественным, когда смирен, и знаменитым среди своих последователей.
Самым отвратным из всего отвратного предстает алчный суфий».
Двойственность положения, созданная неискренними и лицемерными притязаниями на идеал суфия, даже привела к некой неловкости с этим словом. Когда Шибли спросили, отчего суфиев так величают, тот ответил: «Им все еще приходится иметь некое Я, иначе они не связывали бы себя с этим словом». Забавно, что неловкость со словом суфизм, похоже, возникла чуть ли не с обретением им известности. Когда у Худжвири (ум. 1075) спросили насчет суфизма, тот ответил: «В наше время сия наука на самом деле забыта, особенно в данной местности, ибо народ целиком поглощен удовольствиями и отвратился от служения Богу. Ученые мужи века и притворщики сего дня создали такое о нем представление, кое противно его началам»15*. Так что причитания по поводу упадка суфизма стали неотъемлемой частью при его определении уже с самого начала, указывая на разрыв между идеалами мистицизма и действительностью социальной практики. Наиболее знаменитое определение, выраженное в таком духе, приписывается раннему суфию по имени Абу аль-Ха-сан Фушанджа: «Суфизм ныне предстает именем без предмета, тогда как некогда он являл собой предмет без имени»19.
Те, кто занимался суфизмом, обязательно стремились подчеркнуть религиозную правомочность своего движения. В трудах X и XI веков, разъясняющих суть суфизма, с огромным трудом удается связывать суфизм в первую голову с Кораном и Пророком Мухаммадом, отражать его тесное родство с Божественным Откровением и Его посланником. К тому же эти суфийские сочинители (вроде Сарраджа, Судами, Калабази, Сухра-варди) с большим тщанием подчеркивали свое положение не только как вспомогательное по отношению к наставникам иных исламских религиозных наук (наподобие права и изучения хадисов о деяниях и речениях Мухаммада), но и стоящее выше их. Примером может служить арабский труд X века, названный «Благопристойности царей», где суфии предстают истинными повелителями мира с духовной точки зрения. Он описывает законников, знатоков речений Мухаммада и толкователей Корана, как ущербных по сравнению с суфиями: «Каждый из оных привязан к внешнему выражению знания, и оные пренебрегают его [внутренними] сущностями... Но мне не доводилось лицезреть людей, более крепко держащихся пророческого примера и внешне, и внутренне, и тайно, и въявь в отношении закона, помыслов и деяний, нежели собрание, известное под именем суфизма»20. В сравнении с подобным идеалом суфия можно было обличать обычных религиозных ученых как продажных слуг незаконных светских властей. Такая настороженная и обличительная позиция отчасти объясняется потребностью начавшего осознавать себя движения оправдать и истолковать себя в понятиях основных представлений братства в рамках исламской культуры. Некоторые широкоизвестные процессы еретиков и нападки на отдельных суфиев также побудили апологетов суфизма представить свои учения как опирающиеся на общепринятые богословские или правовые учения, наподобие положений богословия Абу-ль-Хасана Ашари (873—935) или правовой школы Ахмада ибн Ханбала (750-855). Описания суфизма, подобно всякой иной религиозной точки зрения в исламском обществе, обязательно содержали полемические доводы, предназначенные для привлечения источников религиозного авторитета и религиозной законности.
Основной метафорой в суфийской риторике, которая занимает видное место и в иных ведущих течениях исламской культуры, являются слова о главенстве внутренней (тайной, скрытой) реальности, или Высшей Правды. Привлекая выражение из Корана (57:3), суфии дают описание Бога, что «Он первый и последний, внешний и внутренний»*.
* Везде, где не указано особо, выдержки из Корана даются в переводе Саблукова, до недавнего времени единственном полном русском переводе. Цит. по изд.: Коран. Репринтное воспроизведение изд. 1907 г. В 2 т. М: СП «Дом Бируни», 1990. Общепринятое ныне имя Аллах для небесного владыки Саблуков переводит нейтральным словом Бог. Помимо неоконченного перевода И. Крачковского,сейчас имеется научный перевод Н. Османова, впервые опубликованный в журнале «Памир» (1990, № 3-12; 1991, № 1-12).
Представление о Боге как внутреннем выражении (батин) всех вещей требовало опоры на связь между внутренним и внешним. Полнее всего это выражалось в словесном построении с тройной рифмой, обычно привлекавшемся при устном наставлении: внешняя форма — это исламский Закон (шариа), внутренний подход — это Путь (тарика), тогда как Бог — сама реальность. Истина (хакика). Такого рода риторическая формула позволяла суфиям представлять свои отличительные практики как внутреннее претворение внешних ритуалов мусульманской религиозной жизни. Суфизм оказывался стезей, ведущей от обыденной внешней жизни к обретению внутренней реальности - Бога. Такая иерархическая градация действительности приводит к теории эзотерицизма; как сказано в Коране, «знающие и незнающие, равны ли одни другим?» (39:12). Важно распознать, что этот образ внутренней реальности и знания требует внешних форм религии. Самовыражение суфизма тем самым предполагает нормы исламской традиции, одновременно ведя за пределы этих установлений.
Терминология. употреблявшаяся в отношении суфизма
Несмотря на важность слова суфий как теоретического и образного понятия, оно не так уж часто прикладывалось к реальным личностям. Отчасти это было вызвано исконным разрывом между идеалом бескорыстия и самомнением, наличествующим в провозглашении подобного положения. Иными словами, было благоразумно, чтобы истинный суфий никогда не провозглашал это звание. Была соткана сеть из производных слова, дабы прикрыть эти погрешности, так что мута-саввиф представлялся тем, кто законно стремился стать суфием, и это слово могли спокойно перенять для себя многие. И наоборот, тот, кто притворно именовал себя суфием, именовался мустасвиф, словом, употреблявшимся исключительно в уничижительном смысле. Но если взглянуть на литературные труды, описывающие множество различных мусульманских мистиков, то бросается в глаза, насколько редко там используется слово суфий. К XIV веку именование кого-то суфием обычно представлялось язвительным выпадом против притворной святости; когда поэт Хафиз прибегает к слову суфий, он почти всегда вкладывает в него подобное значение. Например, слыша крикливые заявления притворщиков об их мистическом опыте, Хафиз говорит:
Скажи святоше в рубище (суфий), что, засучив рукав, Рукой к чужому тянется, а мне внушает смех:
«Чтоб сбить с пути всех истинных служителей Творца, Одел ты это рубище с узором из прорех»21**.
** Перевод К. Липскерова.
Великий персидский писатель Сзади (ум. 1292) из Шираза включил в свое ставшее классическим произведение «Тулистан» («Розовый сад») важную главу под названием «О нравах дервишей», в ней он пользуется широким набором слов для обозначения различного рода мистиков, но почти не употребляет слово суфии.
Терминология, используемая для различных исламских мистических практик, охватывает широкий спектр смысловых понятий. Часть этих терминов приводится ниже (понятия, происхождение которых не указано, являются арабскими). Умозрительный и обобщающий характер описательного понятия суфизм должен просматриваться в разнообразных смысловых оттенках этих слов.
Поклонение. Базовое понятие поклонения представлено в слове абид (другая форма — мутааббид), означающем благочестивого верующего; сам термин происходит от слова абд (раб) и имеет оттенок послушания и преданности Богу. В персидском языке употребляется еще слово парса, означающее благочестивого и праведного в поведении.
Этика. Самым древним понятием нравственного поведения является слово зухд, означающее аскетизм, воздержание от мирских удовольствий; аскетический человек зовется захид. Захидов отличает не только их твердое отвращение от мира, но еще и страх перед адским огнем; позже аскетов обличали за их сухость и суровость в сравнении с возлюбленными Бога (см. ниже). Нравственная добродетель и приверженность религиозному долгу — качества, которые связывали с са-лихом (праведным); сам корень связан с праведным действием, благостью, миром и созидающим порядком. В некоторых областях, особенно в Северной Африке, слово сапих преимущественно относится к праведнику или святому. Искренность и правдивость -добродетели, присущие сиддику (прямодушному). Данное уподобление более всего известно как характеристика Абу Бакра, сподвижника Мухаммада, уверовавшего в правдивость рассказа Пророка о его вознесении в рай. Слово вара (тщательное блюдение себя, избегая незаконной пиши и подношений) вытекает из страстного желания следовать Божьим заповедям во всех своих деяниях.
Знание. Суфизм часто описывается в ранних руководствах как вид религиозного учения (шш), наряду с религиозным правом и речениями Пророка. Наставник такого рода учения был известен как алим — ученый муж (мн. ч. улама). Многие из наиболее видных религиозных ученых в исламской истории одновременно практиковали суфизм, так что ученые звания наподобие маулана (наш господин) зачастую прикладывались без всякого различия и к суфиям, и к религиозным ученым мужам. Когда мистическое знание ставили выше традиционного учения, то предпочитали говорить о марифа, или ирфан, что означало особое (внутреннее) знание, или гнозис, которое преодолевает обыкновенное разумение. Обладатель такого знания был известен как ариф, или гностик. Многие интеллектуалы сочетали интерес к мистицизму с метафизическим курсом наук, идущим из греческой философии и получившим значительное развитие на арабском языке благодаря переводам Платона и Аристотеля, а также самостоятельным трудам таких философов, как Ибн Сина, известный на Западе под именем Авиценна (ок. 980—1037). Наставник метафизической мудрости (хик-мы) именовался каким, то есть мудрец.
Путешествие. Другие применяемые к суфизму понятия привлекают метафору путешествия, которое при общепринятом представлении суфизма дается как путь или стезя (тарика). Сочинения, касающиеся мистического опыта, описывают подобные переживания как путешествие (сулук). Трезво ступающий поданной стезе часто предстает как путешественник (салик; перс. рахрав). Важность такого уподобления оттенялась принятым у суфиев обычаем путешествовать в дальние страны либо в поисках религиозного знания, либо ради самодисциплины.
Любовь. Пожалуй, наиболее распространенные слова для обозначения мистиков брались из словника любви и сердечной привязанности. Для суфиев называться возлюбленными, любящими Бога, Пророка Мухаммада и своего суфийского наставника, было знаком уважения. Часто мы встречаем людей, которых просто именовали возлюбленными (мухибб, ашик) или прикладывали к ним одно из общепринятых обозначений друга (перс, дуст, яр). Сила любви представлялась столь важной для мистического опыта, что суфийские наставники часто были известны как «наставники сердца» (перс, сахибдил, ахл-и-дил).
Опьянение. В отличие от трезвого и владеющего собой путешественника, некоторые души оказывались плененными притягательностью (джазб) Божественных энергий. Эти «безумцы Божьи» утрачивали обычную рассудительность и могли казаться сумасшедшими. Независимо от того, было ли такое их состояние временным или постоянным, те, кто мог в нем пребывать (маджзуб, а также перс, мает — опьяненные), часто виделись святыми угодниками, их опекал и почитал обычный люд.
Двойственность общественного положения. Деятельность суфиев, считавших, что их идеалы основаны на Божественной Истине, неминуемо приводила к серьезным социальным трениям по мере того, как суфизм получал все большее распространение в мусульманской среде после XII века. С самых ранних пор одна группа суфиев сознательно навлекала на себя порицания (мапама) других, действуя из понимания ограниченности принятых общественных ценностей. Этих маламатийа — ставших на путь показного неблагочестия суфиев* — затмили те, кто отринул и обычное общество, и то, что виделось им извращением мистицизма в институциональном суфизме. Эти странствующие аскеты в одеяниях из шкур животных и порой в железных цепях, сбрившие все волосы на теле и обычно ведшие себя вызывающим образом, наводнили весь Средний Восток и Южную Азию. Известные под разными именами: то капандаров, то абдалов (заместителей)**, то баба (отцов), то хаидари, то малангов, то муваллихов "(юродивые; букв. одержимые), эти люди часто представлялись для политических властей опасными. Их связывали с крестьянскими бунтами, в частности в Анатолии.
Наставничество и ученичество. Среди наиболее важных обозначений для суфиев были те, что характеризовали роль духовного наставника. Самым общим понятием служило арабское слово, обозначающее старца (шейх, перс, пир), используемое как почетное звание. Сходными с ним являются звания учитель (устад) и поводырь, проводник (муршид). Наставник, или учитель, работал по тем же примерно направлениям, что и учителя обычных исламских религиозных на ук, схожим образом опираясь на цепь передающих учение (арабск. асхаб аль-хадис), восходящую ко времени Пророка Мухаммада. Ученик, или домогающийся (му-рид), должен сосредоточиться на наставнике как предмете своих домогании (мурад). Лучшие ученики избирались в качестве преемников (халифа) или представителей (мукаддам) наставника.
Святость. Одним из центральных представлений суфизма является исламское учение о святости (валайа или вилайа), которая свидетельствует о близости к Богу, а также о Божьем заступничестве. Святой (вали, мн. ч. аулийа; то же, что в перс, «великий муж» -бузург, а в тюркск. «Божий человек» — эрен) был той фигурой, которая могла просить заступничества перед Богом, подобно тому как феодальный вельможа мог выступать ходатаем перед властителем. Близость святого к Богу и тем самым его авторитет изначально интересовали суфизм с его незыблемыми идеалами и неизменным обличением мирской власти. В конечном счете могилы святых становились местом широкого паломничества, когда люди всех сословий жаждали приобщиться к незримой благодати святого как проводника, открывающего путь к духовным и материальным ценностям.
Духовное состояние. Представление о невидимой иерархии святых явилось логическим следствием духовного совершенства и авторитета. С самого начала при описании различных уровней этой иерархии применялись те или иные имена, или звания, некоторые из которых уподоблялись орудиям, посредством которых удерживалась вселенная как своего рода космический шатер. Поэтому помимо таких званий, как старейшины (нукаба), благочестивые (абрар), добродетельные (ахйар), заместители (абдап) и спаситель (гаус), мы находим также колышки (аутад) и полюс. Ось (кутб). Из них «полюс» и «спаситель» используются для обозначения мужа, венчающего иерархическую лестницу.
При виде такого многообразия занятий, переживаний и склонностей, лежащих в основе этих различных понятий суфизма, следует заметить, что английское слово суфизм должно было быть достаточно растяжимым, чтобы вместить их все. Более того, суфизм в том понимании, как он употребляется ныне, означает все эти внутренние идеалы, одновременно описывая их внешние, социальные и исторические проявления. Мы вынуждены использовать слово суфизм как выражающее одновременно и сторонний взгляд, и взгляд изнутри, что неизбежно ведет к разрыву между этими двумя точками зрения. Оставшаяся часть книги представляет собой попытку перекинуть мостики между этими двумя представлениями о суфизме.
* Так называемая школа «дурных святых».
** Букв.: заменяющиеся. Этот термин берет начало в следующем хадисе: «В народе сем — триста мужей, чьи сердца не отличишь от сердца Авраама — любимца Милостивого: как умрет один из них, тогда Бог заменяет его другим». Это, вероятно, арабизованная форма персидского слова «отцы», которое, начиная от гностиков и кончая сектой йазидитов, обычно служило для обозначения духовных руководителей (перс. пир).
.
ГЛАВА 2. Священные источники суфизма
В посланнике Божием есть прекрасный пример вам, тем, которые чают Бога и дня ведущий жизни и многократно вспоминают Бога.
Коран 33:21
Кораническое событие как основа мистического опыта
Мы ниспослали его в ночь определений.
О, если бы кто вразумил тебя, что такое ночь определений! Ночь определений — лучше тысячи месяцев.
Во время ее ангелы и дух, по изволению Господа их, нисходят со всеми повелениями Его. Она мирна до появления зари.
Такова полностью сура «Определения» под номером 97 из 114 сур Корана. Согласно преданию, эта сура описывает момент, когда Пророк Мухаммад узрел все кораническое Откровение, удалившись в пещеру на горе Хира, за пределы Мекки, приблизительно в 610 году. Откровения будут развертывать свой свиток на протяжении последующих двадцати трех лет, вплоть до смерти Пророка в 632 году. Именно в этом свершившемся событии мы находим отправную точку суфизма.
Откровение «снизошло» на Мухаммада в одну из завершающих ночей месяца рамадана. В тексте показано, чем сопровождалось само Откровение: нисхождение ангелов с небес и духа. Подобно некоторым иным сурам, относящимся к самому раннему этапу пророческого поприща Мухаммада, здесь явно ощущается потрясение открывшимся опытом. Тут присутствует нескрываемое удивление перед Божественной силой, выраженное посредством велений Творца. Однако сам момент напоен покоем, который царил всю ночь.
Внезапный натиск Божественной силы, похоже, отражен в другом месте Корана (53:1 — 11), где Откровение Мухаммада со всем тщанием отделяется от заблуждения и пустого желания:
Клянусь звездою, когда она закатается: Соотечественник ваш не заблудился и с пути не сбился. Он говорит не от своего произвола.
Он откровение, ему открываемое. Его научил крепкий силою,
Обладатель разумения. Он явился ему, Находясь на высоте небосклона;
Потом приблизился и подошел:
Он был от него на расстоянии двух луков или еще ближе. Тогда открыл Он рабу Его то, что открыл.
Сердце его не обманывалось тем, что он видел.
Если здесь описывается пережитый Мухаммадом опыт на горе Хира, то можно представить драматизм подобной встречи. Мощь повествования исходит равно как из явленного, так и из неизреченного. Образ Того, Кто сообщает Откровение, окружен завесой тайны и описывается единственно в отношении Его вездесущего присутствия, обнаруживаемого от края вселенной вплоть до Его внезапного нисхождения в непосредственной близи. Содержание самого Откровения здесь вообще отсутствует. Откровение самоудостоверяется. Хотя предание обыкновенно изображает Мухаммада, получающего откровение через посредство архангела Гавриила (арабск. Джибрил), сам язык убеждает, что Мухаммад встречается здесь именно с Богом; люди являются лишь рабами Божьими, и как раз посредством этого слова описывается отношение между Пророком и Источником Откровения, которое было ниспослано ему.
Уравновешивает это нисхождение Божественной силы обратное движение восхождения Пророка, о котором вскользь упоминает Коран в некоторых местах. Восхождение обычно представляют событием, которое начинается с ночного путешествия из Мекки в Иерусалим: «Хвала Тому, Кто в некоторую ночь содействовал рабу Своему совершить путь от Запретной мечети к Отдаленной мечети*, которой окрестности Мы благословили, для того чтобы показать ему некоторые из Наших знамений» (17:1). С этого места, с точки, традиционно размещаемой в близи Купола скалы (арабск. Куббат ас- Сахра) в Иерусалиме, он вознесся сквозь Небеса к Божественному престолу:
Он некогда видел Его в другой раз, У крайнего лотоса.
Там. где райская обитель,
Когда лотос покрывало то, что покрывало. Взор его не обманывался и не блуждал. Действительно, он тогда видел величайшие из знамений Господа своего. (53:13-18)
Эта встреча обставлена таинственными знаками, которые утверждают чудесное превращение, утаивая при этом его суть. Картина рая и предельное удаление от мира, однако, не ошеломили Пророка, ибо его взор никогда не отклонялся. Откровение как место сретенья Божественного с человеческим предстает не только лейтмотивом Корана, но и свидетельством, которое сам текст являет во всей его полноте.
В двойном движении, состоящем из нисхождения Откровения и восхождения Пророка, запечатлен ритм самого Корана. Этот примечательный документ, сообщаемый устно отрывками на протяжении двадцати трех лет, столь сложен и насыщен, что у нас есть возможность остановиться лишь на некоторых его темах и построениях. Для тех, кто незнаком с ним, необходимо немного сказать о том, чем же Коран не является. В отличие от иудейской Библии, Коран не содержит обширных повествований о пророках и их роли в истории. За исключением рассказа об Иосифе** (сура 12) и небольших эпизодов из жизни других пророков, мы не отыщем в Коране ничего подобного пророческим и патриаршим повествованиям из Книг Бытия и Исхода. Напротив, Коран предполагает, что читатели и слушатели знакомы со всеми главными лицами и сюжетами.
В отличие от Евангелий, представляющих собой собрание различных рассказов о деяниях и речениях Иисуса, как они собраны Его основными учениками, Коран являет собой запись Откровений, которые поведал Мухаммад своим последователям. Мусульманское подобие Евангелий лучше искать в своде хадисской литературы — большом числе отдельных сообщений о высказываниях и деяниях Мухаммада. Коран не книга преданий и традиций, которую человек, усевшись, читает с начала до конца (обычно советуют начать с чтения самых коротких сур в конце Корана, содержащих наиболее ранние откровения, а затем идти назад, пользуясь предметным указателем и тем самым знакомясь с темами, стилем и словарем текста).
Мусульмане подходят к Корану не как к литературному сочинению, а как к собранию Слов Божиих; в его рассказах важна не фабула, но наставление, в первую очередь утверждающее роль Пророка как передатчика Слов Божиих. 114 сур Корана размещены согласно их объему, начиная с самых протяженных, без учета содержания и внутреннего построения. Многие суры содержат отрывки с неожиданной сменой тем; за подробным описанием закона наследования может идти рассказ о евреях, отталкивающих Моисея*, либо живописные картины загробной жизни. Все это облекается в звучные строки, где задействованы все богатые ресурсы ритма и рифмы, имеющиеся в распоряжении арабского языка. Коран рассматривался как вместилище речений Бога, выраженных кратко и образно, что в первую голову отражает задачу Пророка передать Божию волю человечеству.
* Запретная, иначе Заповедная, мечеть (арабск. Масджид а.чь-Ха-рам) — мечеть в Мекке, главная мусульманская святыня, где находится Кааба. Отдаленная, иначе Крайняя, мечеть (арабск. Масджид аль-Акса) — главная иерусалимская мечеть, место, куда чудесным образом был перенесен Мухаммад перед вознесением на небеса.
** Иосиф Прекрасный; арабск. Юсуф или Йусуф.
Чтобы понять всю значимость Корана для суфизма, важно выявить то, каким образом его изучали. Подобно иным писаниям, Коран часто запоминали, и такое полное приятие в себя текста позволяло обрести близкое сношение с ним, как некий род одномоментного схватывания происходящего. Его повторяют частями, самое малое, при пяти ежедневных молитвах, обязательных для всех мусульман. Те, у кого есть особые к тому побуждения, могут продолжить, присовокупив дополнительные декламации к своим ежедневным молитвам и необязательным пяти ночным бдениям. Вероятно, в этом упоенном твержении Корана и открывалось мистическое толкование текста. Изучающих право более всего интересовало бы содержание тех разделов, которые можно приложить к правовой практике, в частности к области персонального права (наследование, супружество и развод) и ритуала (чистота, молитва, пост, паломничества, милостыня), где Корану есть о чем поведать (уголовное и торговое право затронуто лишь в немногих стихах). Но те, кто откликался на эмоциональное воздействие текста, пытался еще глубже проникнуть в его сокровенный смысл.
Рассказы о жизни Мухаммада содержат многочисленные случаи, когда простое твержение им Корана доводило слушателей до слез, а его способность проникать в сердце имела и познавательную сторону. С самых ранних пор изучающие Коран постигли его мно-голикость. Ряд мест допускали различное толкование. Если Новый Завет еще долгое время после распятия Христа не принимал своей окончательной формы, то Коран был зафиксирован вскоре после смерти Мухаммада. Тем не менее в мусульманской среде сразу же возникло множество толкований, касающихся таких тем, как природа свободной воли и предопределения, положение фешника и качества справедливого правителя. Одной из основных богословских тем, которые разделили мусульман, стала природа самого Корана. Если он представляет собой Слово Божие, то вечен и неизменен ли он, подобно Богу? Или же это речь Бо-жия, сообразующаяся со временем, подвластная толкованию согласно условиям человеческого бытия?
В спорах относительно природы Корана наряду с богословскими факторами присутствовали и политические, но даже наиболее буквалистскому прочтению Корана пришлось столкнуться с трудностью иносказательного толкования некоторых стихов. В частности, стихи, описывающие Бога посредством человеческих атрибутов, со ссылкой, например, на лик или длань Божий, приходилось понимать иносказательно, чтобы не допустить человекоподобия Господа. Как следует понимать описание Бога, восседающего на небесном престоле? Не вдаваясь в подробности причин возникновения различных школ мысли в ранний период исламской истории, можно указать на мистическое толкование Корана как на один из основных источников того, что станет суфизмом. Сам Коран (3:7) намекает на трудность толкования мест, содержащих аллегории, в отличие от тех частей Корана, которые содержат ясные наставления:
«Он ниспослал тебе это писание: в нем есть знамения, определенные по смыслу, они — матерь писания; а другие — иносказательные. Те, у которых в сердце уклонение от истины, гоняются за тем, что иносказательно, желая испытать и желая истолковать то. Но истолкование тому знает только Бог. Основательные в знании говорят: ''Мы веруем в это; все от Господа нашего"; только рассудительные вразумляются».
Это место является примером необходимости и трудности толкования священного текста. Ввиду отсутствия знаков препинания в самых ранних корани-ческих рукописях можно по-разному прочесть последнюю часть стиха:
* Арабск. Муса.
«Но истолкование тому знает только Бог и основательные в знании. [Иные] говорят: "Мы веруем в это; все от Господа нашего"».
Первое прочтение, к которому склоняются суфии, философы, шииты и другие, встречается в некоторых самых ранних комментариях к Корану и показывает, что есть разряд людей, которые «основательны в знании» и способны толковать иносказательные места Корана. Второе прочтение, предпочитаемое в наиболее распространенной версии Корана сегодня, утверждает, что один Бог в состоянии знать толкование иносказательных мест, а верующим остается лишь уповать на это, не задавая более вопросов. Со свойственной Корану завершенностью риторических формул стих заканчивается указанием на то, что «только рассудительные (улу-ль-албаби; букв.: имеющие сердца) вразумляются». Для тех, кто прислушивается к языку Корана, не забывая о человеческой психологии, это упоминание о сердце само по себе служит указанием на то, что есть особое знание, позволяющее подступиться к Божественному: «В сотворении небес и земли, в смене ночи и дня есть знамения для обладающих рассудительностью*» (3:190).
Современные споры среди мусульман о законности суфизма примечательны тем, сколь далеко может развести противоборствующие стороны то, что касается постановки знака препинания в данном кораническом стихе. Буквализм, свойственный фундаментализму, везде придает Божественный статус тексту. Передергивая факты, фундаменталисты отрицают возможность любого толкования, требуя при этом от других принятия навязываемых ими толкований. Полагая, что некоторые люди имеют достаточно знаний для толкования Писания, суфии и тяготеющие к суфизму оспаривают единоличное право распоряжаться культурным наследием исламской традиции.
Наглядным примером мистического знания в Коране служит история встречи Моисея с необычным «рабом Божьим», которого обычно отождествляют с вечно юным пророком Хидром (или Хизром** — «зеленый»). В этом эпизоде (18:60-82) Моисей и его служитель*** искали «место слияния двух морей», волшебное место, известное, по ближневосточному преданию, бьющим там источником живой воды. Они узнали, что достигли этого места, когда рыба, сваренная служителем Моисея, ожила и уплыла в море. Там они повстречали человека, которого Бог описывает как «одного слугу из слуг Наших, на которого Мы низвели Нашу милость и которому Мы дали познать высшее знание» (18:64).
Моисей попросил его следовать за ним, но тот сперва отказал на том основании, что Моисей не постигнет своим разумением его действий. Наконец, умилостивившись, таинственный пророк представил перед Моисеем череду странных деяний: сделал дыру в днище корабля, убил отрока и поправил стену в городе, населенном негостеприимными жителями. Когда Моисей возроптал против казавшихся несообразными деяний, Хидр растолковал, что он преследовал три цели: защитить рыбаков от царя, который насильственно захватывал все корабли; спасти верующих родителей от сына — как бы тот не заразил их нечестием и неверием; охранить зарытое под стеной сокровище, что принадлежало двум юным сиротам в городе. «Вот, — говорит он, — объяснение тому, в отношении чего ты не имел силы быть терпеливым». Здесь великому законодателю пророку Моисею оказывается недоступным толкование, которое открыто слуге Божьему, наделенному Божественным знанием. Этот рассказ с двояким смыслом будет служить классическим примером того разрыва, что существует между прилюдной ролью пророка и внутренним опытом святого.
Отзвуки коранического слова в сердцах тех, кто со всей горячностью твердил его, постепенно усиливаясь, созидали традицию мистического толкования. Зачатки данного направления можно отыскать в трактовании сподвижниками Мухаммада отдельных стихов Корана.
Иначе — сердцем. Притяжательная форма от арабск. хадир. Имеется в виду библейский Иисус Навин.
Вероятно, наиболее значимым ранним комментарием к Корану для суфизма представлялся тот, что приписывают шестому имаму шиитов, широко почитаемому Джафару ас-Садику (ум. 765). Его объяснения корани-ческих мест подчеркивают то обстоятельство, что существует множество толкований Корана, в соответствии с различной подготовкой слушателей. Он также представляет образец понимания Корана, который может постоянно находить смыслы, нужные для потребностей внутреннего опыта. При толковании стиха «Когда цари входят в какой- нибудь город, то разоряют его» (27:34) он в своем комментарии представляет его как иносказательное описание психологического воздействия встречи с Богом: «Сие указует на сердца верующих. Когда мистический гнозис проникает в сердца людей, желания и стремления оных тотчас прекращаются, так что не остается места в их сердцах ни для чего, опричь Бога»1. Толкования Джафара стали частью ядра коранического комментария, обогащенного усилиями суфиев вроде Зу-н-Нуна Египетского* (ум. 860). Последующие поколения мистических толкователей, включая такие фигуры, как Сулами, Кушайри и Рузби-хан Бакли (ум. 1209), расширили этот комментарий, добавив отдельные замечания видных представителей раннего суфизма на некоторые стихи, а в определенных случаях они присовокупили свои собственные толкования. Другие влиятельные мистические традиции толкования Корана мы находим в обширном персидском комментарии, собранном учениками Ансари под названием «Раскрытие тайн» (не путать с одноименным трудом Рузбихана Бакли), и в комментарии, созданном на протяжении нескольких поколений наставников из суфийского ордена Кубрави. Другие экзегетические традиции регионального уровня появились среди суфиев в Турции, Северной Африке и Индии. Что поражает в этом начинании, так это его собирательный, неизбирательный характер. Различные взгляды на священный текст признавались как правомочные плоды конкретного опыта, который приходилось переживать. При соблюдении правил грамматики каждое толкование могло заявлять о своей правомочности, не вытесняя одно другое. Труды по мистическому толкованию Корана образуют по-настоящему обширный предмет, к изучению которого лишь только подступаются ученые. Безусловно, это одна из наиболее важных основ суфизма.
Мистические темы Корана
Даже при беглом знакомстве с Кораном бросаются в глаза некоторые его темы.
Одна из них касается созидательной силы Бога, проявляющейся в творении, но никоим образом творением не ограничивающейся. Эта сила прославляется в величественном стихе о кресле* (2:255), который часто украшает дома мусульман в виде каллиграфической надписи:
«Бог... Нет другого достопоклоняемого. кроме Его, живого, присносушего. Его не объемлет ни дремота, ни сон; в Его власти все, что есть на небесах и на земле. Кто может предстательствовать пред Ним без Его изволения? Он знает, что пред ними и что позади их; они постигают мудрость Его только в той мере, как Ему угодно. Престол Его обширнее небес и земли, и хранение обоих их не есть для Него бремя, потому что Он высок, могуществен».
Бог является творцом жизни и смерти, началом и концом, к которому все возвращается. В сравнении с ним ничто иное не является истинно сущим: «Все, что на ней*, исчезнет, пребудет вечно только лице Господа твоего, владыки славы и величия» (55:26—27). Бог описывается загадочными словами в знаменитом стихе света (24:35):
* Саубан Абу-л-Файд Зу-н-Нун ал-Мисри.
* Арабск. айат аль-курси. О толковании значения слова курсийун (букв.: кресм) комментаторы и переводчики расходятся. Комментаторский труд двух египетских ученых XV века ас-Суйути (1445-1505) и аль-Махалли «Джалалайн» толкует его как знание; Байдави (ум. ок. 1286) — как 1) знание, 2) власть; Замахшари (1074-1143) — как 1) величие, 2) знание, 3) власть, 4) кресло рядом с Небесным троном; богословский модернистский журнал «Манар» — как знание; Ф. Рази (1149-1209) — как 1) великое тело, охватывающее небеса и землю, 2) власть, 3) знание, 4) изображение величия Аллаха; М. Асад — как eternal power (извечное могущество); Маудуди — как kingdom (царство); М. Али — как knowledge (знание); Масон и Бла-шер — как Throne (престол). Такую справку дает современный переводчик Корана Н. Юсупов.
«Бог есть свет небес и земли. Свет Его подобен светильнику в стене: светильник в стеклянном сосуде: стеклянный сосуд блистает как звезда. В нем горит благословенное дерево — маслина, какой нет ни на востоке, ни на западе; елей в нем загорается почти без прикосновения к нему огня. Свет к свету! Бог ведет к Своему свету кою хочет. Бог вразумляет людей сравнениями. Бог всеведущ».
Места, подобные этому, с их сугубо поэтической образностью, зовут читателя к поиску внутреннего ключа к уподоблениям и преувеличениям священного текста. Можно было бы привести и много иных примеров ко-ранического утверждения созидательной силы Бога, которые производят огромное впечатление на воображение прилежных читателей.
Другая тема, привлекающая пристальное к себе внимание, — это сокровенная близость, которая может существовать между Богом и людьми. «Мы создали человека и знаем, что внушает ему душа его: Мы к нему ближе его шейной жилы» (50:15). Верующие предавались созерцанию свойств тех, кто связан с Богом любовью: «Бог поставит людей, которых Он будет любить и которые Его будут любить» (5:59). Другие места Корана представляли человеческий дух в виде поприща, где можно обрести Божественное присутствие. Вездесущность Бога в творении ясно провозглашена в стихах, подобных следующим: «Пред Богом и Восток и Запад: куда бы ни обратились вы, везде лице Божие» (2:109). Бог равно проявляется и в природе, и в человеческом сердце: «Мы покажем им Наши знамения в этих странах, среди них самих, так что им ясно будет, что Он Истина» (41:53).
Но Бог в конечном счете обретается за пределами человеческого восприятия:
«Взоры не постигают Его, но Он постигает взоры» (6:103). Коран особо подчеркивает нерушимое единство Бога в сравнении с людской склонностью к многобожию, когда поклоняются чему-то меньшему от Бога. «Нет ничего подобного Ему» (42:9). Коран дает, с одной стороны, четкое описание Бога через многочисленные атрибуты, наподобие Милостивого, Сострадательного и Всеведущего; эти свойства, упомянутые в Коране, образуют девяносто девять имен, традиционно приписываемых Богу. С другой стороны, короткая сура, называемая «Чистое исповедание»*, предостерегает, что Он находится за пределами всех определений. «Скажи: Он — Бог -един, крепкий Бог. Он не рождал и не рожден: равного Ему кого-либо не бывало» (112:1 -4).
По своей крайней важности теме Творения не уступает тема светопреставления, Судного дня для всех душ. Наиболее образные места Корана красочно описывают райский сад, адское пламя, то есть геенну огненную, и судьбы человеческие после воскрешения из мертвых. Бог описывает день, когда «Мы спросим геенну: полна ли ты? Она скажет: уже ли еще больше этого есть?» (50:29).
Ранние аскеты сосредоточивали свое внимание на страхе перед геенной огненной в качестве основного предмета для своих созерцаний. Даже когда у большинства суфиев произошло смещение от богобоязненности в сторону Божественной любви, язык Корана настолько проник в словник суфиев, что даже ужасающие сиены ада сумели стать образцом для описания экстатических состояний.
Так было в случае, когда два ранних суфия обменивались посланиями касательно их способности к Божественной любви, представляемой в образе вина:
«Сообщается, что Йахйа ибн Муаз (да смилостивится над ним Аллах) написал письмо Баязиду**, говоря: "Что ты скажешь о тех, кто осушает чашу вина и становится пьяным от предвечности и послевечности?" Баязид ответил: "Я сего не знаю, но я ведаю, что здесь есть человек, который денно и нощно осушает моря предвечности и после- вечности и спрашивает: нет ли еще?"»2
В других переводах «Искренность», «Очищение (веры)». *
Вистами.
Столь же действенным оказалось описание райских садов в Коране, которые были средоточием помыслов для многих. Ранние руководства по медитации дают подробные указания для череды сорокадневных затворов, требовавших сосредоточения последовательно на самоограничении, страхе Божием, жажде рая и любви Божией (см. главу 4).
Кораническая картина рая описывает сады с текущими реками и прелестными отроками и отроковицами, находящимися в услужении у душ блаженных. Хотя исламский закон запрещает вино, Коран описывает обитателей рая с «полными чашами» (78:34) или «вином наилучшим, запечатанным: печать на нем — мускус» (83:25-26). Такая картина рая отчасти послужила источником чрезмерной символики винопития в позднейшей суфийской поэзии.
Возможно, наиболее примечательной кораничес-кой темой, разработанной суфиями, явилась тема первоначального завета, договора***, который Бог заключил с нерожденными душами человеческими еще до творения, до начала мира (7:172):
«Некогда Господь твой из сынов Адама, из чресл их, извлек потомков их и повелел им дать исповедание о себе самих.
"Не есть ли Я Господь ваш?" Они сказали: "Да, исповедуем это"».
Именно в этот предвечный момент были запечатаны судьбы всего человечества, и обычные комментаторы видят в нем утверждение Божественного предопределения. Те, кто ответил утвердительно, будут послушными рабами Бога, а те, кто не ответил, станут возмутителями. Суфийские толкователи пошли дальше:
«Чрез понимание языка действительности сей стих имеет различную тайну и различный вкус. Сие есть намек на первые состояния возлюбленных и заключение уз и завета любви с оными в первый день, в предвечном завете, когда Истина присутствовала и
действительность обреталась... Сколь чудный день, ибо это день закладывания основ любви! Сколь великолепное время, ибо это время накладывания уз любви! Ученики никогда не забывают первый день ученичества. Страждущий ведает, что сие время единения с возлюбленной есть венец жизни и самый благословенный миг»3.
Мистические спекуляции сосредоточивались на этом моменте как времени, когда человечество впервые услышало глас Божий; отзвуки этого гласа Божьего слышны во всех чудных голосах и в песне. Поэтому каждое музыкальное исполнение суфийской музыки в своей основе есть попытка вернуться к тому исходному моменту первого сношения с Богом (см. главу 7). Весь этот спектр значений, как и в случае со многими темами Корана, можно было бы выразить одним словом. Когда арабское слово аласт[у](«не есть ли я?») появляется в персидской или на языке урду поэме, оно воздействует подобно драгоценному камню, который преображает свою оправу; день изначального завета (руз-и аласт) обращает обычное любовное стихотворение в прославление вечной любви Бога к человечеству.
Для суфийской традиции Коран заключает все время и саму вечность в три дня. Вчера предстает зарей творения, когда Бог создал вселенную и запечатал судьбу своих возлюбленных.
Сегодня предстает этим миром, где все призвано жить в согласии с повелениями Бога.
Завтра предстает воскресением и Судным днем, когда души будут свидетельствовать против себя и держать ответ и будет явлено милосердие Бога.
Наряду с этими космологическими темами мистическая психология в суфизме также берет свое начало в тексте Корана. Кораническнй арабский язык использует ряд выверенных слов для описания различных сторон внутреннего «я». В самом низу этого яруса явлена тварная душа (нафс), порой приравниваемая к новозаветному понятию «плоть». Это живое дыхание, которое творят как люди, так и животные. В своем худшем проявлении эта «страсть (душа) с силой увлекает ко злу» (аль-пафс аль-аммара биль-су, 12:53), но когда она проявляется как совесть, то становится «душой, саму себя упрекающей» (аль-чафс аль-паввама, 75:2). Но стоит ей успокоиться, она предстает средством к спасению: «А ты, упованием покоившаяся душа, возвратись ко Господу своему, будучи удовлетворенною, удовлетворившею! Войди в среду слуг Моих, войди в рай Мой» (89:27-30). Этот внутренний орган чувствований, известный как сердце, тоже имеет много уровней. Самой внешней частью является грудь (садр), обиталище эмоций. Внутри ее располагается телесное сердце (калб), околосердечная сумка (фуад) и внутреннее сердце (лубб). Позднейшие авторы выделили в психологии еще более тонкие элементы, важнейшим из которых является дух (рух), который Бог вдохнул в человеческую оболочку. Эта относительно бессмертная часть внутреннего «я» оказывается звеном, связующим нас с миром вечности. На основе коранического словника в суфийскую практику были введены и многие другие понятия4.
Арабск. мисак.
Пророк Мухаммад как мистический образец и объект поклонения
Коран как Слово Божие отражается эхом в религиозном сознании мусульман.
Посланник, который принес это Откровение, предстает тоже весьма необычной фигурой. Основным Символом веры для мусульман является убежденное повторение формулы:
«[Свидетельствую, что) нет божества, кроме Бога, [свидетельствую, что] Мухаммед — посланник Бога». Первая часть провозглашает единобожие; вторая часть утверждает истину пророческого призвания Мухам-мада. Как указывалось выше, ниспослание кораниче-ского Откровения и восхождение Пророка к Божественному престолу предстают теми парными движениями, в рамках которых и формировалась исламская традиция.
Наряду с Кораном, священной книгой, ставшей предметом особого поклонения, почитания и изучения, образ Пророка Мухаммада также оказался средоточием молитв и созерцаний мусульман. Едва ли возможно переоценить значимость Пророка в мусульманской религиозной жизни. Антимусульманская позиция, выработавшаяся у христиан в средневековый период, привела к созданию отрицательного образа Мухаммада, который оказался на удивление крайне живучим.
Ранние христианские писатели, больше всего желавшие показать необоснованность притязаний Мухаммада на пророчество, представляли его как властолюбивого обманщика, обученного монахом-вероотступником, изобретшим лживую религию, дабы потешить свое самолюбие. В колониальную эпоху востоковеды всерьез полагали, что Мухаммад страдал падучей. Мусульмане, почитающие иудейских пророков, а из них более всего Иисуса (как пророка, но не как Сына Божия), часто бывают смущены нападками, с которыми все еще обрушиваются, нередко по недомыслию, на их Пророка.
Многие знакомы с очерками исламской мысли, согласно которым Мухаммад объявил себя человеческим пророком, без всякого притязания на божественность. Коран настаивает на том, что наделение любого создания авторитетом Бога есть идолопоклонство. Важно также не дать современным протестантским представлениям о религии заслонить всю сложность отношений человека с Богом, как в случае с Мухаммедом. Первые европейские писатели (начиная с Эдварда Гиббона и Томаса Карлейля), которые сумели положительно оценить Мухаммада, обыкновенно делали это лишь на том основании, что для них он являлся обличителем католического суеверия. Некоторые современные мусульманские реформаторы и фундаменталисты заявили бы, что Мухаммад ничем не отличался от любого человека, просто ему выпало быть избранным Богом для передачи Вести, к которой его личность, по существу, не имела отношения. Мухаммад, разумеется, вел жизнь семьянина и политического вождя в дополнение к тому, что был Пророком, и Коран отвергает требование неверующих, чтобы тот для свидетельствования своей пророческой миссии сотворил чудо. Но низведение Мухаммада до положения влиятельного религиозного реформатора происходит за счет умаления многого в мусульманской истории. Разумеется, есть и такие, кто охотно избавил бы и христианскую историю от всех святых, монахов и чудес, но подобный узкий, сектантский подход едва ли справедлив по отношению к богатству христианской духовной жизни, явленному миру на протяжении веков. Лишение Пророка Мухаммада всех необычайных, экстраординарных качеств равным образом представляется недальновидным шагом.
Коран в ряде мест ссылается на особое положение Мухаммада и его близость к Богу: «Кто повинуется сему посланнику, тот повинуется Богу» (4:81). Его положение как представителя Бога делает всякое согласие с ним подобным согласию с Богом: «Те, которые дают обещание быть верными тебе, дают обещание быть верными Самому Богу» (48:10). Позднейшие суфийские посвящения сообразовывались с этой клятвой верности Пророку. Воля и сердце Пророка настолько отождествлялись с Богом, что признавались единым. Ссылаясь на его участие в военном выступлении против языческих правителей Мекки, Коран утверждает: «не ты метал [песок], когда метал, но Бог метал его» (8:17). Хотя в некоторых местах Коран уклоняется проводить различия между пророками, Мухаммад ясно выделяется как «Печать Пророков» (33:40) — как тот, чей отпечаток на истории предстает последним, подобно сургучной печати на письме. Его собственный нрав, повсеместно восхваляемый современниками, утверждается Кораном (33:21) как пример для подражания. Помимо этого, за Мухаммадом признается исключительная роль среди пророков. Хотя каждый из них будет располагать правом в Судный день ходатайствовать перед Богом за своих последователей, Мухам-маду будет дозволено выступать ходатаем за весь род человеческий. «Мы послали тебя не иначе как милость мирам» (21:107).
Удаление Мухаммада от общества в пещеру на горе Хира, за пределы Мекки, ради созерцания представилось позднейшим мистикам основой для постоянного практикования отшельничества, в частности в виде тяжкого сорокадневного затвора. Особенно вознесение Пророка стало образцом для мистического опыта остальных. Картина вознесения Пророка со всей очевидностью отразилась на внутренней жизни персидского суфия Баязида Вистами (ум. 874). Среди его многочисленных вызывающих высказываний имеются описания его полета на Небеса в виде птицы, которая затем, усевшись на небесное древо, вкушает его плоды; после этого он посредством Божественного знания обращается человеческим ликом и вступает в сердечную беседу с Богом. Символика и риторика вознесения нашли широкое распространение. Для мистиков вроде персидского суфия Рузбихана Бакли мотив вознесения становится ключом к обширным видениям, записанным в его дневнике. Впечатляющие видения вознесения записывались и многими другими суфиями, над пример Ибн Араби (ум. 1238) из Андалусии, Мухаммадом Гаузом Гвалияри (ум. 1562) из Северной Индии и Ибн Аджибом (ум. 1809) из Марокко. Строившиеся, несомненно, по образцу восхождения Мухаммада, эти рассказы о вознесении пополняли свою тематику двумя путями. В первом случае в повествование вводились образы, почерпнутые из символики рассказов о вознесении, которые имели широкое хождение в других ближневосточных традициях, наподобие престола- колесницы* в иудейском мистицизме, и эллинистических повествований о восхождении души через сферы планет. В другом случае ударение делаюсь на описание психологических структур поиска и обретения единения, на котором и зиждется само представление о вознесении. Нужно признать, что в допущении о восшествии на Небеса было нечто дерзкое и даже самонадеянное. Подобные заявления могли бы просто принять за еретические потуги сравняться или превзойти пережитый Мухаммадом опыт. Хотя разрыв между ролью пророка и святого никогда так и не был полностью изжит, «официальное» объяснение, выдвигаемое для оправдания восхождения святого, обычно представляло его как чисто духовное, тогда как лишь один Пророк ступил на высшие Небеса в своем физическом теле.
* Колесница (евр. меркаба) Яхве, описанная в начале Книги Пророка Иезекииля и ставшая излюбленным символом таинственного мира «славы», где стремились выделить и классифицировать различные уровни, сферы или духовные пространства.
Вознесение Мухаммада, подобно большинству подробностей его жизни, известно в основном по длинным спискам преданий, именуемых хадисами**; предание собрали его сподвижники и передали потомкам. Их записи в течение двух столетий после смерти Пророка составили ряд сборников, которые получили статус канонических; собрания аль-Бухари, Муслима, аль-Тирмизи и Ахмада ибн Ханбала пользуются особым почетом. Записи хадисов образуют один из основных источников исламской этики и права, где пример Мухаммада используется как образец нравственного поведения во всех сферах жизни. Изучение хадисов составляло становой хребет исламского благочестия, а для многих суфийских учителей хадис был главным пробным камнем их учений. Все ранние руководства по суфизму, начиная с Сарраджа и Кушайри, подчеркивают значение Пророка как образца и примера мистика во всех мелочах обыденной жизни и повседневных обрядах, а также во внутреннем опыте. Согласно Сарраджу, когда Зу-н- Нуна спросили, как тот познал Бога, он ответил: «Я познал Бога посредством Бога, и я познал все иное посредством посланника Бога». Сахл ат-Тустари сказал: «Всякий экстаз тщетен, коль не свидетельствуется Кораном и Пророка примером». Сар-радж заключил:
«Бог выше всего наставил нас, что Бо-жия любовь к верующим и любовь верующих к
Богу покоятся в следовании за Его посланником»5.
Прекрасный пример суфийской обращенности к Пророку Мухаммеду можно видеть сегодня в надписи на английском языке, начертанной возле женского колледжа в Гулбарге, Индия, который опекают прямые наследники знаменитого суфийского святого Сайида Мухаммада аль-Хусайни Гису Дараза (ум. 1422). Надпись гласит:
«самое прекрасное поведение.
В общем, жизнь, которая полностью являет все стороны человеческого бытия и сочетает все, что есть лучшего и самого благородного касательно чувств и поведения, -это жизнь Пророка Мухаммада (да будет над ним мир), высший образец для каждого, в любом отношении, всегда и всюду.
Предположим, что вы богаты, тогда ваш идеал для подражания — купец из Мекки и казначей из Бахрейна.
Если вы бедны, вы должны следовать примеру узника Шахаба бен Аби Талиба и (позже) гостя народа Медины.
Если вам выпало быть царем, лучше будет ознакомиться с житием султана Аравийского.
Если вы простолюдин, пусть послужит вам уроком поведение подданного курайшитов.
Если вы победитель, вспомните предводителя битв при Бадре и Хунайне.
Если вы принадлежите к стану побежденных, черпайте воодушевление в событиях битвы при Ухаде.
Если вы учитель, пусть вашим идеалом будет водитель суффы (скамьи). Если вы ученик, вообразите того, чьим водителем был архангел Гавриил.
Если вы проповедник, прислушайтесь к проповедям предстоятеля мечети Медины.
Если вы жаждете нести слово истины, вспомните деяния благодетеля, когда тот был одинок и беспомощен.
Если вы преуспеваете в утверждении силы ислама и одолении ваших недругов, помыслите о роли завоевателя Хиджаза.
Если вы желаете основать свое дело и поправить свою участь, следуйте примеру управления, введенного владельцем земель Бани Нусайр, Хейбар и Фидак.
Если вы сирота, не забывайте возлюбленного сына Абдаллаха и Аминах. Если вы дитя, вспомните детство подопечного Абдал-лаха Саадийа.
Хадис — подлинно происшедшее (арабск.).
Если вы судья, обратитесь к житию третейского судьи, который вступил в Каабу до восхода солнца и установил черный камень на полагающееся ему место.
Наконец, где бы вы ни пребывали и в каком бы состоянии ни обретались. Пророк Мухаммад (да будет над ним мир) — воистину тот свет, что может просветить вашу жизнь».
Надпись и школа, у которой она висит, дают прекрасный пример основанной на хадисах нравственности в современном связанном с суфизмом учреждении.
Не так широко известно о существовании особого разряда хадисов, именуемых священными или Божественными речениями (хадис кудси), которые в действительности являются внекораническими откровениями. Есть ряд классических собраний таких хадисов, числом до ста, где Бог говорит от первого липа. Некоторые из этих Божественных речений имеют особую значимость для суфизма, поскольку там разрабатываются мистические темы, в частности, то, каким образом людская душа может приблизиться к Богу. Самое известное из этих речений излагает, как человек от требуемых религиозных обязанностей переходит к бдению сверх установленного, дабы стать единым с Богом; оно известно как хадис дополнительной молитвы (мн. ч. навафил(ь); ед. ч. нафияа). Здесь Бог говорит:
«Чрез не что иное, любезное Мне, как религиозный долг, коий Я требую от него, раб Мой приближается ко Мне. Чрез бдения сверх установленного приближается раб Мой ко Мне. пока Я не полюблю его; когда же Я полюбил его, Я семь слух его, коим слышит он, и зрение его, коим видит он, и длань его, коей взыскует он, и нога его, коей ступает он, и язык его, коим глаголет он. Коль он просит Меня о чем-то, Я даю оное ему; коль он ищет защиты, Я обороняю его»6.
Как и в некоторых местах Корана, на которые выше приводились ссылки, этот знаменитый хадис рассматривается как Божественная грамота, изволяющая мистический опыт. Отдельный ревнитель может становиться все ближе к Богу через непрерывное поклонение, покуда они не соединятся в любви. Ряд иных Божественных речений выделяет узы любви и близость между Богом и родом людским. Мы также находим Божественные речения о мире как орудии, посредством коего Бог может быть познан. В одном из них Бог так ответствует на вопрос пророка Давида: «Я пребывал потаенным сокровищем и жаждал быть познанным; вот Я и сотворил мир, дабы быть познанным»7.
Кроме того, общепринятый свод хадисов содержит некоторые примечательные утверждения Пророка о его собственном положении и положении мистицизма вообще. Некоторые из них указуют на Мухаммада как на первую вещь, сотворенную Богом, светоносную духовную субстанцию, через которую мир и был создан. Поэтому Мухаммад говорит: «Первое, что сотворил Бог, был мой свет, коий возник из Его света и изошел из великолепия Его славы»8. Мухаммад оказывается не только последним Пророком, но и первым: «Я пребывал Пророком, когда Адам пребывал меж духа и плоти»4. Единение Мухаммада с Богом явно выражено в утверждениях вроде следующего: «Кто бы ни зрел меня, зрел Истину»10. Мистические переживания и видения Мухаммада, столь волнующе представленные скупыми словами Корана, ясно слышатся в других рече-ниях-хадисах: «Я зрел своего Господа в самом чудном из обличий»11. Равным образом другой хадис указывает на Божественное происхождение человеческого обличья: «Бог создал человека в Его собственном обличье»12. Основная цель духовного пути представлена Мухаммадом как подражание Божественным качествам: «Соразмерь себя с Божиим нравом»13.
Почитание Пророка стало одним из определяющих элементов в большинстве мусульманских общин. Представление о духовной сущности Пророка, известной как магометанская реальность и магометанский свет, впервые было разработано в суфийских кругах, но оказало существенное воздействие и на народное поклонение Пророку. В отличие от «протестантского» образа Мухаммада, к которому тяготеют востоковеды и современные реформисты, в портрете Мухаммада, представленном в большинстве прежних житий, выделяли его космические и чудотворные черты. Представление о магометанском свете свое полное развитие, похоже, получило к VIII веку. Суфий Сахл ат- Тустари описал Пророка как столп света*, из коего Бог сотворил мир. Это метафизическое понимание роли Мухаммада сочеталось с повествовательным тоном, когда любовно освещались все подробности его жизни, известные по хадисам. В итоге через поэзию и прозу пополнялись картины прославления Пророка. Поэмы наподобие знаменитой касыды «Плащ** (Мухаммада)» египетского поэта аль-Бусири (ум. 1298), переведенной с арабского на многие другие языки, изображают почитание Пророка через описания чудес, совершаемых им. Стихи такого рода, сочиненные на многих местных наречиях, сопрягались как с обрядовыми действиями в повседневной жизни, так и с празднованием дня рождения Пророка. Стремление оттенить необычайные свойства Пророка проявляется и в целом сонме прозаических его житий, составленных на арабском, персидском, турецком и прочих языках. Признаком, красноречиво свидетельствующим об отходе современных представлений от этой традиции, является сама направленность нынешних жизнеописаний, где Пророка представляют общественным и политическим реформатором без всяких намеков на его чудотворство.
Следует признать неизбежность возникновения споров по поводу столь важного предмета, как высказывания и деяния Пророка. В первые века мусульманской эры повсеместной практикой было выдумывание речений Пророка, оправдывающих различные правовые, богословские и политические точки зрения. Возникла наука скрупулезного разбора хадисов, которую в первую очередь занимала цепочка устных передатчиков как основа определения подлинности текстов, якобы записанных со слов Пророка. Критический разбор хадисов, одинаково важный и для религиозных наук, и для изучения истории, обратился в итоге в канонизацию текстов. Большинство приведенных выше хадисов взято из собраний, признаваемых в ученых кругах суннитского мусульманства. Все прочие считаются знатоками права сомнительными или явно поддельными. Суфиев, в частности, нередко обвиняли в том, что они якобы слабы в науке о хадисах. Придерживающихся суфизма ученых, вроде аль-Газали, разумеется, больше привлекало содержимое пророческих речений, нежели то, насколько полно проверена цепь благочестивых и уважаемых передатчиков. Для суфиев авторитет Мухаммада как источника, на который ссылаются, был чем-то большим, нежели просто точность в передаче слов того, у кого журналисты берут интервью. Основополагающие истины, признаваемые мусульманским сообществом, пожалуй, неизбежно предстанут в виде речений Пророка, независимо от того, отыщутся ли они как таковые в наиболее ранних авторитетных текстах.
Споры об использовании и толковании священных текстов приобрели новую остроту в современных выпадах против суфизма, раздающихся со стороны мусульманских фундаменталистов. Фундаменталисты претендуют на обладание подлинными текстами, которые они просто приводят в своих доводах, истолковывая буквально. Так, например, они любят выхватывать те места из высказываний Пророка, где тот наказывает людям относиться к его могиле без всякого почтения. В их руках это испытанное средство против того, что видится идолопоклонством, наподобие почитания могил святых или пророков. Как и фундаменталистские течения в рамках иных религиозных традиций, мусульманские фундаменталисты отстаивают свою позицию, опираясь лишь на ограниченную часть самой традиции. Хадисы, которые противоречат их позиции, либо отбрасываются как поддельные, либо замалчиваются. Те, кто почитает Пророка и суфийских святых, могут приводить другие свидетельства, которые оправдывают паломничество к могилам, и на эту самую тему за последние годы было написано много полемических трудов. Кроме того, суфии опираются на личный опыт внутреннего общения с Пророком, аналогичного тому, которое можно испытать, находясь у его могилы в Медине.
* Арабск. нур. **
Арабск. бурда.
Есть много рассказов о суфийских святых, передающих хадисы непосредственно от Пророка, которого они лицезрели в своих видениях либо посещали чудодейственным образом. Такая форма авторитета текста отлична от буквалистского подхода.
Другим обстоятельством, которое усложняет понимание хадиса, является переход от устной культуры к письменной. Многое указывает на то, что хадисы вначале передавались изустно и поначалу их записывание встречало заметное сопротивление. И сейчас существует много примеров того, как в обрядовой практике, связанной с Кораном, опираются на устную передачу; когда в Египте впервые напечатали стандартное издание арабского текста Корана, его правильность проверялась на основе устной передачи Священного Писания признанными чтецами Корана. Как раз личный элемент, присутствующий в устной культуре, и не сохраняется в фиксируемом тексте. И вот на этот невоспроизводимый личный элемент и опирается чудотворная передача хадисов, утверждаемая многими суфиями. Буквалистский подход, которому содействует нынешняя культура книгопечатания, также отличен от того подхода, что преобладал при рукописном распространении сочинений. Один из сподвижников Мухам-мада, Абу Хурайра (ум. 676), сохранил больше хадисов-речений, нежели другой сподвижник, несмотря на то что находился в обществе Мухаммада всего три года. Он признавал свое необыкновенное умение впитывать и запоминать все, что бы ни говорил Пророк, представив само это умение в виде обретения внутреннего сосредоточения, посредством коего он собирал слова Мухаммада, словно бы те были розами, складываемыми Пророком в полу своего платья. Данный пример взяли для себя в качестве образца суфийские ученики, собиравшие устные высказывания собственных наставников. Забавно, что некоторые современные мусульманские ученые, оказавшись под влиянием европейских образцов литературного текста, настолько отдалились от своеобразия устной передачи хадисов, что ставят под сомнение надежность свидетельств таких сподвижников Пророка, как Абу Хурайра.
В связи с оспариваемой правомочностью высказываний Пророка следует подчеркнуть, что у сторонних наблюдателей нет никаких оснований отдавать заранее предпочтение фундаменталистскому подходу «буквального» толкования текста. Преобладание этой современной формы авторитаризма представляется своего рода порождением нынешней политики и неспособностью западных обозревателей быть выше роли простого рупора для заявлений опытных в пропаганде исламистов. Главенствующее положение Пророка таково, что в любой сфере мусульманской культуры он считается тем мерилом, с которым сравнивают всех остальных. Политические теоретики рассматривают его как идеального правителя. Ученые-правоведы видят в нем источник подлинного закона. Философы относятся к нему как к платоновскому философу-царю, чья мудрость исходит от его сношения с деятельным разумом*. Суфии, напротив, видят в Пророке возлюбленного Бога, милостивого, ходатайствующего перед Богом за весь род людской, внутреннего мистического проводника, который доступен для всех. Не следует удивляться при виде такого огромного числа претендентов на наследие Мухаммада. Как сказал Руми во вступлении к «Месневи»**: «Но кто бы — веселый иль грустный — напевам моим ни внимал, // В мою сокровенную тайну доселе душой не вникал»14***.
Очередным признаком главенствующего положения Пророка является то почтение, которое оказывается его отпрыскам. Одной из ключевых фигур ранней исламской истории был Али, двоюродный брат Мухаммада, который еще юношей одним из первых принял пророческую весть. Али стал четвертым халифом****, или преемником, Пророка, к тому же женился на дочери Пророка Фатиме. Поскольку у Мухаммада не осталось сыновей, оба его внука, Хасан и Хусейн (сыновья Али и Фатимы), естественно, пользовались особым вниманием. Политическое и религиозное движение, позже известное как шиизм, рассматривало Али и его сыновей единственными законными наследниками власти Пророка. Имамы, как известно, стали средоточием чаяний многих, кто чувствовал себя ущемленным в своих правах тем политическим и религиозным порядком, что воцарился через поколение после Мухаммада.
Не вдаваясь в сложные споры, окружающие ранние ереси в мусульманской общине, заметим лишь, что наряду с той ключевой ролью, что они играли в шиитском благочестии, имамы высоко чтились и большинством суннитских мусульман. Для значительной части шиитов двенадцать имамов своим авторитетом уступают лишь Пророку, а их молитвы и речения составляют дополнительное собрание хадисов наряду с основными собраниями речений, восходящих к Мухаммаду. Большинство суфиев нельзя рассматривать как сторонников исключительно шиизма в отношении закона и ритуала, хотя некоторые суфийские ордены (особенно в Иране) практикуют все сугубо шиитские обряды. К тому же все суннитские ордены включают в свою линию преемственности по меньшей мере одного из шиитских имамов, а большинство родословных суфиев восходят к Мухаммаду через Али (примечательное исключение составляет братство Накшбанди, где такое родство идет через Абу Бакра*). Помимо этой особой группы избранных имамов, в большинстве мусульманских общин продолжают пользоваться почетом многие другие потомки Мухаммада, известные как сейиды** и шарифы***.
Платон. Государство. Кн. V-VII.
* Перс. «Месневи-и манави» («Поэма о сути всего сущего»)
** Перевод В. Державина.
*** Сокр. от арабск. халифат расул Аллах — представитель по сланника Бога.
ГЛАВА 3. Святые и святость
Не правда ли, что друзьям божьим не будет ни страха, ни печали?
Одной из основных категорий при становлении исламской мысли стало понятие «друзья Бога» (аулийа Аллах), которое лучше всего передается словом «святые». Здесь, возможно, более, чем во всяком ином предмете, все коллизии внутри европейского христианства оказались отражены в языке, который служит для описания исламской традиции. Понятие святости, являвшееся одним из устоев католицизма, полностью было отвергнуто протестантскими реформаторами. Когда британские протестанты, путешествуя по Среднему Востоку или Индии, наблюдали религиозные явления, напоминавшие им католическое поклонение святым, они отзывались о нем в том пренебрежительном тоне, который прежде был запасен у них в качестве реакции на суеверные представления католичества.
Любопытно, что мусульманские фундаменталисты говорят в том же оскорбительном тоне о представляющемся им идолопоклонством почитании святых. Тем самым, подобно суфизму, в современной исламской мысли стало оспариваться место святости в исламе, несмотря на огромное значение святых в мусульманской религиозной жизни на протяжении предыдущего тысячелетия.
Арабское слово ваш (мн. ч. ау/шйа) имеет несколько значений: «опекун», «доверенное лицо», «душеприказчик», а также «находящийся пол Божьим покровительством», «друг Божий», «святой». Это слово в Коране прилагается к Богу, где к Нему обращаются как к «покровителю верующих»****, а мусульманина призывают осознать, что единственно Бог есть истинный угодник и помощник. Поэтому те, кого считают находящимися под Божьим покровительством, считаются людьми особыми, «друзьями Бога», или «святыми». Такое узконаправленное значение контрастирует с понятием святой, предполагающим подлинную святость, бого-угодничество как личное качество. В исламской традиции отсутствует нечто подобное католической канонизации святых, квазиправовой процедуры, которая предпринимается лишь после смерти праведника. Хотя мусульмане схожим образом чтят покойных святых, они к тому же признают «святых», которые здравствуют и непосредственно вовлечены в водоворот социальной и политической жизни. Историк христианства Питер Браун описал некоторые важные черты святых Западной Церкви, которые можно проследить и в исламской среде. Согласно Брауну, христианские святые пользуются особым покровительством Бога, замещают ангелов как посредников между Богом и людьми и находятся в таких отношениях с Богом, которые воспроизводят систему заступничества в обществе; это повышает вероятность того, что они могут ходатайствовать перед Богом за верующих1.
В структурном отношении те же самые черты можно отыскать и у мусульманских аупийа. Таким образом, не затрагивая юридическую сторону канонизации, мы видим, что понятие святой может удачно характеризовать праведников в исламском обществе.
Ранние суфийские писатели настаивали, что святость (валайа) лежит в основе суфизма. Пособие Ку-шайри дает нам вполне обычное общее изложение суфийской доктрины святости2. Кушайри определяет ва-пи двояко: во-первых, как того из благочестивых, за которого отвечает Бог; во-вторых, как того, кто отвечает за почитание Бога и послушание Ему при непрестанном Его почитании. Эти определения святости подчеркивают взаимное и близкое сношение Бога и человеческой души, выраженное с Божественной стороны защитой и ответственностью, а со стороны человека — поклонением и послушанием. Следует отметить, что в шиизме имамы были истинными «угодниками Бога», а Али был первым из их числа; для обычного мусульманина Символ веры - «Нет божества, кроме Бога, и Мухаммад посланник Бога». Шииты присовокупили сюда дополнительно такие слова: «Али — угодник Бога». Многие качества, приписываемые суфийским святым, используют и шииты для изображения имамов.
Из основополагающего отношения близости с Богом Кушайри выводит прочие заключения, касающиеся опыта мистических переживаний и влияния святых в суфизме. Он пытается сказать, что если Пророк безупречен, то и святой защищен от греха. Затем он приводит мнение разных ранних суфийских авторитетов о природе суфийской святости. Вистами говорил о святых как невестах Господа, неведомых никому иному. Святые могут и не осознавать приличествующее им положение, и большинство людей будет не в состоянии распознать их. Абу Али аль-Джузджани (ум. ок. 964) описывал святого с привлечением языка мистического уничтожения (фона) «эго» и явления Божественного присутствия (бака), говоря: «Святой есть тот, кто уничтожается в своем состоянии, тогда как Бог присутствует в его свидетельствовании Истины: Бог берет ответственность за его водительство, и очи владыки неизменно следуют за ним. Он не имеет никакого представления о себе и никакой иной опоры, кроме Бога». И тем не менее этот мистический опыт мог оказать незаметное и благотворное воздействие на других. Ибн Муаз (ум. 872) сказа!: «Святой есть аромат Бога на земле. Одни праведные обоняют его, и его благоухание достигает их сердец, так что через него у них пробуждается томление по своему Господу, и они начинают более упорствовать в своем уповании, согласно различию в характере».
Считается первым праведным халифом. * Арабск. господин; потомки со стороны Хусейна. **Арабск. благородный; потомки со стороны Хасана.
****В арабском языке эпитет вали употребляется по отношению и к людям, и к Богу. В первом случае его обычно переводят словом «святой», а во втором — «покровитель». Общей для этих двух значений является мысль о близости, приязни, угодничестве. Общий перевод для обоих случаев — «угодник».
Традиции, обращаясь к сообщениям хадисов, восходящих к Мухаммаду, утверждают о наличии особого разряда рабов Бога, часто числом 356, на коих и держится мир, хотя они остаются неизвестными миру. Как упоминалось выше, эта невидимая иерархия включает различные категории, наподобие семи заместителей (абдал) и высшего лица иерархической лестницы, известного как спаситель (гаус) или полюс либо ось мира (кутб). Хотя наиболее ясно эта иерархия выражена у Ибн Араби, исходное представление известно издревле. Типичной вариацией на данную тему является пространное описание у Рузбихана святых, через которых Бог управляет различными областями мира. Он приветствует двенадцать тысяч святых Индии, Туркестана, Занзибара и Эфиопии; самую верхушку, из четырехсот человек, в Анатолии, Хорасане и Иране; четыреста человек на морском побережье; триста в обителях на побережье Египта и Магриба; семьдесят в различных частях Аравии; сорок в Ираке и Сирии; десять в Мекке, Медине и Каабе; семь, что странствуют по свету; троицу, один из которой пребывает в Персии, другой в Анатолии, а последний среди арабов; и гауса, или кутба, являющегося осью мира3. Духовная иерархия оказывалась невидимой параллелью внешнего политического порядка. После смерти четвертого праведного халифа Али исламская держава утратила свою духовную субстанцию, попав в руки мирских династий. Святые стали рассматриваться многими как истинные правители мира.
И все же среди суфийских авторов наблюдалась определенная сдержанность, когда дело доходило до уяснения природы святости в связи со всеобъемлющим авторитетом Пророка Мухаммада. Большинство суфийских теоретиков ясно утверждали верховное положение пророков по отношению к святым. Типичным представителем такой точки зрения был Судами, который сказал: «Где кончаются святые, там начинаются пророки»; тем самым суфийскому святому отводилось место сразу за пророком, чьим преданным последователем тот был4. Различие между пророческим и святым авторитетом утверждалось в качестве мусульманской богословской доктрины. Важным установлением правовой школы ханифитов* в начале X века было признание, но также и различение чудес (муджизат) пророков и чудес** (карамат) святых5. Однако, помимо этого доктринального положения, определенные трения наблюдались между установленным традицией положением Пророка и Божественным вдохновением, которое неизменно присутствовало в святости. По аналогии с непреходящим авторитетом Мухаммала как Печати Пророков возник вызывающий символ «печати святых» — статус, впервые очерченный аль-Хакимом ат-Тирмизи (IX век) и провозглашенный Ибн Араби, который придал ему особый смысл6. Рузбихан, споря с теми, кто сомневался в мистическом опыте святых, утверждал, что оные тесно связаны с откровениями пророков: «Я страшусь, что народ Мухаммада (да благословит его Бог) впадет в хулу и противление и будет изничтожен. Тот, кто не верует в откровения праведных, не верует в чудеса пророков и посланников (мир им и благословение). Ибо океаны святости и пророчества взаимно проникают друг в друга»7.
Один из великих парадоксов святости вытекает из ее наиболее отличительного свойства: самосокрытос-ти. Ведь «эго» святого уничтожено, и как тогда прикажете распознать его? Древнейшие теоретические трактаты о святости настаивают на том, что святые известны только Богу; они не в состоянии распознать друг друга и могут даже не знать о том, что являются святыми. Тайна святости соответствует эзотерическому характеру суфизма вообще. Как утверждает один источник X века:
«Суфийские науки суть эзотерическое знание, кое есть знание вдохновленное и неопосредованная тайна между Богом, славным и величественным, и Его угодниками***; оное есть знание, исходящее от высшего знания. Бог, славный и величественный, поведал [что Хидр был тем), "которому Мы дали познать высшее знание"****.
Основатель Абу Ханиф (ум. 767). ** Иначе — даров благодати. *** То есть святыми.
Это особое знание, которое есть знак святого и сущность мудрости... [Спрошенный о таком тайном знании Пророк сказал), что "сие есть знание между Богом и Его угодниками, о коем не ведают ни ближайший ангел, ни всякая иная Его тварь".
Посему все внешнее имеет внутреннее; все внутреннее имеет скрытое; а все скрытое имеет действительное. Вот что Бог, великий и славный, дарует Своим угодникам, - вроде таинства чрез таинство. Таков один из знаков святости. Святые держатся чрез это, и живут они чудной жизнью чрез это. Они суть самые могущественные создания Божий после пророков (да благословит их всех Бог), и их науки суть самые могущественные из наук»".
От столь умозрительного принципа еще далеко до определения конкретных личностей в роли святых. И разделяющее их расстояние преодолевается как раз через описание житий святых и с зарождением паломничества к могилам святых.
Написание житий стало одной из основных форм распространения идей святости в
мусульманских общинах. Первые собрания биографий святых появились в X веке, в то самое время, когда стали возникать первые сочинения, толкующие суфизм. Жития святых выявили две основные тенденции. Первая была склонна рассматривать святых в качестве источника авторитетного нравственного и духовного поучения, что заставило особое внимание уделять словам святых. Подобный упор на поучение в своей основе представлял расширение роли речений Пророка в хадисах как главного источника норм нравственного и духовного поведения. Подобную склонность можно наблюдать в самом раннем и основополагающем житийном сочинении Сула-ми «Поколения суфиев». Судами представил жизнеописание пяти поколений на протяжении двух столетий, и каждое поколение представляло двадцать житий ведущих суфиев. По возможности каждого суфия он представлял двадцатью речениями, и в большинстве случаев каждый суфий сообщает дополнительно один хадис Пророка. Эти симметрично расположенные жития представляют святых в качестве образца благочестия, коему и должен подражать читатель. Такого рода биография больше похожа не на историческое описание, а на свидетельство мудрости святого посредством его речений, как это делалось в хадисах. Например, житие Сари ас-Сакати (ум. 865) начинается так:
«Одним из оных был Сари ибн аль-Мугаллас ас-Сакати, чьим первым именем было Абу аль-Хасан. Передают, что оный был дядей аль-Джунайда и его учителем. Он общался с Маруфом аль-Кархи и был первым в Багдаде говорящим на языке единения и истинности духовных состояний. Он имам багдадцев и их наставник в свое время. Большая часть второго поколения наставников, упомянутых в сей книге, была связана с ним».
За исключением устного сообщения о дате смерти Сари, на том и заканчиваются биографические сведения о данном святом. Затем идет хадис, поведанный самим Сари, где дается полная цепь передатчиков, как это делается в обычных собраниях хадисов:
«Нам было поведано Мухаммадом ибн Абд Аллахом ибн аль-Муталлибом аш- Шайбани из Куфы, что аль-Аббас ибн Йусуф аш-Шакти рассказал нам, что Сари ас- Сакати рассказал нам, что Мухаммад ибн Ман аль-Гифари рассказал нам, что Хал ид ибн Сайд передал нам от Абу Зайнаба, покровителя Хазима ибн Хармалы, от Хазима ибн Хармали аль-Гифари, сподвижника посланника Бога (да благословит его Бог и ниспошлет ему мир), что оный сказал:
- Однажды я проходил мимо, посланник Бога узрел меня (да благословит его Бог и ниспошлет ему мир), и тот сказал: "Хазим! Повторяй часто: "Нет никакой зашиты либо того, что может спасти в Боге", ибо это есть одно из сокровищ рая"»9.
Содержание данного речения, которое подчеркивает значимость повторения благочестивой формулы, пожалуй, не столь важно, как форма речения, выпукло показанная в самом начале биографии. Она представляет Сари как передатчика авторитетных пророческих установлений. За ним следует еще тридцать собственных высказываний святого, каждое из которых предваряется цепью передатчиков, подобной той, что мы видим в хадисах, но более короткой ввиду меньшего временного удаления Сари и Судами друг от друга.
18:64.
Вот пример:
«Я слышал, как Джафар ибн Мухаммад в Нусайре сказал, я слышал, как Джунайд сказал, я слышал, как Сари сказал: "Мне иедом короткий путь, что ведет к рай". Я сказат:
"Что же это?'' Он сказал: "Никого ни о чем не спрашивать, ни от кого ничего не принимать, и тебе нечего будет дать другим"».
Такого рода жизнеописание служило источником поучений о том, как вести праведную жизнь.
Вторая, дополняющая первую, тенденция в написании житий святых состояла в занимательности. Рассказ, а не поучение составляет основу биографий у Лбу Нуайма аль- Исфахани, современника Судами, чей труд «Украшение святых» (недавно изданный в десяти томах) дает длинную череду изображений угодников начиная с самого раннего этапа исламской истории. Истории святых Абу Нуайма нашли свое продолжение в весьма популярном житии персидских праведников, принадлежащем перу Фарида ад-Дина Атгара, — «Воспоминания о святых» (арабск. Тазкарат апь-аулеиа). Аттар рассказывает занимательные истории, где сообщается существенно больше личных подробностей, нежели у Судами, причем без всякого стремления следовать обязательным нормам передачи хадиса. Там, например, есть история, объясняющая последнее имя Сари (Сакати означает «старьевщик»; в ранние годы Сари, похоже, скупал и продавал поношенное добро).
«Сообщается, что, занимаясь скупкой и продажей, Сари стремился получить не более пяти лихв барыша.
Однажды он купил миндального ореха на шестьдесят динаров, а орехи подорожали. Пришел посредник и сказал: "Продай их мне. Сколько просишь?" Тот ответил: "Шестьдесят пять динаров". Посредник сказал: "Цена на орехи нынче девяносто динаров". Сари ответил: "У меня правило — извлекать барыш в полдинара из десяти динаров; я не отступлюсь от него". Посредник сказал: ''Я не думаю, что ты поступаешь верно, уступая собственное добро за меньшую иену". И перекупщик отступился, видя, что Сари не считает это верным.
Поначалу он обыкновенно торговат старьем. Однажды сгорел рынок в Багдаде; ему поведали: "Рынок-то сгорел!" Он сказал: "И я вместе с ним". Затем они пошли взглянуть, но его лавка не сгорела. Увидав это, он отдал, что имел, дервишам и ступил на стезю суфизма.
Его спросили: "Что стало началом твоего духовного состояния?" Он сказал: "Однажды Хабиб Раи проходил мимо моей лавки. Я дал ему кое-что, попросив раздать дервишам. Он сказал: "Да отблагодарит тебя Бог". В тот день, что он произнес эту молитву, мое сердце пресытилось миром. На следующий день пришел Маруф Кархи с сиротой. Он сказал: "Дай ему какое-нибудь платье". Я дал ему платье, и Маруф сказал: "Да сделает Бог мир твоим недругом и даст тебе отдохновение от сего занятия". Единым разом я покончил с миром благодаря благости молитвы Маруфа"»10.
Этим историям свойственны задушевность и простота, коих не отыщешь в назидательных поучениях и более умозрительных принципах, являющихся предметом суфийских речений. Рассказам Аттара, разумеется, присуще этическое и духовное содержание, но упор здесь делается на изображение духовной силы святого. Истории обращения особенно важны для подобной цели. Сари изображается человеком, наделенным добродетельным поведением уже в мирской жизни, и его обращением к мистицизму поначалу движет внутреннее решение бросить свою лавку, когда он полагает, что она сгорела. Однако дальше его решение уйти от мира целиком вызвано милостью двух суфийских святых, которые просили Бога за него. Эти истории о Сари показывают как важность верных религиозных установок, так и силу святых по преображению человеческой жизни.
Позднейшие суфийские жития содержат и назидательные высказывания, и поучительные истории. Мусульманская житийная литература необозрима, и лишь самая малость оттуда доступна в переводе. Изучение житий святых само по себе было важным занятием, поскольку устное или письменное изложение деяний и речений покойных святых являлось также и средством обретения их благодати*. Созерцание святых как образца для подражания могло также послужить важным фактором, содействующим становлению нравственных норм внутри общества. Некоторые истории святых обходятся вообще без нравственных примеров и просто утверждают, что святой являет собой собрание духовных добродетелей; в самом изложении эти жития сосредоточиваются на эпизодах, где обнаруживается чудотворная сила святых. К данной категории относятся занимательные истории о великом святом из Багдада Абд аль-Кадире Джилани (ум. 1166). Пример такого рода жития мы находим в жизнеописании святой из Западной Индии Биби Джамал Хатун (ум. 1647), составленном еще при ее жизни Дара Шукохом (ум. 1659), наследником могольского императора Шах-Джахана. Хотя в анналах суфизма женщин- святых значительно меньше, чем мужчин, их присутствие достаточно значимо, особенно это касается ранней святой Рабиа из Басры (ум. 801): она была взята за образец в повествовании о Биби Джамал Хатун, сестре учителя Дара Шукоха, суфийского наставника братства Кади ри Мийана Джива (еще именуемого Мийан Мир).
Биби Джамал Хатун является примером женщины, которая самостоятельно следует духовной стезей, преступая пределы, положенные женщине обществом в ее семейной жизни:
«Она сестра досточтимого Мийана Джива (да успокоит 1 Бог его совесть) и дочь, благодаря коей была возведена в благородный сан благородная мать досточтимого Мийана Джива. Ныне, в год 1050 [1640-1641), она еще здравствует.
Досточтимая Биби Джив овладела возвышенными состояниями и ступенями, крайностями аскезы и побуждениями, и в отрешении и затворе она несравнима. Она есть Рабиа своего времени, и многие чудеса и волшебства были явлены ею и продолжают являться.
В начале своего духовного поприща она ступила на стезю духовного ратоборства под началом ее прославленных матери и отца. Засим досточтимый Мийан Джив дал знать ей чрез посредство своего брата Казн Тахира, дабы та взялась за его стезю, после чего Биби ступила на эту стезю.
В согласии с уделом, сообразным с религиозным законом, она прилепилась к одному благородно рожденному, и был заключен между ними законный союз, и десять лет она была его супругой. Уже шесть лет они делили ложе. Затем Божественная страсть и любовь одержали победу над ее привязанностью к супружеству, и вот в полном затворе живет она в своей комнате. У нее две служанки, они прислуживают ей днем, готовят воду для омовения и другие надобности. Ночью она одна в этой комнате, занятая поминанием Бога. В сии дни ею владеет поглощенность [Богом). И с тех пор как досточтимый Мийан
Джив покинул свои края, ни она не приходила навестить его, ни досточтимый Мийан Джив не навещал ее, но были взаимные расспросы, и досточтимый Мийан Джив часто восхвалял ее»".
В житии затем упоминается ряд чудес, совершенных ею: рыба, начавшая светиться после того, как святая взглянула на нее, выходя из исступленного состояния; посещение ее во сне братом с предсказанием дня его смерти; насыщение целой толпы одним петухом; чудесное появление молока из небольшого сосуда для масла; исполнение мольбы одного вельможи о рождении женой отпрыска мужского пола; появление в закромах пшеницы и общение с духом недавно усопшего святого. Биби Джамал Хатун являла собой как образец непреклонной духовности, так и пример поразительных способностей, даруемых Богом Своим святым.
* Арабск. барака.
Как свидетельствуют жития, близость святого к Богу проявляется в необычайной внутренней силе, благодати (барака), которая позволяет совершать чудеса (ка-рамат). В этой силе заключены такие необычные способности, как чтение мыслей, исцеление хворых, воскрешение умерших, управление стихиями и животными, перемещение по воздуху, хождение по воде как посуху, изменение облика и нахождение одновременно в двух местах*. Теоретики суфизма часто предупреждали, что чудеса суть искусы, коими Бог испытывает верующего. Хотя и разрешается святым чудотворство, согласно Кушайри, оно вовсе не обязательно, как и само отсутствие чудес не свидетельствует об отсутствии у человека статуса святости. Пророков посылает к их народу Бог, и творимые пророками чудеса (муджизат) нужны для того, чтобы удостоверить их полномочия. Но, в отличие от общественной миссии пророков, статус святых сугубо личный и тайный; нет никакой необходимости, чтобы кто-то знал, кто является святым, и поэтому чудеса не обязательны для них. В действительности же чудеса обыкновенно воспринимаются как некое мерило святости.
В интеллектуальных европейских кругах с эпохи Просвещения больше не принято верить в чудеса. Неумолимые доводы критиков вроде Дэвида Юма убедили многих, что чудеса — это всего лишь суеверный вымысел (несмотря на контраргументы таких защитников чудес, как К. С. Льюис*). Само изучение религии в современном университете, вне сомнения, унаследовано от эпохи Просвещения, и одной из его главных забот является интеллектуальная независимость от давления любой религиозной ортодоксии. Следствием подобного похвального желания независимости явилось напяливание на себя тоги научного авторитета даже во многих иных сферах гуманитарных наук. И неизбежно прагматический успех научного подхода вылился в новую идеологию авторитета — сциентизм, который может быть столь же нетерпим, как и сами религиозные вероучения, которые он заменил. Поэтому многие ученые, изучающие религию, сочли своим долгом отринуть истории о чудесах как выдумки для легковерных. Данный спор не имеет отношения к тому, что обсуждается здесь. Я просто хочу заметить, что даже сегодня чудеса являются весьма значимой составляющей религиозного мировосприятия сотен миллионов людей в большинстве религиозных традиций. Если мы хотим понять их точку зрения, необходимо серьезное отношение к чудесам. Они воспринимаются как вмешательство Божественных сил в жизнь обыкновенных людей. Хотя чудеса могут включать наглядные примеры того, что противоречит природным явлениям, они могут также приобретать вид тонких невидимых сил с незаметным для неверующих воздействием.
Возможно, интересующимся суфизмом истории о чудесах сообщат очень многое, а не только заставят удивиться, как это обычно бывает. Чудеса были бы бессмысленны без свидетелей. Чудо, которое никто не видит, никчемно. Чудеса делаются по требованию зрителей, а позже рассказчика.
Каждая чудесная история предполагает кого-то, кто все видел, и того, кто позже поведал саму историю. Свидетель удостоверяет действенность самого чуда. Отсюда мнение, что значимость чуда заключается в обмене сведений о нем друг с другом, в самом свидетельстве, которое разносит славу о чудотворце. Пересказ чуда создает впечатление, которое, возможно, столь же важно, как и само чудо. Помимо этого, сами форма и построение рассказа часто несут с собой нечто довольно значимое. Классическим примером служит история о суфийском мученике Ху-сайне ибн Мансуре аль-Халладже, который был умерщвлен в Багдаде в 922 году по обвинению в ереси. Великолепный рассказчик Аттар утверждает, что Хал-ладжа убили потому, что он пережил единение с Богом и был не в состоянии удержаться от возглашения «Я есть Истина» (Ана аль-хакк).
* Как бы раздвоение личности.
* Льюис Клайв Стейплз (1898—1963) — английский писатель, филолог, христианский мыслитель и публицист.
Он описывает казнь Хал-ладжа следующим образом:
«...Потом ему отрезали язык. И лишь в час вечерней молитвы его наконец обезглавили. Даже в этот миг он продолжал улыбаться, а затем испустил дух. Люди вокруг кричали. Хусайн докатил мяч своей судьбы до поля покорности. Каждый из его отсеченных членов возглашал: "Я есть Истина!" На следующий день они сказали: "Сие доставляет больше неприятностей, нежели в то время, когда он жил". Тогда они сожгли его члены. И от пепла исходил крик: "Я есть Истина!" Каждая капля его крови растекалась струйкой, вычерчивающей имя Аллаха. Они поразились. Они бросили пепел в Тигр, но и на водной глади [пепел] продолжал твердить: "Я есть Истина!" Ведь Хусайн сказал: "Когда они бросят мой пепел в Тигр, Багдаду будет грозить затопление его водами. Расстелите по воде мою накидку, иначе она разрушит Багдад". Когда его слуга увидел сие, он принес накидку господина к краю Тигра, и воды улеглись опять. Пепел успокоился. Тогда они собрали его пепел и захоронили его. Ни один человек Пути не одерживал подобной победы»12.
Записи суда над Халладжем, сохраненные историками, показывают, что само высказывание «Я есть Истина» не было подлинной причиной приговора; его осудили за тонкости, связанные с ритуалом13. Тем не менее поведанная Аттаром история являет собой блестящий пример столкновения мистического опыта с политической властью. Эмоциональное выражение удивления со стороны и сторонников Халладжа, и его противников предстает ярко выраженным элементом повествования. Удивление и изумление составляют цель излагаемой истории, и она с успехом достигается. Сама история подана так, чтобы произвести на слушателей как можно большее духовное воздействие. В таком случае излишне и негоже протестовать, что члены и пепел не могут говорить.
Обычный исламский обряд похорон требует положения усопшего на правый бок, лицом к Мекке, чтобы тот был готов к воскрешению в Судный день. Если одни хадисы сообщают, что Пророк осуждает посещение могил, то в других содержатся молитвы, которые тот читал при посещении могил — например, своих родителей. Хотя современный фундаментализм отрицает законность возведения усыпальниц, с описательной точки зрения строительство мавзолеев на протяжении столетий остается одним из основных и ярких направлений исламского зодчества. На Западе хорошо известна царская усыпальница Тадж-Махал в Индии; большие усыпальницы такого рода часто имеют молитвенную нишу в соответствующей стене, обращенной к Мекке. Могилы суфийских святых стали приобретать общественное значение в XI и XII веках, когда правители увидели выгоды в установлении открытых связей с теми, кому Бог вверил власть над миром. Поэтому турки-сельджуки соорудили усыпальницу для персидского наставника Абу Сайда ибн Аби аль-Хайра (ум. 1049), а монголы возвели усыпальницу для Баязида Бистами.

Могила Бавы Мухайадина близ Филадельфии
Почитание могил святых также составило важную обрядовую практику в суфийских орденах, которые начали возникать примерно в то же время (см. главу 5). Хотя для европейцев и американцев такого рода могилы-святилища всегда представлялись лишь яркой и необычной формой архитектурного творчества, суфийские могилы начали теперь появляться и в Северной Америке. На одной из ферм в окрестностях Филадельфии можно отныне посетить могилу Бавы Мухай-адина (ум. 1986), тамилоговорящего суфия из Шри-Ланки, у которого было значительное число последователей в Соединенных Штатах. В Абикиу, Нью-Мексико, находится могила предводителя американских суфиев Сэмюэла Л. Льюиса, а иранский суфийский наставник Хазрат Шах Махсуд похоронен в Новато, Калифорния.
Почему к могилам святых проявляется особое внимание? Ибн Араби высказал взгляд, согласно которому подобные места наделены духовной мощью, энергией (химма) наставников, которые жили здесь и предавались размышлениям. Он описывает это посредством опыта «обретения» (вуджуд), который тесно связан с арабским понятием экстаза (ваджд):
«Одним из условий свидетельствующего знатока, наставника сокровенных стоянок и мест свидетельствова-ния, является то, что оный ведает о влиянии сих мест на тонкие сердца. Ибо если сердце обретает себя в ином месте, его обретание более обще. Но его обретание в Мекке более блистательно и более совершенно... Обретание наших сердец в некоторых местах значимее, нежели в иных... Святой ведает, что сие происходит по причине того, кто жил в сем месте. Точнее, он находится в духовном состоянии, ниспосланном доблестными ангелами, праведным джинном либо мощью человека, который жил здесь и которого нет уже более, как в случае с жилищем Абу Йазида, именуемым жилищем благочестивого, либо с уединением Джунайда в Шунайзийа, либо с пещерой Ибн Азама в Тане. Во всех местах, где держится их воздействие, затрагиваются тем самым тонкие сердца... Сие происходит не вследствие земли (тураб), но по причине собраний сподвижников (атраб) и воздействия их мощи»14.
Воздействие прошлого святых объясняет различия в восприятии, которое могут ощущать у их могил. Например, суфийский наставник Ала ад-Даула Симнани (ум. 1336) из братства Кубрани отмечал, что паломничество к могилам усиливает духовную обращенность (таваджжух) через общение с мощами святых. Симнани к тому же добавляет, что наряду с тонким телом, которое объявляется при воскрешении, место захоронения останков теснее связано с духом, нежели всякое иное чувственное явление.
Приводя пример могилы Пророка Мухаммада, он утверждает, что размышление о Пророке в любое время благоприятственно, но посещение могилы Пророка лучше, ибо дух Пророка чувствует дополнительные усилия и трудности путешествия и помогает паломнику в достижении полного обретения внутреннего смысла паломничества. Соответственно, и могила святого обладает подобными качествами. Широкое признание этого положения показывает, что у суфиев было принято посещение могил святых. Ученик Симнани — Ашраф Джахангир Симнани (ум. 1425) замечает: «Когда бы вы ни приходили в город, первое, что следует сделать, так это облобызать стопы святых, кои здравствуют, после чего удостоиться посещения имеющихся тут могил святых. Если могила вашего наставника обретается в сем городе, сперва устраивается паломничество к нему; иначе вы посещаете могилу всякого святого, что указана вам»15.
Посетителям могилы святого тот представляется живым, подобно мученикам, убиенным во имя Бога (Коран 2:154, 3:169). Паломники приходят навестить святого и поклониться или даже помолиться ему, хотя согласно букве закона они должны молиться одному Богу. Молитвы во имя святого давали возможность обретения паломником покровительства с его стороны. Многие, особенно верховная знать, предпочитали хоронить себя рядом со «своим» святым, чтобы пользоваться благодатью его близости, которую можно было подкрепить благотворительными пожертвованиями в сочетании с постоянным повторением Корана и молитв. Направляющиеся к могилам святых паломники обычно совершают подношения в виде обета: если святой удовлетворяет желание молящегося, то тот исполняет обязательство со своей стороны, даруя кое-что на поддержание могилы святого или ее смотрителей. Притягивало паломников к мощам святых еще и целительство. Некоторые святые отвечали, так сказать, за врачевание определенных недугов, наподобие бесплодия или слабоумия. В качестве примера можно взять недавно изданную в Бомбее книгу на языке урду под названием «Живые чудеса Божиих угодников», представленную в одном популярном ежегоднике для индийских мусульман. Вот отрывок из нее:
«В сорока одном месте Индии происходят живые чудеса на могилах угодников Божиих (святых), и вы можете увидеть их собственными глазами. Эти поразительные события даже удивительнее рассказов из «Тысячи и одной ночи», и сегодня люди со всех стран могут воочию лицезреть их. Ознакомьтесь с их удивительным содержанием и дайте почитать своим друзьям; чтение живых свидетельств истины исламской религии укрепит нашу веру. Эти живые чудеса изменят вашу жизнь. Вот те места, где поправляется подорванное здоровье:
1. [Близ Аджмера], чудо великой чаши с едой при дворе Хваджи Гариба Наваза [Муин ад-Дина Чишти].
2. Близ Хулдабада, бесплодная разрешилась детьми при дворе Хазрата Джалал ад-Дина Ганж-и-Равана.
3. [Близ Хулдабада], излечение заики у святой усыпальницы Хазрата Амира Хасана Ала Сиджзи.
4.одержимого у могилы Хазрата Абд ар-Рахмана Шаха из Цейлона.
5.бешеной собаки при дворе Хазрата Хаддана Шаха.
6.слоновости сорокадневного затвора Хазрат Бабы Фарида Шаккара Ганджи.
7.Хазрата Мухаммеда Бадшаха Балхи.
8. святой Меч, летящий от усыпальницы Хазрата в дом сборщика Мусы Кадири податей.
9. Исцеление семерых слепцов, семерых прокаженных и семерых бесплодных женщин каждый год у могилы Хазрат Гази Салара Масуда...
Смотрите в этой книге сорок одно удивительное живое чудо»16.
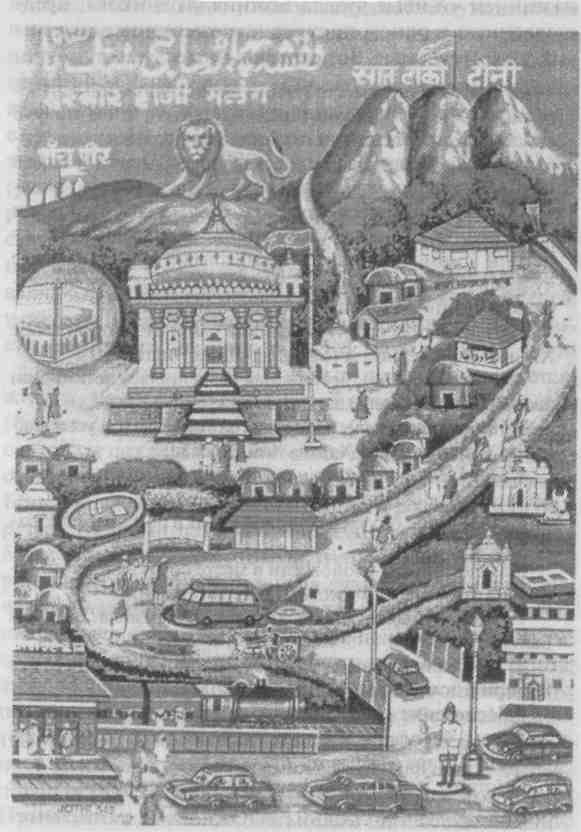
Плакат с изображением усыпальницы
Абдуррахмана Бабы в Бомбее
Хотя светские модернисты отнеслись бы к подобному народному представлению о святых как к нелепому суеверию, а фундаменталисты заклеймили бы его как идолопоклонство, очевидно, что для большой части индийских мусульман такое понимание не только приемлемо, но и напрямую связано с «истинностью исламской религии». Большое место в народном мусульманском благочестии занимает паломничество к могилам святых; его изображают на плакатах, которые можно встретить повсюду в Южной Азии (см. один из них нас. 108).
Поскольку исламский закон определяет, что дети являются главными наследниками собственности, за многими могилами следят потомки святых, и они же становятся распорядителями ежегодных празднеств. Хотя их часто жалуют почетом, вызванным их происхождением, эти «хранители молитвенного коврика» могут и не иметь предрасположенности к мистицизму В любом случае усыпальницы святых часто содержатся на благотворительные средства доверительной собственности, образованной на основе исламского права. Одной из задач такой собственности часто является содержание потомков ее основателя. Реформы права, предпринятые колониальными властями и правительствами получивших независимость стран, в некоторых случаях лишали привилегий потомков суфийских святых. Порой же (как случилось с большими усыпальницами в индийском Пенджабе) смотрители могил признавались местной знатью и крупными землевладельцами и продолжали играть существенную политическую роль после обретения независимости.
В восточных мусульманских странах в годовщину смерти святого его последователи могли отмечать свадьбу (урс) святого, служащую иносказательным истолкованием единения его души с Богом. Обычай празднования урса в Анатолии и в Южной Азии отмечен с XIII века. Даже в Турции, которая официально объявила себя светским государством и в 1925 году распустила все текке (суфийские обители), урс Джалаледдина Руми с разрешения властей празднуется у его могилы каждый декабрь, а ныне стал популярным зрелищем для туристов. Самым пышным суфийским праздником в Южной Азии, пожалуй, является урс Муин ад-Дина Хасана Чишти (ум. 1236), справляемый, согласно мусульманскому лунному календарю, шестого раджаба в Аджмере, Западная Индия; сотни тысяч паломников различного вероисповедания (включая индусов, сикхов и христиан) участвуют в церемонии. В странах Средиземноморья наиболее употребительным обозначением праздника святого служит слово маулид — рождение. Один из наиболее значительных праздников ежегодно устраивается в честь Сайида Ахмада аль-Ба-дави близ Танта, что в дельте Нила, Египет, где собирается до миллиона паломников. Не будет преувеличением сказать, что каждая мусульманская страна имеет своих собственных заступников-святых, чьи усыпальницы чтит большинство местных жителей. Для марокканцев могила Моулая Идриса в Фесе олицетворяет собой их исламское прошлое. Усыпальница Баха ад-Дина Накшбанда в Бухаре вновь стала центром паломничества с позволения постсоветского правительства Узбекистана. В Китае и Индонезии святые считаются заступниками земли и посредниками Божественной власти.
В последние годы основные споры о суфизме развернулись вокруг природы и авторитета суфийских святых. Для их почитателей святые продолжают оставаться заступниками и объектом личного общения. Более доступные по сравнению со всемогущим Богом, святые могут быть советчиками в личной жизни. Неким образом они отражают общественное устройство прежней эпохи, когда доступ к правителям находился в руках знати, служившей в качестве посредников. Святые до сих пор олицетворяют собой род феодальной иерархии. Один водитель такси в Индии поведал мне историю, связанную с его братом, у которого случилось нервное расстройство. Он обратился со своим недугом к усыпальнице местного святого, но святой явился ему во сне и сказал, что не может сам справиться с данным недугом ввиду его трудности и передает дело одному из наиболее знаменитых святых в Индии. Мужчина совершил поездку к главной святыне, как и было велено ему во сне, и позже оказалось, что его недуг прошел.
Именно положение святого как посредника и отвергается фундаменталистами. Они резко возражают против того авторитета, коим наделяют святого. Среди главных теоретиков, на которых ссылаются фундаменталисты, мы встречаем Ибн аль-Джаузи (ум. 1200), чья книга «Искус сатаны» обличает многих суфиев за их отход от норм ислама. Однако основным источником антисуфийских доводов служат труды Ибн Таймийа (ум.1328), написавшего много сочинений против суфийской метафизики и «постыдной» суфийской практики; он яростно противился могущественным суфийским орденам, что господствовали на общественной и религиозной сцене мамлюкского Египта, и за подобные выступления кончил свои дни в тюрьме. Большинство нынешних антисуфийских реформистов и не подозревают, что и Ибн аль-Джаузи, и Ибн Таймийа были посвящены в суфийский орден Кадири. Хотя в своих взглядах на истинность религиозного учения и религиозной практики они были непоколебимы, было бы неверно утверждать, что они полностью отвергали суфийский мистицизм; напротив, они ратовали за различное толкование той роли, которую должен играть суфизм в отношении нормативной религиозной практики в целом.
В Новое время положение стало меняться, начиная с движения Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба (1703-1792), основателя ваххабитского движения, на чьей идеологии зиждется власть в Саудовской Аравии. Даже суфийские мыслители-реформисты XIX века, наподобие Ахмада ибн Идриса из Феса, разделяли осуждение ваххабитами заступничества святых и паломничества к их могилам. Основатели фундаменталистских течений в исламе Хасан аль-Банна (1906—1949) в Египте и Ма-улан Абу-ль-Алла Маудуди (ум. 1979) в Пакистане в действительности вышли из тех общественных слоев, где было принято почитание святых и суфийских орденов. Утверждалось, что они приспособили иерархическое социальное устроение суфизма к массовым движениям, хотя и отбрасывая мистическую посредническую роль, приписываемую святым. Ожесточенное сопротивление фундаменталистских течений суфизму, в сущности, можно охарактеризовать как борьбу между претендентами на духовную власть. Как упоминалось выше, ваххабиты проявляли эту враждебность в начале XIX века, разрушая могилы суфийских святых и шиитских имамов, которые они отыскивали в Аравии и даже в Ираке. Хотя сам язык спора облекался в богословские одежды (поклонение святым равняется идолопоклонству), форма борьбы имела явно политическую окраску. Усыпальницы святых и суфийские братства определяли многие стороны общественно-политического устроения значительной части мусульманских сообществ в прошлом и распоряжались их экономическими богатствами, а широкое признание авторитета святых лежало в основе той роли, которую суфизм играл в обществе. В Турции ввиду повсеместного влияния суфизма светское националистическое правительство Ататюрка запретило суфийские братства и проведение обрядов у могил святых. Фундаменталистская критика отнюдь не выглядит как борьба за духовную власть, поскольку фундаменталисты заявляют о приверженности исключительно Слову Бога вместо человеческого разумения; согласно их взглядам, суфийские святые якобы противостоят Богу. Однако реальная действительность совершенно иная. Стоит фундаменталистам завладеть культурным и общественным достоянием, как начинается изгнание суфиев. Подобное случилось в современных Саудовской Аравии и Иране, с одним отличием: изгоняя здравствующих дервишей, иранские аятоллы рядятся в одежду давно почивших суфийских святых. Итак, как раз по причине того, что и ныне миллионы мусульман почитают суфийских святых и благоволят им, они остаются заклятыми врагами проповедников фундаменталистских взглядов.
ГЛАВА 4. Имена Бога, созерцаете u мистический опыт
Постижение слова «бог»
Сердца упокаиваются воспоминаниями Бога.
Коран 13:28
Исходный материал для духовной практики суфизма, как указывалось в главе 2, поставляет Коран. В тексте, действующем как Слово Божие, все, что связано с его Божественным автором, имеет огромное значение. В этом отношении нет ничего важнее имен, употребляемых для описания Бога. Согласно традиции, насчитывается девяносто девять имен Бога, хотя в Коране их упоминается больше. На с. 115-118 представлен стандартный перечень этих имен*.
Из всех имен Бога наиболее известными являются два имени-обращения, которые предваряют почти каждую суру Корана: «Во имя Бога, милостивого, милосердного» (Бисмилпах ар-рахмаи ар-рахим). Многие другие имена часто встречаются как заключительные слова отдельных коранических стихов и почти всегда следуют парой:
* Все имена без особых помет приведены в переводе Саблукова Имя с пометкой (ел.) взято из «Арабсско-русского словаря» X. Баранова, первое издание которого вышло под ред. академика И.Крачковского. Имя с пометой (Н. О.) взято из перевода «Корана» Нури Османова. В приведенном перечне одно имя (аль-Вали) встречается дважды Везде в книге используется крайне упрощенная транслитерация, где никак не отмечаются взрывные согласные алиф и айн, не различаются в написании со, син и сад; та и эмфатический та; все три ха; даль и дад; заль, зет и за; кяф и эмфатический каф, полугласный вав в сочетании с гласным а передается как ва или уа; полугласный йа передается в основном как и, а в сочетаниях с а — то как йа, то в виде я, с у — главным образом как йу и изредка как ю; все три гласные в любом положении, кроме вышеозначенных, передаются в виде а, и, у.
«Он высок и могуществен» (Хува аль-апи аль-азим). Следует помнить, что Коран наряду со звуковым располагает и визуальным рядом. Звучание слов, произносимых либо вслух, либо мысленно, неразрывно связано с их смыслом. Но визуальная форма слов также оказывается значимой стороной восприятия имен Бога. Форма букв есть умозрительное описание качеств Бога. Имена Бога, выдержки из Корана и иные арабские молитвы и в устном, и в письменном виде играли чрезвычайно важную роль в суфийской практике.
Сам Коран часто ссылается на орудие письма и само письмо**, обыкновенно когда письмо выделяется как средство передачи Божественного послания людям. Самые ранние свитки Корана представляют собой нанесенные на пергамент крупные буквы в строгом и изящном куфическом стиле, так что страница со сравнительно небольшим количеством слов больше походит на икону с образом, нежели на обычную текстовую страницу. Визуализация самой формы арабского письма, похоже, с ранних пор играла заметную роль в мусульманском религиозном восприятии, основываясь, как видно, на повторении мест из Священного Писания.
Споры вокруг того, является ли Коран извечным, как и Бог, свидетельствуют об уникальном месте, которое отводилось этой книге в мусульманском мире. Историк искусства Энтони Уэлш замечает: «Письменная форма Корана является визуальным аналогом вечного Корана и есть доступный человеческому восприятию образ
Божественного»1.
Визуальное сосредоточение на Коране как Слове Божьем оказалось наиболее близким подступом на земле к лицезрению Всевышнего. Коранические цитаты и имена Бога в каллиграфическом исполнении играют заметную роль в общественных строениях наподобие мечетей, а также в более доступном в личном плане искусстве книги. Согласно широкоизвестному хадису, «в распоряжении Бога девяносто девять имен; тот, кто сосчитает их, попадет в рай». Поэтому не удивительно, что каллиграфические изображения девяносто девяти имен можно часто встретить в качестве украшения жилища мусульман. Убедительным примером символического использования каллиграфии служит современная надпись Мухаммада Сийама Сирийского, где воспроизведен коранический стих (17:1), описывающий вознесение Пророка: «Хвала Тому, Кто в некоторую ночь содействовал рабу Своему совершить путь от Запретной мечети к Отдаленной мечети». В этой надписи текст начинается снизу, так что глаза читателя постепенно движутся вверх, как бы эстетически воспроизводя вознесение (см. с. 120).
Значительная часть суфийской практики, подобно другим религиозным традициям, зиждется на действенности молитвы. Когда мы говорим о молитве, следует помнить, что для мусульман молитва означает главным образом устоявшийся свод формул, нежели лично выбранное человеком обращение к Богу, с которым многие люди на Западе сегодня отождествляют свое представление о молитве.
Мусульманам предписано ежедневно творить пять ритуальных молитв, а это требует особого жизненного распорядка, чтобы можно было совершить при необходимости омовение, за которым следует ряд определенных поклонов,преклонение коленей и падение ниц в сопровождении предписанных молитвенных слов; человек совершает два, три или четыре полных молитвенных цикла --в зависимости от того, какая молитва из пяти творится. Суфийская практика начинается с этих пяти ежедневных ритуальных молитв, которые могут быть расширены за счет повторения дополнительных мест из Корана или широкоизвестных молитв, одобренных Пророком Мухаммадо.м или прославленными святыми. К тому же существуют особые молитвы, предназначенные для различного времени суток, для различных дней недели и для творения при совершении всевозможных действий: пробуждения, одевания, еды, путешествия, отправления естественных надобностей и ухода за собой. Имеются особые молитвы на случай свадьбы и похорон. Причем каждый отдельный праздник по мусульманскому лунному календарю имеет ряд молитв, связанных с ним и рекомендуемых суфиям. Такого рода разветвленный молитвенный ритуал в своей основе есть плод обычного мусульманского благочестия. Но что действительно отличает суфийскую практику, так это пять дополнительных ежедневных молитв, среди которых особое значение придается последней, творимой после полуночи молитве.

Каллиграфическое изображение слов из Корана о вознесении Пророка(17:1). Мухаммад Сийам, 1987.
«Клянусь тростниковою тростью (арабск. калам) и тем, что пишут они» (68:1).
Как отметил в XIV веке индийский суфий братства Чишти:
«Наряду с совершением пяти обязательных ежедневных (между рассветом и восходом, в полдень, незадолго до заката, после заката и поздно вечером) ритуальных молитв дервиш должен творить еще пять дополнительных молитв: утром, пред полуднем, рано пополудни, между заходом солнца и наступлением ночи и поздно ночью. Поздняя молитва совершается в промежутке двух снов. Поначалу спят, затем встают (после полуночи) и творят двенадцать кругов молитвы с шестью пожеланиями мира. Повторяют то, что им ведомо из Корана. Но если уповающий крепко верующий и каждом круге речет стих о кресле сразу после "Открывающей" [дверь к досточтимому Писанию первой суры] и произнесет суру "Чистое исповедание" (Коран, 112) три раза при каждом двойном круге ночной молитвы, то все, что он ни испросит у Бога, свершится. Затем он почивает некоторое время и встает на исходе ночи»2.
Хотя подобное совершение молитв могло показаться достаточно докучливым или даже нудным делом, те, кто действительно был втянут в эту рутинную работу, с восторгом дожидались ее.
Прославленный святой Северной Африки Абу Мадйан (ум. 1198) описал, с какими глубокими чувствами дожидались истинные возлюбленные Бога ночной службы:
«Они призывают сумрак днем, подобно заботливому пастуху, что кличет свое стадо, и они томятся по закату солнца, подобно птахе, тоскующей по своему гнезду на закате. Когда опускается ночь, когда сумрак оттесняет [свет], когда расстилают постели, когда семья отдыхает и когда всякий влюбленный остается [наедине] со своей возлюбленной - тогда они подымаются, обратив свои стопы ко Мне, обратив свои лица ко Мне, и рекут сердечные речи, поклоняясь Мне за явленную Мной милость. Они [отыскивают себя безумными] меж воплями и рыданиями, меж стенанием и плачем, меж стоянием и сидением и меж поклонами и простиранием ниц пред Моим ликом. [Все сие] они сносят ради Меня и открывают, что они терпят ради Моей любви»1.
Рвение в такого рода духовной службе приводило к тому, что молитвы занимали почти все время. Трудно было предаваться каким-то другим занятиям при распорядке, включавшем десять продолжительных молитвенных творений вкупе с долгим времяпрепровождением за созерцанием и пением. С этой точки зрения становится понятным, почему суфийские обители превратились в итоге в места проживания, где можно было беспрерывно и ревностно заниматься молитвой.
Из суфийских руководств по медитации видно, что каждый этап обрядовой молитвы отличали свои особенности и что воздействие молитвы могло ощушаться на каждом уровне — от духовного и психического до физического и материального. В качестве еще одного примера можно привести благостные свойства первой суры Корана, «Открывающей». Бурханаддин Гариб (ум. 1338), индийский наставник братства Чиш-ти, писал:
«Достоинство "Открывающей" в определении своего поводыря. Всякому произносящему "Открывающую" сорок один раз со словами "Во имя Бога" будет явлена Богом праведная стезя. Если кто-то не ведает, как повторять ее, пусть тогда речет сотню раз: "Веди нас прямой стезей", и выйдет то же самое. Всякий повторяющий "Открывающую" тридцать раз со словами "Во имя Бога" в первую ночь нового месяца обретет чистоту, оберегаемую пуще зеницы ока Богом весь сей месяц, и все беды и ненастья будут отвращены»4.
Здесь поиски духовного водительства идут в сочетании с поисками защиты от ненастий. Суфийские наставники составили необозримое число собраний молитв по- арабски, сопровождаемых поучениями касательно того, какие из них можно использовать для укрепления любви Божьей, для беседы с Хидром, для избавления от грехов, для изгнания дурных помыслов, для облегчения родов у женщины, для исцеления хворобы, для продления жизни и для решения денежных затруднений. Для христианских миссионеров и востоковедов мусульманская ритуальная молитва с ее застывшей формой в сочетании с верой в ее действенность представлялась «исключительно суеверным... механическим актом»5. Вскользь можно заметить, что подобное обвинение не прозвучало бы из уст средневековых христиан, которых крайне заботила практическая отдача молитвы и других актов поклонения. Подобно недоверию Нового времени к чудесам, определенная критика в отношении молитвы почти неизбежно проявляется и в наши дни. Прибегать к молитве ради духовного водительства и даже в качестве средства для установления сверхъестественного сношения с Пророком или для вызывания видений ангелов — это еще как-то вяжется с предназначением молитвы. Но чтобы молиться за избавление кого-то от лихорадки, например — такое представляется не только антинаучным, но и в некотором роде недуховным делом. В Новое время религии пришлось уступить свой авторитет в сфере естествознания науке, а независимое светское однонациональное государство провозглашает верховенство политической сферы; религия теперь вытеснена в «духовные» сферы, которые светские умы больше не желают признавать. Иначе обстояло дело в прежних, предшествующих современной эпохе мусульманских сообществах, где возник суфизм. Власть Слова Божьего — в арабских песнопениях, поведанных Пророком в Коране и суфийскими святыми, -была значительно могущественней, нежели все прочее во вселенной.
Молитвенники наподобие тех, из которых приводились выше извлечения, предназначались для посвященных, проводивших большую часть своего времени в благочестивых занятиях, хотя ученики-миряне суфийского наставника, естественно, получали соответствующие назидания, как творить те или иные молитвы.
Дополнительная, практическая сторона воздействия молитвы была доступна простым людям, которые почитали суфийских наставников, но полностью не предавались суфийской дисциплине. В трудные времена во многих мусульманских сообществах народ мог обратиться к известным суфиям и попросить их защитить себя посредством молитвы — ведь молитву святого скорее услышит Бог.
Эти молитвы-заклинания (тавиз) берут свое название от двух последних сур Корана (113 и 114), представляющих собой мольбу о даровании убежища и защиты от мирских зол. Иногда относимые к «чарам» или «оберегам», слова защиты обычно облекались в форму арабских молитв, написанных суфийским наставником на бумаге, которую затем можно было ополоснуть в воде: питье чернильных ополосков часто предписывалось для лечения болезней. Так, Руми предписал сватенному лихорадкой ученику арабское заклинание, изгоняющее жар и насылающее его на неверного; после прополаскивания его в воде ополоски дали больному, и тот сразу же выздоровел6.
Подобная практика привлечения имен Бога и арабских молитв для заклинаний имела широкое хождение; в наиболее крупных городах мусульманских стран и сегодня можно легко приобрести издаваемые в несметном количестве сборники этих заклинаний, предназначенных для общего пользования. Те, кто стремится выдать суфизм за утонченную философию, возможно, неодобрительно отнесутся к такого рода занятиям как к суеверным заклинаниям, но, как показывает пример Руми (можно было бы привести не одно такое свидетельство), не так-то легко отделить «народные» обычаи, связанные с суфизмом, от деяний «высших» кругов суфийских наставников.
Среди широкого спектра суфийских практик можно обнаружить признаки эзотерических учений, рассматривающих свойства арабского алфавита на основе числовых значений самих букв. Такого рода нумерологический разбор арабских молитвенных формул, который очень походит на каббалистические практики иудаистского мистицизма, восходит к загадочным, раздельно пишущимся буквам*, которые предваряют ряд сур Корана. Было выдвинуто столько противоречивых объяснений в отношении этих загадочных букв, что для непосвященного они могут предстать чем-то совершенно непостижимым. Некоторые эзотерические школы исламской мысли, например шииты-исмаилиты, превратили учения о буквах в заметное эстетическое явление, где буквы алфавита используются для представления человеческого тела и лица.
Целые портреты создавались на основе букв, составляющих имена Аллаха. Мухаммада и Али. Группы суфийского толка — такие, как братство Бекташи в османских странах, секта Хуруфи («буква») и школа Нук-тави («точка»), — использовали буквенную символику и буквенные построения для передачи своих учений; их изощренные метафизические спекуляции о космическом значении букв часто сочетались с мессианской деятельностью.
Полумагические трактаты об арабском алфавите, связанные с кругом приверженцев шестого шиитского имама Джавара ас-Садика, создавались с привлечением оккультных наук. Запутанные формулы, основанные на свойствах Божественных имен, с наставлениями, касающимися того, сколько сотен (или тысяч) раз требуется их повторять для получения желаемых результатов, появляются в таких обиходных пособиях, как
«Солнце величайшего знания» египетского ученого аль-Буии.
Хотя подобные тексты сами по себе кажутся далекими от целей суфизма, следует признать, что такую практику можно обнаружить в некоторых наиболее важных суфийских учениях, вроде сложных созерцаний Ибн Араби или изощренного исчисления Божественных формул, практикуемого суфийским братством Шаттари.
В отношении дисциплины наиболее важным видом суфийских практик, задействующих слово, является повторение, твержение Божественных имен, своего рода медитация. Если описанные выше насыщенные молитвенные ритуалы можно рассматривать в качестве дальнейшего расширения и усиления проявлений обычного мусульманского благочестия, то развитие приемов медитации с использованием Божественных имен можно отнести к особенности суфийской практики. Обозначением подобного твержения служит слово зикр, или памятование, поминание. Это слово довольно часто используется в Коране, поскольку в священном тексте нередко звучит обращение к человеку помнить Бога и Его заповеди. Стремление к внутреннему претворению, или, говоря научным языком, интериоризации Корана, которое оказалось столь решающим для становления суфизма, особо отразилось в созерцательной практике, когда непрестанно распевают имена Бога — в одиночку либо соборно, вслух или молча. Практика зикра, похоже, устоялась к XI веку, хотя есть свидетельства, что она бытовала и среди ранних суфиев. В описании зикра у аль-Газали ему придается огромное значение как единственному приему, наилучшим образом приспособленному для сосредоточения сердца исключительно на Боге. Чтение Корана, изучение хадисов и твержение молитв, несомненно, являются благостными занятиями, но сами по себе эти занятия не позволяют сердцу быть полностью поглощенным Богом, и ничем иным7.
* В отличие от квадратного еврейского письма с раздельным написанием всех букв, особенностью арабской орфографии является разделение всех букв на «слитные», то есть соединяющиеся со следующей за ними буквой, и «неслитные», с последующей буквой не соединяющиеся.
Выдающийся египетский суфий Ибн Аталлах Ис-кандари* (ум. 1309), по- видимому, в первом посвященном зикру сочинении «Ключ к спасению и светоч духа» определяет зикр как «очищение от небрежения и забывчивости посредством постоянного присутствия сердца рядом с Богом»". Он понимает зикр как многоуровневый процесс, в который вовлечены все человеческие способности, от языка, представляющего самый внешний уровень, затем сердца, души, духа, разума и до самого сокровенного — совести, именуемой тайной. Зикр следует совершать, только будучи совершенно искренним, без всяких отвлечений мысли, это является предварительным психологическим условием памятования Бога и требует выверенного религиозного поведения, включая нршение надлежащей и чистой одежды, а также неукоснительное соблюдение правил питания и ритуальной чистоты. Ибн Аталлах описывает, как следует в своих приготовлениях усесться на место, ублаговоненное с целью привлечения ангелов и джиннов, как нужно сидеть: со скрещенными ногами, лицом к Мекке, ладони положив на бедра и закрыв глаза. Независимо от присутствия наставника следует представить его образ как спутника и проводника, чье право на водительство возводится к самому Пророку. Молящийся возносит формулу «[Свидетельствую, что] нет божества, кроме Бога» от самого чрева, используя слова «нет божества» для изгнания из сердца всего, за исключением Бога, а слова «кроме Бога» — для обретения сердца, когда ничего иного уже нет9.
Формула «[Свидетельствую, что] нет божества, кроме Бога» в действительности составляет вторую часть первого из девяноста девяти имен Бога, или Аллаха. Эта формула наряду с самим именем Аллах, похоже, является чаще всего употребляемым зикром.
Многие иные имена Бога имеют более частные значения и, соответственно, воздействия, одни из них предназначены для новообращенных и простых верующих, а другие могут использоваться более умудренными подвижниками. Описание, данное Ибн Аталлахом, столь занимательно, что стоит его привести:
«Памятование Прекраснейших имен Бога (аль-исма-уль-хусна) включает лекарства от хворей сердца и орудия для путников в обретении присутствия учителя сокрытых вещей. Лекарства используются лишь для хворей, кои врачует данное имя. Если, к примеру, имя Податель (аль-Му-ти) помогает при определенной хвори сердца, то имя Пользующий (ан-Нафи) нежелательно в сем случае, и прочее. Суть в том, что сердце того, кто твердит зикр, обладающий вразумительным смыслом, окажется под воздействием сего смысла. Его сопутствующее действие продолжается, покуда твердящий имена сообразуется со смыслами, за исключением того, если оное окажется одним из имен мщения, когда сердце твердящего обуяно страхом. Если Божественное проявление коснется его, это знамение мира Божьей славы.
Памятование Божественного имени Справедливый (ас-Садик) дарует сокрытому в пеленах праведный язык, суфию — праведное сердце, а гностику — осуществление (арабск. тахкик).
Божественное имя Вождь (апь-Хади) полезно в затворе. Оно полезно, когда есть рассеяние и отвлечение, кои оное удаляет. Тот, кто взыскует Божьей помощи, но не зрит внешнего обличья помощника, должен ведать, что от него требуется упорство в поисках помощи.
Божественное имя Причина (аль-Баис) повторяют беспечные, но не те, что взыскуют самоуничтожения (фона).
Божественное имя Извиняющий (аль-Афув) — подходящий зикр для простого люда. Повторение его недостойно умудренного странника на пути к Богу, ибо означает грех, но зикр суфия не означает ни греха, ни добродетели. Если же простой люд твердит его, сие улучшает духовное состояние оного.
* Глашатай идей братства Шазили, перу которого принадлежат нормативные трактаты братства, а также сборники молитв и славословий (ахзаб).
Божественное имя Господин (аль-Мауяа), или Помощник и Друг, повторяют лишь начинающие ревнители, ибо сие их особо касаемо. Если кто-то более высокого уровня твердит его, в оное вкладывается иной смысл.
Божественное имя Благодетель (аль-Мухсин) впору простому человеку, коий желает достичь стоянки упования на Бога. Сей зикр вспомоществует близости и торопит просветление, он есть лекарство для взыскующего, что страшится мира Божьей славы.
Божественное имя Ведающий (аль-Амам) при его твержении пробуждает от небрежения и открывает сердцу Господа. Оно учит чудных людей обращению с созерцанием и обретению близости, а люди мира Божьей славы обновляются в страхе и почтении.
Божественное имя Прощающий (аль-Гафир) преподается простым учащимся, кои боятся последствия греха. Но тех, кто причастен к Божественному присутствию, поминание грехов приводит в уныние. Равно и поминание добродетели дарует радость обновления души, как и при обещании Богу служить Ему в покорности, тогда как поминание зла пагубно.
Божественное имя Прочный (аль-Матин) как твердыня; сие имя пагубно для наставников в затворе, но полезно для тех, кто потешается над религией, ибо их многое твержение оного приводит самих их к смирению и покорности.
Божественное имя Богатый (аль-Гани) полезно своим твержением тем, кто алкает затворничества и не способен к оному.
Божественное имя Довольствующийся (аль-Хасиб) полезно, если твердящий прельщен наживой; тогда он оставляет нажитое ради затвора, находя довольство в Довольствующемся, или Достаточном.
Божественное имя Податель пищи (алъ-Мукит) при его твержении отрывает от нажитого и дарует упование на Бога.
Божественное имя Владыка славы (Зу аль-Джалал) подобает в затворе для тех, кто в небрежении.
Божественное имя Творец (аль-Халик) — один из зик-ров для обретающихся на стоянке поклонения, нуждающихся в полезном знании, что подходит к практическому благочестию. Негоже учить ему тех, кто способен к единению, ибо оно отдаляет их от гнозиса и еще более стреноживает узами учености.
Божественное имя Образователь (аль-Мусаввир) -один из зикров поклоняющихся. Божественное имя Знающий (аль-Алим) — один из зикров поклоняющихся и подходит для начинающих меж путниками. Оно содержит пробуждение для созерцания, и посредством оного обретаются страх и надежда.
Божественное имя Исчисляющий (аль -Мухси) — один из зикров поклоняющихся»10.
Можно заметить, что данный перечень предполагает употребление Божественных имен помимо общепринятого списка из девяносто девяти. В этом отношении Ибн Аталлах сходен с другими суфиями, такими, как аль-Газали и Ибн Араби, в своем стремлении расширить возможности Божественных имен. В данном руководстве находится много иных частных наставлений, но при этом следует помнить, что данные наставления предназначались для использования и толкования опытными наставниками, чьи устные указания давали бы дополнительные сведения каждому из учеников отдельно. Следует упомянуть и другую оговорку автора: «Не забывайте, не забывайте поминать Пророка (да благословит его Бог и приветствует), ибо он есть ключ к каждой двери с позволения Щедрого и Дарующего»".
Поскольку о суфийской метафизике написано достаточно много, я не предлагаю тратить много времени на изложение столь сложной темы12. Это трудный и специальный предмет, лежащий за кругом тех задач, которые ставит перед собой в качестве введения настоящая книга: главной ее целью является рассмотрение практической стороны суфизма. Однако в связи с обсуждаемой здесь темой важно отметить, что мусульманское богословие в значительной степени строится на именах Бога как первичных данностях, исходя из которых можно проводить экстраполирование. Божественная сущность извечно непознаваема и запредельна. Но имена Бога определяют Его атрибуты, свойства, которые суть познаваемые стороны того, что и составляет мир. Обращаясь к разделяемому многими богословскому определению аль-Ашари, Рузбихан Бакли так описывает первичные качества Бога:
«Он с недуши и. могущий, слышащий, зрящий, рекущий. присносуший, волящий.
Сии качества вечны, без конца и начала и своей сути. Сие схоже и со всеми прочими именами и свойствами, чрез кои Он изобразил Себя (в Писании). Он речет Своей речью, ведает Своим веденьем, волит Своим золением, живет Своей жизнью. Сии качества есть прибавление к сущности, хотя и не в разумении разделения, присоединения либо отделения»".
Божественные имена можно разделить на отражающие Божественную славу (джалал) и на отражающие Божественную красот)' (джамал). Имена славы суть имена могущества, гнева, власти и справедливости; как отмечает Ибн Аталлах, эти имена могут быть столь величественными, что уже они одни вызывают страх у начинающего, так что обыкновенно их не советуют использовать новообращенным. Имена красоты суть имена милости, щедрости, сострадания и прощения. И имена славы, и имена красоты необходимы для существования мира. В основе такого деления лежит предпосылка, что все исходит от Бога: и жизнь и смерть, и тяготы и преуспеяние. Созерцание Бога («богомыс-лие») посредством зикра, изгоняющего из сознания все, помимо Бога, укрепит в убеждении, что Бог отвечает за все творение.
Когда прежняя сравнительно личная роль суфизма уступила место более общественному его проявлению в виде суфийских братств (см. главу 5), одним из наиболее заметных знамений такой перемены предстало прилюдное отправление зикра. Пособие Ибн Аталлаха по практике зикра предназначалось больше для обретающихся в затворе подвижников:
«Когда вы удаляетесь от людей в затвор, бегите поисков вас оными или приема оных вами. Цель затворничества от людей состоит в том, чтобы избегать общения с ними, а не просто сторониться их вида. Ваши сердце и слух не сумеют поспешать за сей целью, если оные придут к вам говорить неразумные вещи, как и не очистятся ваши сердца от слабоумия мира. Посему затворите паши двери пред людьми и врата вашего дома пред вашей семьей и упражняйтесь в памятовании (зикр) Господа людей. Тот, кто уходит в затвор, но открывает двери, того разыщут люди. Кто ищет могущества и славы, того отвергают у Божьих врат»14.
Но вслух и соборно отправляемый зикр мог значительно обострить религиозное чувство. Таким образом, на него накладывалось меньше ограничений, нежели при обычной ритуальной молитве, которую следовало проводить в состоянии чистоты. Маршалл Ходжсон утверждает, что подобный громкий зикр являлся одним из способов популяризации суфийской практики среди многочисленных слоев мусульманского общества.
Хотя многие группы суфиев продолжали практиковать громкий коллективный зикр, существовало и противное мнение, утверждавшее верховенство молчаливого зикра, который предназначался для уединенного твержения в затворе. Предпочтение ему отдавали Ала ад-Даула Симнани и наставники ордена Кубрави, разработавшие и усовершенствовавшие изощренный порядок отправления созерцательных упражнений в сорокадневных затворах. Равно и многие наставники братства Накшбанди отстаивали исключительно тихий зикр. Однако это был спорный момент. Суфийские круги в Западном Китае, перенявшие звучное исполнение зикра, начали враждовать в XVII веке, когда путешественники, вернувшиеся из Йемена и Аравии, сообщили, что принято отправление молчаливого зикра. В китайских кругах суфиев образовались различные толки, там годами спорили о том, какой из способов верен. Хотя возможно, что подоплекой подобного противостояния послужили политические разногласия, все же примечательно, что подобные страсти могли разыграться по поводу данной практики.
Более высокие духовные стоянки, практики и переживания
Представленные выше подходы к созерцательной практике были доступны по меньшей мере отчасти многим из тех, кто лишь слегка соприкасался с суфизмом; хотя для обретения полной благости от отправления зикра требовалось полное исполнение должных предписаний, даже малое участие в подобной службе рядового человека считалось для него благостным делом. Равным образом всех мусульман призывают поститься днем в течение целого месяца рамадана. Многие аскеты и мистики выходили за пределы такого ритуального предписания, через день постясь еще и ночью.
Дополнительный, ночной пост в течение рамадана, длительные посты на протяжении года и сведение приема пищи к минимуму — все эти обрядовые практики часто встречаются среди суфиев. Основная психологическая подоплека такого рода предписания очевидна: сытый желудок вызывает ощущение самоудовлетворенности и безразличия, тогда как чувство голода служит напоминанием о нашей зависимости от Бога. Как выразился Абу Мадйан, «я изучил писания пророков, благочестивого, сподвижников Пророка и их последователей и ученых мужей прежних поколений; и все же я не отыскал ничего, что бы притягивало к Богу Всевышнему без голода. А сие отгого, что голодный становится смиренным, смиренный же поклоняется, а поклоняющийся обрящет. Посему держись твердо голода, мой брат, и упражняйся в нем постоянно, ибо посредством оного ты обрящешь желаемое и достигнешь чаемого»15.
В нынешней обстановке, определяющей предпочтения исламской мысли, существуют несколько противоречивых подходов к понятию аскетизма, будь то пост, половое воздержание, убавление сна или всякое иное средство укрощения плоти. Кроме всего прочего, есть знаменитый хадис Пророка, где утверждается, что «в исламе отсутствует любой монашеский аскетизм (рахбанийа)» (лучше было бы перевести так: «монашеский аскетизм не входит в покорность Богу»). Противники суфийского аскетизма утверждают, что пример Пророка Мухаммада исключает монашескую жизнь в затворничестве и целомудрие в качестве возможных религиозных установлений. Поборники аскезы указывают на практикование самим Мухаммадом поста, на его самоотрешенный образ жизни и упражнения в воздержании широкоизвестных сподвижников Мухаммада вроде Али и Абу Зарра. Были, разумеется, и широкоизвестные суфии, придерживавшиеся целомудренной жизни, например Ибн Аббад из Ронды (Испания) и Низам ад-Дин Аулийя из Дели (ум. 1325). Но суфийские руководства по послушанию признают, что есть место и время и для аскетического отрешения, и для семейной жизни. Некоторые, возможно, явят большую приспособленность к одному занятию, нежели к другому. Те, кто защищает суфийский аскетизм, сравнивают затворничество и уход от мира с уходом Пророка, когда тот уединился на горе Хира для созерцаний. Такого рода затвор предстает необходимой предпосылкой для возвращения в мир ради блага других.
Вероятно, самым ранним описанием духовного затвора в суфизме является краткое руководство, написанное персидским наставником Шакиком аль-Балхи (ум. 810) в Восточном Иране*. Его «Благопристойности поклонения» выделяют четыре стоянки (манзила) на пути к Богу: аскетизм, страх, томление и любовь. Построение данного трактата показывает, что понятие продвижения души по направлению к Богу признавалось основой мистицизма. Как и в случае понятия эзотеризм, которое зиждется на различии между ведающими и неведающими, духовное продвижение предполагает наличие низших и более высоких ступеней, которых необходимо достичь. Руководства наподобие труда Шакика явились плодом собственного опыта, выраженного в понятиях, доступных разумению тех, кто возжелает достичь той же самой цели.
* Согласно аль-Худжвири (Кашф аль-Махджуб. Раскрытие скрытого за завесой), первым из суфиев стал учить о стоянках и состояниях Сари ас-Сакати.
Шакик начинает с описания важности поста для первой стоянки, аскетизма:
«Началом вступления в аскезу служит упражнение души в отказе от желания пищи и воды, за исключением самого необходимого для жизни, и отвращения ее от насыщения днем либо ночью, дабы тем самым голод стал ее отличием, а пища -излишней». Он советует, чтобы утроба набивалась пищей на треть и чтобы оставшееся место полнилось молитвой и твержением Корана. «Если человек продержится так один день, значит, Бог соделал его побуждение искренним, изгнав из его сердца призрак мирских желаний и наполнив место оных светом аскезы и голода». Цель состояла в совершении сорокадневного поста, который очистит сердце от мрака и наполнит его светом. Можно пребывать в таком состоянии остаток жизни либо двигаться к следующей ступени.
Вторая ступень — это страх, который тесно связан с самоотречением аскезы. Страх начинается с поминания смерти, напуская на душу ужас, который приходит от размышления над предостережением о суде Божьем. Усердствование в этом более дня привносит еще больший ужас: «Свет возрастет в его сердце, и благоговейный трепет отразится на его лиие. Если он будет усердствовать все сорок дней, Бог усовершенствует его в выражении благоговейного страха, так что жена его и дитяти будут трепетать перед ним... Он непрестанно плачет, больше поглощенный молитвой, спит мало, страшится много». Данное состояние может быть постоянным или же привести к следующей ступени.
Третья стоянка — томление по раю, когда человек постоянно думает о благодеяниях, кои Бог заготовил для обитателей рая. Сорокадневное усердствование в подобном созерцании ввергнет сердце в беспредельное томление, что заставит страждущего забыть страх, который тяготел над ним на предыдущей ступени. Человек становится совершенно безразличным ко всему мирскому: «Он правдив в речи и благороден в деяниях. Вы всегда будете видеть его улыбчивым, радующимся имеющемуся и лишенным всякой зависти и желания». В таком состоянии можно пребывать до самой смерти или же двигаться дальше.
Четвертая, и последняя, стоянка — это любовь Бога, которую дано обрести не всякому; она является высшей и самой достойной из всех стоянок. Она обретается теми, чьи сердца укреплены искренней верой и очищенным от греха поведением. Полное светом
Божественной любви, сердце забывает предыдущие ступени страха и томления по раю.
«Начальная ступень любви Божьей состоит в том, что Бог вдохновляет его сердце любовью к тому, что любит Бог, и неприятием того, что более неприятно Богу, так что ничто не любо ему, чем Бог и те, кем Бог доволен». По завершении сорока дней его сердце настолько переполнено любовью, что она льется через край, так что ангелы и верующие возлюбили его: «В сей день он становится возлюбленным, благородным, приближенным, чистым, благостным... Вы всегда будете лицезреть его улыбающимся благородно и благостно, чистым в поведении, нехмурящимся, добрым в собрании, полным добрых вестей, сторонящимся греха, возражающим лжецам, внимающим исключительно тому, что любо Богу. Кто слышит либо видит его, проникается к нему любовью ввиду любви Бога Вышнею и Величественного к нему»16. На этой заключительной ступени, выделяемой Шакиком, мы можем распознать знаменитое определение бескорыстной любви, предложенное его современницей Рабиа из Басры (ум. 801). Отвечая на вопрос об истинности ее веры, она ответила: «Я поклонялась Ему не из страха перед Его геенной огненной, не из любви к Его райскому саду, иначе походила бы на низкую корыстолюбицу; скорее я поклонялась Ему из любви к Нему и из томления по Нему»*17.
* Сравните молитву, записанную со слов Али ибн аль-Муваффа-ка (ум. 878) и в основе своей глубоко чуждую духу.ислама: «О Аллах, если я служу Тебе из страха перед адом, то покарай меня адом; если я служу Тебе из стремления попасть в рай, то лиши меня этой возможности, но если я служу Тебе из чистой любви, тогда делай мне что Тебе угодно». См.: Мец А. Мусульманский Ренессанс. М.: ВиМ, 1996. С. 270.
Столетия совершенствования данных приемов для созерцательного затворничества привели к возникновению двух основных течений. Одно явилось следствием разработки мистической психологии, которая с огромным тщанием выявила возможности мистического опыта. Легко видеть, как образец вроде четырех стоянок Шакика мог послужить основой для более совершенных описаний пути, по которому предстоит пройти духовным искателям. Уподобление пути, как мы видели, заложено в самом определении суфизма как пути (тарика).
Вместе с тем совершенно очевидно, что этот путь — некий духовный способ обретения Бога; территория, которую предстояло преодолеть, находилась внутри человеческой души. В случае мистической психологии можно видеть постепенное распространение этой традиции на значительном географическом пространстве; люди на основе собственного опыта пополняли копилку знаний, касающихся состояний и стоянок души. Состояния (хал(ь), мн. ч. ахвал) обыкновенно определялись как щедроты Бога, которые приходилось принимать шествующим по пути; они, по существу, находились вне власти человека. Стоянки (макам. мн. ч. макамат), с другой стороны, образуют ряд дискретных психических и этических свойств, которые должен обрести и развивать в дальнейшем человек. Как и в случае с четверичной последовательностью Шакика, более развернутые описания предполагают, что взыскующий должен испробовать до конца каждую ступень, прежде чем двигаться дальше. Широкий разброс в описании стоянок пути и возможное совпадение стоянок и состояний, вероятно, лучше всего объясняются двумя обстоятельствами.
Во-первых, каждый перечень духовных стоянок до некоторой степени явился отражением личного опыта автора такого списка.
Во-вторых, подача такого материала неизбежно сообразовывалась с возможностями слушателей, с которыми наставнику приходилось иметь дело. Поскольку состояния, по существу, рассматривались как проявление Божественной благодати, они не представлены столь заметно в руководствах по суфийской практике; стоянки же, будучи доступны человеческим усилиям, обычно описывались значительно подробней18.
Среди ранних суфийских сочинителей, писавших о духовных состояниях и стоянках, следует упомянуть Зу-н-Нуна Египетского, которому приписывают списки из восьми или девяти ступеней, и Йахйа ибн Муаза (ум. 872), который в Иране в то же самое время говорил о семи или четырех таких ступенях14. Французский ученый Поль Нвия интерес суфиев к структуре мистического опыта возводит к шестому имаму шиитов Джа- фару ас-Садику (ум. 765), чей комментарий к Корану явился основой для суфийской экзегезы, иначе толкования, Зу-н-Нупа. Джафар ас-Садик составил три списка ступеней, где прослеживался духовный путь к об-ретению видения дика Божьего: двенадцать истоков гнозиса, двенадцать созвездий сердца и сорок светочей, исходящих от света Божьего. Как замечает Нвия, порядок и выбор понятий в составе списка существенно меняется, указывая на то, что ступени душевного развития в то время еще не устоялись.
Кушайри в своем знаменитом руководстве по суфизму* перечисляет пятьдесят стоянок, тогда как Лнсари. писавший свои сочинения на арабском и персидском языках, приводит разные списки из целой сотни стоянок (см. с. 141- 143):!. Рузбихан Бакли в одном своем трактате на арабском языке описывает тысяча и одну стоянку, через которые продвигается душа с начала творения и до окончательного единения с Богом. Лишь немногие более заметные трактаты содержат описание странствия души к Богу. Перечни духовных стоянок существенно различаются в подробностях; список Ансари из ста стоянок в его «Стоянках на пути странников» повторяет лишь тридцать из пятидесяти стоянок, приводимых Кушайри. Но, по существу, в его описании пути и продвижения по нему ощущается сходство со старым планом, начертанным Шакиком аль-Бакхи, где душа движется от аскетического отрешения от мира и страха перед геенной огненной к томлению по раю и любви Божьей. Более изощренные описания обычно начинаются с покаяния, преодоления ступеней аскезы и страха на пути к ступеням довольства и успокоения в Боге, дабы в итоге завершиться познанием Истины, как подчеркивает автор.
* Ap-putiuaая-Кушайрийа фи илм ат-тавассуф (сокр. Рисапа, то есть «послание»).
Духовные стоянкии согласно Кушийри и Ансари
\. Раскаяние, покаяние
2. Старание, рвение
(пыубй)
21. Уверенность (илНии)
22. Терпение {<:Щ>}
23. Наблюдение {турлкАдл}
24. Удовлетворенность (радл)
(тудЖл^слуд)
3. Уединение Ы&пб&)
4. Затворничество (узпл/
5. Богобоязненность (тлкбл)
6. Благочестие (блрл)
7. Воздержание (ц№В) S. Молчание (слтт) 9. Страх fcdycpJ
0. Надежда (рлдЖ<\)
1. Скорбь fcyinj
.2. Голод fe^^
3. Оставление желании
(тлрк АШ-ША?С6А/
4. Благоговение (хушу?
5 Кротость, смирение
25. Рабство; поклонение
{yfiyguu&j
26. Желание (ирАдл)
11. Прямота (испюклтл)
28. Чистосердечность (а^алс)
29- Правдивость (сиук)
30. Стыд (хайл)
31. Великодушие Ыуррш~и\)
32. Памятование, поминание
feukp)
33. Доблесть; удаль (фут&ббл)
34. Проникновение (<pupAvjJ
35. Иран, характер (рсут/к}
36. Щедрость (рЖур?
.6. Ослушание души
(тлбаг/у)
37. Милостивостъ (cAkxaJ
38. Ревность (злирл!
(myjcA a<\q)i\ / п л м- /л*/р сУ 7. Поминание своих пороков (ъиНр уцува^й) Довольство; умеренность
(клнлл)
Упование на Бога
(тлбАИНуЫ
Бд а го да р нос т ь (шукр)
39. Святость (бинаил/
40. Молитва, взывание feW
41. Бедность ((рлкр)
42. Чистота
(тлслббуо?, судэизт)
43. Благопристойности (лдАб)
44. Путешествие (сАфлр)
45. Товарищество (сурсВл)
47. Предсмертные состояния
(лрсбла индл лпо-рсурудЖ
тин лд-дунйл)
48. Гнозис (тлрисрл)
49. Любовь (тл^лббл)
50. Томление (силук)
Aft сари
1 .Бодрствование (йлкзл)
2. Раскаяние (кушлйри, 1)
3. Самопроверка (ту^слслбл)
4. Сожаление (инлбл)
5. Размышление (тлсрлккур)
6. Воспоминание (тлзлккур)
7. Сдержанность (итислт)
8. Бегство (срирлр)
9. Обуздание (рийлдл)
10. Радение (слтл)
11. Скорбь (кушлйри, 11)
12. Страх (кушлйри, 9)
13. Сострадание (ишсрлк)
14. Благоговение; трепет
(кушлйри, 14)
15. Унижение, повиновение
(ирсблт)
16. Воздержание (кушлйри, 7}
17. Благочестие (кушлйри, 6}
18. Отрешение; праздность
(тлблттуп)
19. Надежда (кушлйри, 10}
20. Привязанность; пристрастие
(рлгбл)
21. Покровительство (рулил}
22. Наблюдение
:ч .(кушлйри, 23}
2.3, Почтение (рсуртл)
24. Чистосердечность
,-. (кушлйри, 28}
25. Исправление (тлрсзиб)
26. Прямота (кушлйри, 27)
27. Упование на Бога
(кушлйри, 19)
28. Уход; уполномочие ^
(тЛфбид)
*:29. Доверие (сикл)
30. Уступление (тлспигп)
31. Терпение (кушлйри, 22)
32. Удовлетворенность -
(кушлйри, 24)
33. Благодарность ,, ;
(кушлйри, 20)
34. Стыд (кушлйри, 30)
35. Правдивость
(кушлйри, 29)
36. Предпочтение других;
альтруизм (ислр)
37. Нрав (кушлйри, 35)
38. Кротость, смирение
(кушлйри, 15)
39. Доблесть; удаль
(кушлйри,33)
40. Радость (инВислт)
41. Стремление * (клсд)
42. Решимость (лзт)
43. Желание (кушлйри, 26)
44. Благопристойности
(кушлйри, 43)
45. Уверенность (кушлйри, 21)
46. Дружество, приязнь 4^/сУ
47. Памятование, поминание
(кушлйри, 32)
48. Бедность (кушлйри, 41)
49. Богатство /saW
50. Предмет желаний, желанное
(турлд)
51. Благодеяние (ирссАн)
52. Знание (ипт)
53. Мудрость ()cukm&)
54. Видение; проницатель- ность (б<\сир&)
5 5. Проникновение
(КушАира,ЗЦ)
56. Восхваление ь (тАзит)
57. Вдохновение, внушение
свыше (ua^Atn)
78. Утопание; погружение
(зАрАк)
79. Скрытость (алйбл)
80. Крепость силы
(лпАтАккуи)
81. Откровенность
(тук&шАфд)
82. Свидетельствование
(тушА^Адл)
58. Спокойстви е
59. Мир
60. Усердие
61. Любовь
62. Ревность
(КушАйри, 49) (КушАйри, 38)
,8.3. Созерцание (туАйАнА)
84. Жизнь ; г,- ЫлйАт)
85. Стеснение (души); сжатие
(груди) (кАбд)
86. Распрямление (души);
расширение (груди)
63. Страсть; томление
(КушАйри, 50)
64. Волнение
65. Жажда
66. Экстаз
67. Изумление
87 Упоение; опьянение
(сукр)
88. Трезвость; ясность (СА^6)
89. Соединение (иттисАп)
90. Отделение (инсрасАп)
68. Потрясение;
ная любовь
69. Молния
70. Вкус
71. Взирание
72. Время
исступлен-
91. Гнозис (кушАйри, 48)
92. Гибель (ФАНА)
93. Пребывание (бАкл)
94. Осуществление (тА^кик)
95. Покрытие, сокрытие
(
73. Чистота
74. Ликование
75. Тайна
(сАфА) кдрур) (сирр)
(нАфАс)
гтабис) 96- Обретение
97. Отделение
(буд^уд) (тАдЖрид) (тАфрид)
IgfkAtn)
76. Дыхание
77. Изгнание; чужбина
(гурба) 100. Единение (КушАйри, 46)
98. Обособление
99. Совокупие
Другим направлением созерцательной практики была разработка бесчисленных особых приёмов, связанных с духовными стоянками, с привлечением таких средств, как контроль над дыханием, твержение формул, взятых из зикра, и визуализация. Это еще один необозримый предмет, к изучению которого только подступаются. Одна из наиболее обширных систем медитации была разработана суфийским братством Кубрави из Средней Азии под началом таких наставников, как Наджмуддин аль-Кубра (ум. 1220) и Ала ад- Даула Симнани". Эти учителя сочетали углубленное сосредоточение при твержении зикра как средство очищения сердца с подробным разбором состава сердца на основе коранической терминологии (см. главу 2). В итоге ударение делалось на сложную психофизиологию тонких центров (латифа; мн. ч. патаиф) тела. Привлекая древнюю космологическую символику семи сфер, кубравиты предпочитали иметь дело с семью тонкими субстанциями, связанными с телом, каждая из которых соотносилась с определенным видом человеческого существа и с определенным пророком, упоминавшимся в Коране (см. табл. (а)). Каждая тонкая субстанция являет собой средоточие мистического переживания света определенной окраски. Духовные субстанции также связаны со сложными космологическими процессами, почерпнутыми из коранических сюжетов. Система семи тонких центров, разработанная Симнани, на протяжении XV—XIX веков претерпела изменения в Индии, у братства Накшбанди, превратившись в новую схему, насчитывающую шесть тонких центров, которые соотносятся с определенными частями тела. Обычно эти центры располагают так: сердце (колб) находится на два пальца ниже левой груди, дух (рух) — на два пальца ниже правой груди, душа (нафс) — под пупком, совесть (сирр) — посредине груди, сокровенное (хафи) — над межбровьем и чудесный эликсир (ахфа) — в верхней части мозга (см. табл. (б))23.
Цвета, соответствующие тонким субстанциям, отличаются от тех, что приведены в системе Симнани.
а. Семь тонких субстанций в системе Ала ад-Даула Симнани из братства Кубрави
(из кн.: JamalEllas. The Throne Carrier of God)
б. Шесть тонких субстанций в упрощенной системе братства Накшбанди (из кн.:
DhawqiShah. Sirr-i dilbaran)
Совместно с данной мистической психологией шел ряд созерцаний посредством зикра, куда входили дыхательные приемы, визуализация и размещение определенных песен и слогов в частях тела, соотнесенных с тонкими субстанциями. Обычные наставления для такого рода медитации содержатся в следующем трехчастном упражнении из руководства XIV века братства Кубрави, оно предназначено для изгнания нежелательных навязчивых мыслей.
«Часть первая. Сядьте со скрещенными ногами, положив правую стопу поверх левой, левую кисть поверх правой стопы, а правую руку на левую руку, обратившись лицом к Мекке. Прямо перед собой удерживайте образ вашего наставника, ибо его сердце равно связано с сердцем его наставника и посему соединено с Пророком (да благословит его Бог и приветствует) и присутствием Всемогущего (Чье имя могущественно)... Итак, равным образом взирайте на свое земное тело как на мертвое, дабы ослабить узы мыслей, кои суть орудие души и дьявола. Малым усилием вы можете отринуть их и привести внутренние и внешние чувства в порядок. Завеса мыслей меж зикром и сердцем спадет, и зикр незамедлительно ступит в сердце. Удерживая образ наставника и своей мертвой земной оболочки, с благоговением и почтением поднимите покровы мыслей со дна чрева со словами "Нет божества, кроме Бога»" (Ла ипаха иала-Ллах), и пусть они покоятся на правой груди и шее. Удерживайте их здесь некоторое время, но остановка должна быть действительной, а не показной.
Часть вторая. Обратите левое плечо, голову и шею к правому плечу силой слов "Нет божества, кроме Бога" и силой святости наставника, стряхивая назад все мысли и преграды, оставьте их вместе со своей мертвой земной оболочкой позади груди. До сего момента следовало удерживать и памяти наставника, но теперь памятование наставника открывает путь к созерцанию Истины.
Часть третья. Посредством зикра "Аллах", с полным благоговением и почтением, сильно ударяйте от правого плеча поверх сердца. Звук А слова Аллах наряду с отрешением (зикр в частях первой и второй) извлекает мысли. Когда мысль становится вновь излишней, идите к началу зикра»24.
Такое лаконичное описание, естественно, представляет собой краткую справку, которая должна быть дополнена устным наставлением умудренного в данной традиции человека. Однако и такого описания достаточно, чтобы почувствовать, какая сосредоточенность требуется от занимающегося. Следует заметить, что подобная медитация включает на своей третьей ступени визуализацию букв слова Аллах наряду с энергичным продвижением распеваемых слов через различные части тела.
Отдельные суфийские учителя разрабатывали отличительные практики, включая такие их разновидности, как зикр «двудольного», «трехдольного» и «четырех дольного» размера. Поскольку они разрабатывались в целях обучения, особые упражнения по исполнению зикра такого рода как раз и составляли то, что наряду с другими вещами отличало один суфийский орден от другого. В XVII и XVIII веках обширные путешествия суфиев (в частности, паломничество в Мекку) позволили приобщиться к упражнениям по зикру многочисленных братств. Некоторые суфийские руководства того периода содержат пространные описания созерцательных практик различных орденов, где приводятся цепочки их передачи (как в хадисах) и их ожидаемые плоды. К данному разряду относятся такие сравнительно поздние труды, как сочинение «Ясный источник сорока путей», принадлежащее перу североафриканского ученого Мухаммада ас-Сануси аль-Идриси* (ум. 1859); там содержатся примеры практикования зикра сорока различными суфийскими орденами, или братствами, из многих стран.
Марабута, основателя братства Сануси.
Перечень сорокл суфийские брлтетпб созплено лс-Слнусо
Братство Основатель Место
1. Мухаммади Пророк Мухаммад (теоретическая) (ум. 632)
2. Сиддики Абу Бакр ас-Сиддик (теоретическая/ (ум. 634) vl
3. Увайси
Увайс аль-Каранй (теоретическая)^; (VII век) it
4. Джунайди Джунайдаль-Багдадй^ (теоретическая) Р
У (УМ. 910)
Д. Халладжа ;аль-Халладж (ум. 92Щ < {дчрретическая)^
6. КадириЯ Абд аль-Кадир V? все регионы ; '■" аль-Джилани (ум. 11бб|;
Мадйани
Абу Мадйан (ум. 1197)Щ Северная Африка
9. Ураби
1.0. Хатими
12. Ахмади
Ахмад ар-Рифаи (ум. 1182) Умар ибн Мухаммад аль- Ураби (XVI в.) Мухйи ад- Дин ибн Араби (ум. 1238)
11. Сухраварди Абу Хафс
ас-Сухраварди Иран, Инди!1-
(ум. 1234) ;;;;. Щ-
Ахмад аль-Бадави
Египет
Турция, Египет Йемен (теоретическая)
13. Шазили (ум. 1276) -
14- Вафаи
15. Зарруки
Абу аль-Хасан Северная Африка аш-Шазили (ум. 1258)
Мухаммад Вафа Египет, Сирия
(ум. 1358)
16. Джазули Ахмад Аз-ЗаррукСеверная Африка
(ум. 1494)
17. Бакри
Мухаммад аль-Джазули Северная Африка-(ум.
1465)
Абу Бакр аль-Вафаи Египет, Сирия (ум.
1496)
18. Маламати Абу Йазид аль-Бистами, (теоретическая)
(ум. 874) ?V
19. Халвати Умар аль-Халвати ; Египет,
Турция 65
(ум. 1397)
20. Кубрави
Наджмаддин Кубра
Средняя Азия,
Гд,(ум. 1221)
Иран
21. Хамадани J .-^ Али Хамадани (ум. 1384) Кашмир
22. Рукни
23. Нури
Ала ад-Даула Симнанй Средняя Азия :Щуъл.
1336)
ттHyp ад-Дин Исфараими Иран>
,,,(ум. 1317)
24. Накшбанди^ раха ад-Дин Накш-банд Средняя Азия,
а|:<[ум. 1389) Индия, Турция
25. Шаттари '
26. Гауси
27. Ишки
Абд Аллах Шаттари
Индия, Индоне-
эа(ум. 1438) зия
Мухаммад Гауз Гвалияри Индия
У|(ум. 1563)
28. Маулави
29. Джахрй^.'*
30. Бурханж i
31. Хафифщ
32. Хаватири
33. Айдаруси
р Абу Йазид Аль-Ишки -
{XIV век) *? "Джалал ад-
Дин Руми
(ум. 1273)
Ахмад аль-Йасави
(ум. 1167)
Ибрахим ад-Дасуки
(ум. 1288)
Ибн аль-Хафиф
(ум. 982)
Али ибн Маймун
аль-Идриси (ум. 1511)-*
Турция, Иран
Турция, Сирия (теоретическая) Египет, Аравия (теоретическая) Северная Африка
34. Мушари
Абу Бакр аль-Айдарусгг^ Йемен, Индия, (ум. 1509) ia
35. Кушайри
36. Харрази
Индонезия
Суфйан ас-Саури
(ум. 778) ;;
Абу ал ь- Касим '">
аль-Кушайри (ум. 1074)
(теоретическая)
(теоретическая)
37. Чишти
Абу Сайд аль-Харраз • -->■ (теоретическая) (ум. 890)
38. Мадари
Муин ад-Дин Чишти
(ум. 1236)
Бади ад-Дин Шах Ма-
дар (ум. 1437) 39.
Индия Индия
(теоретическая)
Составлением подобных сборников в Индии занимался ученый муж из Накшбандийского братства Шах Вали Аллах (1702/3-1762) и Низам ад-Дин Аурангаба-ди (ум. 1729), наставник ордена Чишти.
Те, кто знаком с другими аскетическими и духовными традициями, могут заметить определенное сходство между некоторыми описанными выше суфийскими практиками и видами медитации, связанной с индуистской йогой. По ряду соображений следует проявлять крайнюю осторожность в обобщениях, касающихся связей между суфизмом и йогой.
Во-первых, как указывалось выше (глава 1), европейскому востоковедению присуща традиционная склонность сводить весь восточный мистицизм к некоему одному источнику. В частности, стремление выискивать индийские корни суфизма совершенно независимо от всякого исторического свидетельства, кое могло бы подкрепить подобное утверждение; иными словами, здесь наблюдается идеологическая подоплека, и следует относиться с опаской ко всяким необоснованным заявлениям такого рода.
Во-вторых, имеются исторические свидетельства знакомства суфиев с йогой, говорящие, однако, об ограниченном воздействии самих йогических практик на практику суфиев, а их использование существенным образом подвергалось исламизации и трактовалось с позиции общепринятых исламических философских и космологических понятий. В отдельном неопубликованном исследовании я перевел и разобрал единственно известный текст по практике хатха-йоги, имевший хождение в исламских очагах культуры («Йога-сутру» Патанджали перевел на арабский язык аль-Бируни (ум. 1048), но он обошел практические стороны источника, и его перевод не был широко известен). Данный текст, вначале называвшийся «Амритакунда» («Кувшин эликсира бессмертия») или «Камрубиджакса»
(«Семенные звуки Камарупа»)*, был переведен на арабский язык в XIV или XV веке, а затем на персидский, турецкий и урду; он был, естественно, известен в широких суфийских кругах от Индии до Турции и Марокко. Однако само сочинение не играло существенной роли в развитии суфийских приемов медитации.
В-третьих, суфийские приемы концептуально и исторически не связаны с психофизиологией йоги. Внешне духовные субстанции суфийской медитации могут походить на семь йогических чакр, или тонких психических центров, размещенных вдоль позвоночного столба, хотя некоторые из суфийских центров явно не соотносятся с позвоночником. Но в суфийских источниках отсутствуют всякие ссылки на характерные йогические описания тонких психических проводников (нади), способов дыхания, солнечной и лунной символики или силы кундалини, подобно змее свернувшейся в основании позвоночника. Хотя контроль над дыханием используется в суфийской медитации, его функция отлична от йогических приемов дыхания.
Вдобавок суфийские схемы созерцания содержат многоуровневую профетологию и мистическую кораническую экзегезу, связанные с каждым из семи тонких центров, сочетая визуализацию, основанную на арабских буквах имен Бога, так что мы видим налицо сугубо исламскую символику. Наконец, само понятие «влияние» целиком зиждется на сомнительном представлении о чистых религиозных сущностях, которые искажаются или загрязняются инородными вкраплениями. Одним словом, утверждение о йогическом «влиянии» на суфизм не основывается ни на чем, что бы знали суфии25.
Созерцание в уединенном затворе представляло горнило, в коем для суфиев выплавлялся мистический опыт. Вопросы космологии и метафизики, которые для философов удостоверялись логикой и фактами, для суфиев были объектами внутреннего постижения. Так обстоит дело с пособием для отшельников, составленным Ибн Араби.
* Название кама-рупа буквально означает «желание-форма». В человеческом теле этим словом обозначается священное место, силовая точка, где скрыт потенциал, ведущий как к освобождению, так и к самоуничтожению.
«Если желаешь вступить в чертоги Истинного и брать у Него без посредников, если также жаждешь близости с Ним. сие произойдет лишь с признанием твоим сердцем единственно Его владычества. Ибо принадлежишь к тому. что имеет власть над тобой. В том нет никаких сомнений. И затворничество от людей станет неизбежным для тебя, и предпочтение уединения человеческим связям, ибо мера твоего удаления от тварного есть мера твоей близости к Богу — вовне и внутри»26.
Само руководство главным образом состоит из описания переживаний, которые выпадут на долю того, кто уйдет в созерцательный затвор. Зикр с повторением имени Аллах сочетается с необходимостью рассматривать каждое видение, каким бы возвышенным оно ни было, чем-то малозначимым по сравнению с Богом. Высшие духовные способности открывают подвижнику ряд видений, которые воспроизводят иерархическое строение вселенной, от низших минералов до Божественного присутствия, и вневременных вселенских миров*. Все они являются неким искусом, ибо стоит подвижнику удовлетвориться каким-либо уровнем и остановиться, он обретет лишь то, что ниже Бога. Хотя руководство Ибн Араби по затвору повторяет ступени исходного духовного обретения — вознесение Пророка, — оно еще растолковывает различие в ролях Пророка и святого. Более красочным предстает даваемое Рузбиханом Бакли в его дневнике видений изображение поразительных встреч с Богом, пророками, ангелами и суфийскими святыми. Для него подобные встречи с Богом были проявлением непосредственной Божественной благодати. Он сам упражнялся в суфийских приемах созерцания с ранних лет, но ближе к шестидесяти годам признал, что на смену «дисциплине и усердию» юности пришли мистические переживания, которые он именует раскрытиями**:
«Я вспомнил дни ученичества, и требуемые от меня усилия, кои полонили меня, и опадание их с сердца на протяжении двадцати лет. Теперь во мне нет усилий, и песни наставников и их многочисленные прежние воспитательные упражнения спали с моего сердца, как будто я более не одобрял их в присутствии гнозиса. Ибо гнозис ко мне проявляет милость и иные веши, помимо тех (то есть дисциплины и усилий), [иначе] оный был бы гнозисом простого люда. Но я отбросил оные мысли, меня заботила лишь всякая мысль, появляющаяся в сердце. Мне случилось посетить сокровенное, и Истинный (да славится Он) был открыт мне дважды: однажды в образе красоты, в другой раз в образе величия. Я взирал на красоту Его запредельного лика очами сердца, и Он сказал мне: "Как они могут обрести Меня посредством усилий и дисциплины, если Мой благостный лик остается сокрытым пеленами от них? Оный припасен для Моих возлюбленных и тех близких, что среди гностиков; нет иной стези ко Мне, кроме как чрез Меня и посредством проникновения в Мою красоту". После исступлений, духовных состояний и посещения Бога ко мне вернулась вера в единение и выбор Им щедрот чрез то, что Он пожелает, к тому, кого Он возжелает и как Он пожелает: "Щедроты в руке Бога: Он представляет их кому хочет" (Коран 57:29). И услада сия оставалась со мной, покуда я не уснул»27.
Для Рузбихана упражнение в суфийской дисциплине было необходимым, но не достаточным приуготовлением к духовному опыту.
Однако сами его видения явно построены по образцу вознесения Пророка.
Сам процесс личного созерцания, похоже, менее всего заметен, хотя, вероятно, является наиболее важной стороной суфизма. Трудно получить доступ к данному внутреннему измерению опыта. Духовные состояния по своей природе недоступны для прилюдного обозрения.
Так называемых богоявлений (арабск. таджами). *
Или проникновениями (арабск. кашф).
Споры по поводу суфизма в мусульманских общинах обыкновенно разгорались относительно необычного поведения или утверждений, порождаемых теми переживаниями, с которыми простой человек сталкивался редко. Если руководства по суфийской дисциплине предполагают ситуацию воспитательного обучения, где духовным продвижением можно управлять, то суфийская терминология для мистического опыта ясно говорит о наличии целого ряда духовных состояний, которые не подчиняются человеку. Рузбихан указывает на эти состояния следующим образом:
«Сие есть стоянка возлюбленных, кои испили моря единения в первичном гнозисе и прочее, кои пребывают над океаном величия, чей немолчный гул поверяет сокрытые истины людям гнозиса и любви. Они обретаются на стоянке самоуничтожения; у них нет очей, кои не были бы изглажены, сердец, кои не были бы смятенными, умов, кои не были бы уничтожены, совести, коя не была бы стерта»28.
Таков язык опьянения, выражающий преображения сознания, характерные для мистиков. В данном отрывке Рузбихан связывает отсутствие у пьяного сознательного самоконтроля с уничтожением (фана) индивидуального «я». Возмутительные слова, которые срываются с уст человека в таком состоянии, определенно могли вызвать волнения.
Исламская культура имеет длинную традицию, связанную с «мудрыми безумцами», блаженными, которые находились в близких отношениях с Богом, но преступали общественные установления. Сборники житий суфиев иногда содержат приложения, где даются рассказы об опьяненных святых, которые были с такой силой одержимы (маджзуб) Богом, что оказывались не властны над собственным разумом. И каким образом подобные люди могли придерживаться общественных норм поведения?
Подобного рода необычное поведение перекликается в некоторой степени с поступками «самобичующих» суфиев, которые добровольно навлекали на себя обличительный гнев*; «святых безумцев» освобождали от ритуальных обязанностей, как и душевнобольных. Именно так понимали суфии коранический стих «Не приступайте к молитве, когда вы пьяны», хотя обычно он воспринимается как запрещение спиртного. Ниже дается описание опьяненного Богом человека со слов персидского суфия XIII века:
«Однажды один человек мне поведал о некоем странном выходце из рода Лури по имени Джамал ад-Дин, пришедшем в город. Им владела безграничная привязанность (джазб) к Богу, а сам он обитал в приходской мечети. Я отправился в приходскую мечеть и увидел, что тот был полностью поглощен привязанностью к Богу. Сила его переживаний была такова, что его глаза походили на две чаши, полные крови. Я подошел к нему и поприветствовал, и он ответил. Затем он сказал: "У меня нет ничего общего с теми, кто делит все на черное и белое", имея в виду законников, ученый люд и писателей. Кто-то из присутствующих заметил: "Этот человек из суфиев". Я уселся напротив него и осведомился о его духовных состояниях. Он сказал: "Я неграмотный выходец из рода Лури и ничего не знаю. Я был счастлив тем, что ухаживал за лошадьми, и присматривать за ними составляло мое занятие. Однажды я сидел в конюшне перед лошадьми.
Внезапно я ощутил неведомое ранее состояние духа: меня охватила любовь к Богу. Завеса моей личности спала с меня, и я потерял сознание. Я упал и покатился под ноги лошадей. Когда ко мне вернулось сознание, мне целиком открылось единение с Богом"»24.
Как показывает данный рассказ, маджзуб не нуждался в том, чтобы следовать суфийской дисциплине, поскольку на обычного человека могла сойти Божественная благодать в виде особого состояния духа. Данный феномен вовсе не ограничивается только средневековьем. Британский физик Уильям Данкин составил длинный список сотен случаев сношения с опьяненными душами, что происходили с индийским духовным наставником Мехером Бабой повсюду в Южной Азии на протяжении десяти лет (1939— 1949). Этот примечательный документ, которому нет аналогов в истории религии, к тому же содержит подробный разбор различных видов духовного опьянения и безумия в понятиях, заимствованных из суфизма. Само обстоятельство, что в разряд мастов включены и индусы, и мусульмане, делает его чем-то более ценным, нежели просто очередное практическое описание неуправляемых мистических переживаний30.
* Так называемая школа «дурных святых» — маламатие; предтечей ее явился Хамдун аль- Кассаб («мясник»; ум. 884), первым ступивший на «путь порицания».
Подобное состояние духа может выдавать себя также речью — в частности, исступленными высказываниями (шасийат), которые невольно вырываются у человека. Они могут показаться противоречивыми, выходя за рамки общепринятого представления о Боге. Многие исступленные высказывания выражают состояние единения с Богом. Как следствие, форма, которую они принимают, походит на непозволительную похвальбу — так, говорящий может объявить себя Богом. Самые знаменитые экстатические речения принадлежат Байазиду Вистами: «Слава мне! Сколь велико мое величие!» и Халладжу: «Я есть Истина!». Обычное объяснение этих речений, выдвигаемое суфиями, состояло в том, что индивидуальное «я» уничтожается в экстатическом состоянии и, таким образом, устами человеческими глаголет Сам Бог, а не человек. Аттар объясняет высказывание Халладжа по аналогии с неопалимой купиной, увиденной Моисеем; когда Моисей услышал слова: «Это Я, Бог», исходящие от куста терновника, с Моисеем действительно беседовал Бог. Тем же самым образом, когда Халладж говорил: «Я есть Истина», его устами говорил Бог, ибо в действительности Халладжа уже не было. Вот пример одного из исступленных порывов Байазида с подробным толкованием Рузбихана:
«Байазид сказал: "Вы не узрите никого подобного мне ни на небесах, ни на земле".
Толкование. Здесь явлены слова пристрастившегося к гнозису и опьяненного им. Из ревности в любви он не различает никого, помимо себя с возлюбленным. Разве вы не видите, что Соломонова птаха из крайнего упоения своим возлюбленным рекла:
"Приблизь свою голову, иначе я ухвачу своим клювом Соломоново царство и сброшу его в бескрайнее море"? Таков порядок у влюбленных... Посему верно, что, минуя храм земли и брод на реке и пролетая мимо стоянки мирской юдоли, вы услышите глас самой Истины, срывающийся с языка каждой пылинки. Она глаголет, описывая себя, языком всякого гностика. [Когда] Байазид сказал: "Слава мне", по моему разумению, его языком говорила Истина»1.
Тем не менее потрясение от таких высказываний было таково, что большинство суфиев принимали неопределенную позицию по отношению к ним. Помимо приведенной выше интерпретации экстатических речений, суфии, чтобы как-то отвести от себя критические стрелы, порой преподносили их как неправильно приведенные цитаты или же выставляли как следствие неуправляемого опьянения. Что касается упомянутого выше маджзуба Джамал ад-Дина, то тот был обвинен некоторыми учеными мужами в ереси и неверности и препровожден ко двору правителя Шираза. Когда же правитель поинтересовался мнением двух суфийских руководителей, те предоставили письменный вердикт, где утверждалось, что недопустимо умерщвлять всякого, кто одержим привязанностью к Богу, что бы тот ни изрекал. Несмотря на казнь Халладжа, суды над суфийскими «еретиками» были редки, а когда случались, их подоплеку составляли политические распри.
Не все суфии соглашались с тем, что такого рода экстатические высказывания являются абсолютно правомерными и отражающими непосредственно духовный опыт. Исходный эзотеризм суфизма покоился на том, что лишь некоторые избранники способны постичь и испытать высшие духовные истины. Поэтому вырывающиеся из чьих-то уст утверждения об общении с Богом представлялись безрассудными, если не сказать хуже; это могло бы к тому же создать у глупцов неверное впечатление, что всякий в действительности является Богом и что закон и нравственные нормы для них более не обязательны. В ответ на эту точку зрения другие суфии, например аль-Газали, говорили, что «утверждение» Халладжа «Я есть Истина» было верным, но, прилюдно провозгласив его, Халладж открыл свою тайну непосвященным, и это явилось причиной его казни. Другая критика экстатических высказываний состояла в том, что они обнаруживают незрелость и отсутствие самоконтроля. Высшая цель с этой точки зрения состоит в том, чтобы переживать единение с Богом без утраты контроля над своими словами и действиями. В этом отношении исступленная речь Халладжа явилась следствием его ограниченной внутренней вместимости — он оказался мелким сосудом, который быстро переполнился. Особо критично относился к несдержанным экстатическим словоизлияниям Ибн Араби, обосновывая свою позицию том, что им присуще восхваление и посягательство на обладание духовными состояниями; замечание о том, что стиль и форма исступленных речений очень походили на состязание в восхвалении (что и впрямь практиковалось древними арабскими племенами), было метким. Однако поразительно то, что Ибн Араби делает ряд заявлений о своей собственной позиции, включая утверждение, что он является печатью святых (статус, который, похоже, находится в опасной близости к статусу Мухам-мада как Печати Пророков). Его заявления отличаются от исступленных речений, как он объясняет, тем, что не являются самовозвеличиванием либо неким притязанием, ведь ему было велено Богом и Пророком обнародовать их, и посему сии утверждения суть всего лишь выражение послушания. Действительно, в позднейшей суфийской литературе стали вполне обычным делом самоописания, которые заявленной космической значимостью побивают притязания всех прежних наставников. Выходит так, что на фоне экстатического опыта единения с Богом все предшествующие описания представляются неполноценными. Прибегая в своей риторике к образу запредельного, позднейшие суфийские наставники, например Ахмад Сирхинди и Шах Вали Аллах, описывают себя как достигших стоянок, на их фоне достижения Байазида и Ибн Араби меркнут. Таким образом, значимость духовных состояний оказалась обесцененной. Однако Слово Божие продолжает осенять практику и опыт суфиев даже на тех уровнях, где уже почти невозможно различить, из чьих уст оно исходит.
ГЛАВА 5 Суфийские ордены:наставничество,ученичество и посвящение
У кого нет наставника, у того в поводырях сатана.
Байазид Бистами
Что вначале было сугубо личным делом ряда единомышленников в первые века мусульманской эры, в итоге стало огромной общественной силой, которая захватила большинство мусульманских общин. За самоопределением суфизма в теоретических руководствах X века последовал рост многочисленных толков учения, поначалу в центральных областях старого халифата Ирака и Персии, но вскоре эта волна достигла границ Испании, Северной Африки, Средней Азии и Индии. Прославленные суфийские учителя основали кружки-обители*, которые вскоре получили поддержку местных правителей. Благодаря братствам суфизм приобретал все большую известность, его стали проповедовать в самых разных слоях общества.
В результате появились множество трактовок этого учения, что породило своеобразные обряды посвящения и особые практики. Как замечает Маршалл Ходжсон в отношении роста средневековых суфийских орденов, «традиция глубокого внутреннего претворения явила затем наружу свои плоды, в итоге обеспечив важный задел в возведении основания для общественного устроения»1. Выражение «суфийские ордены» заимствует понятие, первоначально применявшееся к большим христианским монашеским братствам, вроде францисканцев или бенедиктинцев. В той мере, в коей орден подразумевает группу людей, живущих вместе и подчиняющихся общим установлениям, данное понятие можно с успехом применить и для описания различных путей обучения (тарика) или цепочек (силсила) наставников и учеников, привычных для позднейшего суфизма. Однако подобным сходством нельзя злоупотреблять. Хотя суфийские ордены используют обрядовые посвящения и часто следуют правилам, которые были утверждены их основателями, они не принимают обет безбрачия, свойственный христианским монахам и монахиням, и не утверждаются центральной духовной властью наподобие папы. Авторитет суфийских вероучителей основывается на авторитете Пророка Мухаммада, который считается истоком всех суфийских цепей духовной преемственности. Хотя многие суфийские линии преемственности сохраняли обители, предназначенные для постоянного жительства под надзором наставника, существовали также различные уровни и степени включения в суфийские братства купцов, правителей и простого люда на основе непостоянного времяпрепровождения в стенах братства. Если вступление в христианский монашеский орден устанавливало исключительную верность этому ордену, то многие суфии имели обыкновение получать посвящения в практику нескольких суфийских братств, хотя сохранялась приверженность одному ордену.
Арабск. канака, или завия; в Северной Африке — рибат.
При попытке описания суфийских орденов необходимо еще раз отметить различие между социологическим подходом западных востоковедов и практической вовлеченностью суфия в конкретное учение. Иными словами, востоковеды склонны рассматривать суфийские братства как социальное явление с четкими историческими и географическими границами. Красочные шествия официально признанных суфийских орденов в Каире, например, дают возможность выявить определенную группу людей, которые связаны конкретной цепью преемственности и определенными наставниками. В этом смысле можно было бы говорить о приверженцах отдельной ветви братства Шазили в Каире как об общности людей, которую предположительно можно было бы описать и численно оценить на основе опросов и других социологических исследований. Несомненно, часть такого описания составил бы исторический рассказе линии преемственности наставников и разделении ордена, которое происходило на протяжении долгих лет, когда некоторые суфии образовывали свои подбратства. Кроме того, сугубо социологические и политические интересы западных ученых побудили усмотреть в суфийских братствах образец авторитарных структур, что автоматически обусловило их склонность видеть в орденах нечто вроде политических партий со своими идеологическими интересами. Хотя суфийские теоретики и не пренебрегают подобной общественной и исторической подоплекой, они склонны к иному подходу при описании самих братств. Каждая цепь преемственности, естественно, содержит связь наставника с учеником, которая непременно восходит к Пророку. Однако такая цепочка рассматривается не как общественное установление — в ней усматривают некую мистическую передачу учения, которая позволяет отдельному человеку вступать в духовную жизнь. Различные пути обучения рассматриваются не как строго цеховые образования, но как духовные методы, сохраняющиеся и передающиеся сообществом, которое их задействует в своей практике.
Возвращаясь к различиям, приводимым в начале настоящего изыскания, расхождение между научным и личным подходами к суфийским братствам можно было бы еще выразить в понятиях описательной и предписывающей точек зрения. Когда французские колониальные власти в Северной Африке захотели составить портрет суфийских орденов с той целью, чтобы уметь предсказывать их политическое поведение, результаты данной работы были отражены в трудах наподобие обширного сочинения Депона и Копполани о мусульманских братствах, увидевшего свет сто лет назад2. Доклад о суфийских орденах, включенный в данную книгу, явился попыткой обозначить связи между цеховыми объединениями, которые играли заметную роль в обществе. Описательный подход востоковедческой науки тем не менее смог найти практическое применение. Отношение колониальных властей к предмету их интереса походило на позицию, занимаемую нынешними западными политическими аналитиками, которые пытаются предсказывать поведение «фундаменталистов», для того чтобы обеспечить успех своей международной политики. Большинство современных специалистов по исламу напрямую не вовлечены в политику и занимают позицию сторонних наблюдателей с их описательным подходом, но крайне политизированный характер любой дискуссии по исламу сегодня придает их исследованиям политическую окраску.
Напротив, если взглянуть на компилятивные труды, вроде «Ясного источника сорока путей», составленного североафриканским ученым Мухаммадом ас-Сану-си аль- Идриси, мы заметим сугубо личный взгляд на суфийские братства. В книге приводятся примеры зи-кра для сорока различных суфийских орденов из разных местностей, но они выбраны не случайно, что, однако, не означает, что ими охватываются все имеющиеся ордены. Принцип выбора основывается на том обстоятельстве, что автору случилось быть посвященным во все эти отправления зикра. Он также, очевидно, округлил число, чтобы получилась заветная цифра «сорок», поскольку представление об описании сорока собственных посвящений уже давно стало общепринятым. Как видно из перечня сорока орденов, описанных в его книге, Сануси включил двенадцать способов отправления зикра, которые не относятся к реально существующим братствам; эти «теоретические» ордены, по существу, являются отдельными созерцательными практиками, со своим психологическим подходом, которые можно было бы связать с известными суфийскими наставниками, но которые сохранили для передачи те наставники, что добились для себя многих посвящений. Труд самого Сануси тоже служил цели показать, как его собственное учение включает и охватывает все имеющиеся духовные методы. Как он отмечает, «Путей ко Всемогущему Богу много — шадхилли, сухраварди, кадири и прочее, посему некоторые глаголют, что они столь многочисленны, как и души людей. И хотя у оных много ответвлений, в действительности они суть единое целое, ибо цель у всех одна»3. Подобные сборники по отправлению зикра различными орденами, составленные наставниками братств Накшбанди и Чишти в Индии в XVIII веке, также служили для установления авторитетных персонифицированных учений, основанных на многих источниках; они никоим образом не предназначались для социологического описания занятий больших общественных групп.
Опытным источником общественных установлений суфизма явился институт «наставник—ученик» (шейх-мюрид). Если протестантский образ ислама представлялся как религия без священников, для большей части мусульманского общества роль посредников имела огромное значение, присваивалась ли она Пророку, шиитским имамам или суфийским святым. Суфийский наставник известен по арабскому слову шайх, означающему «старейшина» (перс, пир), звание, которое также принимали религиозные ученые, но наставнику отводилась чрезвычайная роль посредника, связанного с Пророком и Самим Богом. Абу Хафс ас-Су-храварди (ум. 1234) описывает влияние наставника на ученика следующим образом:
«Когда праведный ученик поступает в послушание к наставнику, держась его общества и обучаясь его благопристойностям, духовное состояние перетекает от наставника к ученику, подобно светильнику, зажигающему другой светильник. Речь наставника вдохновляет душу ученика, так что слова наставника становятся сокровищницей духовных состояний. Состояние передается от наставника к ученику чрез общество с оным и внимание его речам. Сие единственно приложимо к ученику, коий ограничивает себя наставником, изливает желание его души и растворяется в нем, отказываясь от своей собственной воли»4.
В самом крайнем выражении ученик представлялся для наставника чем-то вроде мертвого тела в руках того, кто призван омывать трупы. Трудно переоценить важность института «наставник-ученик» для суфизма. Практические руководства содержат пространные рассуждения о том, как ученику следует вести себя по отношению к наставнику. Послушание наставнику понималось психологически как отказ от низменного «я» и замена его очищенным «я», что стало возможным благодаря уничтожению «я» наставника. Связь между обоими обозначалась словом ирада — томление, желание. Ученика именуют мурид — желающий, а наставника мурад — желанный.
С исторической точки зрения первыми зачатками, откуда стали развиваться общественные институты суфизма, явились обители, или странноприимные дома, которые создавались как места жительства для суфиев в основном начиная с XI века. Возможно, образцом раннесуфийских обителей для их основателей послужили другие оседлые общины, такими примерами могли быть ранние духовные общины — христианские монастыри на Ближнем Востоке и странноприимные дома мусульманского аскетического движения каррамитов* X века в Средней Азии. Суфийские же сочинения, напротив, образец для себя видят в ранней форме мусульманской общины, олицетворяемой собраниями наподобие «людей скамьи». Не ранее VIII века на острове Бахрейн аскетом Абд аль-Вахидом ибн Зайдом была основана религиозная община. Но первые более или менее устойчивые формы общежития у суфиев стали возникать в Иране, Сирии и Египте в XI веке и позже. Эти обители позже стали известны под различными именами (арабск. рибат, завия; перс, ханка, джа-мат-хана; тюркск. текке), они принимали ряд форм, от большого сооружения на несколько сотен человек до простого жилища, относящегося непосредственно к дому самого наставника. В число наиболее значимых из этих ранних поселений входили те, что основал Абу Сайд (ум. 1049) в Восточном Иране, и странноприимный дом Сайда ас-Судады, заложенный в Каире Сала-дином в 1174 году.
Распространение суфизма в обществе проходило не в вакууме, напротив, можно сказать, что он был призван заполнить его.
Многие комментаторы отмечали, что самые ранние суфийские общины появились во время наивысшего могущества и величия арабской державы — халифата; аскетизм и осуждение мира, нашедшие свое выражение в лице Хасана аль-Басри, до некоторой степени явились ответом на роскошь и продажность политической власти. Хотя в X веке халифат представлялся жизнеспособным политическим сообществом, власть самих халифов понемногу урезали честолюбивые воины и мятежные наместники. Подобные перемены привели к подрыву законности власти. Несмотря на религиозные просчеты халифата, который широко обличался как мирская царская династия, он был единственным политическим институтом, с успехом отстаивавшим свои законы как воплощение общественно-политического порядка, установленного самим Мухаммадом. Но когда персидские войска Бундов захватили Багдад и превратили халифов в марионеток, основы законности власти изменились. В последующие века обширные территории прежних восточных областей империи находились под властью турок- сельджуков, чьи религиозные притязания на власть были весьма сомнительны. Новоявленные правители Персии и Средней Азии быстро приспособились к новому положению, восприняв как придворную культуру, так и мусульманскую веру. Они вскоре стали покровителями религии, установив одновременно два вида институтов, чтобы показать законность своей власти: академии для подготовки мусульманских ученых и странноприимные дома для последователей суфизма. Легитимирующая роль суфиев оказалась даже более весомой после упразднения халифата монголами в 1258 году**. С тех пор вплоть до европейских завоеваний, целых пять веков, поддержка суфизма являлась составной частью политики всякой власти, которая считала себя преемницей исламского наследия.
С самого начала отношения между суфиями и правителями носили двойственный характер. Теоретики суфизма предостерегали против принятия средств, добытых путем, противоречащим исламскому праву. Обличители суфиев указывали на несогласие между идеалом суфийского нищенствования и безбедным или даже утопающим в роскоши существованием, доступным «факиру», живущему в щедро одариваемой обители. Эти несоответствия обостряли традиционное разграничение между истинными и мнимыми суфиями, как оно определялось в предписывающих, нормативных суфийских трудах.
* Последователей Мухаммада ибн Каррами. Это был нищенствующий орден, проповедовавший отречение от земных благ и создавший крупнейшую монастырскую организацию. Описывая их главные качества и деятельность, указывали на богобоязненность, фанатизм, смирение и нищенское существование.
** Когда был захвачен Багдад и пришел конец Аббасидскому халифату.
Но если суфии не были отшельниками, им приходилось иметь дело с мирскими делами; принятие нищенствования стало внутренним проявлением ухода от мира, нежели чисто внешним лишением себя собственности. Некоторые суфийские предводители полагали выгодным пользоваться благосклонностью правителей, на которых можно было бы тем самым влиять, побуждая при принятии решений руководствоваться этическими и религиозными соображениями. При этом можно было бы содействовать людям благочестивым, бедным и отверженным. Правители, в свой черед, почитали суфийских святых как тех, кому была ниспослана более высокая власть. После падения шиитской династии Фатимидов Саладин в XII веке поддерживал в Египте ряд суфийских обителей, и с той поры суфии стали играть ведущую роль в египетском обществе. Один из первых вождей общины, в будущем ставшей суфийским орденом Сухравар-ди, Абу Хафса ас-Сухраварди* установил тесные связи с тогдашним халифом ан-Насиром (1180-1225) и даже служил посланником при египетском, турецком и персидском царях. Его ученик Баха ад-Дин Закарийа (ум. 1267) после удаления в Индию основал суфийскую обитель, где жил вместе со своими последователями скорее как настоящий царь, нежели дервиш, имея немалые доходы от земли. Наставники братства Накш-банди, вроде Хваджи Ахрара (ум. 1490), владели обширными наделами земли и играли ключевую роль в тогдашней политической жизни. Порой нелегкие, но вынужденные отношения между правителями и дервишами прекрасно охарактеризовал поэт Саади в своей плутовской поэме «Гулистан», написанной в 1258 году:
«Некий благочестивый муж видел во сне царя в раю, а праведника в аду. Он спросил:
- В чем причина возвышения царя и за что унижен дервиш? При их жизни думал народ, что произойдет как раз наоборот!
В ответ раздамся голос:
- Этот царь принят в рай за свою привязанность к дервишам, а дервиш низвергнут в ад за свою близость к царям»**.
Так что мы видим здесь провозглашение парадоксального идеала, когда следует быть дервишем внутри, пусть даже на тебе царский венец.
Построение суфийских братств как общин, основанное на линии преемственности учения, похоже, утвердилось в XI1-XIII веках. Большинство суфийских орденов назывались по имени известной личности, которую в действительности считали основателем (см. перечень на с. 148-149). Таким образом, например, братство Сухраварди названо в честь Абу Хафса ас-Сухраварди, Ахмади — в честь Ахмада аль-Бадави, а Шазили — в честь Абу аль-Хасана аш-Шазили6. Основателями обыкновенно являются те наставники, которые систематизировали и утвердили учения и практики своих орденов, хотя во многих случаях их признание в качестве святых выходит далеко за круг принятых в орден.
Большинство братств сосредоточивалось в определенных областях, хотя немногие из них, вроде Ка-дири и Накшбанди, были широко распространены во многих мусульманских странах. Ордены ширились, разбрасывая вокруг себя сети в виде школ, основанных на родословной посвящения; авторитет каждого наставника восходил к авторитету его предшественника и так по цепочке к самому Пророку Мухаммаду. Внутри исходного ордена часто имелись подордены, иногда обозначаемые сложным именем из двух, трех и более составляющих для указания числа ответвлений от основного древа. Тем самым можно встретить братство Маруфи-Рифаи, братство Джаррахи-Халвати (или Серрахи-Халвати) и братство Сулаймани-Низами-Чи-шти. Некоторые из главных ответвлений образовались в XV и XVI веках и даже позже.
* Не путать с Шихаб ад-Дином Йахйа Сухраварди, иранским философом-мистиком, создателем учения об «озарении» (ишрак).
** Цит. по: Саади. Гулистан. М: Худ. литература, 1957.
Официальная поддержка суфизма неизбежно связывала центры обучения с центрами политической власти. Меры, посредством коих эта связь осуществлялась, составили основу для будущих отношений с двором. Некоторые группы, наподобие Чишти, советовали не связывать себя официально поддержкой со стороны властей, хотя принятие подношений деньгами или натурой допускалось, с той лишь оговоркой, что их следует быстро израсходовать на соответствующие потребности, вроде пропитания, естественных надобностей и обрядовых нужд. Когда Бурхан ад-Дим Гариб был утвержден суфийским наставником, его учитель Низам ад-Дин сказал ему: «Бери себе в ученики достойных людей, а что касаемо подношений — никакого отказа, никаких вопросов, никаких сбережений. Если кто-то что-то приносит, не отвергай сие и не вопрошай ни о чем, и даже если приносят мало добра, не отвергай оное, дабы увеличили его, и не соглашайся уточнять [в чем твоя нужда)»7. Как видим, посещали суфийские обители представители всех слоев общества, а простой люд и купечество делали благочестивые подношения в силу своих возможностей. Обитель Рузбихана Бакли возвели почитатели, без поддержки со стороны правителя Шираза.
Несмотря на желание оставаться вне контроля царского двора, внушительные средства, которые средневековые правители направляли на поддержку суфийских учреждений, постоянно вынуждали суфиев принимать покровительство властей. Когда обитель Бурхан ад-Дина Гариба после смерти ее основателя заняла смиренную позицию, попечители и служители стали домогаться подношений, а затем и земельных наделов от султана Деккана. К XVIII веку усыпальницы Бурхан ад-Дина и его учеников стали как бы дополнительным выразителем властных полномочий двора, имевшего свои царственные музыкальные балконы, сооруженные непосредственно в усыпальнице для совершения придворных церемоний. Это лишь один пример того, как суфийские институты встраивались в экономическую структуру общества. Язычники-монголы быстро уяснили выгоды от сношений с суфиями и стали спешно брать под свою опеку суфийские усыпальницы; первый земельный доход для содержания могилы Рузбихана был пожалован монгольским наместником в 1282 году, при его обращении в ислам. К XVI веку в османской и могольской державах установилась иерархическая чиновная лестница тех, кто распоряжался распределением царских пожертвований и земельных доходов среди суфийских усыпальниц, часто назначая доверителей и управляя внутренними делами самих усыпальниц. Усыпальницы освобождались от обычных податей на основании тою, что служители там справляли молебны во здравие правящей династии. Отпрыски суфиев часто имели возможность приобщиться к знатному сословию. Пожалуй, наибольшая часть поступающих от властей средств в поддержку суфиев назначалась непосредственно могилам усопших наставников, нежели окружению здравствующих учителей. Это давало меньше поводов для раздоров с почившими святыми.
Другое, значительно более радикальное толкование бедности дервишей вызвало к жизни совершенно иную форму суфизма — движение каландаров8. Выказывая некоторое презрение к удобно устроившейся верхушке суфиев, пользующейся поддержкой властей, эти странники своим преступающим всякие приличия поведением бросали вызов обществу так же, как это делали киники античности. Проповедуемые этими аскетами формы неприятия мира были столь различны, что сами они были известны в различных областях под совершенно разными именами: хайдари(ты), каланда-ры, торлаки, баба(иты), абдалы, джами(ты), мадари(ты), маланги(ты) и джалали(ты). Отрицая собственность, эти странствующие дервиши жили милостыней, сохраняли обет безбрачия и практиковали крайний аскетизм. Их совершенно не заботило исполнение ритуальных обязанностей ислама, они часто ходили нагими или носили жесткую темную власяницу на пару с необычайного покроя шапочкой и иными предметами, включая железные цепи. Отвергая принятые виды ухода за собой, они сбривали волосы, брови, усы и бороду, а многие славились употреблением галлюциногенов и крепких напитков. Каландар и ныне олицетворяет собой решительный разрыв с миром, а само это название примерили на себя и члены более традиционных суфийских групп, например индийского братства Калан- дари в Какори, близ Лакхнау, штат Уттар-Прадеш. Но беспрекословное и буквальное претворение подобной идеи в жизнь приводило порой к острым социальным столкновениям, включая нападение на более именитых суфиев и даже настоящие крестьянские бунты. Наследие столь агрессивно проявляемого отрешения от мира отчасти сохранилось в некоторых формах поведения официальных орденов Бекташи (сбривание волос) и Рифаи (необычного рода укрошение плоти). До сих пор на традиционных суфийских праздниках во всем мире можно встретить то, что иные ученые отвергают как «духовное вероотступничество»9, например недавно обретшую популярность песню о могиле Каландара в Синде в исполнении пакистанского певца в стиле каввали Нусрата Фатеха Али Хана. Это явление не вписывается в рамки никакого устоявшегося определения суфизма.
Историческое становление суфийских орденов все еще не до конца понято, поскольку много источников так и остаются неизученными. Это не мешает некоторым ученым пытаться дать цельную картину исторического облика суфийских братств. Наиболее смелую попытку дать историографическое толкование суфизма предпринял Дж. Спенсер Тримингем, знаток истории ислама в Африке, в своей книге «Суфийские ордены в исламе». Тримингем выдвинул трехступенчатую теорию становления суфизма, которая представляет собой нечто большее, чем кажущееся сходство с трехчастны-ми схемами, буквально заполонившими западную историографию (древность—средневековье—новое время и прочее). Ценные сведения, собранные в этом благожелательном научном труде, искажает теория классического периода и периода упадка, разделенных на три этапа. Тримингем называет первый этап раннего суфизма «естественным выражением личной религии... в противоположность узаконенной, приобретшей статус общественного установления религии, которая зиждется на авторитете». За данным этапом последовал второй, охватывающий примерно XII век, этап становления тарик (путей) в виде собраний людей, основанных на цепи «наставник-ученик». Полная институци-онализация суфизма в виде таифа*, начиная примерно с XV века, составила третий, и заключительный, этап. Хотя связь орденов с могилами святых как пользующихся государственной поддержкой молебных мест обеспечила им поддержку людей, Тримингем утверждает, что подобная институционализация привела к упадку суфизма, сходу его со стези исконного, чистого мистицизма. После этого поворотного момента, по мнению ученого, он утратил всякое своеобразие, став лишь бесплодно повторять свое прошлое и, к несчастью, склоняясь к наследственной передаче духовной власти. Следствием такого «тяжелого душевного недомогания» явилось перерождение самих братств в иерархические структуры, которые, по горестному замечанию ученого, походили на христианскую Церковь с ее духовенством10.
Наблюдения Тримингема отражают современные, сугубо протестантские взгляды, где личная религия ставится выше институционализированной религии, и его теория упадка логически вытекает из посыла, что мистицизм должен оставаться личным, индивидуальным явлением. Представление об историческом упадке, по сути, есть словесные ухищрения в оценке и определении истории в соответствии с тем, что считается истинной ценностью, а что оказывается отходом от нее. Большинство теорий о расцвете и упадке цивилизаций (от Гиббона до Тойнби) отличаются большим разнобоем в выборе временных рамок для сравнения, а их предположения касательно связи между нравственным престижем и отношениями с политической властью, по существу, недоказуемы. Модель «классического периода и периода упадка» долго пользовалась успехом в среде исследователей исламской культуры.
То есть религиозных общин.
Особо следует отметить, что «упадок» исламской цивилизации считался безусловной аксиомой, эту точку зрения до недавнего времени разделяли большинство востоковедов, и ее по-прежнему придерживаются фундаменталисты, но у всех на это свои резоны. В обоих случаях колонизация значительной части мусульманского мира и последующая утрата мусульманами политической власти истолковывались в нравоучительном ключе, как кара либо истории, либо Самого Бога цивилизации, показавшей свою несостоятельность. Мысль об упадке мусульманских государств особо прельщала европейцев колониального периода с рисующимся их воображению собственным представлением о себе, поскольку это служило достойным оправданием имперской завоевательной политики, основывающейся на «цивилизаторской миссии» Запада (известной еще как «бремя белого человека»). Но если мы не склонны поддерживать лозунги ни колониализма, ни фундаментализма, тогда представление о классическом периоде и периоде упадка явно беспомощно в изучении такой традиции, как суфизм". Вместо этого мне хотелось бы заметить, что нам необходимо раздвинуть рамки концепции мистицизма, подведя под нее более широкий социальный и институциональный фундамент, если мы намереваемся с пользой употреблять это слово при описании суфизма. В отличие от индивидуалистического понимания самобытности, свойственного романтическому модернизму, слово «мистицизм» в традиции вроде суфизма, столь много вместившей в себя, покоится на разнообразных наслоениях, накопившихся на самом слове после многовекового его употребления.
В рамках суфийской традиции после образования братств их выделение в виде родословной посвящения в некоторой степени было воссозданием себя задним числом. Отыщется мало примеров орденов с полной их родословной, восходящей через цепь посвящений к самому Пророку и составленной ранее XI века, да и вообще, критики с большим подозрением относятся к их исторической правдоподобности12. Тем не менее символическое значение таких родословных было огромно; они обеспечивали доступ к Божественному авторитету через посредство традиции по горизонтали. Несмотря на их недоказуемость в историческом плане, связывающие наставников и учеников цепочки были необходимы для передачи духовной власти и благодати. В случае, который я разобрал отдельно, Рузбихан Бакли в своих собственных сочинениях вовсе не ссылается на какую бы то ни было суфийскую родословную и даже не упоминает в качестве учителя ни одного из современников, известных по другим источникам. Однако оба его правнука, писавшие спустя сто лет после его смерти в 1209 году, постарались снабдить его полной родословной в суфийском ордене Казаруни. Сдается, что его мистического опыта в вертикальном измерении духовного восхождения было бы недостаточно для перехода на институциональные рельсы без подкрепления со стороны исторической родословной прежних суфийских наставников11.
Принятую изначально традицию подрывает и вне-исторический характер суфийского посвящения. Образцом такого рода связи был Увайс аль-Карани, современник Пророка из Йемена, ни разу не видевший его, но твердо уверовавший в Мухаммада и ставший святым. Такого рода внутренняя связь, известная как посвящение увайси*, представлена в ряде известных суфийских родословных. Таким путем от духа Байази-да Вистами получил посвящение Абу аль-Хасан Харакани (ум. 1034), и оно было включено в качестве обычного звена цепи наставников братства Накшбанди.
К тому же несколько известных суфиев получили посвящение от бессмертного пророка Хидра. Сила такого рода внеисторической передачи учения была столь велика, что в некоторые периоды мы находим упоминания об ордене Йвайси (или Увейси), словно была еще другая общепринятая цепь передачи. Здесь примечательно как раз то, что подобный подход сохраняет историческую форму родословной посвящения, вместе с тем полностью пренебрегая потребностью во внешнем, физическом сношении.
* Обходящиеся без наставника, облагодетельствованные благодатью Божией суфии именуются увайсиСты), в отличие от идущих по Луги сипиков.
Суфийский орден как историческое образование имеет огромнейшее значение для человека, получающего посвящение. Это приводит к созданию линии духовной передачи и духовного авторитета для посвященного через посредство ведущих представителей суфизма. Следует также отметить, что официальные ордены никоим образом не включают всех значимых личностей суфизма. Имена ряда ранних суфийских авторитетов попросту не встречаются в основных родословных. На более приземленном уровне поверхностная проверка министерства попечения в Пакистане обнаружила, что около половины усыпальниц суфийских святых в провинции Пенджаб не принадлежит со всей ясностью к какой-либо основной суфийской родословной14.
Символизм цепи передачи учения был столь важен, что воплотился в ритуале выписывания имен наставников братства для построения того, что получило название «древо» (шаджара; см. с. 178). Индийский суфийский сочинитель XIX века разъясняет, как запоминать цепочку наставников, что составляет существенную часть процесса медитации, поскольку позволяет непосредственно общаться с Пророком:
«Ученику надобно после получения от своего наставника имен [прежних) наставников запомнить их вплоть до досточтимого образца пророчества (да будуг над ним благословение и привет).
Сие есть одно из требований к взыскующему оный путь. Для упражняющегося в духовных занятиях надобно во время зикра и созерцания держать в помыслах наставника. Если оного не удается иметь [в созерцании], поначалу [тот размышляет] о наставнике. Если опять не обретается его присутствие, [тот размышляет] о наставнике наставника. Если опять не обретается его присутствие, [тот размышляет] о наставнике наставника наставника. Если опять не обретается его присутствие, [тот размышляет) о наставнике наставника наставника наставника, и так вплоть до Пророка (да благословит Бог его и его семью и приветствует). Вызывая в мыслях каждого из сих святых, кому достославный [Пророк] даровал руку [посвящения], он приступает к зикру с оным [то есть Пророком], воображая его в образе наставника. Засим он просит вспомоществования и отправляет зикр»15.
Знание имен прежних наставников наделяется добродетелью, сравнимой с повторением имен Бога; духовные свойства этих святых придут в сношение с теми, кто пишет или твердит их имена. Выписывание генеалогического древа, как считают, стало обязательным позднее, когда разрослось число посредников. Это удаление во времени от Пророка вовсе не означает уменьшения передаваемой духовной силы. Поскольку цепи передачи учения удостоверяются заслуживающими доверия наставниками, цепи с большим числом звеньев имеют и больше заслуг — подобно тому как дополнительные светильники дают больше света. Мнения авторитетов расходятся в отношении того, откуда начинать древо. Одни предпочитают начинать с Пророка, но другие начинают со своего собственного имени, восходя к Пророку через цепь имен наставников, тем самым выказывая им должное почтение.
Генеалогическое древо является, пожалуй, самым простым представлением суфийского ордена, однако существуют и более подробные описания исторических связей наставников и учеников. Некоторые документы с генеалогическим древом содержат краткие жизнеописания, а там представлены не только ключевые фигуры наставников, но также и их окружение из менее значимых фигур учеников. Простое древо может поместиться на одной странице, однако есть и очень большие родословные. В Индии, например, встречаются усыпальницы, где хранятся свитки с родословными длиной в десятки метров. Точный смысл этих усложненных схем без устных разъяснений едва можно уловить. Выдающиеся наставники других братств приводятся в них рядом с главными представителями цепи передачи учения, что впечатляет, но на каком основании это делается, остается загадкой. Очевидно, что каждый документ дает основную линию передачи, которая в итоге доходит до ученика, чье имя начертано в самом низу.
Внешне простое подверждение авторитета, содержащееся в подобных наглядных изображениях, скрывает существенные различия в мнениях относительно законного наследования. Как и в случае с шиитскими имамами, суфийские шейхи не всегда оставляли единственного преемника, чей авторитет безоговорочно признавался бы всеми. Ответвления в виде подродословных неявно указывают на многочисленность авторитетов в суфийском ордене. Но каждое отдельное представление преемственности в ордене будет рассматриваться как единственно неоспоримая цепь передачи наставничества. Особо здесь выделяется индийское братство Чишти, где исстари принята исходная цепь из «двадцати двух наставников». Члены братства из Северной Индии, ведущие отсчет с архангела Гавриила, считают последним в этой цепи из 22 звеньев Насир ад-Дина Махмуда Чираги-и-Дихли (ум. 1356), главного ученика Низам ад-Дина Аулийи из Дели. Ветвь ордена Чишти. обосновавшаяся в Южной Индии, думает иначе: начиная свою цепь с Пророка, они считают Бур-хан ад-Дина Гариба (ум. 1337). ученика Низам ад-Дина Аулийи, двадцать первым, а его преемника Зайн ад-Дина Ширази (ум. 1369) двадцать вторым16. Таким образом, одна и та же структура может поддерживать разнящиеся образы носителей традиции.
Устроение авторитета, отраженное в родословных, приобретает значительно более сложные очертания в биографических словарях суфийских святых. Если ранние жития строились в виде череды поколений, по образцу жизнеописаний в хадисах, распространение суфийских орденов в виде отдельных ветвей побудило к созданию собраний житий суфиев, принадлежащих к определенным братствам. Тем самым суфийский орден стремился получить местное оформление в биографии посредством повествований, которые занимали промежуточное положение между простой родословной и обширными житиями, стремящимися скорее ко все-охватности, нежели к четкой определенности. Поражает то, насколько могут отличаться два описания одного и того же ордена. Как показал Брюс Лоуренс, индийский ученый муж Абд аль-Хакк Мухаддис (ум. 1642) и наследник могольского фона Дара Шукох (ум. 1659) написали в начале XVII века историю братства Кадири, но их видение природы самого братства и его ведущих представителей оказалось крайне несхожим17. Вполне обычным делом было включение в жития отдельных орденов ссылок на местных политических деятелей, поддерживавших авторитет ордена или являвшихся его противниками. При такой политической склонности случалось даже видеть посвящения царским покровителям, что отчасти делало подобные жития включенными в придворную и династическую традицию.
Наиболее обширные биографические словари пытались даже описывать отношения между различными суфийскими орденами. Некоторые опирались на классификацию двенадцати суфийских школ, предложенную Худжвири в XI веке, невзирая на то обстоятельство, что признанные Худжвири теоретические направления большей частью не сохранились в живой традиции. Он назвал эти двенадцать школ по имени знаменитых ранних суфиев, но они не соответствуют ни одному из широкоизвестных суфийских братств более позднего периода. Тем не менее многие последующие сочинители, писавшие на персидском языке, пользовались тем же приемом, привлекая ключевые фигуры ранних суфиев для собственной классификации, часто в виде системы «четырнадцати семейств». Многое предстоит еще сделать, чтобы уяснить, как изображали в таких сочинениях суфийские братства.
Еще одним различием между суфийскими орденами была приверженность шиизму. Хотя большинство суфиев почитали семью Пророка, и в частности двенадцать имамов, начиная с Али, некоторые группы суфиев заходили здесь дальше других. Среди кубравитов особенным почитанием пользовалось семейство Пророка. Члены других братств — нурбахшиты, захабиты, хаксары и ниматаллахиты (ниматуллахиты) — явно переняли нормы имамитского ислама двунадесятников, или дюженников, преобладающей в Иране разновидности шиизма*. Общее отношение между суфизмом и шиизмом трудно определить из-за зыбкости границ всякого определения. Некоторые историки утверждают, что суфийские братства заполнили собой пустоту, образовавшуюся после поражения исмаилитского шиизма в виде державы Фатимидов в Египте и секты Ассассинов в Сирии и Иране (в исмаилитском шиизме непрерывный ряд имамов, восходящий к Пророку, признается выразителем высшего авторитета; сегодня многие исмаилиты считают нынешним имамом Ага-Хана**).
И суфизм, и исмаилизм являются выражением духовного эзотеризма, ставшего доступным людям через посредство харизматических вождей. Другие указывают на заметно схожие описания духовных качеств, присущих суфийскому наставнику и шиитскому имаму. Само представление о святости понятийно и исторически связано с авторитетом имамов. Некоторые суфийские родословные явно включают в себя первых шесть или восемь имамов, а Али, как первый передатчик суфизма от Пророка, присутствует почти во всех родословных, за исключением накшбанди, где данная роль отведена Абу Бакру.
Часто приходится сталкиваться с утверждением, что суфизм, особенно через суфийские ордены, был одним из основных путей распространения ислама. Отсюда складывается впечатление, что суфии действовали сродни миссионерам, вовлекая окрестные народы в лоно ислама посредством примера, проповеди и убеждения. Часто также придерживаются мнения, что значительное число трудов суфиев на местных наречиях (см. главу 6) являлось частью продуманного плана обращения народов в исламскую веру. Но подобный подход сопряжен с рядом трудностей. Прежде всего, представление о суфиях, распространяющих ислам, содержит ряд недоказуемых посылок относительно связи между понятиями суфизм и ислам, а также касательно природы обращения в исламскую веру. Что означает стать мусульманином? С точки зрения исламского права простое принятие Символа веры (в единство Бога и пророчество Мухаммада) составляет низшее проявление покорности Богу. Совершение столь простого перехода ведет к юридическому изменению положения, но само по себе это ничего не говорит о том, в какой мере данный человек придерживается исламского закона и ритуала. Иными словами, можно стать мусульманином и при этом проявлять религиозное безразличие или даже действовать предосудительно: пользуясь сокровенным религиозным языком, тот, кто покорился Богу (муслим), может оказаться недостаточно преданным Ему, чтобы считаться верным Смумии). а возможно даже, из-за непослушания Богу стать неверным (кафир). Однако для стороннего социолога-наблюдателя вопрос о религиозной практике и поклонении целиком подчинен предмету группового самосознания. Иными словами, сторонний наблюдатель хочет лишь знать, в состоянии ли отдельная личность осознавать себя членом мусульманской общности или некой иной религиозной группы. Понятие обращение, таким образом, имеет явно христианскую окраску, связанную с сугубо христианскими миссионерскими задачами современной эпохи.
Судя по тому, что мы знаем о суфиях, трудно представить их занимающимися миссионерством. Суфийские руководства не содержат каких-либо наставлений относительно обращения неверующих в ислам. Разумеется, суфии советуют посещать чужеземные страны, но скорее ради совершения тяжкого покаяния для низшего «я», нежели ради миссионерских целей. Суфизм осознанно был эзотерическим; если обычный мусульманин не мог понять это, каким образом суфии могли рассчитывать отыскать последователей среди тех, кто даже никогда не слыхивал о Пророке?
* Приверженцы этой линии насчитывают (начиная от Али) 12 имамов, последний из которых исчез при таинственных обстоятельствах в 873/874 г Двунадесятники верят, что последний,
«скрывшийся» имам («ожидаемый мессия») вернется в мир незадолго до Дня Воскресения в полном блеске своей мощи, чтобы победить зло, покарать врагов своих приверженцев и восстановить справедливость
** Ага-Хан IV (род. 1937).
Ввиду занятости политики Нового времени идеологией стало привычно рассматривать средневековые общества, управляемые арабами, турками и персами, как мусульманские общности. Естественно, правители этих обществ признавали авторитет Пророка и исламского права посредством определенных законных установлений, но степень признания исламского права разнилась достаточно широко, как и местные обычаи и древние политические традиции. Важно также не забывать, что мусульмане долгое время составляли меньшинство во многих странах, где ныне они стали большинством, и что их политические структуры оказывались сочетанием различных систем; именовать их мусульманскими общностями было бы упрощенческим подходом. Разумеется, у арабов был поразительно удачливый период завоеваний, последовавший непосредственно за кончиной Пророка, но, в отличие от обычного стереотипа, обращение неверующих в ислам не являлось целью этих военных походов. Как и завоевание тюрками Северной Индии не было кампанией религиозных фанатиков ради обращения язычников-индусов в мусульманскую веру. К тому же совершенно ясно, что именно благодаря политической поддержке экспансионистски настроенных властей со стороны исламских правовых и религиозных институтов эти институты и сохранялись. Принятие исламских норм поведения подвластными народами должно было занять не одно столетие. Различные слои и отдельные личности принимали те или иные обычаи и нравы по разным соображениям, сохраняя при этом этнические, языковые, сословные и имущественные различия. Такого рода объяснение не удовлетворяет европейских христиан, которые на протяжении веков уповали на миссионерское обращение в свою веру. Они поначалу состряпали жуткий образ ислама как «религии меча». Затем, в XIX веке, христианские миссионеры и колониальные власти вообразили существование неких двойников мусульман, которые произвели перелом в умонастроениях, что побудило немусульман обратиться в исламскую веру. За этих воображаемых миссионеров они приняли суфиев.
Хотя встречаются старые сочинения, где ранние суфии представляются орудием в деле исламизации целых племен и областей, есть веские основания рассматривать подобные высказывания как политические и экономические притязания, где ссылка на суфиев служит доказательством узаконивания совершаемых действий. Некоторые позднейшие политические истории рисуют суфиев как миролюбивыми, так и воинствующими посланниками ислама, но подобные образы не встретишь в ранней суфийской литературе. Полагают, что позднейшие царские наследники и царские летописцы посчитали весьма полезным делом представлять древних святых как провозвестников их собственных притязаний на владычество. Устные предания, собранные колониальными чиновниками в XIX веке, часто представляют суфийских святых вершащими чудеса, что побуждало целые племена становиться мусульманами. Такого рода предания, однако, часто оказывались увязанными с получением места управителя усыпальницами святых, которыми распоряжались крупные землевладельцы. Сегодня исламское правительство Пакистана видит в прославленных ранних суфиях миссионеров ислама и, более того, провозвестников современного государства; Индия, напротив, ссылается на некоторых из этих же святых в качестве примера религиозной терпимости собственной светской власти (оба государства по-разному воспринимают тенденции, которые скрываются за стремлением связать или развести сами понятия суфизм и ислам). Но и отделив суфиев от политической подоплеки такого рода, мы все еще можем составить оценку воздействия суфийских институтов на немусульманские народы — в частности, потому, что и сегодня суфийские усыпальницы оказываются местами паломничества индусов, сикхов, христиан и других. Иными словами, даже в отсутствие со стороны суфийских орденов явной миссионерской политики пример усыпальниц, возводимых в честь знаменитых святых, вероятно, играл важную роль в популяризации некоторых исламских норм и обрядов среди немусульман18.
Как вступали в суфийское братство? Суфии возводят обычай посвящения в орден к Пророку Мухаммаду и к тому, как он, согласно преданию, установил свои отношения с учениками. Служащее для обозначения инициации слово баиа* взято из клятвы верности, которую давали Мухаммаду его последователи. Основой посвящения было пожатие рук и подношение одежды, обычно накидки, но часто также и шапочки либо иного предмета одежды. Часто головы мужчин обривали наголо, опять же в подражание Пророку. Мухаммад говорил: «Мои сподвижники сравни небесным светилам; за кем бы из них вы ни последовали, он будет направлять вас». Расширительно данное изречение истолковывается как намек на суфийских наставников. Кого, по мнению наставников, можно было определять в ученики, это уже другое дело. Часто говорилось, что наставник всматривался в скрижали судьбы, дабы разглядеть, предопределена ли сия участь до начала времен; иными словами, не каждый обладал нужными для этого качествами. Обряды посвящения разнились от братства к братству. Мы располагаем любопытным и подробным описанием такого ритуала, оставленным наставником орденов Шаттари и Кадири, который жил в Лахоре в конце XVII века19. Сначала подающий надежды ученик должен был поднести дервишам плоды, цветы и сладости, если имел такую возможность; если же ученик был беден, тогда дело ограничивалось несколькими цветками. «Ведь нельзя полагаться на жизнь сего мира: никак не изведать, что же случится через час». Последующие действия достаточно сложны и походят на театральное действо:
«Имея намерение стать учеником, он не идет тотчас в обитель, как и не говорит ни с кем. Поначалу он отправляется лобызать стопы слуги наставника, говоря: "Я тоскую по досточтимому наставнику; бросьте меня к стопам досточтимого наставника, и пусть оный меня примет". Засим слуга берет того за руку, дабы представить досточтимому наставнику. Приблизившись к покоям, он целует их, а увидев наставника, лобызает землю. Засим, оказавшись у стоп наставника, он припадает устами к его стопам и лобызает их, в возбуждении и изводясь плачем, молвит: "Я жажду стать учеником. Примите меня и сотворите меня своим рабом". Засим наставник должен извиниться и молвить: "Я недостоин быть наставником. Есть иные, величавее меня. Ступай, будь их учеником". Но тому следует обхватить стопы наставника и молвить: "Я совершенно полагаюсь на вас. Помимо вас, я ни во что не верую, как и не буду ничьим иным учеником". Видя чистые намерения, наставник приказывает слуге совершить омовение сему просителю и привести его обратно. После совершения омовения слуга ставит его пред лицом наставника, коий стоит спиной к Мекке, так что ученик обращается лицом к Мекке, становится перед наставником и берет его длань. Наставник должен сперва трижды сказать ему формулу вымаливания прощения... Затем наставнику следует сказать: "Я недостоин быть наставником. Прими меня как брата". Ученик говорит: "Я принимаю вас как наставника". Тогда наставник молвит: "Ты принял меня как наставника?" Ученик говорит: "Да, я принял вас как наставника". Засим ученик через наставника оказывается принятым во всяком братстве, куда он стремится, начиная от сего наставника и вплоть до Пророка Мухаммада (да будет нал ним мир)».
Затем следуют подробные указания по твержению коранических отрывков, молитв прощения, отречения от дьявола, покорности Богу, обетов праведного поведения, благодарственных молитв и общих восхвалений и поздравлений от других учеников.
Наставник берет ножницы и срезает немного волос с правой стороны лба ученика, а затем ученик принимает обет придерживаться пяти устоев ислама**. Затем он надевает на голову ученика особую шапочку (шапочки бывают разными, в зависимости от ордена. Потом он просит ученика изобразить генеалогическое древо ордена, сначала собственноручно начертав имя ученика. Затем распределяют подношения ученика, и первая доля отходит ко вновь избранному.
* Букв.: присяга.
** Символ веры (шахада), ритуальная молитва (салат), пост (саун), паломничество (хаджж) и пожертвование (закат).
Подношения делятся на три части: одна для служителей, другая для гостей, равно для бедных и для богатых, а третья для наставника. Но если у наставника имеется семья, то пожертвования делятся на четыре части, и четвертая доля отходит его жене. Обряд посвящения для женщин тот же, что и для мужчин, затем исключением, что они воздерживаются от рукопожатия, сопряженного с физическим контактом, и от обрезания волос. Вместо этого ученица окунает свои пальцы в чашу с водой, куда кладет свой указательный палец наставник; если у нее есть шарф, то она держит его за один конец, а наставник за другой. У мужчин посвящение заканчивается помещением правой руки ученика между дланями наставника, что означает обретение связи с Пророком через передаточные звенья наставников, кои совершали сей обряд в прошлом.
Ряд отношений с суфийским братством, отображаемых ритуалом, закреплялся в виде передачи наставником накидки (хирка*)20В этом суфийские обычаи были схожи с обычаями халифатских и царских дворов, где подношения в виде богатых тканей и нарядов являлись важной частью придворного ритуала. Опять же данный обычай суфии возводили к Пророку — например, когда тот указывал на подношение особой рубашки эфиопской ученице по имени Умм Халид, чтобы та ее износила.
Символика рубашки вызывает в памяти историю пророка Иосифа. В кораническом пересказе запах Иосифа, исходивший от рубашки, вернул зрение его слепому отцу Иакову; по преданию, эта рубашка (согласно библейской традиции, «разноцветные одежды») была той самой, что поднес Гавриил Аврааму, когда Нимруд бросил того обнаженным в раскаленную печь. Некоторые суфийские братства еще ссылаются на рубашку, данную Гавриилом Пророку и бывшую на нем при вознесении; считается, что она передавалась наставниками их преемникам на протяжении поколений. В более ранние времена накидка зачастую была темно-синего цвета, чтобы, как считают некоторые, было легче сохранять ее в чистоте. Это могла быть еще заплатанная накидка. В любом случае сама важность одеяния служит лишним напоминанием об исходной этимологии суфизма от слова суф — шерсть. В суфийских обрядах использовались следующие основные виды накидок: накидка стремления, или ученичества (ирада), даруемая истинному ученику, и накидка благодати (табаррук). Накидка ученичества олицетворяет отношение наставника и ученика и служит постоянным напоминанием о наставнике. Помимо того, что повествуют истории о рубашках Пророка, рубашка символизирует возможность обретения присутствия Бога; в накидке ученик зрит Божественные милость и щедрость. Накидка благодати дается тем, кто еще не стал учеником, но кого влечет к себе суфизм. Они получают благодать одежды суфиев, и через нее те будут воздействовать на них, возможно, побудив в итоге стать однажды учениками. Немного позднее появилась накидка преемственности (хилафа), даваемая ученику, которого считали готовым занять место наставника и посвящать в братство других. Такого ученика называли преемник (халиф) — тем же словом, которое использовалось в отношении преемников Пророка. Это вновь указывает на то, сколь значим был образ Пророка для суфиев, особенно в таком важном деле, как передача религиозного знания и авторитета.
Выделение таких внешних атрибутов, как одежда, позволяет нам узнать нечто весьма важное о суфизме, а именно: внешнее поведение является неотъемлемой частью мистической традиции. В отличие от субъективного и личного характера мистицизма, как его часто понимают на современном Западе, суфизм требует, чтобы внутренний опыт соотносился с правильным взаимодействием с обществом. Вот почему понятие суфий в самом начале данного исследования было определено как предписывающее этическое понятие. Такое подчеркивание социальной составляющей нашло свое выражение в определении правил поведения, которыми следовало руководствоваться в обществе. Сами правила приняли вид перечня нравственных норм (адаб), подход, который также заявил о себе и в других сферах мусульманского общества — например, при дворе правителя.
* Букв.: рубище.
Самые ранние своды подобных норм предшествуют возникновению суфийских орденов, и они заняты общими вопросами, такими, как отношения между наставником и учеником, отношения с соучениками и сдерживание своекорыстных побуждений. Более подробные правила появляются в первых обителях, вроде поселения Абу Сайда в Восточном Иране, где перечень из десяти правил общежития упирал на чистоту, постоянную молитву, созерцание и гостеприимство. В дальнейшем правила становятся более обстоятельными, туда входят многочисленные отступления от наиболее строгих правил или варианты их смягчения, что способствовало расширению круга приверженцев. Здесь нашли подробное разъяснение такие вопросы, как, например, поведение во время исполнения музыки и чтения стихов: затрагивались даже такие темы, как дележ суфийских накидок, разорванных в состоянии исступления. В данных руководствах нашли отражение и иные формы поведения: как сидеть с наставником, как вести себя в путешествии, как отвечать на подношения пищи во время поста, как усмирять гордыню... Учеников предостерегают от общения с каландарами, бражниками и пользующимися дурной славой суфиями. Как это бывает с подробно расписанными правилами, за каждым из этих условий кроются частные случаи дурного поведения. Объем и подробность изложения многих руководств по поведению свидетельствуют о широком распространении суфийского пути в многочисленных местах обучения, рассеянных на огромной территории и по-прежнему заботящихся о нравственных основах установления отношений человека с Богом, суфиями и другими людьми. Как раз в этом смысле суфийские ордены можно рассматривать как отлаженные орудия внедрения во все слои общества прозрений мистического опыта.
ГЛАВА 6 Суфийская поэзия
Прислушайся к голосу флейты — о чем она плачет, скорбит? О горестях вечной разлуки, о горечи прошлых обид.
Руми. Меснени-и Манави*
Из всех плодов, что принесла нам суфийская традиция, более всего известно и ценимо наследие суфийской поэзии наряду с музыкой и танцем, кои сопровождали ее на протяжении веков. Когда европейские востоковеды в конце XVII века «открыли» суфизм, именно суфийская поэзия прежде всего поразила их и убедила, что они обнаружили нечто удивительное в культуре Востока. Конечно, открытие литературы суфизма потребовало отделить его от узко понимаемого ислама. Суфийская поэзия вначале истолковывалась в рамках общих романтических представлений и потому «выводилась» из греческих, христианских и индуистских источников. Гете и Эмерсона пленили переводы персидской суфийской поэзии, выполненные сэром Уильямом Джонсом и Фридрихом Рюккертом**.
Британские колониальные чиновники, вынужденные учить персидский язык в целях дипломатии и сбора налогов, свои знания языка приобретали прохождением обычного курса классической персидской литературы. На протяжении всего XIX века не стихали споры относительно толкования Хафиза, Руми и других великих поэтов-суфиев. Как следует воспринимать их ссылки на вино и любовь — в буквальном или в переносном смысле? Помимо подобных научных споров, восприятие этой поэзии читающей публикой большей частью определялось факторами, скорее связанными не с историческим суфизмом, а с культурными процессами внутри евро-американского общества.
*Перевод В. Державина.
**Псевдоним Фраймунд Раймар (1788-1866).
Показательным примером приема читающей публикой на Западе персидской поэзии явился успех, выпавший на долю перевода Эдвардом Фицджеральдом (1809-1883) четверостиший, приписываемых довольно незначительному персидскому поэту (но весьма значительному ученому) Омару Хайяму. В 1859 году Фицджеральд, бывший скорее поэтом, нежели ученым, объединил вместе разрозненные стихи неизвестного происхождения в виде нестройной оды, выражающей скептицизм и негодование по поводу викторианских нравов; его перевод «Рубай» по воле случая оказался более высокого качества, нежели подлинник1. Труд Фицджеральда оставался неизвестным, покуда его не «открыли» в одном из книжных магазинов пылившимся среди уцененных книг. С той поры имя Омар стало культовым в литературных кругах. К концу века труд Фицджеральда был переведен на все основные языки, и повсюду в мире стали возникать клубы Омара Хайяма. «Рубай», пожалуй, оказались наиболее известным сочинением английской поэзии XIX века.
Хайям не был суфием, хотя его четверостишия содержат образы, присущие в основном суфийской поэзии. Но есть нечто примечательное в самом факте вознесения персидского поэта за границей, в то время как на родине его за поэта не считали, оценка изменилась лишь с наступлением мировой славы. Можно было бы сравнить феномен Хайяма с «эффектом пиццы», когда сугубо итальянское блюдо из остатков продуктов стало сначала международно признанным, а затем получило признание на родине. Нельзя сказать, что западный слушатель не способен постичь поэзию других культур. Но здесь налицо пример, когда иноязычная интерпретация преобразовывает исходный текст совершенно непредсказуемым образом. Нынешняя мировая известность суфийской поэзии, суфийской музыки и суфийского танца требует объяснения отчасти в понятиях суфийской традиции и отчасти в понятиях того, что можно назвать, за неимением более подходящего термина, массовой культурой. Другие исламские художественные традиции, которым свойствен мистицизм, — каллиграфия и живопись — не так-то легко вывести за узкий круг их ценителей.
Основы исламической поэзии.
Суфийская поэзия сочинялась на многих языках. Поначалу, в IX веке, арабский язык использовался в качестве орудия для выражения мистического опыта в стихотворной форме, затем, начиная с XI века, настал черед персидского языка. К сочинению стихов на других родных наречиях, вроде тюркского и раннего хинди, суфии приступили в XIII веке. Этот список можно было бы расширить, включив множество африканских и азиатских языков, которыми и поныне продолжают пользоваться суфии. Подробный обзор всей этой обширной литературы выходит за рамки задач настояшей книги2. И все же есть возможность выделить некоторые важные стороны литературных традиций суфийской поэзии, включая основные поэтические формы, образы и условности, к которым прибегают суфии. Данная поэзия представляет собой не просто вдохновенное личное творчество — она к тому же была крайне сложным, обдуманно устроенным жанром, с более или менее разработанными правилами рифмы и размера и сложными шифрами к символическому толкованию, предполагавшему близкое знание предмета. Сила суфийской поэзии подтверждается не только ее многочисленными почитателями из традиционной среды, но и страстными, горячими спорами, которые сопровождают ее толкование западными учеными с момента открытия литературы суфизма двести лет назад.
Тем, кто не знаком близко с этими традициями, можно пояснить, что в арабской и персидской изящной словесности основными поэтическими формами являются ода (касыда), лирический стих (газель), четверостишие (рубай, или рубайат) и эпическая поэма (маснави; перс, месневи). Ода была главной стихотворной формой в доисламской арабской поэзии, и обычно полагают, что лирическая стихотворная форма происходит из любовного зачина (насиб), с которого обыкновенно начиналась ода. За исключением эпической поэмы, которая берет начало в персидской поэзии, во всех остальных видах стихосложения употребляется одна и та же основная схема рифмовки. Арабская метрика, подобно латинской и греческой, квантитативна, то есть основана на чередовании слогов неодинаковой долготы. Многие возможные размеры, в основу которых положена стопа из двух-четырех слогов, послужили также основой для персидской, тюркской и урду поэзии с арабским письмом, хотя более ранние поэтические традиции на тех же языках могли быть и неквантитативными; данная ситуация напоминает использованне квантитативных греческих размеров (ямбический пентаметр и прочие) для представления тонического стихосложения английского и прочих европейских языков. Основной единицей строфики во всех этих случаях служит один стих, который всегда делится на два полустишия; стихи обычно записываются посредством двух таких полустиший в виде параллельных колонок. В оде, газели и четверостишии оба полустишия первой строки рифмуются, а в последующих стихах рифму сохраняет лишь второе полустишие строки. Построение стиха таково:
а а б а
и так далее.
С этой формальной точки зрения единственным отличием между подобными видами стихосложения является число строк. Четверостишие состоит лишь из двух полных строк и четырех полустиший. Лирическая форма обычно содержит от шести до двадцати строк, а ода может включать от двадцати пяти до нескольких сотен строк. Оба языка, арабский и персидский, значительно богаче рифмой по сравнению с английским языком, так что сочинение длинной оды с одной рифмой оказывается не столь трудным занятием, как можно было бы себе представить. Эпическая форма, берущая начало в персидской традиции бродячих певцов и музыкантов, напоминает рифмованное двустишие (в переводе с арабского маснави — двойной). Здесь рифмуются два полустишия каждого стиха, но все последующие стихи принимают иную рифму:
а а б б в в
и так далее.
Эпическая форма может достигать огромных размеров, поскольку не ограничена запасом одной-единственной рифмы. «Книга о царях» («Шахнаме»), сочиненная Фирдоуси, содержит примерно шестьдесят тысяч строк, а «Месневи», обширная мистическая эпическая поэма Руми, составляет половину этого объема.
Арабская суфийская поэзия
При эстетической оценке суфийской поэзии важно, прежде всего не упустить из виду роль доисламской арабской поэзии в формировании исламской культуры. Коран, разумеется, оказал огромное воздействие на восприятие прекрасного у мусульман - как в его звуковом, так и в визуальном проявлении. Но Пророк Мухаммад со всем тщанием проводил различие между Кораном и поэзией арабских племен, которая создавалась бродячими певцами, утверждавшими, что они черпали свое вдохновение у джиннов*. Кораническое откровение имело Божественное происхождение, а не было делом рук человеческих и поэтому преображало жизнь так, как не могла этого сделать обыкновенная поэзия. «Таковы и поэты, которым последуют заблуждающиеся. Не видел ли ты, как они, умоисступленные, скитаются по всем долинам, как говорят о том, чего не могут сделать?» (26:224-226). И все же Пророк тоже ценил поэзию, и к нему обращается в памятном стихе Хассан ибн Сабит, известный поэт, ставший мусульманином. Нравственность большей части доисламской поэзии с определенной точки зрения выглядела двойственной ввиду прославления, ею межплеменной вражды, бражничества, любовных мирских утех и гордыни.
* Саблуков переводит их словом «гении».
. Деяния Мухаммада произвели нравственную революцию в Аравии, заменив прославление воина покорностью Богу. Однако длинные оды (касыды) племенных поэтов остались в качестве литературных образцов, играя для халифата роль, подобную той, что сыграли греческие и латинские классики для европейской культуры.
Темы поиска возлюбленной и размышления о природе наряду с сугубо арабскими образами легли в основу позднейшей арабской литературы и родственных традиций. Оценке ее наследия до недавнего времени мешало предубежденное отношение многих западных ученых к арабской поэзии; как следствие, арабская суфийская поэзия привлекала к себе значительно меньше внимания, нежели суфийская поэзия на персидском языке. К счастью, члены «чикагской школы» изучения арабской поэзии, основанной Ярославом Стеткевичем и включающей таких ученых, как Майкл Селлс и Т. Эмил Хомерин, осуществили новые, и замечательные, переводы, которые позволили нам ощутить неведомую прежде эстетическую силу арабской поэзии, унаследованной суфийской традицией.
Завоевания арабов превратили халифат в обширную державу, простиравшуюся от Атлантического океана до самой Индии. В VIII веке династия Омейядов правила подобно побежденным персидским шахам и римским цезарям. Следуя образу жизни правителей, представители арабской знати развлекались охотой и часто после нее отдыхали в узком кругу, где подавалось вино. А что может быть лучше христианского монастыря посреди дивной природы, где разрешалось вкушать вино, согласно христианскому обычаю? Такое времяпрепровождение и породило светскую арабскую поэзию, где превозносились радости винопития и вместе с тем прославлялась чудная обстановка самого монастыря. Христианский отрок или отроковица, приносившие и разливавшие вино, станут, как и в античной греческой поэзии, объектом страстного томления и любовных объяснений, вызываемых опьянением. Плодом всего этого явилась эстетика, умышленно стремящаяся поразить религиозные исламские чувства. Поэты, включая некоторых из рода Омейядов, говорили о кресте и монастыре, о радости винопития и о своей любви к прекрасному виночерпию (саки). Эти мирские мотивы в поэзии отразились в многонациональной культуре Багдада, где древние поэмы бедуинов теряли приверженцев, как городские жители теряют вкус к кочевой жизни. Фигура блестящего и распутного Абу Нуваса (ум. 815) олицетворяет собой то, как поэзия гения может славиться при дворе, несмотря на явное восхваление ею винопития и любовных утех1.
Поскольку многое из ранней арабской суфийской поэзии, похоже, утрачено, большей частью она известна по небольшим отрывкам стихов, приписываемых ранним наставникам, в том виде, в каком они приводятся в позднейших руководствах по суфизму4. Многие из этих стихов содержат тс же самые образы любви и винопития, которые мы находим в светской поэзии, и единственное, что отличает их как мистические сочинения, это контекст и толкование. Пожалуй, наиболее известным примером служит интеллектуальная и чувственная поэзия Хааладжа, несколько сотен стихов которого (подлинность некоторых вызывает сомнение) собрат из различных источников Луи Массиньон5. Многие из них широко известны и часто приводятся позднейшими сочинителями. В некоторых его стихах любовь трактуется как единение с Богом:
Я Тот, Кого я алчу,
а Тот, Кого я алчу, — я сам,
мы два духа, живущие в одном теле.
Кто видит меня — видит и Его.
видит Его — видит меня 6*.
Другие стихи Халладжа представляют собой умозрительные созерцания, изобилующие загадками, основанными на особенностях начертания арабских букв.
С. 286.
* «Кмтаб ат-тавасин». Перевод Адама Меца. Цит. по: Мусульманский Ренессанс. М.: ВиМ, 1996.
Некоторые из наиболее известных стихов, приписываемых Халладжу, предстают как предсказания его казни, например знаменитое стихотворение, начинающееся словами:
«Убейте меня, мои верные друзья! Ибо в убиении есть моя жизнь...»7 Трудно сказать, написаны ли эти стихи Халладжем или же были сочинены в манере Халладжа позднейшими авторами.
Истоки арабской мистической поэзии, вероятно, лежат в ритмическом построении молитвы. Мощные поэтические отзвуки Корана, извлечения из которого повторялись ежедневно, должны были оказать глубокое воздействие на словесное выражение религиозного чувства. Арабская мистическая проза часто описывает восхищение рифмованной и метрической прозой (садж), которая является одной из наиболее поразительных сторон арабской литературы вообще. Короткие молитвы и стихи святой Рабиа — прекрасный пример такого рода поэзии. Вероятно, лучше всего сохранились те арабские мистические стихи, что продолжают повторять в суфийских братствах на совместных собраниях, часто в сопровождении музыки (см. главу 7). Арабские стихи во славу Бога и святых, написанные североафриканским святым Абу Мадйаном, можно до сих пор услышать в Марокко, а арабские суфийские песни более позднего происхождения звучат в Египте, Судане и других странах8.
Самые прославленные образцы арабской суфийской поэзии выдержаны в духе придворной литературной традиции в сочетании с условностями доисламской оды, хранящей память о кочевом образе жизни. Хотя большинство поэтических произведений, которые Ибн Араби поместил в свой обширный мистический трактат «Мекканские откровения», составляют неотъемлемую часть сугубо специфических рассуждений, даже там он продолжает приводить имена влюбленных, прославленных в ранней арабской поэзии. Но особенно такой подход проявляется в его «Толкователе страстей», где Ибн Араби во всей полноте привлекает потрясающий образ пустыни9. Сочиненные в Мекке в 1215 году, эти стихи воспевают изысканную молодую персидскую женщину по имени Низам, которую Ибн Араби встретил там тринадцатью годами раньше, когда изучал хадисы Пророка с ее отцом и тетушкой. Хотя он и заявляет в предисловии, что истинным предметом трудов является мистическое, его стихам присуши все признаки обычной любовной лирики, так что некоторые читатели явно выражали недовольство по поводу любовного романа Ибн Араби, что едва ли согласовывалось с его славой благочестивого человека. По требованию двоих учеников Ибн Араби написал тогда комментарий, дающий мистическое толкование стихов, где он говорит: «Я указую на благородное знание, Божественные прозрения, духовные тайны, рассудочные истины и религиозные увещевания, но я выразил их в виде любовной поэзии. Сие вызвано пылкой любовью души к сего рода выражениям, и посему у них достаточно оснований, дабы привлечь к себе внимание. Сие есть язык каждого воспитанного писателя и утонченной духовной личности»10. Получаюсь, что он пользовался любовным стихом потому, что так писалась поэзия и это нравилось людям. Некоторые его стихи по образности едва ли отличаются от обычной любовной лирики классического образца и изобилуют бивачными кострами, верблюдами, внезапными разливами в пустыне и христианскими монастырями, где встречается прекрасная дева; однако, как явствует из комментария, все это не следует воспринимать буквально. Достаточно привести краткий пример:
Она молвила: «Я любуюсь юношей, Что с его красой шествует по цветам и садам». Я сказал: «Не изумляйся тому, что зришь; Ты зришь себя в зерцале мужчины»11.
Ибн Араби привлекает то, что является остроумным замечанием возлюбленного, ради обсуждения того, как Божественное присутствие ищет страстной любви у человечества; когда человек становится полным рабом Бога, Бог становится оком и ухом его, обращающегося целиком в свет и становящегося полным отражением Божественных качеств.
Более значимой фигурой для арабской суфийской поэзии является Ибн аль-Фарид (ум. 1235), египтянин, чьи насыщенные образностью стихи привлекали восхищенных слушателей и рождали многочисленные комментарии на протяжении веков. Ибн аль- Фарид был знатоком поэзии любви и винопития, где видны явные следы классической традиции, сочетающиеся с ясными указаниями на суфийскую практику. Из его обширных сочинений наиболее знамениты «Винная касыда» и «Путь праведника». Во вступлении к «Винной касыде» можно видеть, как образу винопития он дает мистическое толкование: Мы пили в память возлюбленной вино, Коим были пьяны еще до сотворения винограда.
При жизни он был известен в первую очередь как поэт с суфийскими склонностями. Но растущая известность его стихов принесла ему еще большую славу после смерти. Его стихи были собраны внуком Али, который присовокупил к ним в качестве предисловия жизнеописание Ибн аль-Фарида. В этом жизнеописании поэт впервые наделен признаками суфийского святого. Рассказывается, как он перед сочинением «Пути праведника» входит на десять дней в состояние экстаза, описание которого представляет собой нечто большее, нежели простое сходство с изображением прорицания и ворожбы. Али также сообщает ряд чудесных историй, удостоверяющих силу Ибн аль-Фарида как святого. Комментаторы на протяжении ряда поколений объясняли его поэзию тем, что тот был мистик, достигший высот внутреннего опыта. Его стихи постоянно истолковывались в свете метафизики школы Ибн Араб и. Отчасти из-за этой связи с позицией, которую некоторые консервативные ученые круги считали опасной, в последующие века Ибн аль-Фарид стал подвергаться нападкам, и над его трудами был устроен суд; однако доводы его защитников оказались более убедительными, нежели доводы обвинения. Могила Ибналь-Фари-да в Каире оставалась местом паломничества, а устраиваемые там музыкальные радения отличало экстатическое твержение его касыд, как отмечали некоторые путешественники. В XIX веке безразличие поборников нового и враждебность реформаторов привели к забвению усыпальницы, хотя в последние годы усилиями суфийского ордена Рифаи там возобновились ежегодные праздники. Т. Эмил Хомсрин изучил поэтическое наследие Ибн аль-Фарида и показал, как два ранних направления в толковании - толкование в понятиях учения Ибн Араби и канонизация поэта — отвратили внимание от самой поэзии, рассматриваемой как род изящной словесности; другая основная разновидность толкования, идущая от европейских ученых, таких, например, как Николсон, объясняла поэзию Ибн аль-Фарида главным образом как запечатление в слове личного мистического опыта12.
Мы позже вернемся к теме превращения поэзии в священный текст. Поздняя история арабской суфийской поэзии еще не написана. Склонность рассматривать раннюю арабскую литературу как классический «золотой век» привела к тенденции пренебрегать арабской поэзией времен мамлюкского и османского господства на том основании, что она отклонилась от прежнего образца, но здесь еще многое предстоит выяснить.
Персидская суфийская поэзия
Истоки персидской суфийской поэзии также кроются в недрах суфийской обители.
Ода (касыда) и лирика (газель) полюбились при дворах прежних халифских наместников в Восточном Иране, суфии же для выражения кратких мистических прозрений предпочитали использовать четверостишие (рубай). Сам язык зачастую был прост и непосредственен, отличаясь при этом парадоксальностью. Когда Лбу Сайд приводил эти безымянные стихи, то в своем выборе руководствовался их яркостью и запечатленной в них мыслью. В XI и XII веках персидское четверостишие стало обычным средством суфийской литературы для освещения той или иной мысли. Вот как завершает Айн аль- Ку-дат* обсуждение мистической любви:
Той ночью мой кумир положил свою длань мне на грудь. Крепко обхватил меня и вставил мне в ухо кольцо раба. Я молвил: «Возлюбленный, я стенаю от твоей любви!» Он прижал свои губы к моим и успокоил меня".
Сцены упоительного экстаза, которые мы встречаем в суфийской словесности, отражающие воздействие музыки и поэзии, где стихи вроде тех, что приведены выше, вырывались из уст непроизвольно, показывают поэзию как средство словесного выражения духовного опыта в наиболее впечатляющих образах.
Как и в арабской суфийской поэзии, ряд предметов и тем мистической поэзии был целиком перенесен на персидскую почву суфизма из светской литературной традиции.
Отныне те же самые темы становятся предметом иносказательного толкования, преобразуясь согласно правилам, лежащим вне пределов стихотворного текста. Вино перестает быть разливаемой халифски-Хамадани (1048-1132).
ми слугами материальной субстанцией, становясь теперь обозначением упоения Божественной любовью. Христианские отрок или отроковица, что разливали вино в монастыре, олицетворяют теперь суфийского наставника, Пророка или даже Бога; отличие состояло лишь в том, что кравчим становится местный перс из немусульман, маг (зороастриец), а позже, в Индии, индус. Суть подобного употребления неисламской символики состояла в преодолении общепринятых норм. Суфийская поэзия повествовала не о винопитии, она привлекала образы вина и идолопоклонства, дабы через потрясение ими достичь конечной цели, ради которой следовало пожертвовать благопристойностью и добродетельностью (возможно, по тем же соображениям целомудренные монахи и монахини в христианской Европе обращались к любовной и брачной символике). Образ идолопоклонства действовал особенно вызывающе, но он был связан с поклонением Божественному возлюбленному как идолу, а не с призывом посещать языческие кумирни. В частности, не имело значения, какому идолу призывали поклоняться. Сзади при описании своей знаменитой выходки в храме Со-мнатха* в Индии, штат Гуджарат, для изображения индуистского божества пользуется языком, почерпнутым из зороастрийских, иудейских и христианских источников. Важна была не точность с религиозной точки зрения, а утверждение всепоглощающей любви, которую совершенно не заботит чужое мнение.
Вереница образов персидской поэзии имеют доисламские и исламские корни14. Легендарный персидский шах Джамшид знаменит своей чашей с эликсиром жизни (джам-и джамшид или джам-и джам), которая является не просто царским кубком, но олицетворяет собой мистическое сердце; вглядываясь в него, можно узреть все сущее. Недоступная жемчужина служит гностическим и библейским символом знания, достающегося огромной ценой. Волхвы или зороастрий-ские жрецы соединяются с образом хозяев кабачков и олицетворяют суфийских наставников. Естественно, требуемое для придворных церемоний персидских шахов вино символизирует опьянение мистической любовью. К этой веренице тем присовокупляется череда персонажей, известных из Корана или исламской истории. Изначальный завет, закрепивший отношения между Богом и человеком, часто предстает одним словом из коранического текста; с той поры, когда потомки сынов Адама утвердительно ответили на вопрос Бога:
«Не есть ли Я Господь ваш?» (аласту би-раббикум), это время на персидском языке известно как «день "не есть ли Я"» (руз-и аласт). Иногда для этого употребляются просто слова «последняя ночь», поскольку вчера было первым днем творения, сегодня есть бытие мира, а завтра будет воскресение. Благодаря чудесам, включая превращения собственной руки в совершенно белую* и обретение в темноте живой воды, заметное место занимает Моисей. Но он все же играет второстепенную роль по сравнению с вечно живым пророком Хидром, чье эзотерическое знание, полученное от Бога, делает его учителем Моисея. Противник Моисея волхв-самирит представляет собой злого обманщика, но тем не менее его хитростями восхищаются. Пророк Иисус предстает искусным лекарем. Его дыхание возвращает мертвого к жизни, как и слова, что воскрешают убиенных птиц.
* Арабск. Сумната. Там он разоблачил шарлатанов — жрецов храма — и спасся бегством. От проказы (Исх. 4:6-7).
Наряду с этими образами Священного Писания часто выступает образ Халладжа. Постоянно ссылаются на его мученическую смерть и восклицание «Я есть Истина!». Любовная лирика особо сосре доточена на описании внешних черт возлюбленной.
Наиболее характерными из них являются луноликость и черные косы, которые отражают нераздельные Божественные качества милости и гнева, ислама и неверности. Образ женских кос с нескончаемыми вариациями предстает в виде силков, пленяющих влюбленные сердца, при этом брови уподобляются лукам, выпускающим стрелы, которые смертельно ранят. Персидские сады, известные своей славой еще с античности, служили поэтам для создания наиболее запоминающихся образов. Стройный кипарис намекает на стан возлюбленной, отражаясь в образе райского дерева. Именно сюда усядется птица души, когда вознесется на небеса. Соловей ли это, одиноко поющий розе, либо вернувшийся к небесному охотнику сокол — их домом является райская обитель, где живет подобная Фениксу вещая птица Симург. Этот список образов можно дополнить иными символами, почерпнув их из большой вереницы традиционных космологических наук, включая астрологию и алхимию, с которыми знаком любой образованный человек.
Арабскую и персидскую суфийскую поэзию, однако, невозможно отделить от традиции придворной поэзии. Исходя из их социального окружения, может показаться, что поэзия, бытующая в суфийских обителях, где прославляются Божественная любовь и крепкие узы, связующие наставника и ученика, имеет мало об-шего с официальными одами, которые сочиняли профессиональные поэты в честь своих знатных покровителей. Пространные и необычные панегирики, адресуемые правителям, отвергаются современными западными критиками как грубая лесть. Однако при более пристальном рассмотрении обнаруживается, что большая часть придворной поэзии проникнута теми же самыми образами, что были в ходу среди суфиев. Одинаковые стихи в одной ситуации воспринимались как восхваление обычного вина и земных страстей, тогда как в иных обстоятельствах их можно было бы истолковать как мистическое опьянение и Божественную любовь. Многие стихи, имевшие хождение в суфийских обителях, на самом деле были созданы при дворе. В равной мере можно было воспринимать эти поэмы обращенными и к царскому покровителю, и к суфийскому наставнику, и к Богу, и к прекрасному отроку, разливающему вино на пирушках. То мастерство, с которым поэт наподобие Хафиза мог вызвать в уме читателя одновременно все эти смыслы, делает почти невозможным приемлемый перевод.
Многие качества возлюбленных в этих стихах отражают идеал отроческой красоты, который возник при тюркско-иранских дворах Средней Азии: луноликость, ловкость при игре в мяч на лошадях, длинные локоны, пробивающиеся усы, стройный и гибкий стан и жестокое безразличие к страданиям любящего. Это был образец мужской однополой любви, запечатленный в рассказах о султане Махмуде Газнави (971 — 1030; основатель династии Газнавидов) и его возлюбленном рабе Аязе, составивших основу как придворной, так и мистической любовной лирики в персидской традиции. В бесчисленных панегириках и лирических стихах, посвященных царям и вельможам, поэты взяли за обыкновение представлять предмет поэтического восхваления (мамдух) в виде возлюбленного (машук). Это могло бы привести к неловкому положению, когда, обращаясь с похвалами к мужчине средних лет, его выставляют в образе статного пятнадцатилетнего отрока; но это были скорее принятые при дворе условности вознесения хвалы, нежели описание действительных любовных отношений. Поэмы Сзади адресовались правителям Шираза, но отраженное в них страстное томление по любви и красоте делало их желанными и в кругу суфиев. Возможно, наиболее ярким примером того, как тот же самый стих мог выполнять обе задачи, являются арабские «винные» стихи Абу Нуваса, написанные в светской манере высмеивания религии, но столь эстетически прекрасные, что персидские суфии приняли их, истолковав в мистическом ключе15. Другими словами, в самих стихах не было ничего мистического; мистическое толкование было освящено обстоятельствами, внешними по отношению к содержанию стихов. Можно зайти столь далеко, что суфийская поэзия предстанет как поэзия, которую декламируют и ценят исключительно суфии; тогда основным требованием суфийской поэзии будет то, чтобы ее истолковывали согласно предписанным мистическим нормам.
Как указывалось выше, арабская и персидская поэзия имела строго определенные образцы рифмы и размера, существовали также и строго установленные правила относительно содержания, чтобы стихи получили одобрение. Некоторые читатели, возможно, полагают, что в суфийских стихотворениях следует видеть эпизоды автобиографии как личное свидетельство внутреннего опыта. В действительности подобный подход чужд суфийскому пониманию поэзии. Большинство современных литературных критиков, независимо от того, какую традицию они исследуют, просят своих студентов избегать подобной биографической трактовки. Подлинным предметом поэзии являются те переживания, которые вызывает стихотворение у читателя, и оно входит составной частью в литературную традицию (continuum), к которой постоянно обращаются поэт и читатель.
Суфийские руководства наставляют новичка, чтобы тот толковал любую поэзию, независимо от происхождения, в заданном ключе: возлюбленный означает Бога; вино означает духовное упоение. Как замечает один историк персидской литературы со ссылкой на известного суфийского поэта: «Аттар, в сущности, ничего не сообщает нам о себе, его стихи едва ли содержат хоть какой-то намек на современные ему личности или политические события и главным образом заключены во вневременном мире мистицизма»16. Антологии персидской литературы часто заполняют этот пробел посредством выдуманных историй, которые как бы персонифицируют поэзию, представляя якобы имевшие место события, которые рождались благодаря возникающим ассоциациям с отдельными словами и отрывками в самом стихотворении. Так, на основе некоторых отдельных упоминаний об Индии в поэзии Хафиза позднейшие писатели сочинили замысловатые истории, где рассказывается об общении Хафиза с правителями Декана и Бенгатии. Из выражения «сахарный тростник» (шах-и набат), обычного имени возлюбленного, читатели придумали романтическую историю о любви Хафиза к прекрасной персидской девушке, ради которой он решился на тяготы сорокадневного затвора, который, однако, открыл ему врата мистического опыта. При всей занимательности данной истории близорукое ее прочтение не позволит увидеть один важный момент: если Хафиз был великим мистическим поэтом, он прежде всего был поэтом. Персонифицированная поэзия не позволяет читателю понимать поэзию как литературу и сознавать, что символическая аллюзия служит в качестве фигуры речи, тропа. Вместо этого я бы настаивал на необходимости понимания поэзии через те условности, что приняты поэтами, в рамках которых они и понимают свои собственные сочинения.
В качестве примера хотелось бы рассмотреть персидское стихотворение, порой приписываемое Хафизу, но исключенное большинством современных издателей из изданий его стихов. Следует заметить, что подобная ситуация отражает отсутствие общего согласия относительно того, по каким критериям определять подлинность текстов Хафиза. Здесь дается почти дословный перевод: Боже Всевышний! Какова моя удача ныне ночью. ибо мой Возлюбленный пожаловал нежданно ныне ночью. Увидев Его прекрасный лик, я поклонился.
Славься, Боже, ибо я счастлив ныне ночью. От единения с Ним распустился цветок моей радости; от моего везения я стал богатым ныне ночью. Кровь возопит на земле: «Я есть Истина», если Ты отправишь меня на виселицу ныне ночью.
Повеление «Ночи Предопределения» достигло моего понимания из моего неусыпно возникающего знамения ныне ночью. Я решился, что, если умру, провозглашу свою тайну с небес. Ты богат; я обращаюсь с просьбой: дай милостыню, ибо у меня праведная ныне ночь. Я боюсь, что Хафиз изгладится из сумятицы в моей голове ныне ночью1'.
В устной традиции и в некоторых комментариях можно встретить объяснение, что данное стихотворение писалось ночью, когда Хафиз испытал духовное просветление (конечной рифмой поэмы является слово ночью). Отчасти это было бы автобиографическое прочтение стихотворения, а отчасти толкование стихотворения как отражения частного мистического опыта. Следует попутно заметить, что прочесть его могут еще как обычный придворный стих, восхваляющий покровителя и просящий о награде.
Подобное персонифицированное прочтение, когда оно считается единственно верным для понимания стихотворения, становится весьма сомнительным, стоит нам взглянуть на само стихотворение как часть литературной традиции. Хафиз был далеко не обособленной фигурой. Персидская лирика существовала уже четыре столетия, когда тот обратился к сочинительству. На консервативный характер традиции указывает то обстоятельство, что поэты вроде Хафиза глубоко знали стихи предшествующих поэтов; их собственные сочинения часто оказывались перепевом более ранних стихов, преднамеренно облекаемых в ту же самую рифму и тот же размер и использующих те же самые образы и темы. Ни один из образов Хафиза не был изобретен им самим. В приведенном выше стихотворении среди общепринятых образов мы находим ссылки на Халладжа, «Ночь Предопределения» из Корана и образы из астрологии и исламского права. В формальном сходстве любого взятого стихотворения с предыдущими стихотворениями можно легко убедиться, взглянув на сам персидский текст. Современный комментатор Хафиза отобрал пятьдесят страниц примеров удивительно близкого сходства между стихами Хафиза и тринадцати более ранних поэтов, с XI века до его дней, и этот список далеко не исчерпывающий"*. Подобные прецеденты свидетельствуют, что Хафиз вел заочный диалог со многими предшествующими ему поэтами. Бросая вызов своими стихами, Хафиз стремился побить поэтов их же собственным оружием (состязание, которое носило особую остроту для его современников, как, например, Хваджа Кермани, к которому Хафиз обращается в десятках своих стихотворений).
Если мы взглянем на сочинения предыдущих поэтов, то легко отыщем примеры схожих стихотворений, где приведенный выше стих объясняется с литературной точки зрения. У Аттара есть два стихотворения с той же самой конечной рифмой, а Руми сочинил целых три стихотворения с той же конечной рифмой, которые по манере и духу близки стихам Хафиза. Ряд более поздних персидских поэтов, включая Файзи Ка-шани, Абула Файзи (1547-1595/1596), Урфи (1555-1590), Мирзу Абдулкадира Бедиля (1644-
1720) и Мирзу Талиба (1796—1869). также откликнулись на эту рифму19. Стихотворение Хафиза имеет некоторые обише элементы с двумя стихами Руми, включая фразу «Славься, Боже», и сравнение с Халладжем: «Тот самый огнь, что обитал в Халладже, // Нашел обитель в душе моей ныне ночью». Следует также помнить, что «ночь» служит символом как темноты сего мира, так и времени молитвы и музыкальных радений. Само стихотворение лучше всего воспринимается в свете литературной традиции, нежели конкретной мистической автобиографии. Единственный известный нам автограф Хафиза — это находящаяся в Ташкенте рукопись, содержащая поэмы Амира Хосрова Дехлеви (ум. 1325), прекрасного персидского поэта, прославившегося сложностью образов своей лирики. Отсюда можно заключить, что Хафиз, подобно другим поэтам, при случае не только подрабатывал переписчиком, но и был близко знаком с сочинениями своих предшественников.
Был ли Хафиз не только поэтом, но и суфием? Здесь вновь встает вопрос, что же такое мистическая поэзия. Несомненно, было много мистиков, которые вообще не предавали гласности свои переживания, и много других, которые обращались к прозе, всегда жалуясь на скудость слов. Поэзия — это искусство и ремесло, которое не обязательно является мистическим; отчасти это дар, отчасти плод тяжелого труда. Поэзия служит для эстетического воздействия посредством рифмы и размера и для эмоционального воздействия через содержание; для суфиев должным образом толкуемая поэзия представлялась особенно мощным средством воздействия в связи с ритуальным слушанием музыки. Вполне можно было написать стихи в суфийской манере, не являясь практикующим мистиком. Не будет преувеличением сказать, что все крупные придворные персидские поэты XVII века писали стихи, полные суфийской образности, хотя немногие из них по-настоящему были связаны с суфийскими братствами. Как заметил великий иранский ученый Касим Гани, из чтения стихов Хафиза мы можем только заключить, что тот был поэтом. В отличие от тех сочинителей, которые в первую голову известны как суфии, он не писал открыто о мистицизме и предметах суфизма, но пользовался словарем и стилем поэтов. Мистический опыт разнится с поэзией, и здесь можно сослаться на то, что экстаз едва ли согласуется со строгими правилами рифмы и метрики20. Хафиз также был придворным поэтом, как видно из более полусотни его стихов, где он открыто упоминает имена различных правителей и визирей династий Инджуидов и Музаффаридов, правивших в Ширазе в XIV веке; можно предположить, что многие другие свои стихи он посвящал двору, но без прямого упоминания своих покровителей21.
Разумеется, Хафиза также очень любили суфии, и ряд комментариев к его стихам был написан с мистической точки зрения. Но существовали и другие толкования Хафиза, который прославился прежде всего завораживающей неоднозначностью стихов; среди его поклонников в нынешнем веке мы видим и руководителя иранской коммунистической партии, и Аятоллу Хомейни. Можно встретить серьезных писателей, утверждающих, что Хафиз был выразителем чаяний пролетариата или что он был провозвестником исламской революции 1979 года22. Некоторые свидетельства указывают, что Хафиз мог быть посвящен в суфийское братство Рузбихани через посредство шейха Махмуда (или Мухаммада) Аттара (не путать с поэтом Фарид ад-Дином Аттаром)23. В этом отношении Хафиз походит на своего предшественника Амира Хосрова Дехлеви, который был посвящен в орден Чишти великим наставником Низам ад-Дином Аулийа, когда был придворным поэтом у семи сменивших друг друга правителей Дели. Но, вероятно, лучше всего это изложено у суфийского биографа Руми, который в конце своего сборника житий суфийских святых наряду с биографиями целой вереницы великих персидских поэтов кратко описывает и жизнь Хафиза. При этом он отмечает: «Хотя неизвестно, находился ли тот в учениках у наставника или поддерживал должные отношения с суфизмом посредством члена этой группы, его стихи, однако, столь прекрасно согласуются с учениями данной группы, что никто это не оспаривает»24. Не так важно, кем был Хафиз, важнее восприятие его стихов читателями. В той мере, в какой ценили и декламировали его поэзию суфии, и в одиночестве, и в обрядовых действиях, мы можем считать его суфийским поэтом, а высокая степень признания позволяет назвать его значительным суфийским поэтом25.
Никакое обсуждение персидской мистической поэзии не было бы полным без упоминания имени Руми, урожденного Джалал ад-Дина Мухаммада (1207-1273). Он появился на свет в городе Балхе (ныне Афганистан) и ребенком очутился в Малой Азии, где его отец, известный богослов и мистик, нашел убежище при сельджукском дворе в Конье как раз накануне вторжения монголов в Среднюю Азию. Он известен под разными именами. Афганцы величают его Балхи, персы — Мау-лави, турки зовут Мевлана (от арабского слова, означающего «наш господин»). Само имя Руми происходит от прозвания восточных областей прежней Римской империи (ныне входящих в состав Турции), известных по-арабски как Рум*. Руми является автором огромного собрания лирических стихов «Диван Шамса Тебризского»**, а также мистической эпической «Поэмы о сути всего сущего»***. История его службы в качестве проповедника и богослова, встречи с загадочным дервишем Шамсуддином из Тебриза и последующего превращения в выдающегося мистика раньше была у многих на устах26.
Отсюда слово ромеи — так звали граждан Византии. * «Дииан-и
Шамс-и Табриз», около сорока тысяч стихотворений. **
«Месневи-и манавн». двадцать пять тысяч стихотворений.
В определенной степени эта история показывает то, как странствующий каландар (Шамсуд-дин) мог бесповоротно изменить жизнь уважаемого суфия (Руми). Как и в случае с Хафизом и Ибн аль-Фа-ридом, стихи Руми в Новое время часто прочитывались как явное выражение его личного опыта мистика. В более ранние времена его поэзия воспринимааась как изложение суфийского учения; подобно поэзии Ибн аль-Фарида, поэзия Руми (особенно «Месневи») нередко преломлялась сквозь призму метафизики Ибн Араби27. Облегчали понимание этих преломлений — иначе говоря, толкований, которые отражают значимость поэзии как таковой, — те пометы, которые делал Руми в записях своих бесед, указывая, что ему лично поэзия претила; он уподоблял сочинение стихов приготовлению требухи, согласуясь со вкусами гостя. Учитывая небывалое количество написанных им стихотворений, к подобному заявлению, пожалуй, следует относиться с недоверием. Порицание поэзии схоже с частыми страстными мольбами о тишине, которыми завершается почти тысяча его лирических стихотворений. Знаток персидской литературы Фатемех Кешаварз недавно с большим умением показал, что Руми этими риторическими фигурами указывает на разрыв между языковыми возможностями и невыразимостью словами встречи с Истиной28. Подобно всякой апофатической теологии, указывающей на запредельность Божественного, поэзия Руми отвечает запросам взыскующих, находя свое лучшее выражение будучи сопровождаема ритуальной суфийской музыкой (см. главу 7).
Следует подчеркнуть, что, как и Хафиз, Руми писал в рамках литературных условностей, хотя и не служил придворным поэтом; между тем он по-настоящему свободно, как никто другой, обращался с поэзией. Поэты того времени подписывати собственные стихи псевдонимом, Руми же вместо этого нередко использовал имя своего мистического проводника, яркий пример - название собрания его лирики: «Диван Шамса Тебризского». Он забавляется бессмысленными словами, каламбурами, украшает свои стихи музыкальной и танцевальной символикой. Вместе с тем Руми был невероятно ученым человеком, и многие места в «Месневи» требуют разъяснений. Подобно Хафизу, он часто перепевает знаменитые строки более ранних поэтов. В качестве примера можно взять газель, начинающуюся со строки: «Говорят, что помер Санаи», которая, очевидно, побуждает читателя видеть в суфийском поэте Санаи предшественника Руми. Следует, однако, заметить, что это стихотворение не является откликом на некое современное Руми событие (Санаи умер в 1131 году), оно построено по образцу стихотворения, написанного тремя столетиями ранее на смерть поэта Рудаки (ок. 860-941). Руми, конечно, был знаком с огромным богатством преданий, которым прежде пользовался Аттар в своих мистических эпических поэмах. Он также показывает свою осведомленность в классической арабской поэзии, особенно ценя стихи аль-Мутанабби (916-965).
Особенно трудно передать в переводе такую черту персидской поэзии, как ее двуязычный характер. От сорока до шестидесяти процентов словаря персидского языка заимствовано из арабского, и в стихах Руми часто встречаются целые предложения и даже строки, написанные по-арабски. Это особенно заметно в таких местах, как вступление к «Месневи» (1:128-129), когда после просьбы Хусам ад-Дина, ученика Руми, рассказать о Шамсуддине тот переходит на чистый арабский — величественный язык Божественного Корана и язык пылкой любви: «Не беспокой меня, ибо я растворился! Мои мысли изгнаны, посему я не могу "подсчитывать твои восхваления". Что бы ни говорили непросветленные, все тщета, и неважно, как они рисуются или пыжатся». Одна только мысль о Шамсе вызвала в Руми состояние растворения, уничтожения «эго», подчеркиваемое цитированием Пророка Му-хаммада, когда тот напрямую обращался к Богу и признавался в неспособности превозносить бесконечное. Это можно было бы сделать, лишь перейдя на более высокий регистр арабского языка — ввиду его нерасторжимой связи с Кораном и классической арабской поэзией. Публика, для которой Руми писал такие строки, очевидно, была сведуща в литературных условностях персидского и арабского языков, религиозной исламской традиции и особого словаря суфизма, созданного на протяжении столетий.
Как можно соразмерно передать в переводе эстетическое воздействие перехода с персидского на арабский язык?
Другим примером такого воздействия может послужить стихотворение Хафиза, который известен тем, что включал в персидские стихи много арабских слов (арабские слова выделены здесь курсивом):
Сие горькое снадобье, что суфий именует матерью греха, более ароматно и сладостно нам, нежели поцелуй девственницы.
Здесь прославляется вино, и получаемое потрясение от запрещенного удовольствия усиливается изысканностью самого языка.
Сто лет назад один английский переводчик, чтобы добиться подобного воздействия, попытался воспользоваться латынью для передачи арабского текста, надеясь, что многие читатели это оценят:
That bitter stuff the Sufi calls mater malorum nobis optabilior et dulcior quam osculum virginis29.
Однако это были напрасные потуги.
Перевода, переполнения поэзии и придание ей священного статуса
Во всяком случае, Руми отвергал любое упрошенное деление. Он утверждал, что не является ни Востоком, ни Западом, ни Индостаном, ни Бадахшаном. Поэтому тем более примечательно, что его (и в меньшей степени Хафиза) по-новому восприняли и оценили в XX веке. Конечно, чтение персидских стихов оказывает мощное эстетическое воздействие, значительно усиливаемое, когда слушаешь их в музыкальном сопровождении, имитирующем суфийские сама. Благодаря возвеличиванию силы любви и свободы, ради чего привлекается весь арсенал выразительных средств персидской поэзии, Руми, пожалуй, является чаще всего цитируемым и более всего почитаемым у персоязычных народов поэтом по сравнению с другими персидскими стихотворцами. Наконец, то высокое положение, что занимают ныне Руми и Хафиз в английских переводах, не знает себе равных. Складывается впечатление, словно их стихи в процессе усвоения инородной культурой — что могло иметь место исключительно на Западе с наступлением Нового времени — превратились из поэзии в священные тексты. Подобная канонизация особо поразительна, поскольку среди ученых нет никакого согласия относительно того, что составляет «подлинный» персидский текст таких авторов, как Хафиз и Руми. Различия между рукописными списками их поэзии часто весьма существенны. Число и порядок стихов, а также слова значительно разнятся. Эти различия вызваны рядом обстоятельств, включая, безусловно, ошибки переписчиков, но они также отражают существенный пересмотр и апробирование различных вариантов самими поэтами и их позднейшими декламаторами. Например, в собрании газелей Руми можно видеть, как выглядят три или четыре параллельно при водимых варианта одного и того же стихотворения — с той же самой рифмой и тем же размером, часто с рядом перекликающихся строк. Это скорее поэзия в ее становлении, нежели завершенное писание.
Однако канонизация Руми и Хафиза началась много лет назад. Джами называл «Месневи» Руми «Кораном на персидском наречии». Хафиз, возможно из-за крайней неоднозначности его стихов, незадолго до своей смерти стал известен как «толкователь потаенного мира», и его стихотворения стати использоваться для прорицания и ворожбы, уступая по популярности лишь Корану. В Патне, Индия, сохранился царский список стихотворений Хафиза, который находился прежде в библиотеке могольских правителей. На полях приписаны подробности относительно тех случаев, когда эти цари советовались с Хафизом по поводу того, как вести государственные и военные дела. И сегодня еще многие люди проводят тщательно продуманные ритуалы, выбирая наугад газель из Хафиза, которую затем истолковывают (как в случае с «Иизин» -китайской «Книгой перемен»), чтобы руководствоваться затем в таких вещах, как, например, сделки с недвижимостью. Как доказывает исследователь религий Джонатан Смит, текст, используемый для гадания, является наиболее простым видом Священного Писания; он становится признанной структурой, которую можно преобразовывать и прилаживать ко всякой ситуации30. Трудность при таком подходе связана с тем, что текст изымается из мира поэзии. Когда поэзию считают боговдохновенной, она более не является плодом человеческих усилий. В таком случае приходится признать, что неизменный исходный текст объявился внезапно и разночтения не допускаются. Что касается текстов, опубликованных современными издательствами, то видимость их непогрешимости подкрепляется авторитетом печатного оттиска, который кажется более законченным, нежели рукописный вариант, и который совпадает в многочисленных копиях. Произведения Руми — а его книги сейчас наиболее раскупаемы в Америке — по количеству переводчиков и подходов к тексту начинают напоминать переводы и переложения Библии.
Однако авторитет переводов Руми и Хафиза представляет собой особое явление, поскольку нынешнее освящение текста сопровождается почти полным отсутствием интереса к его действительному, исходному виду. Когда суфизм стал объектом изучения для английских востоковедов, именно персидская поэзия побудила их этим заниматься. Затем поэзия стала истолковываться главным образом как выражение личного мистического опыта, что проявилось в научных дословных переводах Ренолда Николсона и Артура Ар-берри. Однако большей частью научные переводы сделаны без всяких притязаний на поэзию. Ценность этих переводов заключалась в том, что они сосредоточивались на смысле, сохраняя метафоры и ссылки, которые использовали Руми и Хафиз для передачи своих мыслей. Переводчики пытались сделать источники как можно более доступными «для правильного понимания», чтобы тем самым другие знатоки могли признать точность их скромных переводческих трудов. Это позволяет читателю при определенных усилиях с его стороны воссоздать общую структуру стихотворения или раздела эпической поэмы, получая некоторое представление о том, как воспринимают данные стихи те, для кого этот язык родной.
В последние годы у профессиональных поэтов развилась новая склонность брать дословные переводы суфийской поэзии, сделанные учеными, и затем отливать их в поэтическую форму в соответствии с английским языком. Подобная практика, впервые, вероятно, апробированная Эзрой Паундом, побудила таких именитых поэтов, как Роберт Блай и особенно Коулмен Барке, создать поэтические переложения Руми, свободные от прозаических недостатков буквального перевода (хотя Барке ссылается на номер страницы нормативного издания персидского текста). Поэты вроде Блая и Баркса работали вместе со знатоками персидского языка, чтобы иметь доступ к оригиналу. Учитывая сухой, педантичный стиль ранних научных переводов персидской суфийской поэзии, такого рода литературные усилия довольно отрадны.
Однако наряду с этой литературной тенденцией все больше проявляется и другая: появляются переводы, в которых почти не ощущается связь с персидским языком, их порой именуют не переводами, а переложениями. Создаваемые людьми, ничем не проявившими себя ни в поэзии, ни в переводческом деле, эти стихотворения, по сути, являются оригинальными сочинениями, вдохновленными либо чтением переводов Руми или Хафиза. либо собственными медитациями автора. Эти переложения обычно и не стремятся соответствовать форме настоящей газели, лишь отдаленно напоминая ее; выхватываются две или три строки из стихотворения и перерабатываются для создания нового самостоятельного произведения. Даже если отношение этих новых творений к какому-либо оригиналу весьма туманно, они все равно притязают на авторитет персидского поэта — автора источника. Авторитет, на который ссылаются переложители, своеобразно отражает одну из обычных трудностей в идентификации «подлинных» стихов сочинителей со Среднего Востока, живших в предшествующую Новому времени эпоху. Чтобы пустить в обиход свои собственные персидские либо арабские творения, неизвестные сочинители часто подписывали свои труды именем знаменитого автора, полагая, что читатели всегда благосклонно встречают новое детище признанного ими литературного авторитета (именно по этой причине старейшие рукописи стихотворений Омара Хайяма содержат всего лишь несколько десятков четверостиший, тогда как в некоторых рукописях XIX века их более семисот). Сочинители прошлого таким путем зарабатывали за чужой счет бессмертие своим творениям, сами при этом оставаясь безвестными, сегодняшние создатели «поэтических переложений» пытаются прославить себя, пользуясь славой автора, которого они жаждут представлять.
Много вопросов вызывают новые переложения Руми и Хафиза. Обыкновенно в них (в отличие от переводов викторианской эпохи) избегаются рифма и метр, и неясно, какие привлекаются критерии при установлении их ценности как поэтических творений. При сохранении некоторых принятых в персидской поэзии образов одновременно отвергаются другие — как чуждые либо чересчур темные. Переложения пытаются ухватить мистическую суть стиха, одновременно отсеивая то, что представляется ненужным. Читателям подобных переложений приходится признать, что видение мистицизма, которое предстает в английском образце, целиком зависит отличного взгляда переводчика. В некоторых из такого рода переложений теряется как раз ощущение культурной дистанции, в которой в первую голову нуждался перевод; легко при таком подходе поддаться искушению в угоду массовому читателю переложить источник в стиле Нью-Эйдж (New Age) и придать ему ореол персидской мистики.
Не следует безоглядно доверять и иранским, турецким и индийским переводчикам: многие из них не являются знатоками литературы и заявляют о своем преимущественном праве на переводимый текст только по причине данного им от рождения знания языка оригинала. Но следует помнить, что не всякий, кто говорит на английском языке, является знатоком Шекспира. Литературные достоинства подобных переводов также различны. Во всех этих примерах мы наблюдаем некий род фетишизации священного текста, которая все более оценивается как продукт Нью-Эйдж, отличаясь малым интересом к той литературной среде, в которой действительно творили Хафиз и Руми, а также к обстоятельствам, в которых оценивались их стихотворения. Возможно, примирить эти подходы способен комплексный подход, где будут сочетаться транскрипция персидского текста латинскими буквами, крайне дословный перевод с разъясняющими непонятные слова примечаниями и поэтическое переложение, которое затем можно будет оценить более глубоко, с учетом культурных различий. Образец такого рода перевода представлен в книге стихов Талиба на урду, поданных в транскрипции, дословном переводе и поэтическом переложении видных американских поэтов. Современные образцы отличает еще и привлечение мультимедийных средств, когда для более полного восприятия текста задействуются средства каллиграфии и аудиозаписи.
Суфийская поэзия на иных исламических языках
Здесь можно дать лишь краткое представление о богатстве поэтического наследия на других языках, к которым прибегали суфии. Поскольку большинство занимающихся суфийской поэзией ученых сосредоточены на арабских и особенно персидских материалах, мы располагаем значительно меньшим числом переводов и исследований суфийской поэзии на тюркских языках, языках Индии, Африки и Юго-Восточной Азии. Хотя поэзия на этих языках играет важную роль в суфийской практике, ею пренебрегали как литературой по причине существовавшей в досовременных ислами-ческих обществах культурной иерархии, которая нашла отражение даже в западной науке Нового времени.
Иначе говоря, литературный арабский язык всегда занимал самое почетное место в исламическои культуре, и не только там, где арабский был разговорным языком, но и, даже в большей степени, в неарабоязычных странах. Коран изучается на арабском языке, а переводы главным образом служат дополнением к арабскому тексту. Если прибегнуть к приведенному ранее сравнению, арабская литература стала классической, играя для мусульманских стран роль, подобную греческому и латинскому классическому наследию в Европе и Америке (любопытно наблюдать, как в последние годы слово klasikперешло в языки с арабским алфавитом с тем же самым значением). Персидский язык является литературным языком живой традиции на протяжении тысячелетия, географически охватывая территорию от Турции до Средней Азии и Индии. Подобно арабской, персидская литература с самого начала была связана с придворной культурой. Несмотря на различия обоих языков (один семитский, другой индоевропейский), арабский язык и, в меньшей степени, персидский во многих мусульманских державах были языками, определяющими общественный статус. Многие другие языки, бывшие в ходу у мусульман, на письме фиксировались арабскими буквами и употреблялись в изящной словесности, но обыкновенно имели более ограниченное хождение и меньший статус, даже если ими пользовались при дворе. Часто поэтические творения сочинялись и передаваясь изустно, что также умаляло их положение по сравнению с сочинениями передававшимися письменным языком. Мусульманские писатели, пользовавшиеся языками вроде бенгальского, турецкого или берберского для религиозных целей, часто извинялись за употребление «этих не столь Божественных наречий», хотя думается, что за подобными формальными извинениями скрывается искренняя привязанность к литературе на родном языке.
Европейские востоковеды также унаследовали данную культурную иерархию, рассматривая арабский язык в качестве главного языка ислама, называя затем персидский и признавая еще лишь за турецким языком какую-то роль в литературе и истории. Другие языки, бывшие в ходу у мусульман, живших вне «исконных земель» исламской цивилизации, нередко отбрасывались как местные и, вероятно, в какой-то степени неправильные. Такая иерархия отражает традиционное представление об исламе как о сугубо арабском явлении. Поэтому и ставили крест на культурном богатстве, которым пользуется большинство мусульман-неарабов. Горестным следствием такого подхода является то, что крайне трудно отыскать книги по суфийской поэзии на других языках. По этой причине дальнейшие замечания будут весьма скудны. Выше я пытался осветить действенность рабочего определения суфийской поэзии как поэзии, ценимой суфиями, но мы должны дождаться более полных разысканий относительно назначения поэзии в других исламических языках, прежде чем сумеем дать общее заключение о положении суфийской поэзии.
Однако существовали два родственных направления, которые старались вернуть популярную литературу суфийского толка массовому читателю в XX веке. Одно из них — изучение фольклора как ценной части культуры. Местные любители древностей и литературные энтузиасты во многих мусульманских странах помогали сохранять и издавать поэзию и другие виды литературы на местных наречиях. Поскольку многие популярные авторы произведений на этих языках были суфиями, сохранение фольклора позволило выявить и сделать доступным читающей публике такой род литературы. Другое направление определяется националистической идеологией, когда поощряются массовое издание и канонизация литературы на национальных языках. Примером здесь мог бы послужить Юнус Эмре (ум. ок. 1320), писавший незамысловатые стихи на турецком языке в манере дервишей братства Бекташи31. Когда в двадцатые годы нынешнего столетия Кемаль Ататюрк установил светскую власть в Турции, были распущены суфийские институты, в том числе ордены дервишей. Но поэзия Юнуса Эмре, в которой было мало высокопарных арабских и персидских слов придворного турецкого языка Оттоманской империи, заняла почетное место в официальной турецкой системе обучения, представ теперь на латинице. Как следствие, практически любой, кто обучался в Турции, знает на память стихи Юнуса Эмре. То обстоятельство, что поэзии Юнуса Эмре присущ сильный суфийский привкус, имело второстепенное значение по сравнению с ее важностью для языковой политики, проводимой турецкими властями в сфере образования.
Говоря о других исламических языках, я подразумеваю все языки, помимо арабского и персидского, которыми пользовались мусульмане (и немусульмане) в литературных целях. Но, как показывает пример Юнуса Эмре, сам наш подход к языку сегодня неизбежно оказывается под воздействием националистической политики. Лозунг «Один народ — одно государство — один язык» политически в целом оказался полезным, несмотря на отдельные случаи, когда подобный образец малопригоден. Так, порой современная Турецкая Республика провозглашает верховенство «чистого» турецкого языка, тогда как османский турецкий язык, с его арабским письмом, наряду с арабской и персидской литературой, которые создавались и были предметом изучения в бывшей Османской империи, признаются чуждыми и отвергаются3-. Подобным образом из многих языков и наречий, на которых говорят в Северной Индии, лишь один (хинди с письмом деванагари) стал официальным языком Индии и ассоциируется исключительно с индуизмом, тогда как другой, родственный ему (урду с арабским письмом), является официальным языком Пакистана и считается исламическим. Любопытно, что большинство суфийских поэтов пользовались хинди, нежели урду, который они считали бытующим при дворе светским языком. Подобную националистическую подоплеку можно отыскать в языке, называемом ранее сербскохорватским, а ныне разделившемся на сербский, хорватский и боснийский (подобно хинди и урду) по причине различия в характере письменности, а также в вероисповедании и национальной принадлежности его носителей. Значительная часть суфийской поэзии не только многоязычна (как в приведенных выше случаях с Руми и Хафизом), но еще и многокультурна. В имеющихся сегодня музыкальных записях можно услышать, как певец, вроде знатока каввали Джафара Будауни из Северной Индии, исполняет песни, в которых смешаны арабские стихи об Али, персидские стихи о Пророке Мухаммаде и двустишия Авази Хинди о младенце Кришне, и все они трактуются с суфийской точки зрения. Следовательно, при изучении суфийской поэзии бессмысленно делить ее согласно языковой принадлежности. Тем не менее полезно взглянуть на сам предмет с учетом региональных особенностей.
В этом плане можно говорить, например, о поэтической традиции текке, развиваемой в суфийских обителях Османской империи. Дервиши-бекташи слагали стихи и песнопения на турецком языке, включая труды таких деятелей, как Абдал Кайгусуз (XV век) и мученик Насими*. Хотя эти стихи, возможно, имели более широкое хождение, их исполнение в текке обыкновенно предназначалось для ограниченного круга слушателей, а не для всеобщего пользования33. В репертуар исполнителей входили стихи Шаха Исмаила Сафави**, основателя династии Сефевидов, известного под псевдонимом Хатаи; эти стихи, отличающиеся сильным шиитским привкусом и склонностью к обожествлению, были политически неблагонадежны из-за их связи с империей, часто враждующей с османами.
Поэзию текке обычно отличают от придворной поэзии, или поэзии дивана, но, как и в случае с арабской и персидской поэзией, на практике трудно бывает провести четкую грань между темами и формами мистической и придворной поэзии на турецком языке. Одно из последних величественных созданий турецкой поэзии эпохи Османской империи — роман Шейха Талиба «Красота и любовь» (1783), хотя и написан в придворной манере, следует персидскому образцу «Месневи» Руми, и сам автор стал наставником суфийского братства Маула-ви34. Подобным образом можно показать наличие региональных традиций в Юго-Восточной Азии, где наряду с метафизическими трактатами (с частыми извлечениями из арабских и персидских источников) писали стихи на малайском языке такие значительные представители суфизма XVII века, как Хамза Фансури (Шахрнави)35
Псевдоним Сеида Имадеддина (ок. 1369-1417). * Иранский поэт (1456-1524), узаконивший литературное двуязычие — персидский и турецкий
. Другие литературные традиции существуют в Северной Африке (на берберском языке), в Восточной Африке (на сомали и суахили) и в Западной Африке (на хауса); их привлекали для своих надобностей суфии, но во всех этих случаях доступный для незнатока материал крайне скуден. То же самое можно сказать и о суфийской поэзии в Средней Азии.
Ввиду более обширного числа востоковедческих исследований в области индийской культуры мы имеем более богатый выбор суфийской поэзии на южноазиатских языках, хотя здесь тоже предстоит еще многое сделать36.
Следуя по дуге от Пакистана через Северную Индию в Бангладеш, мы встретим такие языки, как синдхи, пенджаби, пушту, различные диалекты хинди/урду и бенгати, принадлежащие к индоевропейской группе языков и отличающиеся общими для них литературными темами. Суфии, например Шах Абдула Латиф Бхитай (1689/90-1752), привлекали языки долины Инда для разработки мистических тем посредством переложений народных сказаний, где женский голос использовался для подчеркивания мистической любви37. В Северной и Восточной Индии романтические темы эпических поэм землевладельческого сословия раджпутов (от санскр. раджа-путра — сын царя) составили основу для обширных сочинений суфиев из братств Чишти и Шаттари. Здесь поражает то, что персонажи ближневосточной литературы, такие, скажем, как влюбленные Лейла и Меджнун, заменяются на индийские персонажи, например Сасси и Пуннуна или Падмавати и Ратана Сена. Бенгальские бродячие певцы, известные как баулы (бенг. безумный, имеется в виду «безумный от любви к Богу»), дают пример приспособления суфийского словаря к тантрической практике, их песни содержат весь арсенал изощренной символики индийской йоги. В Южной Индии существует отдельная литературная традиция, связанная с тамильским языком, принадлежащим к дравидийской семье языков. Она привлекает образцами тамильской придворной поэзии. Подобное использование местной тематики наделяет ароматом «культурного разнотравья» этот род суфийской поэзии и привлекает темы и образы, обычно относящиеся к индуизму. Однако нужно не забывать, что религиозные границы XX века значительно более четки, нежели множественные совпадения религиозных и культурных образчиков прежних времен.
ГЛАВА 7 Суфийские музыка и танец
Приди, давай усыпим все розами и наполним стаканы вином Порушим свод небес и новый заложим фундамент. Если печаль направит рати проливать кровь любящих, я объединюсь с кравчим, и мы опрокинет их.
Вот сладкие струны, играй сладкую песню, мой друг, чтобы мы хлопали и пели, теряя свои головы в танце
Хафиз
Пожалуй, никакая другая сторона суфизма не вызывала такие споры и одновременно не была столь популярной, как музыка и танец1. Музыка и танец вовсе не присуши всем суфийским толкам. Например, такие братства, как Накшбанди и Кадири, не одобряют подобные занятия (хотя и там были яркие исключения). В то же время напевная декламация стихов в суфийских кругах часто сопровождалась игрой на музыкальных инструментах и телодвижениями — как непроизвольными, выражающими состояние экстаза, так и размеренными обрядовыми жестами. Сейчас своим признанием суфизм обязан музыке и танцу, которые значительно ближе нашей массовой культуре, чем молитва и метафизика. Сегодня суфийская практика в виде музыки и танца оценивается с позиции современных западных эстетических норм. Ритуал сема братства Маулави, получивший развитие в Турции при непосредственном воздействии этикета османского двора, теперь вынесен на эстрадные подмостки в виде танца вертящихся дервишей. Пакистанский певец Нусрат Фатех Али Хан, обученный ритуалу каквали ордена Чишти, делает записи по всему миру и сотрудничает с американскими музыкантами при создании музыкального сопровождения к кинофильмам. Как следует воспринимать подобные современные явления с точки зрения той роли, какую играли музыка и танец в старой суфийской традиции?
Говоря о слушании стихов, как напеваемых, так и декламируемых в сопровождении игры на музыкальных инструментах или без него, суфии использовали слово сама (букв.: слушание, внимание). Получается, что акцент делался больше на восприятие, чем на исполнение музыки; исполнение обыкновенно было занятием людей сравнительно низкого социального положения, больше схожих с актерами или танцовщиками в Европе XIX века. Начинать рассуждения о суфийской музыке следует с голоса. Ранние суфийские теоретики в полной мере осознавачи силу человеческого голоса, способного вызывать яркие эмоции. Есть много примеров, демонстрирующих огромную силу воздействия голоса при чтении Корана, при перечислении Божественных имен, при декламации стихов. Многочисленные хадисы передают, что пророков отличат прекрасный голос удивительной насыщенности; по преданию, когда Да вид читал
Псалмы, из собрания пришлось вынести тела четырехсот израильтян, испустивших дух во время его чтения. Плохого голоса, напротив, следовало сторониться. В Коране Бог говорит: «Самый неприятный из голосов есть голос ослов». Одним из распространенных примеров могучего голоса в суфийской литературе является крик погонщика верблюдов, он способен побудить уставших животных напрячься до смертельного изнеможения. Много говорится о воздействии криков птиц и животных, в которых восприимчивый слушатель может уловить восхваление Бога:
«Я помню, как однажды мы шли с караваном всю ночь неустанно и прилегли отдохнуть у опушки леса утром рано. Один юродивый, бывший нашим спутником в том путешествии, издав громкий крик, пустился в пустыню и все время кричал, ни на миг не успокаиваясь. Когда наступил день, я спросил его:
- Что с тобой произошло ночью?
Он ответил:
- Я услыхал ночью, что соловьи поют на деревьях, куропатки на горах, лягушки кричат в прудах, а животные влесах, и подумал: несправедливо, чтобы все пели славословие Господу, а я спал нерадиво.
Рано утром вчера громко птица запела И лишила меня и сознанья, и сил. Донеслись мои вопли случайно до слуха Одного и j друзей, что душе моей мил. "Неужели способен от птичьего пенья Потерять ты рассудок?" — меня он спросил.
Молвил я: "Даже птица восславила Бога, Вот и я — лишь посильно хвалу возгласил!"»2*
Во всех рассуждениях о суфийской музыке ключевым моментом является восприимчивость слушателя.
Обычно в суфийских текстах утверждалось, что музыка никогда не была позволительна для всех, и тем самым признавалось, что к музыке нужно подходить с позиции исламского закона; ее, подобно всему прочему, следует оценивать согласно ее нравственному звучанию.
«Сама бывает четырех видов. Один законный, при коем слушатель целиком поглощен Богом и совершенно не поглощен тварным. Второй позволительный, при коем слушатель большей частью поглощен Богом и лишь самую малость тварным. Третий порицаемый, при коем во многом мы поглощены тварным и самую малость Богом. Четвертый запрещенный, при коем мы вовсе не поглощены Богом и полностью тварным...
* Цит. по: Саади. Гулистан. М.: Худ. литература, 1957. -
Но слушатель должен ведать разницу между совершением законного, запрещенного, позволительного и порицаемого. И сие есть тайна между Богом и слушателем»1.
Согласно известному арабскому изречению, музыку следует воспринимать в зависимости оттого, кто, когда и где (макан, заман, ихван — букв.: место, время, братия). Ее не следует исполнять по некоему заведенному порядку, она не должна быть доступна духовно незрелым, ее также не следует исполнять в неподвластных управлению общественных местах. Как выразился один ранний суфий: «Сама запрещается толпе, дабы люди не утратили свои души, она позволительна аскетам, дабы те обрели цель своих трудов, и она советуется нашим сподвижникам (суфиям), дабы те оживляли свои сердца»4. Поэтому к слушанию музыки относились крайне серьезно. Сначала следовало, как и при молитве, совершить омовение и облечься в чистые одежды. Поскольку декламируемые на этих собраниях стихи могут истолковываться попросту, на мирской манер, новообращенным указывают сосредоточить свое внимание на духовном их понимании. Важно также не отвлекаться на голос и внешний вид певца, поскольку физическая красота может легко пересилить поиски Божественной красоты. Восприятие музыки оценивалось прежде всего по тому, как внимает человек музыке: из-за чувственного желания или по причине томления по Богу. Музыка не в состоянии оказать духовного воздействия в отсутствие нравственного очищения.
При верном исполнении сама человека охватывает состояние экстаза (ваджд). На тему, как отличить истинный экстаз от показного, разгорелось много споров. Поскольку мерилом для участия в музыкальных собраниях служит чистота намерений, крайнюю опасность представляет лицемерие. Здесь как нигде можно видеть уместность понятия покатой суфий. В кругах, где престиж зижделся на духовных достижениях, весьма соблазнительно было тем, кому недоступен экстаз, выдать себя за тех, кто на него способен. Суфийские пособия полны грозных предостережений от такого рода мнимых притязаний. В качестве примера приведу отрывок из суфийского руководства XIV века:
«Если известно, что музыкальное собрание содержит некоторые запретные и незаконные вещи — вроде пищи, предоставленной нечестивцем, соседства женщин и присутствия отроков с предосудительными вещами (например, вином) или вроде присутствия кого-то, не связанного с суфиями, наподобие притворного аскета, коему не люба музыка, но коий не осмеливается отвергнуть ее, либо могущественного лица из знати, с коим приходится обходиться с показным уважением, либо присутствия лицемера, коий мнимо являет экстаз и лживым экстазом смущает мысли присутствующих, — в сих случаях искренние взыскующие должны избегать своего присутствия в подобном собрании»5.
Если музыкальные слушания перестают быть собранием ради внимания напевной декламации как средства познания Бога, они превращаются в заурядное эстетическое действо, потакание индивидуальным музыкальным вкусам. Ибн Араби был крайне критически настроен к тем, кто полагал, будто мистицизм, по сути, не что иное, как наслаждение музыкой.
«Бог не повествует о желании; Он порицает тех, кто насмехается над своей религией, кто ныне является поклонником музыки, служителей барабана и флейты, — бежим от распущенности к Богу!
Ибо нет никакой религии в барабане, флейте и забавах: религия обретается в
Коране и благопристойностях.
Когда я услышал Книгу Бога, она тронула меня; сие есть внимание*, и оно приблизило меня к покровам,
Так что я засвидетельствовал Его, Кого ничье око не способно узреть, но лишь того, кто зрит свет в Книге»6.
* Сама.
Те, кто сосредоточивается на внешнем проявлении музыки, игнорируя ее внутреннюю форму, обманываются; для Ибн Араби высшей формой духовного радения в сама является сосредоточение на проявлении красоты в самом Божественном Откровении
— Коране. В большинстве суфийских пособий от новичка требуется умственное и телесное самообладание. Каждый участник радений должен стараться, чтобы его не отвлекали действия других. Однако встречаются и иные правила слушания музыки, они свидетельствуют о том, что музыкальные собрания могли накапливать значительный эмоциональный заряд, который нужно было отводить посредством ритуала. Наиболее существенные из этих правил связаны с тем, как рвать на себе одежду, находясь в экстазе, и как следует распределять части одежды, сохраняющие аромат экстаза7.
Тема танца в суфийских рассказах о слушании музыки затрагивается лишь мимоходом — за исключением традиции братства Маулави, к которой мы еще вернемся8. Хотя самопроизвольный танец признается как возможное побочное действие экстаза, можно (а согласно некоторым установлениям, предпочтительно) оставаться неподвижными и бесстрастными на своих местах, покуда длится экстаз. Красочные миниатюры часто изображают суфиев, танцующих в садах в окружении музыкантов, но, похоже, они не следуют единому рисунку танца.
Хотя руководства часто побуждают присутствующих сообразовываться с состоянием того, кто вошел в экстаз, трудно понять, как, следуя самопроизвольным движениям находящегося в исступленном состоянии человека, можно достичь какой бы то ни было танцевальной формы. Однако наши сведения но данному предмету довольно скудны. Известно, например, что в братстве Чишти, у последователей Бур-хан ад-Дина Гариба, бытовала особая манера танца, но нет никаких указаний, на что она походила. На миниатюрах с изображениями танцующих видны длинные, свешивающиеся вниз рукава, служащие знаком экстаза; в пособиях также упоминается притоптывание ногой, вероятно в такт музыке, хлопанье в ладоши и вращение. Поскольку постоянно подчеркивается, что все воспринимают музыку на разных уровнях, вполне возможно, что на многих таких собраниях отсутствовали какие бы то ни было согласные движения и каждый дервиш танцевал на собственный лад.
Музыкальные ритуалы суфиев проходили в атмосфере, насыщенной космической символикой, что позволяло участвующим в ритуале обращаться вспять, к началу времен.
Еще при Джунайде (ум. 910) у суфиев было принято связывать сама с коранической темой изначального завета, заключенного между Богом и нерожденными человеческими душами, когда Бог вопросил: «Не есть ли Я Господь ваш?» Для суфиев сей момент был не только утверждением Божественного единства, но также и закреплением любовных уз между Богом и душой. Кроме того, музыка радений сама оказывается не чем иным, как отголоском следующего исконного слова Бога: «Сама есть вспоминание речения завета и горение огня томления». Суфии представляют Бога, поместившего тем днем тайну в человеческое сердце, которая скрыта, подобно искре в камне, но которая высекается, стоит ударить по ней огнивом сама. Приводится такое высказывание Джунайда: «Когда естества сынов Адама в день завета коснулись слов "Не есть ли Я Господь ваш?", все души пленила их сладость. Поэтому души тех, кто приходит в этот мир, стоит им заслышать чудный голос, трепещут и смущаются памятью о той речи, ибо воздействие той речи заключено в чудном голосе». Иными словами, утверждается, что источник сама заключен в восхитительной притягательности Бога, в своего рода энергии, которая неодолимо тянет человека к Нему. Египетский суфий Зу-н-Нун сказал: «Сама есть восхищение Богом, которое побуждает сердца стремиться к Богу»9.
Местные традиции в музыке и танце
Суфийская музыка известна во всех мусульманских сообществах, где декламируют суфийскую поэзию, тогда как танец, по сути, является занятием одного суфийского братства — Маулави. Местные музыкальные традиции, связанные с суфийской музыкой, довольно сильно различаются, у них длинная и сложная история, которая во многих случаях едва ли знакома посторонним. Специалисты в этномузыковедении обсуждают техническую сторону этих различных музыкальных традиций с позиции теории музыки и ее исполнения. Не пытаясь представить здесь подробный исторический очерк, я вкратце опишу несколько основных разновидностей суфийской музыки с точки зрения религии и ритуала, сосредоточив внимание на тех, которые недавно получили известность и признание на Западе (эту музыку можно послушать в записи).
Одна из наиболее известных традиций суфийской музыки связана с братством Чишти в Индии и Пакистане10. Ввиду ее широкой популярности в современном мире, выходящей далеко за рамки интереса к сугубо традиционным суфийским ритуалам, было бы неплохо начать с нее при рассмотрении вопроса о трактовке суфийской музыки на Западе. Хотя в текстах на персидском и урду, созданных в недрах братства Чиш-ти, употребляется слово сама, ныне этот вид музыки известен прежде всего под названием кавваш — арабское слово, означающее «пересказывающий». Это название опирается на старую терминологию, поскольку арабские суфийские тексты с IX века считают пересказчика (каввал) стихов основным действующим лицом в музыкальном обряде. Старейшие чиштийские тексты XIII века удостоверяют исключительную важность слушания музыки в этом братстве. Придворные историки также указывают на то, что выступающие против музыки правоведы оспаривали тогда ее законность, но правители делийского султаната каждый раз находили доводы суфиев в пользу музыки достаточно убедительными. Единственной уликой, свидетельствующей против бытующей среди чишти музыки, была смерть Кугб ад-Дина Бахтияра Каки в конце музыкального собрания, состоявшегося в Дели в 1235 году (его могила расположена вблизи Кутб-Минара, к югу от Дели). Он вошел в экстаз, когда певцы декламировали стихи персидского поэта Ахмади Джама: «Умерщвленные клинком покорности // всегда из потустороннего обрящут жизнь». Обычай требует при наступлении экстаза во время такого радения повторять ту же самую строку стихотворения, покуда человек не придет в себя. Согласно устному преданию, всякий раз, когда певцы пели первую часть стиха, Кутб ад-Дин почти лишался чувств («умерщвленные клинком покорности»); но стоило зазвучать второй половине стиха («всегда из потустороннего обрящут жизнь»), он оживал. Это длилось три дня, и, как рассказывают, ученики Кутб ад-Дина в конце концов попросили остановить музыку. К несчастью, певцы остановились посередине стиха, и святой испустил дух. Это вовсе не единичный пример смерти во время сама. Сборники житий суфиев полны описаний подобных случаев, самый последний из которых произошел менее ста лет назад, когда чиштий-ский суфий по имени Мухаммад Хусайн Илахабади умер в Аджмере во время декламации стихов о вознесении Пророка.
Обычно исполнение чиштийского каввал и представляет собой высокоорганизованный ритуал, который проводят у суфийских усыпальниц в годовщину смерти знаменитых святых и в иные религиозные праздники. Главными местами проведения чиштийских празднеств в Индии являются усыпальницы в Аджмере, Дели, Гулбарге, штат Карнатака, Кальяре и Хулда-баде (местечке в четырех милях к западу от Даулатаба-да, штат Махараштра. Западная Индия); в Пакистане самая большая усыпальница находится близ Пакпатта-на. Вторая половина дня четверга (день накануне пятничной общей молитвы) также обычно считается благоприятным днем для посещения чиштийских святилищ, если кто-то желает увидеть исполнение каввали. Музыканты, специально обслуживающие подобные мероприятия, ныне играют на современных инструментах, включая фисгармонию и кларнет; в качестве ударных используются североиндийские барабаны и хлопанье в ладоши. Простая форма каввали, именуемая банд сама, сопровождаемая только игрой на барабане, исполняется по особым случаям в Гулбарге. Многие песни чиштийского каввали написаны на индийских языках, для концертного исполнения стихов используется еще урду; в репертуар входят и классические персидские стихи, а также несколько арабских сочинений. Некоторые исполнители каввали придерживаются исключительно классических музыкальных стилей, бытовавших при царских дворах Индии, другие же используют местные и региональные стили, получившие свое развитие при суфийских усыпальницах.
Участники радений размещаются согласно иерархии, причем старший суфий выступает руководителем собрания. В некоторых чиштийских группах предусматривается пение песен в заданной последовательности, чтобы вызвать конкретные переживания. Одна такая последовательность начинается с песен, обращенных к Пророку, затем для создания большего эмоционального заряда исполняются песни любви, их сменяют песни мистического самоуничтожения, после чего идут песни о Божественном присутствии. Многие песни посвящены отдельным святым, особенно братства Чи-шти. Ныне ритуал предусматривает подношение бумажных денег (на больших празднествах присутствуют менялы, чтобы обеспечить участников мелкими банкнотами). Те, кому особо близка песня, обращенная к любимому святому, подходят к распорядителю собрания и подносят наличные, которые затем раздаются музыкантам. Если слушатель замечает, что эта песня трогает еще кого-то, он может сначала подойти к этому человеку и вложить деньги ему в руки, так чтобы вместе сделать пожертвование распорядителю собрания. Ничего не подозревающие иностранные ученые, полагающие, что они просто наблюдают за происходящим, оказываются втянуты в ритуал посредством такого приема. Лишь на светских публичных выступлениях зрители дают деньги непосредственно музыкантам.
Подобно ряду других суфийских обычаев, музыка каввали братства Чишти подверглась нападкам мусульманских реформаторов. Влиятельная богословская школа в Деобанде* хотя и была основана консервативно настроенными учеными, воспитанными в традиции Чишти, но на протяжении прошлого столетия оставалась центром основанной на хадисах критики сама как новшества.
Поэтому перед современными представителями братства Чишти встала необходимость защищать законность радений под музыку с позиции исламского права. В Индии и Пакистане часто приходится слышать и такое оправдание каввали: поскольку суфии были великими миссионерами, они прибегали ко всяким ухищрениям, казавшимся им полезными для распространения их проповедей: видя, что индийцы обожают музыку, суфии решили прибегнуть к ней, дабы привлечь их к исламу, хотя и признавая незаконность самой музыки. Это весьма шаткий довод в защиту музыки, ибо он. по сути, признает слушание музыки лишь для мусульман, которые склоняются к исламу. Такая позиция игнорирует заметную роль музыки в раннем исламе и неверно рассматривает суфиев как поборников обращения неверных, несмотря на отсутствие каких-либо ранних свидетельств о наличии у них подобной цели. Она также противоречит самой сути суфийских ритуалов, согласно которым текст разрешалось читать в музыкальном сопровождении исключительно тем избранным представителям мистицизма, которые были в состоянии понять духовно мощный эмоциональный посыл перелагаемой на музыку любовной поэзии. Подобный парадоксальный взгляд на чиштийскую музыку служит еще одним доказательством того, какие горячие споры развернулись сегодня по поводу суфийской практики.
На уровне массовой культуры чиштийская музыка каввали в XX веке значительно расширила свою аудиторию благодаря звукозаписывающей индустрии, поначалу в колониальной Индии, а теперь в международном масштабе. Уже в течение ряда лет крайне прибыльная киноиндустрия Бомбея привлекает в фильмы музыку, основанную на традиции урдуязычнои газели, которая темами, рифмами и размерами тесно связана с поэзией каввали. Различие главным образом определяется светским и коммерческим характером киномузыки. Однако ныне многие стали отмечать засилье бомбейского музыкального стиля на радениях у чиштийских усыпальниц. Спрос на каввали как на получившую широкое признание религиозную музыку в Индии и Пакистане был огромен на протяжении десятков лет, и число ее поклонников уже не ограничивается мусульманами Южной Индии; многие индусы и сикхи наслаждаются этой музыкой в эстрадном исполнении. Начало распространению музыки каввали за пределами Индии и Пакистана положила система сбыта через сеть индийских и пакистанских магазинов в Британии и Америке продукции дочерних предприятий тех же британских фирм (главным образом EMI), которые контролируют музыкальную индустрию в Южной Азии".
* Округ Сахаранпур, штат Прадеш; ведущий мусульманский богословский центр (медресе) Индии, основанный в 1867 году, где ощущается особое влияние ваххабизма.
Круг слушателей каввали на Западе поначалу ограничивался музыковедами, интересующимися народной музыкой. Исполнители каввали на одном и том же концерте могли предстать и как ансамбль народного танца, и как хоровая группа. Лучшие ее исполнители, такие, как Сабри Бразерс и Нусрат Фатех Али Хан, уже на протяжении ряда лет участвуют в концертах и музыкальных фестивалях, проводимых на подмостках Европы, Японии и Америки. Записи музыки каввали (как и другие виды представленной ниже суфийской музыки) стали доступны европейцам. ЮНЕСКО включило значительное количество этих музыкальных произведений в свои выпуски звукозаписи. Поначалу это был «высоколобый» способ представления суфийской музыки в виде эстетического действа, которое мог оценить лишь утонченный и свободный от национальных предрассудков слушатель. В комментариях к записи песен в исполнении Нусрата Фатеха Али Хана, сделанной фирмой «Radio France» в 1989 году, говорится о стремительном взлете его популярности (десять компакт-дисков были выпушены в четырех странах), там же он отмечен как «один из величайших голосов нынешнего века... и на века вперед»; сегодня речь идет уже примерно о ста его записях. Эти европейские записи, учитывая расстояние, отделяющее парижские подмостки от суфийской усыпальницы в Пакистане, часто снабжаются научными переводами текстов песен с сопутствующими замечаниями относительно особенностей музыки.
В последние годы музыка каввали обрела статус мировой популярной музыки. Это новое направление приблизило певцов, ударников и инструменталистов со Среднего Востока, из Африки и Азии к западному слушателю, причем благодаря не только звукозаписям, но и кино («Последнее искушение Христа»). Мировые музыкальные записи по сравнению с европейскими этномузыковедческими более дерзновенны в своем подходе к суфийской музыке, причисляя ее ко всеобщему достоянию; это музыка, под которую можно танцевать. Хотя в сопровождающих мировые музыкальные записи комментариях признается, что стихотворный текст является важной составной частью традиции каввали, там обычно даются лишь минимальные пояснения и редко переводятся слова. Наблюдается существенный отход от прежних условий исполнения чиштийской музыки, когда слова играли ключевую роль (подобным образом полифоническая гармония - многоголосый музыкальный склад — была введена в европейскую церковную музыку на том основании, что та, дескать, облегчала понимание слов гимнов).
Нусрат Фатех Али Хан теперь при создании фонограмм к фильмам сотрудничает с американскими музыкантами, среди которых такие, как Эдди Веддера из группы «Pearl Jam»* (к фильму «Ходячий мертвец», 1995; режиссер Тим Роббинс) и Трент Резнор из придерживающейся стиля индустриальной музыки группы «Nine Inch Nails» (к фильму
«Прирожденные убийцы», 1994; режиссер Оливер Стоун)12. Здесь он выступает как чистый вокалист, без какого-либо узнаваемого текста. Ремикс исполняемой им песни, где прославляется пакистанский суфийский святой: «Мустт, мустт», сделала в 1990 году исполняющая поп-музыку стиля трип-хоп (смесь рэпа и джаза) британская группа «Massive Attack», и песня стала международным танцевальным хитом. Один обозреватель в 1996 году отметил: «Что касается западного слушателя, Хан мог бы спокойно петь содержимое телефонного справочника»13.
* Представляющей альтернативную рок-музыку субстиля грандж (грязный, запущенный), развившегося из панк-рока.
В одном из интервью Хан замечает по поводу того, как он поет перед западной публикой:
«Жители Запада не понимают языка, но они понимают ритм, и это их привлекает. Коль музыка обходится без языка, она интернациональна сама по себе, хотя я встречал многих на Западе, кто знает мой язык. В Пакистане же я стараюсь петь больше поэзии наряду с ритмичной музыкой, поскольку там знают язык»14. Хотя Хан ощущает трение между традиционной музыкой каввали и новой экспериментальной, как музыкант, он не возражает против новых идей. В своем умении сочетать эстрадную деятельность и участие в духовных певческих ритуалах в усыпальницах Хан вовсе не одинок; он продолжает традицию, когда музыканта или поэта могли по-разному воспринимать придворная публика и занятые мистикой слушатели. Не будучи более представителем относящихся к низкому сословию профессиональных исполнителей, прислуживающих высшим представителям духовенства, поэт стал эстрадной звездой.
Другим образцом суфийской музыки, который пленил воображение жителей Запада, была музыка маула-витов для ритуала сама, из-за которого их окрестили вертящимися дервишами15. Данная практика стала известна довольно давно благодаря сообщениям путешественников, и именно танцевальная сторона обряда привлекла внимание наблюдателей. До сих пор маула-витский танец вертящегося дервиша неотделим от его музыкального сопровождения, он и известен под тем же словом, которым называют слушание мушки: сема на турецкий лад. Суфийский орден Маулави был основан в конце XII1 века. Сложная ритуальная служба у современных маулавитов вошла в обиход позже, обретя свой нынешний вид в XVII веке. Конечно, сам Ру-ми, отец основателя ордена, был близко знаком с сама своим постоянным участием в радениях, и его стихи изобилуют упоминаниями о музыке и танце. Однако в его время такие собрания еще не устоялись, там наряду с исполнением музыки подавали еду и питье, а музыкантами были больше профессионалы, нежели сами дервиши. По мере становления ордена выработалась общепринятая форма проведения сама, когда персидские стихи Руми перекладывались на музыку наряду со стихами, прославляющими Пророка, и коранически-ми отрывками. Послушники во время их 1001-дневного испытательного срока вместе с изучением этих стихов упражнялись в танце, постигая науку вращения на месте, когда приходилось кружиться вокруг длинного гвоздя, размещенного между большим и соседним с ним пальцами левой ноги. Музыкальным сопровождением служила игра на щипковом тамбуре, смычковом ребабе и, главное, продольной тростниковой флейте, именуемой нэй или пай, которая играла столь заметную роль в поэзии Руми.
Большинство известного нам музыкального репертуара маулавитов было создано в период с конца XVII по начало XX века, а музыка но стилю перекликается с той, что была создана при османском дворе. Действительно, османский султан Селим III (1761—1808) был маулавитом и написал торжественную музыкальную пьесу, которую переняло братство. В XIX веке маулави-ты в числе двадцати суфийских орденов действовали в Стамбуле, тогда как во всей Османской империи насчитывалось тридцать семь братств. Из трехсот дер-вишских обителей Стамбула четыре принадлежали ма-улавитам"'. Для тогдашних и нынешних западных наблюдателей вертящиеся дервиши стали символом суфизма. Отчасти это можно объяснить замечательным месторасположением галатскою Мехлевихана в Стамбуле, где на протяжении столетий находилась маула-витская обитель.
Однако в XIX веке галатская возвышенность у бухты Золотой Рог стала местом поселения купцов и приезжих, и маулавитская обитель вместе с устраиваемыми дважды в неделю представлениями сема к середине прошлого века стали достопримечательностью, привлекавшей толпы приезжих. Доступ в обитель стал проще после сооружения в 1875 году ка-натно-железной дороги, ведущей на вершину галат-ского холма, а по соседству расположился французский ресторан'7. Удивительно, сколько европейских книг того времени пестрило изображениями дервишей, среди которых особо выделялись картины с вертящимися в танце маулавитами18. Эти картины представляют маулавитских дервишей истинно экзотическими созданиями — в юбках, напоминающих женские, с исступленными лицами.
Все изменилось после революции, которая в 1922 году провозгласила создание Турецкой Республики. Все более ополчаясь против пережитков религиозной средневековой власти, Кемаль Aтатюрк в 1925 году излает закон, запрещающий дервишские ордены и прилюдное совершение их ритуалов. Суфийские обители отошли государству. На маулавитский танец тоже был наложен запрет. Усыпальницу Руми в Конье в 1927 году превратили в государственный музей, действующий и поныне, хотя многие посетители тайно поклоняются ей как священному месту. В конце 1953 года с согласия властей Коньи был возобновлен маулавитский танец, но на условии, что это будет эстрадное представление для туристов. С той поры его исполняют в годовщину смерти Руми, 17 декабря, при огромном стечении народа (использование солнечного григорианского календаря для обозначения даты празднеств указывает на их светский характер, тогда как для большинства праздников святых использовался мусульманский лунный календарь). В последующие годы стали организовываться зарубежные гастроли. Хотя общественное мнение в Турции стало в последнее время более терпимым к вопросам религии, суфизм здесь до сих пор остается под запретом, а суфийские группы уже многие годы подвергаются гонениям.
Маулавитская служба представляет собой довольно сложный ритуал. Она состоит из декламации стиха во славу Пророка, музыкальных импровизаций и исполнения «вертящегося» танца, за этим идет вторая часть из четырех музыкальных и танцевальных разделов, именуемых селам, которые завершаются инструментальной музыкой и рецитацией Корана вместе с творением молитв. Дервиши появляются в белых продолговатых колпаках из войлока, имеющих среднеазиатское происхождение, и с черными накидками; эти накидки сбрасываются во время танца, и дервиши предстают в белых одеяниях*. Такая смена одежд истолковывается как смерть и воскресение. При вращении дервиш держит правую руку обращенной к небу, а левую — к земле. Движения поначалу медленные и величавые с по степенным ускорением в такт музыке, но никогда они не становятся бесконтрольными.
Как и в случае с чиштийской музыкой каввали, перенос маулавитского радения сама на эстрадные подмостки заставляет ломать голову над вопросом о взаимосвязи музыки и духовности. Гастроли 1994 года продемонстрировали напряженность в отношениях между образным, символическим исполнением и мистическим обрядом. Первое отделение концерта в Университете Дьюка, предваряемое рецитацией английских переводов стихов Руми, по существу, представляло собой классическую придворную музыку Османской империи, исполняемую облаченными в европейское платье музыкантами. Это было высокохудожественное зрелище, которое можно наблюдать в концертных залах Стамбула. После перерыва на сцену вышли дервиши и под руководством двух маулавитских старейшин исполнили несколько сцен из сама с инструментальным и вокальным сопровождением. Но кому предназначалось само выступление? Как заметил один обозреватель: «Десять дервишей и двенадцать музыкантов, входящих в состав маулавитского ансамбля, оказались где-то между эстрадными исполнителями и творящими молитву верующими»19. Для публики в целом мау-лавитский танец мог представляться зрелищным видом искусства, своеобразно отличающимся от европейского балета. Для дервишей-танцоров сама может выступать как медитация. Но до какой степени зрелище самого ритуала становится духовным событием?
Длинные рубахи без рукавов.
Другие турецкие суфийские группы также перешли на эстрадные подмостки. Зикр кадиритов можно услышать на компакт-диске, записанном Европейским этнографическим центром. Обряд начинается с молитвенных песнопений на арабском языке, исполняемых монодически, то есть в унисон. Затем идет сольная рецитация чудесным тенором стихотворений на турецком языке, и это происходит на фоне распевающих Символ веры (ла илаха иппа-плак — «нет божества, кроме Бога») мужских басов. Мне довелось видеть выступление этой группы в Стамбуле в 1990 году из деревянного яруса, пристроенного к усыпальнице XVII века. Главное помещение для зикра (и последующая трапеза) были украшены поразительной дервишской атрибутикой, посреди которой красовался плакат, извещающий о прошлогодних европейских гастролях ордена. В тот вечер присутствовала вооруженная осветительной и записывающей аппаратурой группа звукозаписи из этномузыковедческой программы бельгийского радио. Постоянно было слышно, как режиссер звукозаписи делал пренебрежительные замечания, его привлекала музыка, а «суеверие» дервишей представлялось нелепым и смешным. А ведь этот обязательно личный обряд, проводимый с огромной затратой сил после окончания Рамадана, для его участников, естественно, был религиозным действом, актом выражения собственной благочестивости. Покойный Шайх Музаффер возглавлял группу дервишей черрахи- халвати из Стамбула во время международного турне в 1980 году. В самый разгар дервишского танца с музыкальным сопровождением он приглашал духовных искателей из зрительного зала присоединиться к нему на сцене. В подобных ситуациях таится двойственность положения между исполнением и участием, вовлечением в происходящее, и выбор делается согласно собственному видению ситуации. Турецкая музыка лишена такой двойственности, даже сохраняя некоторые черты суфийской музыки.
Помимо суннитских суфийских братств — Кадири, Маулави и Халвати, богатые традиции турецких суфийских музыки и танца существуют в шиитском братстве Бекташи, они до сих пор живы в некоторых общинах. Турецкие алевиты (или нусайриты, родственны сирийским алавитам) составляют шиитский толк численностью около пятнадцати миллионов человек, который считает Али воплощением Бога, даже высшим, чем Пророк. Суннитские духовные власти считали их еретиками, подвергая гонениям: их трезвые и благочестивые музыкальные ритуалы всегда совершаются тайно, среди своих; кроме того, они представлялись подозрительными из-за совместного участия в ритуалах мужчин и женщин. Естественно, алевитская музыка была жестко связана с ритуалами братства Бекташи, поскольку их песенный репертуар включает много стихов, написанных связанными с Бекташи поэтами, такими, как, например, Юнус Эмре, Насими, Пир Султан
Абдал, Хатаи. В последние годы алевитская музыка стала широкодоступна в виде звукозаписей и звучит на турецком национальном радио, пользуясь государственной поддержкой в рамках программы популяризации культуры на национальном языке. В музыкальных ритуалах крайне эзотерических групп, наподобие але-витов или курдской группы «Ахли Хакк», исполнителями музыки являются сами слушатели, и поэтому не может быть и речи о профессиональных музыкантах, играющих для избранной публики20.
Другой связанной с суфизмом группой, которая получила известность на Западе, является марокканское объединение «Master Musicians of Jajouka»-''. Эту группу открыли покинувшие Америку писатели, среди них Брайан Гисин, Пол Баулз* и Уильям Барроуз**. В конце пятидесятых Гисин нанял эту группу играть в своем ресторане «Тысяча и одна ночь» в Танжере, Марокко. Брайан Джонс (1942-1969; ритм-гитарист группы «Роллинг стоунз») посетил музыкантов в 1967 году, и не без его помощи в 1971 году появились их записи.
* Paul Bowles (1910-1999) — автор романа «Под покровом небес» (1949). экранизированного в 1990 году Бертолуччи.
** William S. Burroughs (I9I4-I997) — один из лидеров движения Гмпников, автор романа «Голый
завтрак» (1959), экранизированного Кроненбергом в 1991 году.
Пожалуй. Гисина и Джонса привлекала теория, впервые выдвинутая сто лет назад финским антропологом и востоковедом Эдуардом Вестермарком (1862-1939), согласно которой дикарская марокканская музыка, исполняемая на многоствольной тростниковой флейте, каким-то образом связана с античными греческими мистериями Диониса. Эта теория, похоже, подтверждалась ритуальными танцами, представляющими животных и одержимость духами, которые исполняются во время мусульманского праздника жертвоприношения Авраама — Ид аль-адха*. Наличие сильнодействующего марокканского гашиша на некоторых из этих выступлений, естественно, также привлекаю внимание. С той поры музыканты Джаджуки участвовали в нескольких совместных работах с евро-американскими музыкантами, в том числе с джазовым саксофонистом Орнеттом Коулменом** («Dancing in Your Head», 1977) и с «Роллинг стоунз» («Continental Drift», 1989). Их недавние гастроли проходили с участием джазового барабанщика Пита Лароки и клезмер-бэнда «Клезма-тики» («Klezmatics»)***. Связь группы из Джаджуки с суфизмом покоится на их наследственном занятии в качестве смотрителей и музыкальных исполнителей при древней гробнице Сиди Хмеда Шиха, местного центра паломничества, которому приписывают сильное лечебное воздействие во время еженедельных пятничных служб22.
Музыканты, которые прежде поставляли марокканскому двору исполнителей андалузской музыки, теперь зависят от новой, западной публики, пришедшей на смену их прежним племенным покровителям; в здании их клуба в Джаджуке рядом с фотографией короля Марокко висит изображение Брайана Джонса, они также сочинили песню в его честь с английским припевом: «О, Брайан Джонс, Джаджука обкурилась». Музыканты Джаджуки по-прежнему свою индивидуальность связывают с выступлениями у могилы святого и таким образом утверждают свою связь с суфизмом.
Есть много других традиций суфийской музыки, которых придерживаются в различных регионах. Лишь некоторые из этих традиций привлекли внимание евро- американских этномузыковедов и продюсеров популярной музыки. Музыку марокканского суфийского братства Гнава, имеющую западноафриканские корни, один американский продюсер характеризует как «довольно блюзовую, вроде малийской музыки... Она довольно сердечная и задушевная, врачует душу»21 Баулы, странствующие поэты, поющие бенгальские песни на тантрические и суфийские сюжеты, записывались несколько раз как образец экстатического пения в народной традиции. Есть высокоутонченные направления андалузской арабской музыки, к которой на протяжении веков обращались суфийские ордены в Марокко, ее различные музыкальные лады связывают с лечебным воздействием, согласно сложной физиологической теории, основанной на греко-арабской медицине. Египет имеет живую музыкальную традицию исполнения, связанную с зикром и праздниками святых, почитаемых в суфийских братствах; как показал Эрл Во, египетские исполнители, такие, как, Шайх Ясин, невероятно популярны по их музыкальным записям, куда входят классические арабские произведения суфиев. В Иране такие певцы, как Шахрам Назери, записывают музыкальные переложения персидской поэзии Руми, прибегая к различной исполнительской манере — от дервишских хоров в сопровождении тамбура и классической придворной музыки (в сочинениях Ализаде) до европейских струнных оркестров. Национальный институт фольклора в Пакистане выпустил серию книг и звукозаписей под названием «Суфийская поэзия», где представлено музыкальное исполнение на местных языках. Большинство этих музыкальных традиций не было связано с танцем, за исключением практики, введенной американским суфийским лидером Самюэлом Льюисом, заимствовавшим виды танца и литургии из многих традиций (Dances of Universal Peace). Хотя суфийская музыка зиждется на множестве различных литературных, музыкальных и изобразительных стилей, той основой, которая позволяет нам объединять все это словами суфийская музыка, является обрядовое использование человеческого голоса для декламации стихов, обращенных к Богу, Пророку Мухаммаду и суфийским святым. Массовое тиражирование суфийской музыки для новой аудитории в XX веке и исполнение суфийских музыки и танца на эстрадных подмостках в некоторой степени видоизменили эту духовную практику, сделав ее эстетическим действом на потребу зрителям, где музыка главенствует над словом.
* Тюркск. Курбан-байрам.
** Ornett Coleman (рол. 1930) — зачинатель атонального направления в джазе *** Отевр. клезморим (мн. ч.; земер на иврите означает напев, ме-юдия, а клей'хмер — музыкальные инструменты, букв.: всевозможные мелодии), так н средние века называли группы еврейских бродячих актерон, многие из которых становились учителями танцев у знати; в нынешнее время из еврейской среды стали образовываться группы народной музыки, так называемые клезмер-бэнды.
ГЛАВА 8 Суфизм и современный мир
Станет явною тайна, которая скрыта пока.
Хафиз*
Как мы видели, открытие европейцами того, что они нарекли суфизмом, на протяжении последних двух веков использовалось для нужд западной культуры. Но важнее все же то, что восприятие суфизма как новой грани культуры позволило ему оказаться востребованным и в полной мере оцененным европейцами (и американцами) как раз благодаря тому, что он оказался отделен от чистого ислама. Данная тенденция просматривается и ныне, особенно в сфере массовой культуры, где суфизм приспособили к духовным запросам течения Нью-Эйдж. В мусульманских странах различные идеологические и политические процессы также повлияли на создание особой категории суфизма, которая ныне стала объектом жарких споров. Пройдя через горнило опыта колониализма и европеизированного воспитания, мусульманские модернисты крайне критично относились к суфизму, но не потому, что он чужд исламу; а из-за того, что видели в нем средневековый предрассудок, помеху на пути к обновлению.
Другую позицию занимали европейские колониальные власти: они усматривали в суфийских наставниках и их последователях влиятельную политическую силу, которую следовало приручить и как-то встроить в политическую систему. В период после обретения независимости правительства бывших колоний предприняли значительные усилия, чтобы направить авторитет суфийских усыпальниц и братств в фарватер своей политики. С позиции же движений, которые сплотились в XIX веке вокруг мусульманских реформистов, суфизм, казалось, сулил немалые трудности. Современные наследники подобного взгляда, обычно объединяемые одним словом фундаменталисты, видят в суфизме врага ислама, столь же опасного, как и западный секуляризм. Любопытно, что и востоковеды, и фундаменталисты сходятся во мнении о существовании «золотого века» в истории, удостаивая похвал почивших в Бозе «классических» суфиев и вместе с тем с пренебрежением относясь к более современным представителям традиции. Подобные дискуссии в печати и других средствах массовой информации способствовали невиданной популяризации суфизма, этот процесс начался еще в XIX веке. Как следствие, современные суфийские лидеры вынуждены представлять свою традицию по-новому, сообразуясь с нынешним положением дел: и как мусульманское течение, и как ориентированный на Запад «новый суфизм».
Как и в предыдущих главах, следует и здесь признать, что такая тема, как современный суфизм, стала столь объемной, что для должного ее раскрытия требуется большая исследовательская работа. Прежде всего необходимо рассмотреть суфизм в каждой отдельной стране, где он процветает (см. ниже: «Суфизм и государство»), и было бы крайне желательно пронаблюдать рост и становление суфизма в западных странах. Некоторые писатели дали подробную хронологию становления суфизма в Америке, вплоть до подгрупп, выделившихся из отдельных орденов1. Примеры в настоящей, заключительной главе скорее даются в качестве иллюстрации отличительных черт современного суфизма, нежели ради неумелой попытки воссоздать полную картину рассматриваемого нами предмета.
* * Цит. по: Хафиз. 117 газелей. М.: Наука, 1981. С. 113.
Суфизм и модернизм
Лучшим примером модернистской критики суфизма служит творчество поэта и философа Мухаммада Икбала (1873-1938). Родившийся в колониальной Северной Индии. Икбал отправился в Европу для продолжения образования, где ознакомился с трудами современных мыслителей, в том числе Ниише и Бергсона. Несмотря на свое увлечение персидской литературой и арабским языком, он был убежден в необходимости переосмысления исламского наследия ввиду тех задач, которые высветила европейская мысль. Икбал выразил свои взгляды в ряде блистательных и дерзких стихотворений на персидском и урду и в выступлениях на английском языке, изданных в 1930 году под заглавием «Реконструкция религиозной мысли в исламе». Он ратовал за создание отдельного государства для мусульман британской Индии, и поэтому в Пакистане его считают духовным отцом нации.
Икбал глубоко проникся творчеством отдельных суфийских поэтов, в частности Руми, который выступал в роли проводника во вдохновленном примером Данте путешествии Икбала по небесным сферам, представленном в его «Книге вечности» на персидском языке. Икбал также творчески переосмыслил представления суфийского мученика Халладжа в своем понимании современной теории динамического «я». Но Икбал отверг то, что считал отрицательными проявлениями суфизма, которые охарактеризовал как фатализм, пассивность и неверное представление о растворении человека в единении его с Богом.
Неудовлетворенность Икбала суфизмом вылилась в виде яростных нападок на поэзию Хафиза в поэме «Таинства личности», написанной в 1915 году на персидском языке.
Сторонись пьяницы Хафиза,
Его чаша полна яда смерти.
Нет ничего на его ярмарке, помимо вина -
За два глотка он расстался с тюрбаном.
Он мусульманин, но его вера облачена в одежды неверного.
Он дает слабости имя крепости.
Его музыкальный инструмент сбивает народ с пути.
Будьте независимы от паствы Хафиза,
Остерегайтесь, и еще раз остерегайтесь овец2.
Поэма Икбала вызвала огромный резонанс, нападки на Хафиза встретили решительный отпор. Некоторые индийские авторы написали в ответ персидские стихи, защищая честь суфийской поэзии. Такая реакция свидетельствует о том огромном почтении, с которым относятся в Индии к поэзии Хафиза. В дапьней-ших изданиях поэмы Икбал убрал этот оскорбительный выпад, чтобы завоевать большее число слушателей для проповедуемых им взглядов.
Нападки Икбала на Хафиза отражали недовольство модернистов мистицизмом, которое отождествлялось с квиетистским средневековым обскурантизмом. Тем, кого восхищали западный прогресс, западное обновление, ничто не мешало переложить на плечи «одурманенных» мистикой суфиев ответственность за отсталое положение азиатских стран. Подобное отрицательное отношение к суфизму выражал марокканский философ, писатель и поэт Мохаммед Азиз Лахбаби (1922— 1993)3. Поражает то, насколько критика Икбалом суфизма согласуется с востоковедческими теориями. Возможно, это отчасти объясняется общением Икбала с британскими учеными вроде сэра Томаса Эдварда Арнольда, его учителя в государственном Восточном колледже Лахора, а также учебой в Кембридже и Мюнхене. Придерживаясь старого представления о том, что суфизм есть всего лишь переложение Платона, Икбал привлекает точно те же обвинения, что выдвигались против платоновского идеализма. Он выводит Платона в «Таинствах личности» в образе овцы, пытающейся убедить тигра стать послушным и беззащитным вегетарианцем:
Платон, первый аскет и мудрец, Происходил из овечьего стада.
Он сущая овца, рядящаяся в людское одеянье, Душа суфия преклоняется пред его авторитетом4.
Своими стихами, обращенными к мусульманскому читателю, он хочет поведать, что следует отвергнуть такую овечью покорность и жить, повинуясь своей деятельной природе. Еще более критично Икбал был настроен по отношению к наследным пирам, ведущим происхождение от суфийских святых. Они не лучше ворон, которые устроились в орлиных гнездах великих людей прошлого5. Так что бывает трудно отличить критику суфизма модернистами от уничижительных замечаний востоковедов. Для обеих сторон «золотой век» суфизма представляет некий интерес, но наследники данной традиции несут на себе отпечаток вырождения.
Ввиду научного подхода европейских ученых к проблеме суфизма модернисты в мусульманских странах подпадали под влияние выводов европейских востоковедов: английских, французских, немецких, русских. Трудно переоценить воздействие трудов таких ученых, как Эдвард Дж. Браун, Р. А. Николсон, Игнац Гольдци-эр и Луи Массиньон; их исследовательские работы по исламу и суфизму издавались в переводе на арабский и персидский языки и широко читались в кругах мусульманской интеллигенции. Критика в адрес востоковедческой науки звучала задолго до выхода в 1978 году книги Эдуарда Сайда «Ориентализм», и в этой критике мусульманские ученые указывали на искаженное и враждебное изображение их веры и истории со стороны европейцев (этих обвинений, излагаемых критиками на арабском, персидском и турецком языках, по большому счету не замечали в Европе). Упрощенческий подход к религии, характерный для таких антиклерикальных идеологий, как марксизм, также поставлял подручные средства для нападок и на классический, и на ныне здравствующий суфизм. Особенно трудно поборникам суфизма было отстаивать чудеса. Автор опубликованного в Лахоре в 1953 году английского жизнеописания Шайха Абд аль-Кадира Джилани, обращаясь к скептически настроенным читателям, просто предлагал им подходить с научной меркой ко всем этим поразительным вещам6.
Защитники суфизма ответили на нападки ученых в соответствии с требованиями времени. Глава ордена Чишти Вахид Бахш Сиал (ум. 1995) являет пример суфия, отплатившего западным ученым их же монетой. В своих английских и на языке урду сочинениях он скрупулезно оценил теории и пристрастия европейских исследователей суфизма. Во-первых, он обрушился на них за склонность отделять суфизм от ислама. Более трети его книги «Исламский суфизм» посвящено опровержению «мифа о чужеродных корнях суфизма»7. Во-вторых, вооружившись научной риторикой, он использовал ее для подрыва позиции критикующих религию секуляристов. В первом абзаце введения к его книге провозглашается следующий подход:
«Суфизм и наука стремятся к одной цели. Наука хочет ответить на вопросы: каким образом вселенная обретает свое бытие и какова ее природа? существует ли Творец? каков Он? где Он пребывает? связан ли Он со вселенной? как Он связан с человеком? возможно ли для человека приблизиться к Нему? Суфизм отыскал эти ответы и приглашает ученых прийти и получить это знание».
Это риторика, основанная на постижениях медицины, науки и техники. В Европе со времен Конта подобной словесной эквилибристикой пользовались для утверждения ненужности религии. Подобно другим мусульманским апологетам, призвавшим на помощь язык науки, Вахид Бахш старается побить противника его же оружием8. Несмотря на то что многие суфийские вожди, как будет показано ниже, сумели приспособить таким способом свои учения к современной эпохе, модернизму (будь то религиозный или светский) претят духовный авторитет, институты и практика суфизма9.
Название книги Вахида Бахша «Исламский суфизм» свидетельствует о намерении утвердить исламскую самобытность наряду с суфийской традицией. Столь явно выраженное соединение двух спорных понятий происходит постоянно на страницах выступающих в защиту суфизма сочинений, написанных как на европейских языках, так и на языках с арабским письмом. Востоковеды вроде Николсона истолковывали тасав-вуф как общее понятие «для обозначения всякого рода мистицизма»10. До определенного момента мусульманские авторы безоговорочно принимали такое определение. Пакистанский ученый Б.А Дар использовал слово тасаввуф в данном значении в заглавии своей книги на урду о доисламском мистицизме, опубликованной в 1962 году при поддержке государственного Института исламской культуры; сама книга почти целиком основывается на взглядах англоязычных ученых начала XX века". Более позднее исследование на урду другого пакистанского ученого, Латифа Аллаха, опубликованное в 1990 году тем же самым пакистанским институтом, явно оспаривает представление о тасав-вуфе как общем для мистицизма понятии. Данный автор, выступая с позиции чишти, утверждает, что суфизм не является чем-то чуждым, присовокупленным к исламу, но, напротив, исконно присущ ему; новое понятие (сиррийат, от слова сирр — секрет) чеканится в качестве разменной монеты для английского слова мистицизм12. Для тех, кто критически настроен к востоковедению и его модернистскому аналогу у мусульман, утверждение исламской индивидуальности суфизма является важной задачей.
Суфизм и государство
К 1920 году все мусульманские страны, за исключением четырех (Персия, Саудовская Аравия, Афганистан и Турция), были завоеваны и обращены в колонии иностранными державами, большей частью из христианской Европы. В ходе этих событий, начало которым было положено еще в предыдущем столетии, под колониальным гнетом оказалось огромное множество мусульманских народов по всему миру. В ряде областей суфийские ордены были наиболее крепкими местными институтами, сохранившимися даже после свержения европейцами местных правителей. Как раз по этой причине суфийские братства сумели стать оплотом антиколониального сопротивления. Об их борьбе в Алжире, на Кавказе и в Судане уже говорилось выше (см. главу 1). К этому можно добавить пример ордена Сануси в Ливии и Западном Судане, который четыре года вел борьбу против французских и итальянских захватчиков. Вождь сануситов шейх Сиди Мухаммад Идрис* после Первой мировой войны был сослан в Египет, но позже, в 1951 году, с помощью британцев его провозгласили королем Ливии. Это ливийское королевство было устроено на основе суфийского ордена. Произведенный Муаммаром Каддафи переворот покончил с королевской властью. Полутеократические государства Фута Джаллон** и Фута Торо*** в Западной Африке в XVIII и XIX веках служили примерами способности суфийских орденов выступать в качестве основы общественного строя и антиколониального сопротивления. В Турции последней каплей, приведшей к роспуску дервишских орденов, оказалось курдское восстание под предводительством накшбан-дийского шейха. В современной Чечне участники антироссийской борьбы ради сплочения своих рядов взывают к памяти суфиев, сопротивлявшихся войскам Российской империи в XIX веке.
Аль-Махди ас-Сануси (1890-1983). * Территория нынешней Гвинеи. ** Территория нынешнего Сенегала.
Так что колониальные власти вполне сознавати, что суфийские ордены представляют собой хорошо организованные и объединенные общими интересами группы. Их страх перед силой суфийских орденов был вполне обоснованным. Прежние правители мусульманских государственных образований знали, что тесные узы доверия между наставником и учеником могли соперничать с авторитетом царской власти. Династия Сафавидов, правившая в Иране с 1501 по 1732 год, пришла к власти с помощью союза племенных групп, основанного на преданности связанной с шиизмом суфийской линии преемственности. Глубоко приверженные суннизму османские правители крайне подозрительно относились к шиитским группам, усматривая в них возможную пятую колонну для Сафавидов.
Когда власти распустили в 1826 году янычарское придворное войско после подавления поднятого им мятежа, они тем самым нанесли чувствительный удар по тесно связанному с этим воинским корпусом (и приверженному шиизму) суфийскому братству Бекгаши. Поэтому не удивительно, что в колониальный период суфийские братства могли высгупать оппозиционной силой. К 1900 году французские колониальные власти заметили, что их вторжение и завоевание Алжира по-настояшему укрепили влиятельный суфийский орден Рахмани, в котором они видели алжирскую национальную церковь11.
Для улучшения действенности управления завоеванными территориями колониальные власти финансировали изучение настроений своих подданных. Хотя академические востоковедческие круги в европейских университетах обычно довольствовались изучением «классических» суфийских текстов, колониальным властям приходилось воочию сталкиваться с существующими в обществе реалиями. В связи с этим они иногда обращались за помощью к опытным востоковедам для проведения живого, натурного исследования мусульманской среды, как это было в случае с изучением Христианом Снук-Хюргронье (1857-1936) ачехцев*, проводимым для голландских властей Ост-Индии (Индонезия) в 1894 году, после ряда восстаний14. Как раз на основе этих источников появились первые полуантропологические исследования суфизма и усыпальниц святых старцев. Большинство материалов по суфизму, полученных в колониальный период, скрываются в государственных архивах и чиновничьих отчетах. Однако значительная часть их все же доступна современному исследователю, как, например, официальные вестники британских колониальных властей Индии и французские изыскания в Северной Африке.
В этих сведениях о тогдашнем суфизме и усыпальницах святых попеременно звучат то снисходительные оценки, то тревога. С одной стороны, эти группы считают образцом отсталости и суеверий, которые характерны для более низких культур; с другой — представляющими опасность. Поражает, как постколониальные власти независимых государств зачастую наследуют те же самые подходы.
Политическое отношение колониальных властей к суфизму любопытным образом сказывается на изображении современных фундаменталистских групп в средствах массовой информации и в сообщениях военной разведки. Иначе говоря, суфийские вожди тогда (подобно фундаменталистским вождям сегодня) виделись фанатиками, которые способны вызывать у своих последователей иррациональное, слепое повиновение и которых ничто не может остановить. Подобный расхожий взгляд известен на Западе еще с тех пор, как Марко Поло доверчиво пересказывал историю о предводителе ассасинов, приказавшем своим ревностным последователям прыгать со скалы, чтобы доказать свою преданность. Разница лишь в том, что сейчас источником фанатизма скорее видится идеология, нежели харизматический авторитет предводителей. Настораживает в этих историях то, что они могут послужить политическим целям. Иными словами, если центральная политическая власть имеет возможность изобразить оппозицию в виде безумных последователей опасного культа, это может придать вид законности и необходимости любых ее шагов, которые она сочтет приемлемыми для расправы с преступной группой. Вот почему громче всех кричат об опасности исламского фундаментализма страны со светской властью (Египет, Израиль, Алжир, Тунис), заинтересованные в получении военной помощи от склонных к истерии западных правительств.
Или ачины; населяют северную оконечность острова Суматра.
Западные средства массовой информации, которым исторически чуждо мусульманское общество, содействуют этому процессу, принимая всерьез саморекламу фундаменталистских вождей. В XIX веке западная истерия была направлена против антиколониальных суфийских групп. Достаточно взглянуть на ту массированную пропаганду, которую устроили в Британии по поводу мессианского восстания суданских махди в 80-е годы XIX века, чтобы увидеть, какой ужас наводили эти «дервиши» на власть имущих. В художественной литературе редко встретишь положительный образ суфийского политического вождя.
Приведу примеры, когда суфийские институты с успехом встраивались в структуры колониальной власти. К видным суфийским вождям индийского Пенджаба принадлежали наследные смотрители суфийских усыпальниц, а также учителя с разветвленной сетью учеников, строящейся в соответствии с племенной принадлежностью15. Признавая наследных пиров в качестве местной знати, британские власти даже укрепили их авторитет и, что удивительно, ввели в правительство; несмотря на проводимую ими политику нейтралитета по отношению к религии, колониальные чиновники в итоге оказались тесно связанными с управлением и даже с религиозной деятельностью вокруг суфийских усыпальниц. Британцам приходилось быть посредниками в разрешении споров, касающихся наследования в главных суфийских святилищах, в принятии решений, которые существенным образом отражались на местном уровне. Некоторые пиры продвигались на политическом поприще, используя свое влияние, например, для вербовки солдат в британскую армию во время Первой мировой войны. Несмотря на близкие отношения суфийских лидеров с британской властью, в решающий момент они сыграли важнейшую роль в победе пакистанского движения за независимость. В свободном Пакистане суфийские вожди продолжали активно участвовать в выборах, имея большую поддержку среди сельского населения и опираясь на разветвленную сеть своих последователей. Пример сотрудничества суфийской группы с колониальными властями представляет собой деятельность сенегальского ордена Муриди, который посредством своей разветвленной сети контролировал рынок земляных орехов как в колониальный период, так и после завоевания независимости. Хорошие отношения с французскими, а позже с сенегальскими властями были важны для успеха этого ордена в мирских делах.
Большинство стран, где преобладает мусульманское население, обрели независимость после Второй мировой войны. Новые власти по-своему, но продолжали вести политику колониальных властей. Колониальные правительства старались исключить или нейтрализовать противоборствующие авторитеты и сосредоточить у себя все властные полномочия. Бывшие колонии наследовали авторитарную форму правления, при которой нежелательны оппозиционные силы. Во многих мусульманских странах имеются особые правительственные ведомства, которым поручено следить за деятельностью суфийских институтов. В Египте таким учреждением является ведомство, именуемое Маджлис ас-Суфийа, или Собрание суфиев, которому поручено присматривать примерно за восемьюдесятью «официальными» суфийскими братствами. В то же время некоторые известные суфийские ордены не имеют государственной поддержки, например находящееся в Судане братство Бурхани численностью в несколько миллионов человек16.
Попытку государства осуществлять контроль за суфийскими орденами следует увязывать с национализмом. В Пакистане политические лидеры, такие, как Аюб Хана и 3. Бхутто, пытались поставить суфийские усыпальницы на службу национальной идеологии. Праздники у гробниц известных суфийских святых постоянно удостаивали своим вниманием местные губернаторы и даже премьер-министр, которые в своих славословиях говорили, что эти святые старцы были провозвестниками исламского государства Пакистан. На чиновничьем уровне эти отношения выражаются в передаче министерству попечения полномочий по надзору за деятельностью и финансовыми средствами главных суфийских святилищ. Это же ведомство отвечает за публикацию официально утвержденных биографий пользующихся известностью святых, а также пособий по отправлению культа, тем самым показывая, каковы официально одобренные формы суфизма17.
Поскольку ислам был тем основным признаком, согласно которому Пакистан отделялся от Индии, то любопытно наблюдать совсем иной подход в Индии к исламскому наследию живущего там довольно значительного мусульманского меньшинства. Обыкновенно это выражается в восхвалении суфизма как образца религиозной терпимости. Недавний труд, посвященный суфиям пакистанской провинции Синд, опубликованный министерством печати индийского правительства, утверждает, что суфии не являются истинными мусульманами ввиду отсутствия у них фанатизма; напротив, они ратуют за светский национализм, который лежит в основе официальной политики партии Индийский национальный конгресс18. Снятый кинематографическим отделом индийского министерства печати в 1994 году фильм «Лампа в нише» уподобляет суфизм индуистскому культу бхакти, и там часто слышатся направленные против религиозной ограниченности и фанатизма стихи Кабира.
Особняком в XX веке стоит попытка советской власти установить контроль над суфизмом. Провозгласив политику атеизма, советское правительство стремилось сдерживать проявление любых форм религиозного движения, разрешив деятельность лишь небольшого числа полностью послушных и официально одобренных религиозных функционеров. Совсем немногим мусульманским представителям было позволено заниматься религиозной деятельностью в Среднеазиатском регионе, в то же время переводы Корана были недоступны — якобы ради сохранения чистоты священного арабского текста. Несмотря на то что суфийские собрания и ритуалы были под запретом, суфизм, похоже, продолжал оставаться основной формой неофициального ислама в Советском Союзе, главным образом на Кавказе и в Средней Азии. Советские востоковеды, от которых требовалась верность марксистско-ленинской идеологии, при обсуждении суфизма вынуждены были следовать проводимому властями курсу19. В постсоветский период суфийские усыпальницы Узбекистана, в частности гробница Баха ад-Дина Накшбанда в Бухаре, приобрели особое, символическое значение в утверждении новой культурной и национальной самобытности.
Не следует забывать, что суфизм должен быть официально признан и ведомствами правительства Соединенных Штатов. Прерогативой признавать религиозные верования в США обладают суды, налоговое ведомство и иммиграционная служба. Последователи одного турецкого суфийского вождя, которые хотели, чтобы тот приехал в США, несколько .ict назад просили меня написать письмо от его имени в иммиграционную службу. В этом письме я должен был указать, что тот является настоящим религиозным учителем и на этом основании может получить въездную визу, а позже и вид на жительство. Меня просили сделать это на основе ознакомления с родословной посвящения, которая давала линию преемственности данного шейха в его ордене. Само такое обращение к американскому ученому с просьбой удостоверить, что некий турецкий суфийский наставник является таковым на самом деле, выглядело несколько обескураживающе. Прежде всего, по американскому закону эта роль отводится госдепартаменту. Во-вторых, документ с родословной, или генеалогическим древом, который я смотрел, был фотокопирован и затем сброшюрован, так что он представлял собой продукт современной технологии. В-третьих, этому суфийскому учителю по закону было запрещено заниматься подобной деятельностью у себя на родине, где он официально числится учителем народных танцев: суфизм до сих пор остается в Турции под запретом. Очевидно, что все это не имеет никакого отношения к внутренней жизни суфизма, но данный пример показывает, как определяют и контролируют суфизм государственные власти даже в Америке. Важно не упускать из виду эти политические и социальные аспекты суфизма. Те, кто считает мистицизм личным делом и кто прежде всего смотрит на суфизм сквозь призму его поэзии или теоретических трудов, чувствуют, что военные действия и экономическая деятельность не согласуются с образом внутреннего мистического опыта. С этой точки зрения всякое приспосабливание к политической власти является нарушением чистоты учения. Однако трудно согласовать подобную сугубо внемирскую позицию с историей и учениями суфизма. Как гласит известное изречение: «Суфизм — это сугубо практическая этика (адаб)». Предписанная этика, которая неотделима от суфийской риторики, не может быть претворена в жизнь обособленно живущими отшельниками. Суфиям постоянно напоминает об этом пример Пророка Мухаммада, выступающего в роли не только общественного и политического вождя, но и в качестве образца мистика. Хотя между суфизмом и миром наблюдается определенная напряженность, наиболее драматично проявляемая в раскаянии, с которого начинается путь к духовным стоянкам, суфизм в большой степени является общественным явлением, которое трудно отделить от остального мира.
Суфизм и фундаменталистский ислам
Хотя исламский фундаментализм, без сомнения, является наиболее часто обсуждаемым в западных средствах массовой информации проявлением ислама, к сожалению, он известен нам не лучше, чем другие стороны исламской культуры. Путаница в обращении с этими понятиями заставляет рядового читателя отождествлять их; он начинает думать, что все мусульмане обязательно фундаменталисты. Хотя обычно и признается существование христианских фундаменталистов (само это выражение появилось в Лос-Лндже-лесе в начале XX века), пресса фактически отдала исключительное право на это слово мусульманским фундаменталистам. Поскольку данному понятию присуща негативная окраска, вероятно, полученная в то время, когда оно олицетворяло ополчившиеся против дарвинизма силы на процессе Скопса*. мусульмане, которых заклеймили этим словом, по праву негодуют против этого. Тем не менее, если его четко определить, фундаментализм можно использовать как описательное понятие с особым значением в разнообразных религиозных контекстах. Брюс Лоуренс определяет его как антимодернистскую идеологию, основанную на выборочном толковании Писания и широко используемую мужской верхушкой тех сил, что вынуждены в силу оттеснения их на второстепенные позиции высту пать в роли оппозиции государству20.
Важно отметить, что антимодернист (antimodernist) — это вовсе не ретроград (antimodern), фундаменталисты просто прекрасно освоили современную технологию и современные приемы политической борьбы. Они настроены против секуляристской идеологии, которая изгоняет религию из общественной жизни; будучи антимодернистами, они неизбежно оказываются не ретроградами, а современно мыслящими людьми.
Обоснованность притязаний фундаментализма к суфизму заложена в основе их верований. Избирательное толкование Писания, на котором зиждется авторитет фундаментализма, не может позволить иных толкований. Поскольку фундаменталисты обычно считают свои толкования буквальными, а значит, неоспоримо верными, любого рода психологическое или мистическое толкование священного текста представляет главную угрозу монополии, которую те хотят утвердить для традиции. Уже отмечалось, что западные журна1исты зачастую довольствуются принятием толкования, исходящего от мусульманских фундаменталистов как единственно верных хранителей традиции. Читая большинство сообщений средств массовой информации, никогда не догадаешься, что фундаменталисты обычно составляют не более двадцати процентов мусульман и что это соотношение так же верно и для фундаменталистов христианского, индусского и буддийского мира.
* Так называемый «обезьяний процесс» — вдохновленный фундаменталистами суд над учителем Скопсом в Дайтоне, штат Теннесси, в 1925 году, после которого им удалось добиться официального запрета преподавания учения Дарвина в ряде штатов.
Подобно ангажированным публицистам, которые пытаются формировать общественное мнение посредством собственных комментариев, защитники фундаментализма стараются посредством разглагольствований о противостоянии всем и вся утверждать себя единственными выразителями ислама. Чтобы преуспеть в этом, они должны дискредитировать и лишить права голоса всех прочих претендентов на авторитет в исламской традиции. И в этом хоре претендентов самый сильный голос принадлежит суфизму. Современные исследования мусульманского фундаментализма редко отмечают данное обстоятельство, предпочитая вместо этого выделять противостояние с европейским колониализмом и светским государством как непосредственную причину возникновения этой идеологии. Но основное, раннее фундаменталистское движение — ваххабизм, захлестнувший Аравию в XIX веке. -не имело ничего общего с противостоянием Европе. Хотя сопротивление османскому владычеству могло сыграть здесь некую роль, те события были порождены религиозной борьбой между ваххабитами и суфиями за обладание главными религиозными символами. Фундаменталисты утверждали своей целью господство символа ислама.
Примечательно, что многие вожди мусульманского фундаментализма возвысились в условиях, когда суфизм занимал видное положение. И Хасан аль-Банна, основатель организации «Братья-мусульмане» в Египте, и Абу аль-Ала Маудуди, основатель индо- пакистан-ской партии Джамаат-и-ислами (Общество ислама), с юных лет были очень близки к властным структурам суфийских орденов. Из их сочинений ясно видно, что они восхищались организационной силой суфийских орденов и постарались окружить себя тем же ореолом, что отличат суфийского наставника по отношению к ученикам. Однако они не приняли ни одной из духовных практик суфизма и особенно решительно отвергли представление о всяком посредничестве святых между Богом и обычными людьми. Пытаясь удалить исторические наслоения и вернуть чистоту исламу времен Пророка, фундаменталисты отвергли ритуал и местные культурные видоизменения суфизма как противоречащие исламу. С политической точки зрения следует признать, что фундаменталисты верно оценили своих оппонентов. Никакая другая группа не имела столь сильного влияния на мусульманское общество и его духовность, как суфийские ордены и святые гробницы.
Представление об исламе, утверждаемое фундаменталистскими кругами, не только внешне походит на фундаменталистские формы христианства. В обоих течениях история и традиция приносятся в жертву стремлению вернуть исходную чистоту и исконный облик религии, какой она была во времена ее основателя. Религия, таким образом, становится исключительно доктринальной и вырывается из ткани текущей жизни. Фундаменталисты же страстно противятся подобному обособлению религии, именно по этой причине приходится постоянно слышать, что «ислам не просто религия — это образ жизни». Столь рьяная попытка вернуться к ушедшему «золотому веку», увы, обречена. Риторика фундаментализма - это представление о многочисленных других религиях как о соперничающих идеологиях; выход из этого затруднительного положения фундаменталистам видится простой: уничтожить всех своих соперников. Рядовой мусульманин ощущает, что подобный подход чреват экстремизмом. Само понятие исламский в арабском языке все чаще отдают на откуп (иногда с некоторой долей иронии) фундаменталистам.
Можно привести много примеров противостояния фундаменталистов и суфиев в течение двух веков — от индонезийского движения Даква(х) (индонез. мусульманская проповедь) до преследования суфийских орденов в революционном Иране. Одним из ранних примеров служит ряд дебатов, устроенных Шайхом Ахмадом ибн Идрисом, крайне влиятельным суфийским реформатором в Северной Африке, когда тот совершал паломничество в Аравию на заре становления ваххабизма21. С тех пор такого рода дебаты продолжают определять образ жизни мусульман. Несколько лет назад я был свидетелем подобного спора, когда меня пригласили выступить с речью в одном государственном университете на тему исламских корней суфизма. Пригласивший меня пакистанский приятель, учившийся на доктора философии в области технических наук, был членом суфийского ордена. В местном Союзе мусульманских студентов верховодили саудовцы, поскольку они выделяли изрядное количество денег на стипендии студентам и оплачивали расходы союза. Моего друга подвергали остракизму за его суфийскую деятельность, которая в глазах саудовцев делала его хуже неверною. Не зная данной ситуации, я рассуждал об исламских истоках, из которых вышел суфизм; ни один из них не оспаривается современной наукой, и я использовал их в качестве исходного материала для своей книги но суфизму. После моего выступления, которое было внимательно выслушано, мне в категоричном тоне стал возражать один из присутствующих, представляя свою собственную точку зрения. «Все, что вы сказали, - сообщил он мне и слушателям, -сплошная ложь». Согласно его взглядам, утверждать, что в суфизме есть нечто от ислама, - чистой воды ересь. Заново очищенный символ ислама не должен иметь ничего общею со святыми старцами, чудесами, музыкой и бесконечными местными обычаями и верованиями, которые и придают неповторимый облик всему сонму мусульманских культур в мире.
Оглашение тайны
Пожалуй, главнейшей причиной стремительного роста интереса к суфизму в XIX и
XX веках явилось обнародование этого учения современными средствами информации. Сегодня суфийские ордены и усыпальницы в мусульманских странах издают непрерывным потоком литературу, предназначенную для последователей всех уровней — от рядового приверженца до ученого. Подобно тому как индустрия звукозаписи сделала доступными закрытые ритуалы сама для массового слушателя, появление техники печати и литографии сделало возможным распространение суфийских учений в масштабах, далеко превосходящих возможности переписчиков. Труды Ибн Араби впервые появились в печатном виде в конце XIX века; неожиданно сочинение, которое ранее существовало лишь в сотне рукописных списков (и поэтому было труднодоступно), теперь стало легко купить в книжной лавке по соседству благодаря тысячному тиражу22. Хотя полной ясности еще нет, но, согласно имеющимся свидетельствам, в главных издательских центрах мусульманских стран в XIX веке (Каир, Стамбул, Тегеран и Дели/Лакхнау) основными заказчиками печатной продукции, помимо правительства, были суфийские ордены23.
Явление суфизма массам произошло как раз в то время, когда суфизм превратился в отвлеченный предмет, отделенный от ислама в востоковедческих штудиях и заклейменный реформистами как неисламское нововведение. Некоторые из этих публикаций явились непосредственным ответом на трактовку суфизма востоковедами, фундаменталистами и модернистами. Здесь можно отыскать не только издания классических суфийских текстов, но и сочинения современных суфийских вождей, включая беседы, выступления и очерки, биографии, молитвенную и созерцательную практики и пособия по использованию содержащих Божьи имена оберегов и заговоров (тает). Среди этих публикаций также встречались готовые формы родословных с пустыми местами в конце для вписывания туда будущим посвященным и наставником своих имен. Появление всех этих книг на мировом книжном рынке способствовало широчайшему распространению суфизма.
Благодаря печатным изданиям сегодня можно познакомиться с этим учением с помощью научных публикаций университетов западного образца, научных обществ и культурных центров, финансируемых правительствами во многих мусульманских странах. По формату и манере изложения эти труды преимущественно выдержаны в традиции европейского академического востоковедения, европейского образца знаки препинания, сноски и редакционные приемы в значительной степени взяты на сооружение при издании текстов с арабским письмом. В отличие от рукописей, представляющих культурную ценность и доступных лишь немногим, печатная продукция удовлетворяет запросы массовой аудитории, порожденные государственным всеобщим образованием. Доступ к манускриптам в предыдущие эпохи был затруднен, а ошибки переписчиков требовали сравнивать различные рукописи, печатное же дело привело не только к легкодоступное™ книг, но и к стандартизации самого текста. Поэтому, когда, например, представитель Университета аль-Азхар, что в Египте, издает классический суфийский текст, он воспроизводит опыт сочинителя XI века для современного читателя, опираясь на официально признанный печатный текст как часть арабской «завещанной» литературы (что соответствует нашему понятию «классическая»). Использование в качестве образца единого, общепризнанного печатного текста — еще один способ защиты суфизма от выпадов со стороны как фундаменталистов, так и секуляристов западного образца. В странах вроде Пакистана, где оба языка, арабский и персидский, считаются «классическими», немало усилий прилагается для перевода всего корпуса арабской и персидской суфийской литературы на урду. Подобно классическим греческим трудам Аристотеля и Еврипида в оксфордских книжных лавках, арабские суфийские труды Сарраджа, Кушайри и Сухраварди теперь можно отыскать в переводах на урду на полках книжных магазинов в Лахоре. Их блистательная мудрость делает их союзниками в деле защиты суфизма от посягательств идеологических противников.
Хотя работы в этом направлении проделано пока мало, биографические источники могут дать ценные сведения о роли печати в становлении современной формы суфизма. Мы можем узнать, как чиштийский вождь Зауки Шах (ум. 1951) до своего обращения к суфизму окончил университет и работал в англоязычной газете. Он писал газетные статьи всю жизнь как на урду, так и на английском языке. Его сочинения посвящены таким современным темам, как расовая теория, фундаментализм, сравнительное религиеведение и пакистанское националистическое движение. Самое примечательное, что его основной преемник Шайх Шахидуллах Фариди (ум. 1978) был обращенным в ислам уроженцем Британии (настоящая фамилия Лен-нард), который прибыл в Пакистан, прочитав английские переводы трудов по суфизму. Его беседы на урду, продиктованные в Карачи в 70-е годы, до сих пор имеются в продаже. Международное распространение печатных книг и периодических изданий занимало особое место в жизни обоих суфиев. Часто говорится о заметном воздействии книгопечатания на такие события, как протестантская Реформация и становление национализма, но роль книгопечатания в становлении современного суфизма еще нуждается в освещении.
Особая роль в распространении суфизма в нынешнем веке принадлежит периодике. В Южной Азии, например, газеты на урду сыграли важную роль в развитии мусульманского самосознания. Артур Бюлер показал, как современный накшбандский учитель Джамаат Али Ша.х руководил своим движением посредством «Анвар-е Суфийя» («Суфийский свет»), периодического издания для последователей суфизма. Обязательная подписка для учеников сочеталась с жестко расписанной программой поездок самого Джамаата Али Шаха, что позволяло ему благодаря современной технике общаться с обширной сетью своих последователей24. Египетский журнал «Марифа» («Гнозис») публиковал в 30-е годы арабские переводы статей французского эзотерика Рене Генона*, тем самым предоставляя трибуну школе мысли «вечной философии»* в арабском мире. В сегодняшней Америке англоязычные периодические издания, распространяемые суфийскими братствами из Ирана и других стран, служат местом встречи как для учеников, так и для ученых мужей25.
* Генон (Guenon) Репе (1886-1951) — французский философ и писатель, представитель эзотерического традиционализма. Рассматривал религиозно-мистические традиции Запада и Востока (католичество, масонство, суфизм, даосизм, веданта) как различные выражения некой единой эзотерической истины. Принял ислам под именем Абд-аль ВахедЯхья («Служитель единого») и с 1934 года жил в Каире.
Другой сугубо современный вид печатной продукции — роман — на исходе XIX века приобретает известность и в мусульманских странах. Этот литературный жанр, в котором уживаются интерес к личности и критика нравов, тоже привлекается для пропаганды суфийских взглядов. Упомянутый выше Зауки Шах из Южной Азии написал в 1920 году мистический роман па урду под названием «Вино и чаша». Изображенная в нем культурная панорама весьма обширна: от картин колониального Бомбея до воображаемых бесед с мо-гольским правителем Шах-Джаханом** (1592-1666), с частыми извлечениями из персидской мистической поэзии.
Он вызвал неописуемый восторг у склонного к суфизму поэта Акбара Илахабади, который заметил: «В бутылку с содовой Вы добавили воду |мекканского| источника Замзам!» Чиштийский вождь Хасан Низами, который был связан с усыпальницей Низам ад-Дина Аулийи в Дели, также прославился своими суфийского склада историческими романами, а также газетными публикациями на урду. Написанный на турецком языке роман «Hyp Баба» Я куба Кадри Караосма-ноглу (1889-1974) изображает дервиша из ордена Бек-таши, дурно повлиявшего на женщину из высшей османской знати; его публикация в 1922 году, думается, ускорила запрещение дервишских орденов26. Немного позже турецкий романист Орхан Памук использовал целую гачерею суфийских образов в своих сочинениях, особенно в «Черной книге». Нобелевский лауреат египетский писатель Нагиб Махфуз (род. 1911) обращался к суфийским деятелям, включая поэта Ибн аль- Фари-да, в таком произведении, как «Вор и псы»27. Во многих своих романах к суфийской образности прибегает англичанка Дорис Мей Лессинг (род. 1919). Научно- фантастический роман американца Фрэнка Херберта (1920-1986) «Дюна»*** нашпигован смутными реминисценциями суфизма. В американских суфийских кругах полное приключений повествование в форме романа является особо любимым средством для обсуждения суфийской проблематики28.
К концу XX века знакомство с суфизмом шло через визуальные и электронные средства информации. Большая часть профессионально снятых фильмов о суфизме подпала под определение этнографической или культурной документалистики, хотя правительства некоторых стран (Турция, Индия, Узбекистан) субсидировали создание фильмов, где суфийские святые и связанная с суфиями культура предстают неотъемлемой чертой облика нации29.
Наличие кино- и видеокамер позволяет уже на протяжении ряда лет записывать беседы суфийских учителей. Такой род видеозаписи, похоже, используется прежде всего для внутренних надобностей самих суфийских групп и ради сохранения этих бесед для потомков. Но недавний бум с появлением в сети Интернет страничек по суфизму и онлайновых конференций показывает, что в век электронной информации суфизм становится широкодоступным. Всемирная паутина (World Wide Web) позволяет всем желающим завести свою страничку, не нуждаясь в благословении какой-либо религиозной структуры. Соответственно, это способствует разгулу анархии и в целом антиавторитарным настроениям. Линия, что разделяет суфийские группы в Интернете, определяется тем, солидаризируются ли они прежде всего с исламской символикой и религиозной практикой; хотя подобного права выбора не существовало в прежнюю эпоху, он представляется ключевым моментом в спорах, ведущихся на конференциях в Интернете по поводу природы суфизма. Интернет также является поставщиком познавательных книг и звукозаписей, касающихся суфизма, так что он берет на себя функции рынка распространения суфизма.
* Philosophia perennis (лат.) — 1) Непреходящая основа философии, сохраняющаяся во всех учениях. Так называли свою философию томисты (с характерной для них опорой на Аристотеля, утверждением прав рассудочного знания наряду с интуитивным). 2) Понятие, сформулированное О, Хаксли в сочинении «Perennial philosophy» (1946) и утверждающее сущностное различие между духовным и материальным, бессмертной душой и бренным телом, миром «вечных идей» и «чувственным и плотским миром».
** Построил мавзолей Тадж-Махал в память о своей жене.
*** Экранизирован в 1984 году Дэвидом Линчем.
Открытие суфизма широким массам посредством печатных и электронных средств информации вызвало существенный сдвиг в самой традиции. Теперь поборники суфизма могут защищать свое наследство, обнародовав опровержения фундаменталистских или модернистских нападок на суфизм. В этом смысле средства массовой информации позволяют оспаривать и защищать суфизм прилюдно, как идеологию наряду с прочими идеологиями. Показателен в этом отношении, например, случай с публикациями богословской школы бхарелви в Южной Азии, где отстаивалась религиозная практика суфизма в ответ на нападки школы деобанд, апеллирующей к Священному Писанию. Вместе с тем более интимные литературные жанры, наподобие романа, позволяют выразить личные духовные чаяния, которые можно сообщить большой аудитории посредством сопереживания, создаваемого дыханием самого повествования. Жизнеописания и диалоги также могут завязать доверительные отношения между читателями и суфийскими наставниками; хотя такому предназначению служили прежде те же самые литературные жанры, расходящиеся только в виде списков, повсеместное распространение книгопечатания значительно расширило читательскую аудиторию. Вследствие воздействия этих современных средств массовой информации суфизм больше не представляет собой некую эзотерическую общность, существующую в основном за счет непосредственного общения, обрядовых взаимоотношений и устного наставления. Отныне он заявляет о себе через массовые издания, современные литературные жанры и электронные технологии — со всеми изменениями в личных отношениях, которые влекут за собой эти средства массовой информации.
Новый стиль суфийского руководства
Обсуждая формы авторитета, обычные для прежних святых суфийского ордена
Чишти из Южной Азии, Брюс Лоуренс выделяет восемь неизменных парадоксальных черт, в которых, по-видимому, отражаются характерные особенности этих святых:
«1. Родившийся в уважаемой мусульманской семье святой должен быть движим желанием отыскать суфийского наставника, дабы усовершенствовать свою исламскую веру. Поэтому среди индийских наставников суфизма не встретишь представителей низших сословий, в отличие от их иранских и арабских собратьев.
2. Воспитанный на Коране, хадисе, богословии и суфийской поэзии, святой должен уметь внутренним чутьем разпознавать истины, скрытые за написанным словом, а зачастую обретающиеся вне самого слова.
3. Получивший посвящение у шейха, которого он считает единственным для себя проводником Божественной благодати, святой должен стремиться обрести свой собственный уровень духовного совершенства, нередко посредством сурового поста и длительного созерцания.
4. Живя в уединении от других, святой должен постоянно прислушиваться к нуждам своих собратьев-мусульман или, по меньшей мере, к нуждам, выказываемым его учениками и посетителями его обители.
5. Женатый и отец семейства, он должен быть целомудрен нравом и душевным расположением.
6. Способный совершать чудеса, он должен по возможности утаивать их.
7. Склонный к экстазу, будь то в тихом уединении либо под действием музыки или стихов в обществе других суфиев, святой должен уметь помнить и исполнять свои обязанности мусульманина.
8. Избегая общества мирян — купцов, военных и государственных чиновников, включая царей, — он должен жить поблизости от них (то есть рядом с городом) и входить в сношения с ними через посредство своих светских учеников»30.
Не каждый ранний святой ордена Чишти обладал всеми этими качествами, но их можно рассматривать как некое собрание тех черт, которые послужили бы идеалом суфийского святого.
Рассматривая образцы руководства и авторитета в суфизме сегодня, с удивлением видишь, что многие характеристики из представленного выше перечня можно отыскать у современных суфийских вождей. Однако условия жизни неузнаваемо изменились по всему миру. Глобализация экономики сопровождается глобализацией культуры, что переиначило и такие духовные традиции, как суфизм. Суфийские вожди, если они не желали сохранить уединение и безвестность, должны были общаться с тем, что мы именуем современным миром. Поэтому в современном суфизме можно наблюдать ряд дополнительных черт, отсутствовавших в прежнем суфизме. Как и в случае с упомянутыми выше особенностями ранних суфийских вождей, эти дополнительные современные черты присуши не всем нынешним суфийским толкам, но в общем они определяют отличительный облик суфизма, который можно обыкновенно наблюдать сейчас, а именно отражающий религиозные, научные, технические и общественно- культурные проявления новейшего времени. Ограниченность места не позволяет дать полную картину, но некоторые общие замечания по каждому из этих проявлений не помешают.
Современные суфийские группы вынуждены определяться с тем, как они связаны с «главным течением» ислама, и может оказаться, что никак. В прошлом суфиям редко случалось даже помыслить о другом выборе, помимо ислама. На уровне теоретического и литературного мистицизма отыщутся сущие единицы примеров еврейского суфизма, наподобие Обадия бен Абрахама (ум. 1265), внука Маймонида (1135-1204), и христианского суфизма Раймунда Луллия (ум. 1316). Чтение арабской суфийской литературы оказало сильное влияние на обоих этих авторов, вдохновив на сочинение в том же духе новых трудов, обращенных к их единомышленникам. Что касается суфийских орденов, в Индии мы отыщем немного примеров среди индусов досовременной эпохи, которые прошли посвящение у чиштийских наставников, не будучи прежде обращены в ислам, таких случаев крайне мало, и они совершенно нетипичны. На неофициальном уровне многие немусульмане общались с суфийскими святыми старцами, и на уровне личного восприятия те произвели на них сильное впечатление. Например, это случилось с христианами и евреями, присутствовавшими на похоронах Руми: в последние века османского владычества многие христиане и евреи таким образом взаимодействовали с суфизмом. Порой то же самое происходило и с зороастрийцами в Иране. Подобного рода отношений придерживаются и поныне многие индусы и сикхи, посещая суфийские усыпальницы в Индии. Все это стало возможным благодаря самой духовной природе суфизма, который стремится сгладить внешние различия. Тем не менее вплоть до XX века воспитанный в духе Корана и примера Мухаммада суфий едва ли нуждался в том, чтобы определиться в отношении ислама. Но поскольку ислам в узком его понимании определялся как правовая и идеологическая система, раздающаяся с обеих сторон — со стороны востоковедов и со стороны фундаменталистов — критика суфизма вынудила суфиев оправдываться в отношении священных источников собственного учения. Конечно, нападки на отдельные суфийские обычаи или доктрины происходили и прежде, но никогда еще не ставилась под сомнение религиозная составляющая суфизма.
Сегодня, особенно в западных странах, суфийским группам приходится определяться со своей позицией относительно принадлежности к исламу. Некоторые строго придерживаются исламского закона и ритуала, и такая приверженность часто сочетается с принятием одежды и образа поведения, принятых в стране, откуда происходит данная группа. Другие группы более уступчивы к прозелитам, полагая, что тех можно постепенно приучать к внешним проявлениям религии, после того как они проникнутся духом этой религии, ее внутренним выражением. Но есть группы, где явно отказываются от исламского права и символики, видя в суфизме воплощение того, что присуще всем религиям. Наиболее показательным примером подобного универсалистского подхода служат жизнь и наследие Хазрата Инаят Хана (1882-1927). Он прибыл на Запад в начале нынешнего века. Будучи одновременно музыкантом и суфием братства Чишти, Хазрат Хан путешествовал по Европе и Америке с исполнением классической индийской музыки. Столкнувшись с необходимостью обозначить свою религиозную позицию, он представился суфием, предложив суфизм в качестве универсальной религии, не связанной с исламским ритуалом и исламскими правовыми нормами. Основа такой позиции была отчасти заложена значительно раньше европейскими учеными, которые рассматривали суфизм как своего рода мистицизм. Но что важнее, универсализм был внутренне присущ самому суфизму, как и исламской традиции, которая признает, что каждому народу был послан пророк. Во всех мусульманских сообществах наблюдалась преемственность с доисламскими культурами, которая служила свидетельством того, что исламская культура никогда не была исключительно исламской.
Религиозные перемены просматриваются и в том, что суфийские вожди вынуждены теперь определяться относительно других религиозных традиций, выходя за пределы своих исконных территорий и сталкиваясь с другими суфийскими орденами в своем рвении к суфийскому экуменизму. В многонациональных государствах, наподобие Соединенных Штатов Америки, суфийских вождей ныне часто приглашают на смешанные собрания, с одновременным присутствием наставников дзэн, тибетских лам, индийских йогинов, христианских монахов и еврейских хасидов. В ряде случаев они устанавливают весьма благожелательные отношения с представителями этих религиозных традиций. Вербовка новых приверженцев вынудила суфийские братства покинуть пределы своих исконных земель и отправиться осваивать новые места; в результате пакистанские Чишти, например, отыскали много последователей в Малайзии, а иранские ниматтулахиты основали новые очаги своей веры в Западной Африке, Европе и Северной Америке. Особо знаменательными событиями стали встречи различных суфийских орденов — в частности, происходящие с 1994 года на ежегодных собраниях суфиев в американском штате Северная Каролина пол эгидой между народного объединения суфизма; здесь встречаются десятки суфийских групп для обмена мнениями и проведения зикра. Орден Маулави с его своеобразным танцем тоже, похоже, служит своего рода поводом для примирения различных суфийских групп, когда, например, собираются отметить даты рождения и смерти Руми. Различными суфийскими группами к тому же организуются социальные службы для предоставления медицинской помощи и прочих видов услуг населению.
Другим ответом на вышеозначенную религиозную дилемму стала традиционалистская позиция, порой именуемая Perennial philosophy, своего рода реакция на колониализм и модернизм; данную позицию взяли на вооружение принявшие ислам европейцы, а также часть интеллигенции в мусульманских странах31. Эта школа мысли, представленная Ренс Гсноном, Фритьофом Шёном и С. X. Насром, предлагает концепцию первозданной Божественной традиции как источника всех религий, в сравнении с которой светский современный мир оказывается отклонением и вырождением. Опираясь на католический традиционализм с его критикой модернизма, представители традиционалистской школы все же обычно считают ислам наиболее жизнеспособной сегодня религией. Такая позиция позволяет рассматривать суфизм в экуменическом свете, как частный пример универсального мистицизма.
Традиционалистский подход оказался привлекательным и для таких мыслителей, как Олдос Хаксли и Хьюстон Смит. Хотя традиционалистская школа разделяет оценку иных религий со стороны менее доктринальных форм универсалистского суфизма, свойственные ей сугубо метафизические взгляды и резкое противостояние модернизму ставят ее особняком от других подходов к суфизму.
Совершенно иным откликом на вызов модернизма, как уже отмечалось, явилось принятие на вооружение научной риторики. Некоторые суфийские вожди взялись за изучение университетских наук, особенно психологии. Д-р Джава Нурбахш возглавлял кафедру психиатрии в Тегеранском университете. Психология составляет один из ключевых моментов учения Пира Вилаята Хана, чей центр в Нью-Лебаноне, штат Нью-
Йорк, предлагает на выбор различные курсы и практические занятия. Но больше всего на этом поприще преуспел Идрис Шах, с которым, пожалуй, никто из ныне живущих не в силах тягаться по количеству изданных книг, где предлагается сплав суфизма с психологией. Идрис Шах не принадлежит к традиционному суфийскому ордену, напротив, он работал с Дж. Г. Беннеттом в Англии, который, в свою очередь, развивал связанные с суфизмом учения П. Д. Успенского (1877-1947) и Г. И. Гурджиева (1877- 1949). Он представляет суфизм не как мистический ислам, но в виде психологического способа постижения реальности. Его окружение походит на суфийский орден в том отношении, что последователи видят в нем воплощение живого авторитета, призванного распространять идеи суфизма. Некоторые из его многочисленных творений, особенно рассказы о мулле Насреддине, представляют не эзотерическое учение, а скорее народные предания. Но психология оказывается не единственным научным занятием суфиев. Шайх
Фадлаллах Хаери, родом из Ирака, предводитель суфиев в Америке со штаб-квартирой в Техасе, был прежде инженером. Хазрат Шах Махсуд Садех Анха, ныне предводитель иранского ордена Овейсси-Шахмахсуди в Калифорнии, учился в Америке по специальности «теоретическая физика и математика». В его поэтическом творчестве присутствуют не только традиционные темы любви и вина, но также ссылки на Эйнштейна и его теорию относительности. За всеми этими религиозными и философскими тенденциями следует видеть те изменения, что привнесли в суфизм технический прогресс и массовая культура. Самым ранним упоминанием плакатных средств пропаганды, которое мне довелось увидеть в суфийской литературе, было крайне критическое замечание Шаха Гулама Али, наставника ордена Накшбанди, жившего в Индии в начале XIX века. Его возмутил рассказ одного из учеников о том, что изображения святых (очевидно, отпечатанные) продавались в Великой делийской мечети1.
Несмотря на его возмущение, такого рода массовые изделия встречаются сегодня на любом празднике святых в Южной Азии (изображение одного из таких плакатов см. на с. 108). Печатная и киноиндустрия, о которых говорилось выше, служат наглядным примером того, как массовое производство можно приспособить для широкого внедрения своих идей; магнитофонные записи и компакт-диски знакомят с суфийской музыкой все большие аудитории. Некоторые достижения технического прогресса ставятся на службу отправлению культа. Можно видеть, как поклоняются фотографии суфийского наставника. В некоторых группах можно приобрести медальон с микропленкой арабской молитвы великого шейха, сходный по своему действию с написанными от руки молитвами и крохотными Коранами, что носились в виде амулетов в прежние времена. Последователи Бавы Му-хайадина снимали на видеопленку буквально все его выступления, и тем самым удалось запечатлеть тысячи часов его бесед (на тамильском языке с английским переводом). Одна такая видеопленка с особо важным сообщением, касающимся суфийской практики и молитвы, показывается каждый год в то же самое время, когда оно впервые прозвучало. Новым показательным признаком массовой индустрии является логотип, охраняемый авторским правом графический знак, который как бы удостоверяет суфийские группы в их публикациях. Например, группы, связанные с Хазратом Инаят Ханом, свои издания удостоверяют образом крылатого сердца, а изображением дервишского посоха отмечают свои публикации братство Ниматуллахи и другие иранские ордены.
Самые большие перемены, с которыми приходится сталкиваться суфизму на Западе, связаны с социально-культурной сферой, поскольку именно в ней заключены недоктринальные стороны религиозной жизни. Высокая оценка музыки и поэзии суфизма, естественно, вызывает интерес к языку их родины (арабский, персидский, турецкий, урду, тамильский). Увлеченные этим учением люди могут даже надевать те или иные соответственные традиционные одежды, пусть и по особым случаям. Национальная еда также позволяет ошутить принадлежность к обшине и почувствовать себя участником ритуала. Но особенность суфизма как привнесенной извне духовности заставляет осознавать его культурное своеобразие. Те. кто действительно глубоко проникся духовными традициями Среднего Востока или Индии, как правило, начинают, порой исподволь, критически относиться к местным ценностям. Даже наиболее миролюбиво настроенные суфийские учителя, например Хазрат Инаят Хан, могли быть крайне резкими в своей оценке таких типично современных западных пороков, как расизм. Но пожалуй, наибольшее своеобразие в становлении суфизма на Западе наблюдается в сфере половых отношений. Большинство мусульманских сообществ, где суфизм был влиятельной силой, прибегали к некоторому роду половой сегрегации. Суфийские наставницы и женщины- святые, насколько нам известно, были редкостью в прежние времена. Но царящие в современном западном обществе нравы иные, и поэтому там вполне можно видеть совместное участие мужчин и женщин в обрядах, музыкальных представлениях и других мероприятиях, устраиваемых суфийскими орденами. В некоторых суфийских группах женщины порой занимают главенствующие позиции. Подобно тому как американские женщины играют заметную и новаторскую роль в развитии буддизма у себя на родине, вполне можно ожидать, что суфизм на Западе обратит особое внимание на возможность продвижения женщин.
Рассматривая все перемены, которые произошли в суфийских традициях при их внедрении в структуру общества на протяжении прошлого столетия, нетрудно заметить различия по сравнению с прежними временами. Суфизм подвергается нападкам со стороны модернистов и фундаменталистов, деятельность его приверженцев контролируется государством, сам он распространяется усилиями орденов и подвергается переоценке с использованием новых религиозных, научных, технических, логических и социальных понятий. Естественно, есть и те, кому не нравятся эти перемены и кто видит в них злосчастные уступки тяжелым временам. Однако следует проявлять осторожность, перенимая взгляд, согласно которому «золотой век» — это непременно далекое прошлое. Подобная позиция особо уязвима, когда речь заходит о политических доводах, выражается ли она в пуризме востоковедов, которые видят истинный суфизм исключительно в текстах, или в требовании минимума уступок со стороны фундаменталистов, которые восхваляют ранних суфиев как добродетельных мусульман, клеймя при этом весь современный суфизм как извращение истинного ислама. Суфизм, подобно исламу, является спорным понятием, он вовлечен в культурные распри между евро-американским и мусульманским миром, хотя и служит одним из тех немногих мостков, что переброшены между этими культурами. Во времена, когда Иран был наиболее ненавистен американцам, удивительно было наблюдать среди них невиданную популярность великого персидского поэта Руми. Возможно, суфизм все еще хранит тайну человеческого сердца, которая поможет людям выйти за пределы, разделяющие индивидуальное и коллективное «эго». Как раз это чувство запредельного пытался выразить в изваянии, названном «Ибн Араби, суфий на веки вечные», сирийский скульптор Мустафа Али (см. с. 20). Прибегая к предписывающим нравственным определениям суфизма, нам следует в завершение предоставить слово парадоксу и запредельному: «Суфий — это тот, кого нет»".
Примечания
Предисловие
1. Jane I. Smith, An Historical and Semantic Study of the Term 'Islam' as Seen in a Sequence of Qur'an Commentaries. Гарвардские диссертации в сборнике Religion. I (Missoula, Mont.: Scholars Press.1975). esp. pp. 226-227.
2. William C. Chittick, The Faith and Practice of Islam: Three Sufi Texts (Albany: State University of New York Press, 1992), pp. 165-179. Читтик в конце дает определение суфизма просто как «быть благочестивым мусульманином».
3. Убедиться в необозримости литературы по суфизму на европейских языках можно, если заглянуть в книгу LesVotesa" Allah: Lesordresmystiquesdans Г islamdesoriginesaaujourd'hui, под ред.Alexandre Popovic и Gilles Veinstein (Paris: Fayard. 1996). и в обширную статью «Tasawwuf» из нового издания Энциклопедии ислама (Leiden: E. J. Brill).
/. Что такое суфизм?
1. Sir William Jones. «The Sixth Discourse. On the Persians», Works (London, 1807), 3, pp. 130-132.
2. Jones, «On the Mystical Poetry of the Persians and Hindus», Works, 4, pp. 220-221.
3. Colonel Sir John Malcolm, The History of Persia, from the Most Earlv Period to ihe Present Time: Containing an Account of the Religion. Government, Usages, and Character of the Inhabitants of Thai Kingdom (2 vols., London: John Murray, 1815). 2, p. 382.
4. Там же. 2, p. 383.
5. Там же, 2, p. 402.
6. Mountstuart Elphinstone, An Account of the Kingdom of Caubul (London, 1815; репринтное изд., Karachi: Oxford University Press, 1972), 1. p. 273.
7. John Leyden, «On the Rosheniah Sect, and its Founder Bayezi'dAns^ri», Asiatic Researches II (1810), pp. 363-428. Лейден представил «философские идеи, которых придерживались суфии»,как учение о существовании единственного Бога, как принцип ненасилия и как призыв к обретению Божественной природы и пророческого дара (р. 379).
8. Lt. James William Graham. «A Treatise on Sufism. or Mahomedan Mysticism», Transactions of the Literarv Society of Bomba\ I (1819),p. 90-91.
9. Frid. Aug. Deofidus Tholuck, Suftsmus, sive iheosophia Persarum pantheistica (Berlin: Ferd. Duemmler, 1821), pp. vi, n. 1; vii, n. 2.
10. Там же, р. 54, 70.
11. Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, пер. Franz Rosenthal, под ред. N. J. Dawood, Bollingen Series (Princeton: Princeton University Press, 1969), p. 358; см. также pp. 359-367.
12. В качестве примера см. статью «Sufi» в книге: Thomas Patrick Hughes, A Dictionary of Islam (London, 1885; репринтное изд., Delhi:Oriental Publishers, 1973), pp. 608-622. Эта статья бережно воспро изводит все теории и предубеждения ориенталистики XIX века.
13. 'Abd Allah Ansari, Tabaaatal-sufiyya(Разряды суфиев), под ред. Husayn Ahi (Tehran: Intisharat-i Furughi, 1362/1983), p. 7.
14. Shihab al-Din Abu Hafs 'Umar al-Suhrawardi, 'Awarif al-ma'arif (Дарыпознания), под ред. 'Abd al-HaJim Mahmud и Mahmud ibn al-Sharif (2 vols., Cairo: Matba'at al-Sa'ada, 1971), I, p. 214.
15. Abu al-Qasim 'Abd al-Karim al-Qushayri, al-Risala al-Qushaynyya (Посланиеаль-Кушайри), под ред. 'Abd al-Halim Mahmud и Mahmud ibn al-Sharif (Cairo: Dar al-Kutub al-Haditha, 1972-1974). p. 20.
16. Там же, pp. 550-557.
17. См., например, Javad Nurbakhsh, Sufism: Meaning, Knowledge, and Unity (New York: Khaniqahi-Nimaiullahi Publications, 1981), pp. 11-41.
18. 'Ali Hujwiri, Kashfal-mahjub (Раскрытие скрытого за завесой), под ред. Ahmad 'Ali Shah (Lahore: llahi Bakhsh Muhammad Jalalal-Din, 1342/1923). p. 6.
19. Там же, р. 32.
20. Adahal-muluk/I bayanhaqa'iqal-tasawwuf (Благопристойности царей: разъяснение существа суфизма), под ред. Bernd Ratkc, Bciruter Texte und Studien, 37 (Beirut/Stuttgart: Franz Steincr Vcrlag, 1991), pp. 5-6.
21. Baha' al-Din Khurramshahi, Hafiz nama: sharh-i alfaz, a'lam, imifcilum-i kalidi wa abvat-i di.thvar-i Hafiz (КнигаХафиза: разъяснениякасательнопонятий, имен, ключевыхпредставленийитемныхстиховХафиза) (Tehran: Intisharat-i 'Ilmi и Farhangi. 1373/1995), no. 191. p. 1038, lines I, 8. см. для сравнения также р. 138-140.
2. Священные источники суфизма
1. Paul Nwyia, «Le Tafsir mystique attribue a Ga'far Sadiq»,
MelangestierUniversiteSaint-Joseph, 43 (1968), p. 37, воспроизведено в книге: Abu 'Abd al-
Rahman al-Sulami, Majmu'a-iathar (Собрание трудов), под ред. Nasr Allah Purjavadi (2 vols., Tehran: Markaz-i Nashr-i Danishgahi. 1369-1372/1991-1994), 1. p. 48.
2. Abu llamid Muhammad ibn Abi Bakr Ibrahim Farid al-Din 'Altar Nishapuri. Kitah ladhkirai al-awliya', под ред. Reynold Alleync Nicholson (2 vols., 5th ed.. Tehran: Intisharat-i Markazi. n.d.). I, p. 136.
3. Abu al-Fadl Rashid al-Din al-Maybudi, Kaslifal-asrar wa 'uddat al-abrar (Раскрытиетайниприпасыд./яблагочестивых), под ред.'АН Asghar Hikmat (10 vols., Tehran: Danishgah-i Tihran. n.d.), 3,pp. 793-794.
4. См. мою статью «Mystical Language and the Teaching Context in the Earlv Sufi Lexico7ns» в книге: Mysticism and Language, под ред. Steven Т. Katz (Oxford: Oxford University Press. 1992), pp. 181-201.
5. Abu Nasr 'Abdallah B. 'Ali al-Sarraj al-Tusi, Kitah al-Luma' fi'lTasamvuf (Самоеблистательноевсуфизме), под ред. Reynold Alleyne Nicholson (London, 1914. репринтное изд., London, Luzac & Co., 1964), pp. 181-201. 6. Badi' al-Zaman Furuzanfar, Ahadith-i maihnawi (Отражение xaдисоввжанремаснави), Intisharat-i Damshgah-i Tihran, 283 (Tehran: Chapkhana-i Danishgah, 1334/1956), no 42, pp. 18-19 (цитируется al-Jami' al-saghir [Джами-кудесник]). Этот важный образцовый труд содержит свыше семисот речении-хадисов, которые обыгрывает Руми в своей «Поэме о сути всего сущего» (Месневи-и манави).
7. Там же, по. 70. р. 29 (приводится такими суфиями, как Наджм ад-Дин Дайа, но не принимается Ибн Таймийа и другими).
8. Там же, по. 342, р. 113 (приводится Biharal-anwar).
9. Там же, по. 301, р. 102 (приводится Ахмад ибн Ханбал). Один вариант предания заканчивается словами «когда Адам пребывал между водой и прахом (глиной)».
10 Там же, по. 163. р. 63 (приводится аль-Бухари).
11 Относительно комментария по данному речению см.: Henry Corbin. Creative Imagination in the Sitfism of Ibn 'Arabi, перевод Ralph Manheim. Bollingen Series 91 (Princeton: Princeton University Press. 1969), pp. 272-281.
12. Furuzanf'ar, no 346. p. 114-115 (цитируются Ахмад ибн Ханбал, аль-Бухари и аль-Муслим).
13. Annemaric Schimmcl, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill: Universily of North Carolina Press. 1975) pp. 6, 142.
14. Jalal al-Din Muhammad Balkhi [Rumi]. Masnavi, под ред. и комментарии Muhammad Isti'lami (6 vols., Tehran: Zavvar, 1370/1991), I, p. 9 (book 1, verse 6).
3. Святые и святость.
1. Peter Brown. The Cull of the Saints: Its Rise and Function in iMtin Christianity (Chicago: University of Chicago Press, 1982), pp. 56-64.
2. Qushayri, 2. pp. 520-525
3. Ru/,bihan Baqli. Shurh-ishuilnyyat (Толкования к исступленным речениям), под ред. Henry Corbin, Bibliotheque Iranienne. no. 12 (Tehran: Dcpartement d'lranolo-gie de 1'lnstitut Franco-lranicn.1966), p. 10.
4. Qushayri, 2, p. 522.
5. A. J Wcnsinck, The Muslim Creed: Its Genesis am! Historical Development (Cambridge, 1932; репринтное изд. New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1979). pp. 193, 224, цитируется Фикх Акбар 2.
6. Michel Chodkiewic/. Seal of the Saints: Prophethood and Sainthood in the Doctrine of Ibn 'Arabi. перевод Liadain Shcrrard (Cambridge: Islamic Texts Society, 1993).
7. Ru/.bihan Baqli. The Unveiling of Secrets: Diary of a Sufi Master, пер. Carl W. Ernst (Chapel Hill. N.C.: Parvardigar Press. 1997), paragraph 5
8. Adab al-muluk, p. 34.
9. Sulami, Tabaqat al-sufiyya, pp. 48-49.
10. 'Attar, Tadhkirat al-awliya'. 1, p. 246.
11. Muhammad Dara Shikuh, Sakinat al-awliya' (Корабльсвятых), под ред. Muhammad Jalali Na'ini (Tehran. 1344/1965). pp. 129-131. Более полный вариант моего перевода был ранее опубликован и в сборнике: Religions of India: In Practice, под ред. Donald S. Lope/,,Jr., Princeton Readings in Religions (Princeton University Press, 1995).pp. 509-512.
12. 'Attar, Tadhkirat al-awliya', 2, pp. 122-123.
13. См. мою книгу: Words of Ecstasy in Suftsm (Albany: SUNY .Seriesin Islam, SUNY Press, 1985), pp. 102-110.
14. Ibn 'Arabi, al-f-'utuhat al-makkiyya (Мекканскиеоткровения) (4 vols., Beirut: Dar Sadir, n d.). I, p. 98-99.
15. Приведено из моей статьи «An Indo-Persian Guide to Sufi Shrine Pilgrimage» в книге: Manifestations of Sainthood in Islam, подред Grace Martin Smith, пом. ред. Carl \V. Ernst (Istanbul: The Isis Press, 1994), pp. 60-61.
16. Advertisement for Awliya'allah ke zimla kirishmai. ккниге: Kariini Islamibari taqwim Bumba'i 1408 (Bombay: Karimi Press. 1408/1988).
4. Имена Бога, созерцаете u мистический опыт.
1.Anthony Welch, Calligraphy in the Arts of the Muslim World (Folkestone, Kent:. Dawson, 1979), p. 22.
2. Burhan al-Din Gharib. Ahsan al-aqwal (Лучшие речения), подборка Hammad al- Din Kashani (Persian MS, Khuldabad), pp. 111-112.
3. The Way of Abu Madyan. пер. Vincent J. Cornell. Golden Palm Series (Cambridge: The Islamic Texts Society. 1996). p. 74
4. Burhan al-Din Gharib. p. I 12.
5. Hughes, A Dictionary of Islam, p. 471.
6. Shams al-Din Ahmad al-Aflaki al-'Arifi, Manaqib al-'cirifin (Деянии гностиков), под ред. Tahsin Yazici (2 vols., Ankara: Turk Tarih Kurumu Basimcvi, 1976-1980), 1, p. 272.
7. G. C. Anawati and Louis Gardet, Mystique inusulmane: aspects eltendances — experiences et techniques (4-е изд., Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1986), pp. 188-189.
8. Ibn 'Ala' Allah al-Sikandari, Miftah al-falah wet misbah al-urwah (Ключ к спасению и светоч духа) (Egypt: Matba'at Mustafa al-Bahial-Halabi waAwladuh, 1381/1961), p. 4.
9. Там же, р. 28-29.
10.Там же, р. 34—36.
11. Там же, р. 50.
12.Освещение суфийской метафизики и космологии дается в трудах таких авторов, как Henry Corbin, Seyyed Hossein Nasr, William Chittick, James Morris, Michel Chodkiewicz, и в специализированных статьях подобно тем, что собраны в двух сборниках: ред.Leonard Lewisohn: Classical Persian Sufism from Its Origins to Riimi(New York: Khaniqahi Nimatullahi Publications, 1993). и The Legacy of Medieval Persian Sufism (New York: Khaniqahi- Nimatullahi Publications, 1992).
13.Ru/bihan Baqli, Mttslak al-tawhid (Путь единения), ред. Paul Ballanfat. §4.
14.Ibn 'Ala' Allah, p. 52.
15.Abu Madyan, пер. Cornell, p. 58.
16. Shaqiq al-Balkhi, Adub al-'ibadat (Обходительность поклонения), в книге: Train (tuvres tnedites de mystiques musulmans: Saqiqal-Balhi. Ibn 'Ala, Niffari, под ред. Paul Nwyia (2nd ed., Beirut: Darel-Machreq Editeurs SARL. 1982;, pp. 17-20.
17. Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' 'ulum al-din (Воскрешение наук о вере) (Cairo: Dar al- Shu'ab. n.d.), 4, p. 2598.
18. См. мою статью «The Stages of Love in Persian Sufism, from Rabi'a to Ru/.bihan» в книге: Classical Persian Sufism from Its Origins to Rumi, ред. Leonard Lewisohn. pp. 435-455.
19. Louis Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane. Etudes Musulmanes, 2 (new ed.. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1968). p. 41. Книга была недавно переведена: Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic Mysticism (Notre Dame. Ind.: University of Notre Dame Press, 1994).
20. Paul Nwyia, Exegese coranique et langage mystique, Nouvel essaistir le lexique technique des irnstiqiies mtistilinanes (Beirut: Dar el-Machreq Editeurs. 1970). pp. 170-173.
21. См.: al-Qushayri. Principles of Sufism. переводА. R. von Schlegell (Berkeley: Mizan Press. 1990), сокращенный перевод, куда входит раздел о духовных стоянках, состоящий из сорока трех глав.
22. Лучшее описание данной системы созерцания представлено в книге: Jamal J.
Elias, The Throne Carrier of God: The Life and Thought of 'Ala' ad-dawla as-Simnani (Albany: State University of New York Press, 1995). особенно с. 79-99, 119-146, на котором и основывается последующий рассказ (крайне урезанный). См. также книгу: Henry Corbin, The Man of Light in Iranian Sufism, пер. Nancy Pearson (Boulder: Shambhala Publications, 1978).
23. Muhammad Dhawqi Shah. Sirr-i dilbaran ( Тайна уверовавших) (4-е изд., Karachi: Mahfil-i Dhawqiyya, 1405/1985). pp. 298-299
24. Nuruddtn Abdurrahman-i IsfaraymT. Le Revelateur des mysteres: Kdshif al-Asrar, ред. и пер. Hermann Landolt (Paris: Verdier, 1986), p. 101 (текст на фарси), pp. 44-45 (французский перевод), цитируется Джибраил Хуррамабади.
25. Сложная аргументация, на которой основывается данный раздел, подробно приводится во введении к моей книге, которая скоро увидит свет: The Pool of Nectar: Islamic Interpretations of Yoga (State University of New York Press).
26. Ibn 'Arabi. Journey to the Lord of Power: A Sufi Manual on Retreat, пер. Rabia
Harris (Rochester Vt.: Inner Traditions. 1981), pp. 29-30.
27. Ruzbihan Baqli. Kashf al-anwar. § 164, приводится в моей книге:Ruibihan Baqli: Mystical Experience and the Rhetoric of Sainthood in Persian Sufism, Curzon Sufi Series (London: Curzon Press, 1996), p. 44.
28. Ruzbihan Baqli, Kashf al-asrar (Раскрытие таинств), § 78. Образчики словаря мистического опыта см. в моей книге: Ruzbihan Baqli, pp. 32-35.
29. 'Ahd al-Rahman Jami. Nafahat al-uns (Дуновение тесной дружбы l/o чертогов святости]), под ред. Mahdi Tawhidipur (Tehran, 1336/1957). p. 479; приводится Наджиб ад- Дин Бузхуш (ум. 1280).
30. William Donkin, The Wayfarers: An Account of the Work of Meher Baba with the God-Intoxicated, and Also with Advanced Souls, Sadlws, and the Poor (San Francisco, 1969; репринтное изд.. Myrtle Beach, S.C., 1985).
31. Ruzbihan, Sharh-i shathiyvat. pp. 134-135. Подробнее об исступленных речениях см. мою книгу: Words of Ecstasy in Sufism, SUNY Series in Islam (Albany: State University of New York Press, 1985).
5. Суфийские ордены:наставничество,ученичество и посвящение.
1. Marshall G. S. Hodgsori, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, vol. 2, The Expansion of Islam in the Middle Periods (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), p. 218.
2. Depont, X. Coppolani, Les confreries religieuses musulinanes (Algiers, 1897).
3. Muhammad ibn 'Ali al-Sanusi al-Khattabi al-Hasani al-Idrisi;a/-Silsabil al-ma'in fil- tara'iq al-arba'in (Cairo: n.p., 1989), p. 6.
4. Suhrawardi, 'Awarif, 1, p. 252. Слово, переведенное как «внушает» (йулаккину, корень лкн), в некоторых рукописях читается как «оплодотворяет» (иалакху, корень лкх).
5. Muslih al-Din Sa'di, Gulistan (Розовый сад), 2.16, Kulliyyat (Полное собрание сочинений), под ред. Muhammad 'Ali Furughi (Tehran: Sazman-i Intisharat-i Javidan, n.d.), p. 115.
6. Арабское женское окончание -ийа, которое мы находим, к примеру, в слове кадирийа, предполагает слово танка — путь, в выражении алъ-танка аль-кадирийа — путь Кадирийа. Ради удобства можно также пользоваться мужской формой и говорить об ордене Кадири.
7. Burhan al-Din Gharib, pp. 82-83.
8. Для последующего изложения я опирался на богатое идеями исследование: Ahmet Т. Karamustafa, God's Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period, 1200-1550 (Salt Lake City: University of Utah Press, 1994).
9. Выражение взято из книги: Fazlur Rahman, Islam (2nd ed., Chicago: University of Chicago Press, 1979), p 153.
10. J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam (Oxford: Oxford University Press, 1971), pp. 2, 70-71.
11. Тримингем ясно дает понять, что «упадок орденов служит признаком неудачи мусульман приспособить свое традиционное понимание ислама к жизни в новых условиях» (с. 256—257), иначе говоря, неудача мусульман в их попытке полного «озападничива-ния». Наиболее яростный отпор представлению об упадке исламской цивилизации дал Маршалл Ходжсон в книге: The Venture of Islam, vol. 3, pp. 165-222.
12. Trimingham, pp. 261-263.
13. Ruzbihan Baqli, pp. 125-127.
14. Я благодарен профессору Артуру Бюлеру, Colgate University, за данные сведения.
15. MuhammadTaqi 'Ali Qalandar Kakorawi (ум. 1290/1873), al-Rawdal-azhar ft та 'athir al-qalandar (Блестящее разыскание о деяниях ка-ландаров) (Rampur: Matba'-i Sarkari, 1331-1336/1913-1918), p. 256; . приводится Манахидж Мухаммада Акрама Накшбанда.
16. Разногласия относительно наследника Низама ад-Дина обсуждаются в моей книге Eternal Garden, pp. 118-123.
17. Bruce B. Lawrence, «Biography and the 17th-century Qadiriyya of 'North India», в книге: Islam and Indian Regions, ред. Anna Libera ' Dallapiccola и Stephanie Zingel-Ave Lallemant, Beitrage zur " Slidasienforschung, Siidasien-Institut der Universitat Heidelberg, 145 (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1993).
18. Для более подробного ознакомления с вопросами, касающимися обращения в ислам в связи с суфизмом, см. книгу: Carl W. Ernst, Eternal Garden: Mysticism, History, and Politics at a South f Asian Sufi Center (Albany: State University of New York Press, 1992), pp. 155-168, а также книгу: Richard M. Baton, Islam and the Bengal Frontier (Berkeley: University of California Press, 1993).
19. Shah Muhammad Rida Shattari Qadiri Lahuri (ум. 1118/1706), Adab-i muridi (Пристойности ученичества), MS 5319 'irfan, Ganj Bakhsh library, Islamabad, pp. 108-114.
20. Последующие пояснения взяты у Сухраварди, 'Awarif, I,' pp. 251-260.
6. Суфийская поэзия.
1. Франсуа де Блуа (Francois de Blois) замечает, что «великое множество четверостиший, которые приписывают Омару, не может принадлежать ему. В период владычества монголов "Хайям" уже перестает быть исторической личностью и служит обозначением литературного жанра». Persian Literature, A Bio-bibliographical Survey, введение С. A. Storey, vol. 5, part 2, Poetry ca. A.D. 1100 to 1225 (London: The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1994), p. 363.
2. Многое по данному предмету выявила Аннемари Шиммель (Annemarie Schimmel): As Through a Veil: Mystical Poetry in Islam, Чтения по истории религий, устроенные американским Советом ученых обществ (American Council of Learned Societies), New Series, no. 12. (New York: Columbia University Press, 1982).
3. Andras Hamori, On the Art of Medieval Arabic Literature, Princeton Essays in Literature (Princeton: Princeton University Press, 1974), pp.31-77.
4. Th. Emil Homerin, «Tangled Words': Towards a Slylistics of Arabic-Mystical Verse» в сборнике: Reorie motions/Arabic and Persian Poetry. под ред. Suzanne Pinckney Steikevych (Bloomington: Indiana University Press, 1994), pp. 190-198; Martin Lings, «Mystical Poetry», в сборнике: The Cambridge History of Arabic Literature, 'Ab-basid Belles-Lettres, под ред. Julia Ashtiany et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 235-264.
S.Louis Massignon, Le Diwan d'al-Hallci/ (ncwed.. Paris: Librairie Oricntaliste Paul Geuthner, 1955). Относительно пояснений к поэзии Халладжа см.: Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press. 1975), pp. 70-71
Некоторые стихи Халладжа перепели: Sells. Early Islamic Mysticism: Sufi, Qur'an, Mir'aj. Poetic and Theological Writings (Mahwah. N.J.: Paulist Press. 1997.1. pp. 302-303; Lings, pp. 245-248; Words of Ecstasy, pp. 27-28, 66, 69; Herbert Mason. «Three Odes of al-Hallaj», в книге под ред. Use Lichtenstadter: Introduction to Classical Arabic Literature (New York: Twayne Publishers, 1974), pp. 316-321; Louis Massignon, The Passion of al-Hallaj. перевод Herbert Mason (4 vols.. Princeton: Princeton University Press, 1982), 3, pp. 337-339
6. Massignon, p 93; Husayn ibn Mansur al-Hallaj. Sharhdiwanal-Hallaj (Пояснения к стихам аль-Халладжа), под ред. Kami! Mustafa al-Shaybi (Beirut/Baghdad: Maktabat al- Nahda, 1394/1974). pp 279-280.
7. Massignon. pp. 31-35: Shaybi. pp. 166-172.
8. См. примеры, переведенные Корнеллом: Cornell, The Way of Abu Madyan, pp. 150-175; одна из этих поэм сверялась с изустной версией, имевшей хождение среди членов общины кадиров в Марракеше (р. 37).
9. Muhyi'ddin ibn al-'Arabf, The Tarjumdn al-Ashwdq. A Collection of Mystical Odes, ред. и пер. Reynold A Nicholson (London. 1911; репринтное изд., London: Thcosophical Publishing House Ltd, 1978).
10. Ibn al-'Arabi, Tarjuman al-ashwag (The Interpreter of Longings) (Beirut: Dar sadir. 1386/1966), p. 10, мой перевод отличается от перевода Николсона.
11. Ibn al-'Arabi, Tarjuman al-ashwag, p. 39, см. также Nicholson, no. 10, pp. 65-66.
12. Th. Emil Homerin, From Arab Poet to Muslim Saint: Ibn al-h'arid, His Verse, and His Shrine (Columbia SC: University of South Carolina Press, 1994).
13. Abu al-Ma'ali 'Abd Allah ibn Muhammad ibn 'Ali ibn al-Hasan ibn'Ali al-Miyanji al-Hamadani mulaqqab ba-'Ayn al-Qudat. Tamhidat (Введение), под ред. 'Afif 'Usayran. Intisharat-i Danishgah-i Tihran. 695 (Tehran: Chapkhana-i Damshgah. 1341/1962), p. 128.
14. Об этом подробно у Аллесандро Баузани: Alessandro Bausuni. Sroria della letieratura persona (Milan, 1960). pp. 265-290.
15. Hamori, p. 67. Пример мистического толкования светских поэм арабов о винопитии и опьянении см.: RuzbihanBaqli, pp. 73-74. Порой (Sharh-ishathiyyat, p. 177) Рузбихан приводит две строчки из знаменитого стихотворения Абу Нуваса: «Черпни мне вина и скажи: сие есть вино, // но не лей втайне то, что может предстать прилюдно. // Дай сему явиться в имени моей возлюбленной, однако оставь прозвиша, // ибо нет ничего доброго в удовольствиях, коль их утаивают».
16. De Blois, p. 273.
17. Shams al-Din Muhammad Had/ Shira/.i, Diwan (Bombay: 'Ali B'ha iharaf-'Ali and Company Private Limited. 1377/1957), pp. 17-18.
18. Khurramshahi, pp. 40-90.
19. Farid al-Din 'Attar Nishapuri, Diwan, под ред. Sa'id Nafisi (Tehran: Kitabkhana-i Sana'i. 1339/1960). pp. 102-103; Jalal al-Din Muhammad Rumi, Chazaliyyal-i Shams-i Tabrizi, под ред. Mansur Mushfiq (Tehran: Bungah-i Matbu'ati Safi-'Ali-shah. 1338/1960). pp. 178-179.
20. Qasim Ghani, Bahth dar athar wa afkar wa ahwal-i Haftz (Изыскание о трудах, мыслях и жизни Хафиза), vol. 2, Tarikh-i tasawwuf dar islam wa tatawwurat wa tahawwulat-i mukhtalifa-yi an az sadr-islam la 'asr-i Haftz (История суфизма в исламе и его различные проявления и изменения от зачинания ислама до времен Хафи за) (Tehran: Kitabfurushi Zawwar. 1340/1961), p. ix (t).
21. Khurramshahi, p. 794.
22. См.: Michael Hillman, «Afterword», в книге: Hafez: Dance of Life (Washington, D.C.: Mage Publishers. 1989), pp. 95-104.
23. Подробнее о связях Хафиза с Рузбиханом см: RuzbihanBaqli,pp. 9-10.
24. Jami. Nafahat, под ред. Isti'lami, pp. 611-6I2.
25. В большой антологии персидских газелей, собранных в сороковых годах в Индии для рецитации в общинах суфийского ордена Чишти, чаще всего приводятся следующие четыре автора: Руми, Хафиз, Ахмад-и Джам и Джами. См.: Mushtaq Ilahi Faruqi. Nagh-mat-i sama' (Музыкальные мелодии) (Karachi: Educational Press, 1392/1972).
26. Полное жизнеописание Руми представлено в книге: Annemarie Schimmel, Triumphal Sun: A Study of the Works of Jalaloddin Rumi (London: Fine Books, 1978), pp. 12- 36.
27. Уильям Читтик (William Chittick) обозначил трудности касательно толкования Руми через Ибн Араби в статье «Rumi and wahdatal-wujud» из сборника Poetry and Mysticism in Islam: The Heritage of Rumi, под ред. Amin Banani (New York: Cambridge University Press, 1994). Обычную, составленную по тематическому принципу антологию переводов из трудов Руми см. в книге: William Chittick, The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi, SUNY Studies in Islamic Spirituality (Albany: State University of New York Press, 1983)
28. Fatemeh Keshavarz, Reading Mystical Poetry: The Case of Jalal al-Din Rumi
(Columbia, S.C.: University of South Carolina Press.1997).
29. Выражаю благодарность Питеру Кауфману (Peter Kaufman) за предложенную латинскую версию. Иной результат можно видеть при замене итальянским языком: pindesiderabileedoiceche'tin baciod'niidvergine(Carolyn Wood). Образчики макаронических стихов в персидской литературе см. и книге: E G. Browne, A Lite raryHistoryofPersia(Cambridge: The University Press, 1964), 2, pp. 44-46.
30. Jonathan Z Smith. «Sacred Persistence: Toward a Rcdescription of Canon», в его книге: Imagining Religion: From Babylon to Jonestown (Chicago: The University of Chicago Press, 1978).
31. Недавний научный перевод см. в книге: Grace Martin Smith, пер., The Poetry ofYunus F.mre, A Turkish Sufi Poet, University of California Publications in Modern Philology,
127 (Berkeley: University of California Press, 1993). Перевод, предназначенный менее искушенному читателю, The Drop that Became the Sea: Lyric Poems ofYunus Emre.перевододчики KabirHelminski и Refik Algan (Putney. Vt.: Threshold Books. 1989).
32. Подходы к изучению османской литературы прекрасно суммировала Виктория Pay Холбрук (Victoria Rowe Holbrook) в своей книге: The Unreadable Shores of Love: Turkish Modernity and Mystic Romance (Austin: University ofTexas Press, 1994), pp. 13-31.
33. Образчики стихов tekke можно видеть в книге: J. К. Birge, The Bektashi Order of Dervishes (London, 1937: репринтное изд., London: Lu/ac Oriental, 1994) и в книге: Nermin Menemencioglu, The Penguin Book of Turkish Verse (London: Penguin Books, 1978).
34. Подробное исследование жшни и творчества Шейха Талиба дано в книге Холбрук.
35. См.: Mark R. Woodward, Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate ofYogyakarla (Tucson: The University of Arizona Press, 1989).
36. О суфийской поэзии в Южной Азии см.: Schimmel, As Througha Veil.
37. См.: Annemarie Schimmel, Pain and Grace: a Studv of Two Mystical Writers of Eighteenth-Century Muslim India (Leiden: E. J. Brill,1976).
7. Суфийские музыка и танец.
1. Лучшим авторским исследованием по суфийским музыке и танцу является труд Жана Дюрена: Jean During. Musique et extase:L'audition mystique dans la tradition soufle (Paris: Albin Michel. 1988). О суфийской традиции в Индии см. статью Брюса Лоуренса: Bruce Lawrence, «The Early Chishti Approach to Sama'», в сборнике: Islamic Society and Culture: Essays in Honour of Professor Aziz Ahmad, под ред. Milton Israel и N. К. Wagle (New Delhi: Manohar.1983), pp. 69-93.
2. Sa'di, Gulistan, II. 26. Данный отрывок выбит на камне в стене могилы
Саади в Ширазе.
3. Burhan al-Din Gharib. в книге: Rukn al-Din ibn 'Imad al-Din Dahir Kashani Khuldabadi. Shama'il al-aiqiya' (Добродетели благочестивого), под ред. Sayyid 'Ata' Husayn, Silsila-i Isha'at al-'Ulum, no. 85 (Hyderabad: Matbu'a Ashraf Press, 1347/1928-1929), pp. 347-348.
4. Qushayri, p. 644.
5. Kashani, Misbah al-hidayat, p. 149.
6. Ibn 'Arabi. Futuhat, IV. 270.
7. Относительно правил ордена Чишти в слушании музыки см. мою книгу EternalGarden, pp. 145-154.
8. Следующими замечаниями я обязан книге Дюрена, р. 125-135.
9. Настоящий и два предыдущих отрывка приведены в книге Shama'il, p. 356-358.
10. Лучше всего о музыкальном исполнении в ордене Чишти поведано в книге Регулы Буркхардт Куреши: Regula Burckhardt Quresh, SufiMusicofIndiaandPakistan: Sound, ContextandMeaningin Qawwali(Cambridge. 1986; репринтное изд. с компакт-диском; Chicago: University of Chicago Press, 1995).
11. Regula Qureshi, «'Muslim Devotional': Popular Religious Music and Muslim Identity under British, Indian and Pakistani Hegemony». Asian Music 24 (1992-1993), pp.111- 121.
12. Благодарю свою дочь Тесс Эрнст (Tess Ernst) за сведения о направлениях этих музыкальных групп. Следует заметить, что другой участник группы «Pearl Jam», Джефф Амент (Jeff Ament), создал группу под названием «Три рыбки» («Three Fish») (навеянным некоторыми рассказами Руми); члены этой группы ездили в Каир и Стамбул в поисках творческого вдохновения у суфийской традиции.
13. Greg Kot, «Casting a Spell: Pakistani Musician Khan Propels a Powerful Concert Experience», Chicago Tribune, 26 August 1996, section C, p. I.
14. Chris Nickson, «Trance Portation», Wire Tapping 97 (August 1996),p. 20.
15. During, pp. 168-206; Shcms Fnedlander, The Whirling Dervishes: being an account of the Sufi order known as the Mevlevis and its founder the poet and mystic Mevlana Jalalu 'ddin Kumi (Albany, N.Y.: Slate University of New York Press, 1992); Walter Feidman, «Musical Genres and Zikir of the Sunni Tarikats of Istanbul», в книге Lifchez, pp. 187-202.
16. Lifchez, pp. 5, 101.
17. Lifchez, pp. 101-113.
18. Прекрасную подборку изображений дервишей можно посмотреть в книге: Yasar Nuri Ozturk, The Eye of the Heart: An Introductionto Sufism and the Major Tariqats of Anatolia and the Balkans (Istanbul: Rcdhouse Press. 1988). Сюда следует добавить прекрасное изображение вертящегося дервиша работы художника-ориенталиста Ж.-Л. Жерома.
19. Pamela Sommers. «Dervishes: Out for a Spin». Washington Post, 14 November 1994, section D, p. 7.
20. Для знакомства с музыкальной традицией групп алеви и ахл-ихакк смотрите две статьи в сборнике Manifestations of Sainthood in Islam: I) Jean During, «The Sacred Music of the Ahl-i Haqqas a Means of Mystical Transmission», pp. 27-42; 2) Irene Markoff, «Music, Saints, and Ritual: Sama' and the Alevis of Turkey», pp. 95-110.
21. Robert Christgau, «That Old-Time Religion», The Village Voice. January 30, 1996, p. 62.
22. Philip D. Schuyler. «The Master Musicians of Jahjouka», Natural History 92 (October 1983), pp. 60 ff.
23. Randy Barnwcll of Rounder Records, цитируется Боб Янг: Bob Young, «Age- Old Traditions Fill the Music of Morocco at Longy», The Boston Herald, June 11, 1996.
8. Суфизм и современный мир.
1. См. обстоятельную библиографию в двух обзорных статьях Марсиа К. Хермансен: Marcia К. Hermansen, «In the Garden of American Sufi Movements: Hybrids and Perennials», в сборнике New Islamic Movements, под ред. Peter С. Clarke, и «Hybrid Identity Formations in Muslim America: The case of American Sufi Movements», в книге Muslims on the Americanization Path?, под ред. Yvonne Haddad, John Esposito. Исследования более узкого плана провела Гизела Вебб (Gisela Webb): статьи «Sufism in America», в сборнике America's Alternative Religions, под ред. Tim Miller (Albany: State University of New York Press. 1995). и «Tradition and Innovation in Contemporary American Islamic Spirituality: The Bawa Muhaiyaddeen Fellowship», в сборнике Muslim Communities in North America, под ред. Yvonne Haddad и Jane I. Smith (Albany: State University of New York Press, 1994). Обзоры общего плана представили: Michael Koszegi. «Sufism in North America: A Bibliography», в сборнике Islam in North America: A Sourcebook (New York: Garland Publishing, 1992), pp. 223-243, и Jay Kinney, «Sufism Comes to America», Gnosis 30 (Winter 1994), pp. 18-23.
2. Abu Sayeed Nur-ud-Din, «Attitude towards Sufism», в книге: Iqbal: Poet- Philosopher of Pakistan, под ред. Hafeez Malik (New York: Columbia University Press, 1971), p. 294, цитируется Мухаммад Анвар Харит «Походноеснаряжение»: Muhammad Anwar Harith, Kakht-i Safar (Karachi, 1952). pp. 117-119.
3. Trimingham. p. 252, n. 2.
4. Nur-ud-Din, pp. 292-293, цитируется Мухаммад Икбал, «Иносказания о самоотречении», пер. К. A. Nicholson (Lahore: Muhammad Ashraf. 1944), pp. 51, 56-57.
5. Muhammad Iqbal, «Disciples in Revolt», в книге Poems from Iqbal, пер. V. G. Kiernan (London: John Murray, 1955), p. 60.
6. S. A. Salik, The Saint of Jilan (Lahore. 1953; репринтное изд., Chicago: Kazi Publications, 1985).
7. Capt. Wahid Bakhsh Sial Rabbani, Islamic Sufism: The Science of Flight in God, with God, by God, and Union and Communion with God, Also showing the Tremendous Sufi Influence on Christian and Hindu Mystics and Mysticism (Lahore: Sufi Foundation, 1984). chap ter 5, pp. 112-249.
8. Это сообщение притом проходит красной нитью в его трактате на урду: Captain Wahid Bakhsh Siyal, Mushahada-i haqq: islamiruhani sa'ins (Разумение об истине: исламская духовная наука) (Karachi: Mahfil-i Dhawqiyya, 1974).
9. Реакция ордена Чишти на веления нынешнего времени явилась одной из тем готовящейся к выходу книги под редакцией моей и Брюса Б. Лоуренса: BurntHearts: TheChishtiSufiOrder(London: Curzon Press).
10. R. A. Nicholson, «Sufism». Encyclopaedia Britannica (11th ed., 1910), vol. 26, p.31.
11. Bashir Ahmad Dar, Tarikh-i lasawwufqabl az Islam: Yunani, Yahudi. 'Isa'i, awr Chini tasawwuf ka tanqidi awr tarikhi ja'iza (История доисламского мистицизма: аналитический и исторический обзор греческого, иудейского, христианского и китайского мистицизма) (Lahore: Idara-i Thiqafat-i Islamiyya, 1962).
12. Latif Allah, Tasawwuf awr sirriyat: taqabuli mutal'a, tasawwuf kiasas, naw 'ivyal. khususiyyat, awr tarikh ka tahqiqi ja 'iza (Суфизми мистицизм: сравнительноеизучение; научныйобзоросновы, природы, особенностейиисториисуфизма) (Lahore: ldara-i Thiqafat- iIslamiyya, 1990).
13. Julia A. Clancy-Smith. «The Man with Two Tombs: Muhammad ibn 'Abd al- Rahman, Founder of the Algerian Rahmaniyya, ca. 1715-1798», в сборнике: Manifestations of Sainthood in Islam. p. 158.
14. C. Snouck Hurgronje, The Achehnese (Leiden: Luzac & Co., 1906)
15. Последующими замечаниями я обязан Дэвиду Гилмартину: David Gilmartin, Empire and Islam: Punjab and the Making of Pakistan. Comparative Studies on Muslim Societies, 7 (Berkeley: University of California Press, 1988), pp. 39-72.
16. Valeric J. Hoffman. Sufism, Mystics, and Saints in Modern Egypt (Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1995).
17. (Catherine Ewing, «The Politics of Sufism: Redefining the Saints of Pakistan» Journal of Asian Studies 52 (1983). pp. 251-268
18. Motilal Jotwani, Sufis of Sindh (New Delhi: Government of India, Ministry of Information, 1986).
19. См. замечания работавшего в Советском Союзе ученого о труд ностях писать на тему суфизма и исламской философии в советское время в книге: Marietta Stcpanyants. Sufi Wisdom (Albany State University of New York Press, 1994).
20. Bruce B. Lawr ence. Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age (San Francisco: Harper & Row, 1989), pp. 100-101.
21. R. S O'Fahcy, Enigmatic Saint Ahmad Ibn Idris ami the Idrisi Tradition. Series in Islam and Society in Africa (Evanston, III.: Northwestern University Press, 1990).
22. Martin Notcutt, «Ibn 'Arabi in Print», n книге: Muhyiddin Ibn 'Arabt, A Commemorative Volume, под ред. Stephen Hirtenstein (Rockport. Mass.: Element. 1993), pp.328-339.
23. Muhsin Mahdi, «From the Manuscript Age to the Age of Printed Books», в книге: The Book in the Islamic World: The Written Word and Communication in the Middle East, под ред. George N. Atiyeh (Albany: State University of New York Press / Library of Congress, 1995). pp 6-7. Махди утверждает, что большое число последователей мистических орденов делает подобные публикации осуществимыми в финансовом плане.
24. Arthur F. Buehler, Masters of the Heart: Naqshbandt Sufism and the Mediating Shaykh (Charleston. S.C : University of South Carolina Press, 1997).
25. В данной связи можно упомянуть журнал Ниматуллахи (Ni 'mat-ullahi) Sufi и журнал Шахмаксуди (Shahmaghsoudi) Sufism: An Inquiry,
26. Schimtnel. Mystical Dimensions of Islam, p. 341.
27. Homenn. pp. 94-97.
28. Марсия Хермансен (Marcia Hermansen) рассмотрела этот предмет и приведенных выше статьях, по. 1.
29. Некоторые документальные фильмы по суфизму можно взять напрокат педагогическим учреждениям в отделе непечатной продукции студенческой библиотеки Университета Северной Каролины (the Non-Print Section, Undergraduate Library. University of North Carolina. Chapel Hill, NC 27599). Сюда входят ForTliose WhoSailtoHeaven(рассказывается о празднике одного египетского святого в Луксоре), SaintsandSpirits(рассказывается о суфийских усыпальницах и одержимости духами в Марокко) и два фильма о членах ордена Маулави: TurningandWhirlingDervishes.
30. Bruce В. Lawrence, «The Chishtiya of Sultanate India: A Case Study of Biographical Complexities in South Asian Islam», в книге: Charisma and Sacred Biography, под ред. Michael A. Williams (Chico, Cal.: Scholars Press, 1981), pp. 47-67.
31. См. мою обзорную статью «Traditionalism, the Perennial Philosophy, and Islamic Studies» в сборнике Middle East Studies Association Bulletin 28 (1994), pp. 176-180.
32 Shah Ghulam 'Ali Dihlawi, Makatib-i sharifa (Благородные письмена) (n.p. [Delhi?], 1371/1952; репринтное изд., Istanbul: Waqf al-Ikhlas, 1989), pp. 66, 113. 33. Abu al-Hasan Kharaqani, в книге: Jami, Nafahat, p. 298.
Предисловие
1..6
Глава 1. Что такое суфизм?
7..24
Глава 2. Священные источники суфизма
24..37
Глава 3. Святые и святость
37..49
Глава 4. Имена Бога, созерцаете и мистический опыт
49..71
Глава 5. Суфийские ордена: наставничество, ученичество и посвящение
71..85
Глава 6. Суфийская поезия
85..102
Глава 7. Суфийские музыка и танец
102..113
Глава 8. Суфизм и современный мир
113..129
Примечания
129..140