Книга: Сказание о Йосте Берлинге

Сказание о Йосте Берлинге
© Штерн С. В., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик». 2016
Издательство выражает признательность Шведскому Совету по Искусству – Swedish Arts Council за финансовую поддержку в издании данного перевода
Это прямо удивительно, как Сельме Лагерлёф пришло в голову дебютировать подобным романом!
Множество трудов по этому поводу написано, а все равно непонятно.
На дворе конец XIX века, в литературе господствует суровый социальный, или, как его называли в России, критический реализм. Каждый новый роман – не столько произведение искусства, сколько повод для жарких общественных дебатов. Символисты еще только делают первые робкие попытки возродить романтическую традицию – правда, в иных, назовем их декадентскими, формах. И романтика в их сочинениях присутствует не сама по себе, а как некий идеал. И его недостижимость внушает сочинителям плохое и унылое настроение. Даже веселый Альфонс Доде, автор «Тартарена», с грустью написал: «Глаза нашего поколения не горят огнем. У нас нет пыла ни к любви, ни к отечеству. Мы все поражены скукой и истощением, побеждены до начала действия, у всех у нас души анархистов, которым недостает храбрости».
И вдруг ни с того ни с сего скромная учительница из провинциальной Ландскруны публикует «Сагу о Йосте Берлинге». И ведь не скажешь, что по наивности: Сельма Лагерлёф была очень начитанна и прекрасно осведомлена, что происходит в литературном мире. Мы знаем это из ее переписки.
И все же решилась. У нее, в отличие от Доде, храбрости хватило.
Ошеломленные критики встретили роман в штыки. Сельме Лагерлёф досталось по первое число. Как только ее не называли! Самое мягкое определение – деревенская сказочница. И только через два года, после того как датский критик Георг Брандес прочитал перевод и написал восторженную рецензию, роман заметили и начали хвалить взахлеб. Все, как положено, – нет пророка в своем отечестве.
Хотя критиков можно понять. Что это за роман? Так и вспоминается концовка гоголевского «Носа» – удивительно, как авторы могут брать подобные сюжеты! Даже жанр трудно определить. Любовный? Исторический пастиш с привкусом рыцарского романа в духе Вальтера Скотта? Приключенческий? Сентиментальный? Иронический? Или, как теперь называют этот жанр исконно русским словом, фэнтези? Как ни странно, присутствует и первое, и второе, и пятое, и десятое. Впрочем, если спросят, откуда берет начало так называемый магический реализм Маркеса или, скажем, Кензабуро Оэ, не нужно долго думать над ответом. Магический реализм вырос из магического романтизма Сельмы Лагерлёф.
Это, по-видимому, и есть самое точное определение ее стиля: магический романтизм. Недаром великий японец, приехав в Стокгольм для получения Нобелевской премии по литературе, первым делом попросил свозить его в усадьбу шведской писательницы.
Все радости и горести мира, все его искушения и соблазны уместились на берегах небольшого продолговатого озера. Сто лет маркесовского одиночества уместились в один год. Перед читателем в стремительном карнавале проносятся трубадуры и воины, горные ведьмы и лесные феи, погони и похищения, влюбленности и разрывы, грехи и искупления, природные катастрофы и древние легенды и поверья. Мало того, вряд ли кто из писателей так язычески одушевлял природу, как Сельма Лагерлёф. Озера у нее «знают, где им начинаться», волны сговариваются поднять восстание, потому что им надоело крутить колеса машин, горы и долины пререкаются из-за места на берегу… и написано это с такой убедительностью, что начинаешь сомневаться: а кто их знает, может, и вправду пререкаются.
Мастерство рассказа Сельмы Лагерлёф, возможно, не имеет равных в мировой литературе. Роман представляет собой серию эпизодов, так или иначе связанных с судьбой главного героя – Йосты Берлинга, разжалованного за пьянство пастора, красавца, романтика и сердцееда. Едва ли не каждая глава представляет собой самостоятельный рассказ, законченный сюжет, удивительным образом вплетающийся в канву повествования.
Вот, казалось бы, совершенным особняком стоящая легенда о Кевенхюллере, получившем в дар от лесной феи великий изобретательский талант (оцените изысканность фамилии!). Но этот дар – не дар, а мучение: ему не разрешено повторить свои открытия. Сотворить разрешено, а повторить – нет. Летательный аппарат, самоходный экипаж – все в единственном числе. Он не может передать их людям. Какое же отношение к Йосте Берлингу имеет Кевенхюллер? Вроде бы никакого. Но оказывается, имеет – измученный невозможностью принести людям счастье, Кевенхюллер в припадке сумасшествия поджигает Экебю, прибежище веселых и беспутных кавалеров во главе с Йостой Берлингом. Ставит последнюю точку в хаосе распада.
Роман написан от третьего лица, но иногда автор неожиданно вмешивается в ход событий, высказывает свои мысли, примеряет на себя судьбы своих героев. Вот, например, падает в обморок старушка, обнаружившая в мужнином кресле не кого-нибудь, а врага рода человеческого. Ее спасает случайно заехавшая соседка.
«Если бы на месте Ульрики была я, меня бы спасти не удалось, – неожиданно пугается Сельма. – Я бы к этому времени уже отдала Богу душу».
В другой раз писательница пересказывает легенду о страшной горной ведьме, повелительнице всех ветров, гроз и наводнений, живущей в Вермланде уже, наверное, больше тысячи лет. Подробно описав ужасную старуху, Сельма Лагерлёф мимоходом замечает:
«Я сама ее встречала».
И эти лукавые ремарки, и предельно, подчас даже запредельно романтическая интонация автора порождают сомнения: что это? Ностальгия по прошедшим временам сильных чувств и отважных героев или ирония над собственной ностальгией?
А как ответить на извечный детский вопрос – Йоста Берлинг, главный герой, хороший он или плохой?
На этот вопрос читателю придется ответить самому. Дилемма примерно та же, что в «Онегине», – хороший человек Евгений или плохой?
Йоста Берлинг. Обаятельный, искренний, импульсивный, отважный красавец, готовый на подвиги и самопожертвование. Поэтическая душа, великолепный оратор, прирожденный лидер.
Но!
Безответственный шалопай, не думает о последствиях своих поступков, повинуется сиюминутным желаниям, нанося при этом окружающим долго не заживающие раны.
Выбор ваш.
Роман на особый, поэтический манер отображает вечную модель общественного развития: революция, стагнация, распад. В финале кавалеры берутся за ум и начинают усердно трудиться. Сельма Лагерлёф старается показать, что в труде и есть смысл жизни. Словно забыла, что несколькими страницами раньше устами насквозь положительной молодой графини опровергла бескрылую богоборческую философию одного из кавалеров, дядюшки Эберхарда. Тот тоже утверждал, что смысл жизни в работе.
«Разве работа – это Бог? – спрашивает графиня. – Разве в самой по себе работе заключена какая-то цель?»
Может быть, и забыла, что вряд ли, конечно. Но это противоречие делает понятным, почему так очаровательно беспомощны, так трогательно наивны попытки писательницы завершить книгу счастливым финалом – восстановлением разрушенного, всеобщим примирением и катарсисом. Настолько беспомощны и наивны, что невольно приходит в голову – не очередное ли это лукавство великой сказочницы и фантазерки?
И последнее: приношу глубокую благодарность Обществу Сельмы Лагерлёф за предоставленные бесценные материалы.
Сергей Штерн
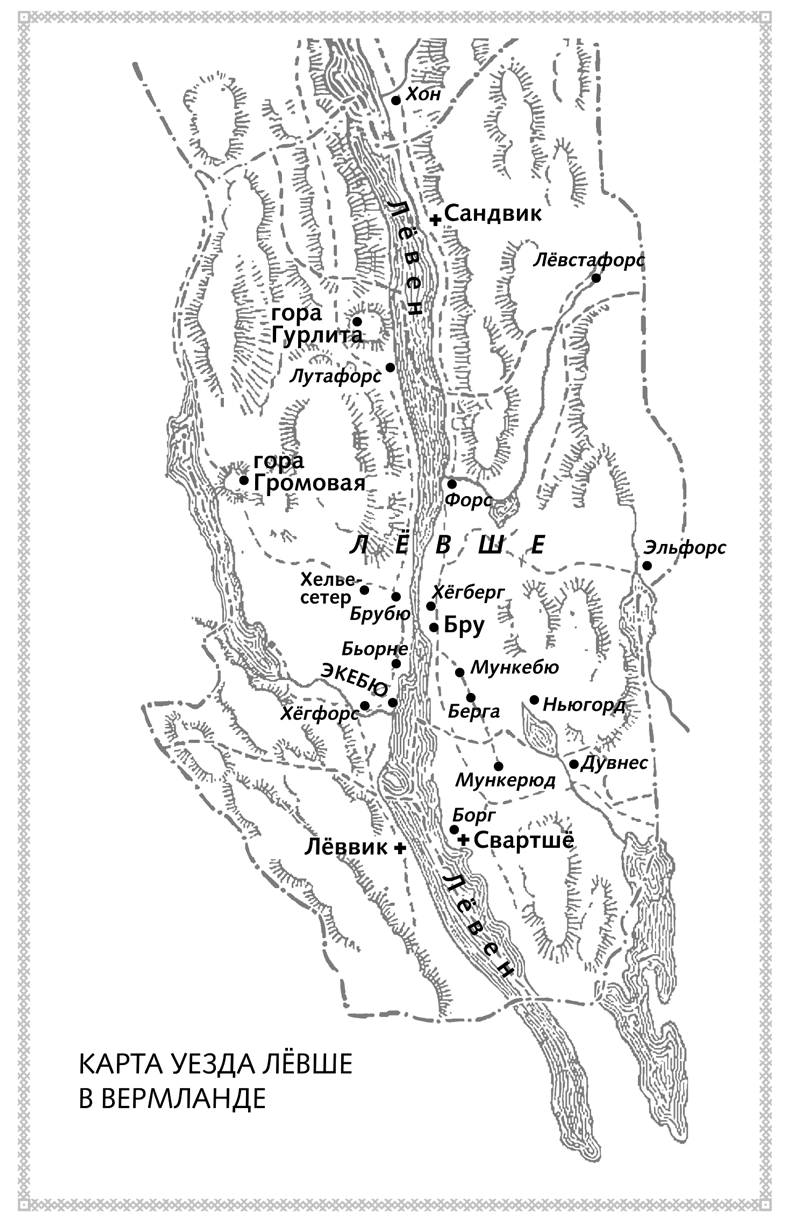
Пастор
Наконец пастор поднялся на кафедру. По церкви пронесся нестройный многоголосый вздох.
Все-таки явился. Все-таки дождались проповеди. Не то что в прошлое воскресение. Или в позапрошлое.
Пастор был молод, великолепно сложен и ослепительно красив. Надень на него шлем с серебряной чеканкой и кольчугу, дай в руки меч – и перед вами прекраснейший из афинян, Ахиллес. Хоть сейчас в мрамор.
Мечтательные глаза скальда, округлый, но твердый, как колено, подбородок полководца – все в нем было прекрасно, выразительно, все свидетельствовало об уме и духовном совершенстве.
Прихожане не знали, что и думать. Таким они его никогда не видели. Куда привычнее качать головой и кисло ухмыляться, когда их пастор, еле держась на ногах, выползает из местного кабака в обществе таких же пропойц, как и он сам: полковника Беренкройца с седыми, будто ватными, усами и здоровенного, как медведь, капитана Кристиана Берга.
А это еще что за красавец стоит на кафедре? Разве это их пастор? Их пастор беспробудно пьет, месяцами не появляется в церкви. Дошло до того, что община начала писать жалобы. Сначала пробсту[1], потом епископу. Написали даже в соборный капитул[2].
И именно сегодня приехала с проверкой целая комиссия во главе с самим епископом. Он сидел на хорах в окружении священников из соседних приходов, поглаживал большой золотой крест на груди и недовольно хмурился. Приехали даже преподаватели духовной академии из Карлстада.
Никаких сомнений – пастор перешел границы дозволенного. Тогда, в двадцатые годы девятнадцатого века, на пьянство смотрели сквозь пальцы, но этот молодой красавец не знал меры. Он пренебрег священным долгом, и теперь никто из прихожан не сомневался – пастором ему не быть. Да и сам он никаких надежд не лелеял.
Он стоял на кафедре, дожидался, пока допоют последний стих предваряющего проповедь псалма. Постарался унять дрожь в ногах и внезапно понял: враги. Здесь его враги. Все до единого. Крестьяне на лавках, господа на галерее, мальчики-певчие в хоре – все его враги. Непримиримый враг топчет педали мехов органа, еще более непримиримый нажимает клавиши. Его ненавидят все, даже младенцы, которых принесли в церковь на руках. И церковный сторож, задубевший в боях солдат, сражавшийся еще с Наполеоном под Лейпцигом, тоже его ненавидит. Ненавидит своего пастыря, а ведь и сам не прочь пропустить стаканчик.
Ему вдруг захотелось упасть на колени и вымолить прощение.
Но он подавил это желание. Вернее, оно исчезло само, потому что его сменил гнев. Он помнил себя, каким он год назад впервые поднялся на эту кафедру. Безупречен, наивен, полон надежд. А теперь стоит за той же кафедрой и смотрит на этого надутого, с золотым крестом, епископа. Тот приехал, чтобы с ним покончить.
С трудом прочитал стих из Библии, смысл которого должен разъяснить в предстоящей проповеди. Ярость подкатывала тяжелыми волнами, глаза застилал багровый туман.
Допустим, это правда – пил он беспробудно, но у кого есть право судить его? Кто-нибудь когда-нибудь видел что-то подобное этой так называемой пасторской усадьбе в Богом забытой деревушке? Где мрачный ельник подступает к разбитым окнам, через которые в дом беспрепятственно льет дождь и валит снег? Где с потолочных балок капает вода, где стены черны от плесени? Где урожая с плохо обработанной земли не хватает, чтобы прокормить всех, и призрак голода стоит у самых дверей?
Разве они заслуживают лучшего пастора? Он как раз то, что им нужно. Они же пили вместе с ним, так почему именно он должен ни с того ни с сего давать обет воздержания? Крестьянин, напившийся до чертиков на поминках по собственной жене, отец, не вяжущий лыка на крещении первенца. Да все они, те, кто сидит в этой церкви, наверняка напьются по дороге домой. Они не заслужили другого пастора!
И не сразу он стал таким. Не сразу. Пусть вон тот, с золотым крестом, попробует поездить по замерзшим озерам в пальто на рыбьем меху, пусть погребет под дождем в лодке по взлохмаченной немилосердным ветром реке, пусть в пургу по десять раз выскакивает из саней, чтобы с лопатой пробить дорогу в саженных сугробах, пусть поищет брод на болотах… можно держать пари, даже сам епископ начнет искать утешения в бутылке.
Дни тянутся за днями, пугая мрачным однообразием. Все, и крестьяне, и помещики, вроде бы думают только о земле, об урожае, но хватает их забот только до вечера – вечером правит бал самогон. Оттаивают сердца, мир светлеет, рождаются песни, и даже полуувядшие розы начинают благоухать. И как легко вообразить, что ты не в прокопченном деревенском кабаке, а где-то в блаженном Средиземноморье… над головой свисают гроздья винограда, зреют маслины, тут и там в темно-зеленой листве невинно белеют мраморные Психеи, а по аллеям под чинарами прогуливаются, неторопливо беседуя, философы и поэты…
Нет, нет и нет. Он, пастор на кафедре, лучше кого бы то ни было знает, что без горячительного прожить в этих краях нельзя. И не только он. Все его прихожане, все, кто сидит в этой церкви, знают это не хуже его.
И они смеют его осуждать!
Они хотят сорвать с него пасторское облачение только потому, что он смел явиться под хмельком в обитель их Бога. Ханжи! Их истинный бог – самогон. Никакого другого бога у них не было и нет.
Он зачитал стих и преклонил колена, чтобы начать «Отче наш».
Во время молитвы в церкви воцарилась гробовая тишина. Пастор вцепился обеими руками в завязки сутаны. Ему показалось, что вся община во главе с епископом крадется к кафедре, чтобы сорвать с него облачение. Он стоял на коленях, опустив голову, видеть он их не мог, но ясно представлял – и епископа, и пробста, и сторожа, и звонаря… вот они потихоньку подбираются к ведущей на кафедру шаткой лесенке, срывают с него сутану… и, не удержавшись, валятся по этой лесенке, валятся, как костяшки домино, сшибая тех, кто напирает сзади.
Он представил эту картину так ясно, что невольно улыбнулся, но тут же его прошиб холодный пот. Ничего смешного: ему готовят участь отверженного, и все из-за спиртного. Отлученный от сана священник – пария, изгой. Такой даже жалости не вызывает. Только презрение.
Что ему остается? Одеться в рубище, просить милостыню на дорогах и ночевать в канаве с такими же, как он, человеческими отбросами.
Пастор дочитал молитву. Настало время проповеди.
И внезапно ему пришло в голову: в последний раз. В последний раз в жизни стоит он на кафедре и доносит мудрость Всевышнего до неразумной паствы.
Почему-то эта мысль тронула его до слез. Он мгновенно забыл и про епископа, и про самогон, про все на свете, настолько важным ему показалось в последний раз восславить Создателя и Покровителя всего живого на земле. Может, никогда уже не представится такой случай.
Его начал бить тревожный и сладкий озноб вдохновения.
Пол церкви опустился, а купол вознесся в неведомые выси. Пастор уже не стоял за пыльной кафедрой – дух его воспарил к нарисованным небесам, и он уже еле различал крошечные фигурки в зале, будто смотрел в перевернутый бинокль.
– Дети мои!
Он всегда мысленно морщился от фальши – какие они ему дети? Почти все в церкви старше его. Но не сейчас. Сейчас это обращение не показалось ему странным. Сейчас все прихожане, все до одного, от старика до младенца, были его детьми. Мало того, он не узнал собственный голос. Откуда только взялся этот неслыханной красоты тембр – торжественный, бархатный и мощный, как медленные удары колокола! Голос его отозвался восторженным эхом во всех уголках внезапно ставшей огромной церкви. Воцарилась мертвая тишина, и каждое слово проникало в сердца онемевших прихожан, наполняя их трепетом, надеждой и восхищением.
Он был человеком вдохновения, наш пастор. Отложил листки с написанной проповедью – нужны ли они, когда мысли роятся сами по себе, и даже не в голове, а над головой, как нимб или стая ручных голубей? Ему даже казалось, что говорит не он, а кто-то другой. И внезапно пришло понимание: никому, даже сильным мира сего со всей их роскошью и могуществом, не суждено достичь высот, где сейчас парил он, проштрафившийся сельский пастор. Именно ему суждено было донести до смертных Откровение Господне.
И он говорил и говорил, пока не подернулась пеплом и не начала остывать горячая лава вдохновения. А когда закончил, когда и купол церкви и пол встали на свое место, он опустил голову и захлебнулся рыданием. Потому что внезапно сообразил: никогда уже не повторится подаренный ему свыше редчайший миг истинного счастья.
После службы был назначен сход общины. Все перешли в небольшой флигель приходского совета. Епископ спросил старосту, нет ли каких-либо жалоб на священника.
А бедный пастор уже забыл охватившую его перед проповедью ярость. Он сидел, повесив голову, и ждал – вот сейчас выплывут на чистую воду все его пьяные подвиги. Какой срам!
Но нет. За столом воцарилась тишина.
Он поднял голову и посмотрел на звонаря – тот покачивал головой и чему-то смутно улыбался. Староста, богатые фермеры, даже надутые владельцы рудников – все молчали.
«Ждут, кто первым начнет лить на меня помои», – решил пастор.
Староста прокашлялся.
– А что… неплохой у нас пастор.
– Уважаемый епископ, думаю, сам слышал, какой он замечательный проповедник, – добавил звонарь.
Епископ нахмурился и напомнил прихожанам о пропущенных службах.
– Пастор тоже человек, – пожал плечами пожилой крестьянин. – Заболеть каждый может.
Епископ пристально оглядел собравшихся:
– Не вы ли выражали неудовольствие… э-э-э… его образом жизни?
И наш пастор не поверил своим ушам: все в один голос принялись его защищать! Он еще так молод, наш пастор, все бывает… но если он будет проповедовать так, как сегодня, они не поменяют его даже на самого епископа, уж вы нас простите, ваше святейшество.
Вот так. Суд не состоится за отсутствием обвинителей.
Пастор почувствовал, как кровь быстрее побежала по телу, сердце забилось, как пойманный в силки заяц. Он был не прав! Они не враги его, они его друзья! Он завоевал их души, они уже не хотят от него избавиться, его не выгонят, он останется пастором!
После дознания епископ, пробсты, теологи из Карлстада и уважаемые члены общины пошли по традиции обедать к герою дня. Пастор был не женат, поэтому заботы по приему гостей взяла на себя жена соседа-арендатора и, надо сказать, управилась наилучшим образом. Даже собственный дом показался ему не таким уж убогим. Длинный стол накрыли прямо под елями, и это придало особое праздничное очарование белой, с кружевными оборками скатерти, бело-голубому фаянсу, вымытым до горячего блеска бокалам. А чего стоили хитро сложенные, похожие на королевские короны салфетки на каждой тарелке! И в дом зайти не стыдно – две березки у крыльца, а высоко над дверью, под самым коньком, венок из свежих полевых цветов. Пол в сенях по традиции устлан ветками можжевельника, цветы в каждой комнате. И даже плесенью вроде бы не пахнет, чисто вымытые оконные стекла сияют на солнце.
Наш пастор был счастлив и весел. Никогда, никогда больше он в рот не возьмет спиртное!
И все за столом были веселы. И те, кто неожиданно для себя проявил великодушие, и те, кто искренне простил непутевого пастора, и даже высокая комиссия – никому не хотелось скандала.
А епископ поднял бокал и долго рассказывал, с каким тяжелым сердцем собирался он в эту поездку – столько всяких сплетен пришлось ему выслушать. Он, оказывается, приехал, ожидая увидеть Савла, а на поверку оказалось, что не Cавла он встретил, не Савла, врага и гонителя истинной веры, а Павла, апостола Павла, светоча христианства. Он говорил и о необычайном проповедническом даре молодого пастора. И нашему молодому другу надо помнить, что такой дар дан ему Богом не для гордыни, не для самолюбования, а для духовного подвига, для терпения и воздержания при выполнения высокого долга, возложенного на него этим редкостным даром.
За обедом молодой пастор пил очень умеренно, но вино все-таки ударило ему в голову. А может, вовсе и не вино, а неожиданное счастье, настигшее его в невозвратной точке падения. И когда гости разошлись, он долго пребывал в том же восторженном настроении. Ему казалось, что даже струящаяся по жилам кровь намного горячее обычного. Cm не было ни в одном глазу. Он открыл окно и подставил лицо прохладному ночному ветерку. Надо попробовать успокоиться и выспаться перед началом новой жизни.
– Не спишь, пастор?
Он вздрогнул и вгляделся в темноту. Прямо по газону к дому шагал человек. Не узнать его было трудно – капитан Кристиан Берг, бродяга и искатель приключений, верный его собутыльник. В этих краях не было никого, кто мог бы сравниться с ним ростом и непомерной силой. Был он огромен, как гора Гурлита, и глуп, как горный тролль.
– Попробуй усни в такую ночь!
И только послушайте, что рассказал ему капитан Кристиан!
Оказывается, у этого колосса появилось недоброе предчувствие, что после всех сегодняшних событий он может потерять собутыльника. Пастор просто-напросто побоится лишний раз приложиться к рюмке, потому что, если вся эта священная братия нагрянет снова, прощай, сутана…
И капитан Кристиан Берг решил повлиять на развитие событий. Раз и навсегда отбить у епископа и его свиты охоту появляться в этих краях. Теперь-то друзья опять смогут без помех собираться здесь, в пасторской так называемой усадьбе, и веселиться, сколько влезет.
Никому в голову не пришла бы такая мысль, а капитану Бергу пришла. И послушайте, что он придумал.
Когда епископ и оба священника из академии в Карлстаде сели в свою крытую коляску и тщательно заперли дверцы, чтобы не вывалиться на ухабах, капитан ссадил кучера с козел, сел на его место и погнал лошадей в светлую июньскую ночь. Верст десять или пятнадцать летела коляска по бездорожью. Капитан дал понять сановным посетителям, на каком тонком волоске висит человеческая жизнь. Он нахлестывал лошадей, а духовные лица в запертой кибитке молились, как мог бы молиться горох в банке, которую трясет заботливая хозяйка, желая определить, хватит ли гороха на вечерний суп.
Уж не подумали ли вы, мои читатели, что он старался объезжать ямы и рытвины? Что упустил случай спуститься к озеру и гнать прямо по воде, которая грозно журчала под колесами и то и дело заливала кибитку? Уж не подумали ли вы, что, спускаясь с холмов, капитан придерживал лошадей? Наоборот, нахлестывал их немилосердно, и чудом, подлинным чудом не перевернулась коляска со священнослужителями. Можно удивляться, что она не застряла в болоте, – капитан, во всяком случае, никаких стараний к тому не прилагал. Епископ и пасторы сидели и возносили Богу молитвы, и если бы не наглухо закрытые кожаные шторки, можно было бы видеть, что лица их белы как полотно.
Впрочем, так оно и оказалось: когда экипаж остановился на постоялом дворе в Риссетере, бледный-пребледный епископ вылез на неверных ногах из коляски и трясущимися губами спросил:
– И что это значит, капитан Кристиан?
– А значит это вот что, – бодро произнес гигант заранее заготовленную фразу, – надеюсь, теперь его святейшество трижды подумает, прежде чем приезжать с проверками к Йосте Берлингу!
– Вот оно что… – холодно процедил епископ. – Вот оно что… в таком случае передай Йосте Берлингу, что ни я, ни другой священник во всем королевстве никогда к нему не приедут.
Всю эту историю и поведал с гордостью глупый капитан Кристиан Берг, стоя под открытым в благоухающий сад окном. Услышав слова епископа, он тут же бросился рассказывать другу о своей победе.
– Теперь можешь быть спокоен, сердечный друг мой пастор, – сказал он. – Больше они не приедут.
Ах, капитан, капитан… как он торжествовал, когда перепуганные священники вылезли из злосчастной кибитки! Но друг его пастор вовсе не торжествовал. Он стоял у окна, бессильно опершись на подоконник, и лицо его в неверном свете летней ночи было еще белее, чем у священников. Белее смерти. Ах, капитан Кристиан!
Пастор, недолго думая, ткнул кулаком в глупо ухмыляющуюся физиономию приятеля, захлопнул окно и cхватился за голову. Глаза его жгли слезы отчаяния.
Бог ниспослал ему неслыханные мгновения чистого вдохновения, и он же, этот Бог, сыграл с ним такую злую шутку…
Само собой, епископ уверен, что это именно он подослал капитана Кристиана, ни на секунду не усомнится епископ, что вся вдохновенная утренняя проповедь была не чем иным, как злонамеренным притворством. И, конечно, теперь нет никаких шансов, что его, пастора, оставят в приходе.
Когда настало утро, пастора в усадьбе уже не было. Незачем было оставаться и пытаться оправдаться – все равно никто бы ему не поверил. Бог его не простил. Показал, как могла бы сложиться его судьба, какое счастье мог бы он испытать, проповедуя людям слово Божье и веру в спасение. Но грехи его слишком тяжелы, и глупо было бы надеяться на что-то другое.
Все это произошло в начале двадцатых годов девятнадцатого века в отдаленном уезде в западном Вермланде.
Грянул первый гром. Но это был далеко не последний удар судьбы из тех, что выпали на долю Йосты Берлинга.
Так молодой жеребчик, не знающий шпор и плетки, при первом же испытании сбрасывает груз, срывается с места и мчит куда глаза глядят, не ведая, что уже поджидает его разверстая пропасть.
Попрошайка
Холодным декабрьским днем по склону холма в Брубю поднимался нищий. Одет он был в самое жалкое тряпье, которое только можно вообразить, а в рваные башмаки все время набивался снег.
Лёвен – длинное, продолговатое озеро в Вермланде. Можно было бы сказать, что это не одно озеро, а три, соединенные узкими проливами. С высоты птичьего полета оно наверняка напоминает связку сосисок. Начинается оно в диких, непроходимых финских лесах[3] на севере, а на юге доходит почти до Венерна. На берегах озера несколько приходов, самый большой и богатый – Брубю. Он расположился на обоих берегах озера. На западном берегу – богатые дома, известные своей роскошью усадьбы вроде Экебю и Бьорне, и конечно же поселок Брубю, давший название всему приходу. Большой поселок с постоялым двором, полицейским исправником и ярмарочной площадью.
Брубю лежит на довольно крутом склоне. Нищий миновал постоялый двор у подножья и теперь плелся к пасторской усадьбе на самой вершине холма.
Он догнал маленькую девочку, с трудом тащившую санки с мешком муки.
– Такая маленькая лошадка и так тяжело везет… – сказал он.
Девочка посмотрела на незваного спутника. Ей не больше двенадцати, а выражение лица, как у взрослой: сжатые в узкую полоску губы, пристальный, подозрительный взгляд.
– Лошадке, какая ни на есть, хорошая поклажа не в обузу.
– Ну да… что ж плохого. Домой тащишь?
– А куда же? Бог милостив. Лошадку-то люди кормят, а я сама себе пропитание добываю, даром что ростом невелика.
– Давай помогу. – Нищий ухватился за высокую спинку саней.
Девочка остановилась и посмотрела на него недоверчиво:
– Только не думай, что и тебе достанется.
Бродяга засмеялся:
– Экая ты суровая… не иначе пасторская дочь.
– В точку попал. У многих отцы победнее, но хуже ни у кого нет. Истинно так, хоть и зазорно говорить такое про родного отца.
– Скупой, должно быть, у тебя папаша. И добрым его не назовешь.
– И то и другое. И скупой, и злой, как оса. Но люди говорят, дочь-то еще хуже будет, когда вырастет. Если ей Бог даст вырасти. Это мне то есть.
– Люди зря не скажут… и где же ты взяла этот мешок?
– Твое-то что за дело? Ладно… все равно. Ты не продашь. А продашь, кто тебе поверит! В амбаре утром потихоньку взяла мешок с зерном и отнесла на мельницу.
– А что скажет папаша, когда ты явишься с мешком муки?
– Ты что, с луны свалился? Или Господь тебя недоделал? Что пастору делать дома среди дня? Он в общине.
– В общине? А кто это за нами едет? Слышишь, полозья скрипят… уж не он ли?
Девочка замерла, прислушалась, и лицо ее перекосилось от страха.
– Это он! – всхлипнула она. – Он меня убьет! Убьет!
– Да уж… как раз тот случай, когда дорог хороший совет.
– Вот что, – решительно сказала девчушка. – Ты можешь мне помочь. Возьми веревку и тащи сани, будто они твои.
– И что я дальше буду с ними делать? – Нищий вскинул канат на плечо.
– Тащи, куда хочешь, но чтобы вечером, когда стемнеет, был в усадьбе. Я буду тебя ждать. Не тебя, санки и муку, понял? – поправилась она.
– Попробую…
– «Попробую»… – передразнила девочка. – Попробуй не прийти!
И сорвалась с места – ей надо было успеть домой раньше отца.
Попрошайка скрепя сердце развернул санки и потащил вниз к постоялому двору. С горы – не в гору, но у него были совсем другие планы. Даже не планы, а мечта. Он мечтал о диких лесах к северу от Лёвена, огромных финских лесах.
Ему вовсе не хотелось идти в поселок на берегу пролива между Верхним и Нижним Лёвеном, в эту обитель радости и богатства, где сменяют друг друга роскошные усадьбы и аккуратные фабрички. Любой приют казался ему тесным, любая дорога тяжкой, любая перина тверже камня. Его неодолимо тянуло в вечный покой огромного, непроходимого леса.
Он вздрагивал от каждого удара цепов в ригах. Наверное, такой большой урожай, что до сих пор не обмолотят. Из леса сплошным потоком тащились дровни с бревнами и большими плетеными корзинами с древесным углем, тяжелые повозки с рудой словно плыли по колее, наезженной бесчисленными предшественниками. А легкие сани с чистой публикой носились между усадьбами, и ему казалось, что не сани скользят на полозьях, а любовь и красота, и поводьями правит чистая, незамутненная радость. Скорее бы добраться до леса… он мечтал о лесе, как верующий о Храме, где можно отмолить свои грехи. И молитвы эти будут услышаны, на то и Храм.
Там, в лесу, царят тишина и покой, там огромные сосны возносятся к небу, как колонны в церкви, там ветер едва шевелит иголки в кронах, не в силах даже сбросить тяжелый снег с прогнувшихся веток. Он хотел бы забрести как можно глубже в этот таинственный, манящий лес, брести и брести, пока силы не покинут его. И тогда он упадет под одной из этих величественных елей и медленно и неощутимо умрет, убаюканный вечным холодом…
Он нестерпимо тосковал по этой огромной могиле с еле слышными песнями ветра, по могиле, где бренность всего живого кажется естественной и неизбежной, где голод, холод, усталость и самогон наконец-то положат конец его существованию, уничтожат слабое тело, которое, как оказалось, способно вынести почти все.
Где-то надо дождаться вечера. Он зашел в бар постоялого двора и без сил опустился на скамью у дверей. Закрыл глаза и опять увидел лес.
Хозяйка сжалилась над ним и поднесла стопку самогона. А потом и вторую – он так жалобно попросил, что она не смогла отказать. Но когда попрошайка заикнулся насчет третьей, она покачала головой.
Его охватило отчаяние. Ему вовсе не хотелось умирать здесь, на людях. А чтобы не умереть, он должен во что бы то ни стало выпить еще этого прекрасного напитка.
Хотя бы еще раз почувствовать, как согревается душа, как бежит по жилам кровь, хотя бы раз насладиться свободным полетом мысли. О, эта сладкая пшеничная водка! Солнце, пение птиц, ароматы летнего дня, красота и прелесть мира – все слилось в этой прозрачной маслянистой струе. Еще раз, всего только один раз насладиться солнцем и счастьем, а потом сгинуть в холоде и мраке.
И он обменял на водку сначала муку, потом мешок, а потом и санки. Выпил много и заснул прямо на лавке, где сидел.
А когда проснулся, понял, что натворил. Грешная плоть победила душу, и душа потеряла право на бессмертие. Как он мог! Ребенок доверился ему, а он… Какой позор… Оставалось только одно: как можно скорее освободить землю от своего присутствия, может, тогда душа его на пути к Богу обретет чистоту и свободу… но и на это надежды мало.
Он, не вставая с лавки, устроил суд над самим собой. «Йоста Берлинг, разжалованный пастор, похитивший муку у голодного ребенка, приговаривается к смертной казни – похоронам заживо в снегу».
Схватил свою шапку, с трудом поднялся с лавки и побрел к выходу. Он еще не совсем протрезвел, и пьяные слезы сострадания к его пока еще бессмертной, как он надеялся, душе катились по небритым щекам. Он должен освободить душу от погрязшего в пороках тела, немедленно, сейчас же, пока в ней теплится хоть какая-то небесная искра.
Далеко он не ушел – прямо на обочине намело огромный сугроб. Он упал в него и закрыл глаза, втайне надеясь, что смертные муки не продлятся чересчур долго.
Никто не знает, как долго он пролежал, но когда дочка пастора нашла его в этом сугробе, он был еще жив. Ждала-ждала в усадьбе, но он все не появлялся, и она побежала его искать.
И нашла.
Начала трясти изо всех сил, старалась разбудить – надо же узнать, где ее мука и санки. Он с трудом разлепил уже помутневшие глаза и, еле ворочая языком, рассказал ей все. Девчонка истошно закричала. Отец убьет ее, если узнает, что она потеряла санки! Она укусила несчастного за палец, исцарапала лицо, ни на секунду не прекращая визжать.
Около них остановились сани.
– Кто это тут верещит? – послышался суровый голос.
– Я! – плаксиво выкрикнула девочка и замолотила кулачками в грудь полузамерзшего попрошайки. – Я тут верещу! Он пропил мою муку и санки, и я должна вернуть их, иначе мне конец!
– Он же совершенно заледенел, а ты царапаешься, как дикая кошка! А ну, вставай!
С саней слезла крупная, крепко сложенная женщина. Она взяла девчонку за шиворот и отшвырнула в сторону, будто это и вправду была кошка. Нагнулась, завела руки под спину попрошайки, подняла его без видимого усилия и положила в сани.
– Иди на постоялый двор, паршивка, посмотрим, что можно сделать, – крикнула она девчонке и тронула поводья.
* * *
Час или полтора спустя нищий сидел на стуле у дверей лучшего номера постоялого двора, а перед ним, уперев руки в бока, стояла та самая внушительная дама, что вытащила его из сугроба и спасла ему жизнь.
Похоже, она возвращалась из леса от углежогов: руки все в саже. Грязно-белая глиняная трубка в зубах, овчинный нагольный тулуп, домотканая шерстяная юбка в полоску, добротные, мастерски прошитые просмоленной дратвой берестяные башмаки. Тесак в ножнах на поясе. Седые, зачесанные назад волосы, немолодое, но очень красивое и значительное лицо. Конечно, это она. Он слышал про нее тысячу раз.
Перед ним стояла знаменитая майорша из Экебю.
Владелица семи сталелитейных заводов[4], самая богатая и, наверное, самая могущественная женщина во всем Вермланде, привыкшая повелевать и не сомневаться, что приказы ее будут исполнены. А кто он? Осужденный на нищету и страдания бродяга, сам себя приговоривший к смертной казни. Любая дорога тяжка, любой приют тесен, повторял он мысленно и каждый раз вздрагивал, когда она останавливала на нем взгляд.
Она смотрела на него пристально, будто хотела понять, как мог человек докатиться до такого. Как мог так опуститься этот молодой еще парень в отрепьях, с красными, распухшими руками и невероятно красивым, несмотря ни на что, лицом?
– Значит, ты и есть Йоста Берлинг, тот самый помешанный расстрига?
Он не шевельнулся.
– А я майорша из Экебю.
По телу попрошайки прошла судорога. Он сцепил руки и посмотрел на нее полным беспредельной тоски взглядом. Что она хочет с ним делать? Заставить жить? Он чувствовал в ней пугающую силу. И надо же ей было появиться в последний момент… а ведь он уже был так близко к желанному покою далеких финских лесов.
Но она, видимо, твердо решила не дать ему умереть. Для начала сообщила, что его преступление искуплено – дочка пастора получила назад свои санки и мешок с мукой. И что она, майорша, готова разрешить ему жить во флигеле в своем поместье в Экебю.
– Там ты будешь не один. Там уже живут такие же бездомные бродяги, как и ты. Я их называю кавалерами. – Она усмехнулась.
Она предлагала ему жизнь в достатке и безделье, но он упрямо покачал головой:
– Я хочу умереть. Единственное, что я хочу, – умереть.
Тогда она грохнула кулаком по столу – ну ладно же, тогда слушай, что я о тебе думаю.
– Вот оно что! Умереть он хочет! Большое дело… было бы чему умирать. Посмотри на себя! В чем душа держится… изможденный, тощий, как богомол, одни глаза торчат. Плюнешь – промахнешься. Не так уж много ты оставил для смерти. Ты уже умер! Какая разница, можешь, конечно, лечь в гроб, даже крышку пусть заколотят, мертвее не будешь. Думаешь, я не вижу, что ты давно умер, Йоста Берлинг? Я вижу череп, а не голову. Вижу, как черви копошатся в глазницах, а рот твой набит прахом. А ты сам разве не слышишь, как мертво щелкают позвонки, стоит тебе шевельнуться? Йоста Берлинг утонул. Утопил себя в самогоне и умер. Кости-то еще движутся кое-как, но это кости мертвеца. Скелет. Ты и их хочешь лишить жизни, если тебе угодно называть это жизнью. Да это то же самое, что лишить мертвецов единственной радости – поплясать на кладбище в лунном свете. Стыдишься, что тебя разжаловали, выгнали, лишили сана? До того стыдно, что умереть собрался? Позволь сказать, что больше пользы было бы, если бы ты воспользовался данным тебе божьим даром и принес хоть какую-то пользу на созданной Им зеленой и прекрасной земле! Надо же! Почему не явился ко мне сразу? Я бы все поставила на место. А теперь он, видите ли, жаждет, чтобы его завернули в саван и положили на опилки. Да еще кто-нибудь скажет – поглядите, какой пригожий мертвец!
А нищий слушал ее и чувствовал, как к нему постепенно возвращается желанный покой. На губах заиграла бледная улыбка. Пусть говорит, сколько влезет… величественный лесной храм ждет его. Никто не в силах повернуть его судьбу.
Майорша замолчала и несколько раз прошлась по комнате – туда и обратно. Села у камина и поставила локти на колени. На лице заплясали грозные отблески пламени.
– Тысяча чертей! – хохотнула она. – В моих словах больше истины, чем я сама могла подумать. Не думаешь ли ты, Йоста Берлинг, что в этом мире много живых людей? Почти все либо совсем умерли, либо умерли наполовину. Ты думаешь, я живу? Как бы не так! Посмотри на меня внимательно! Майорша из Экебю, самая могущественная женщина во всем Вермланде… Мне достаточно пальцами щелкнуть, и наместник тут как тут, щелкну два раза – епископ, а уж если три – глядишь, весь капитул и советники, да и заводчики заодно пляшут польку на площади в Карлстаде. И все же… тысяча чертей, паренек! Две тысячи! Три! Посмотри на меня. Приодетый труп. Жизни во мне осталось – с комариный сик.
Нищий подался вперед – такого он не ожидал. А майорша покачивалась на стуле, смотрела на игру пламени в камине и говорила, говорила… Ни разу даже не повернулась.
– Будь я живой… неужели не зашлось бы сердце мое в печали, глядя на тебя, изможденного, жалкого, ничего не желающего, кроме смерти? Неужели не нашла бы я слов утешения, не пролила бы слез над твоей горькой судьбой? Неужели слезами и молитвой не спасла бы твою душу? Будь я живой… но я мертва.
Ты, наверное, и не слышал – была когда-то красавица, и звали ее Маргарета Сельсинг. Не вчера это было, но и сейчас старые глаза мои жгут слезы, когда думаю я о ее… о своей судьбе. Почему Маргарета Сельсинг должна умереть, а Маргарета Самселиус остаться в живых, с какой стати майорша из Экебю оказалась приговоренной к жизни? А знаешь, какова была Маргарета Сельсинг? С осиной талией, стройна, скромна и невинна… вот какой она была, Йоста Берлинг. Из тех, на чьих могилах плачут ангелы.
Она была добра ко всем, и все были добры к ней. Никому даже в голову не приходило причинить ей зло. А уж красива была… таких поискать, и то не найдешь.
И в один прекрасный день появился парень – молодой, сильный, красивый. Звали его Альтрингер. Никто не знает, как его занесло в эти края, в пойму Эльвдалена, где у родителей Маргареты был небольшой рудничок. Еще раз говорю: парень был – заглядение. И он влюбился в Маргарету. И она его полюбила.
Одна незадача – беден он был, как церковная крыса. И договорились они ждать друг друга. Пять лет, точно, как в песне… «Пять зим, пять вёсен»…
Не прошло и трех лет, явился другой жених. Урод, каких мало, но родители решили, что лучшего жениха не найти, и заставили Маргарету выйти за него замуж. Не уговорами, так угрозами, а иной раз и кулаки в ход пускали… И знаешь – умерла Маргарета Сельсинг. В день свадьбы умерла. С тех пор нет на земле Маргареты Сельсинг, осталась только майорша Самселиус. Ничего хорошего в ней не было, она была уверена, что всем на земле властвует зло, и не замечала добра. Куда исчезла ее застенчивость!
Да ты наверняка знаешь, что было дальше. Мы, майор и я, жили в Шё, здесь недалеко, на берегу Лёвена. Он оказался вовсе не так богат, как надеялись родители, нередко туговато приходилось, а потом и вовсе обнищал.
И тут вернулся Алтьрингер. Он сказочно разбогател, купил поместье Экебю по соседству и шесть сталелитейных заводов. Энергичный, дельный хозяин и замечательный человек. И он все еще был влюблен в Маргарету Сельсинг.
Он даже помогал нам – мы ездили в его колясках, он посылал продукты на нашу кухню, вино в погреб. И опять наполнил мою жизнь радостью и счастьем. Майор уехал на войну, а нам-то что! Сегодня я приезжала в Экебю, завтра – он в Шё. Не жизнь была – танец по розам…
Но, само собой, пошли разговоры. Была бы жива Маргарета Сельсинг, умерла бы со стыда, а мне было плевать. Но тогда я еще не понимала: это потому, что я умерла. Мертвые сраму не имут.
Слухи дошли до моих родителей – углежоги в Эльвдальских лесах нашептали. Мать долго не размышляла – поехала меня уламывать.
И в один прекрасный день явилась. Майора не было, а мы, я и Альтрингер, сидели с гостями за столом. Я видела, как она входит в зал, но я ее не узнала! Я ее не узнала, Йоста Берлинг! Не узнала свою мать! Поздоровалась, как с незнакомкой, пригласила за стол – таков обычай в наших краях.
Она-то, наверное, была уверена, что я ее дочь, пыталась поговорить со мной, но я ее остановила.
«Вы ошибаетесь, – сказала я ей. – Мои родители давно умерли. Они оба умерли в день моей свадьбы».
Она и бровью не повела. Семьдесят лет, двести верст отмахала за три дня, и хоть бы что! Села за стол и принялась за еду. Сильная была женщина…
«Горе какое, – говорит, – надо же, – такое несчастье и в такой день. Печально, печально…»
«Печально не это. Печально то, что они не умерли на день раньше. Тогда бы и свадьбе не бывать».
«А разве госпожа майорша недовольна своим браком?»
«Теперь довольна. Нет большего счастья, чем выполнить волю моих драгоценных, безвременно ушедших родителей».
«Была ли на то родительская воля, чтобы дочь навлекла позор на себя и на них? Чтобы она изменяла мужу? Вряд ли покойные родители обрадовались, узнав, что дочь их блудница».
«Сами толкнули ее на это… как постелешь, так и поспишь. К тому же милостивая госпожа должна понимать: я не допущу, чтобы чужие люди порочили дочь моих родителей».
За столом все замерли. Никто не прикасался к еде, только мы и ели – я и она.
Сутки пожила она у нас, отдохнула и собралась в дорогу. И клянусь, ни разу не пришла мне в голову мысль, что она моя мать. Я твердо знала одно: моя мать умерла.
И вот, Йоста Берлинг, собралась она уезжать. И коляску уже подали. Стоим мы на крыльце, а она говорит:
«День я прожила у тебя, и ты ни разу не назвала меня матерью. По бездорожью добиралась я к тебе, двести верст за три дня, и вся дрожу от стыда за тебя, мою дочь. Дрожу, будто меня секут розгами. Пусть все отрекутся от тебя, как ты отреклась от меня, своей матери[5]! Да станет дорога твоим домом, да будет клок соломы твоей постелью, пусть согревают тебя угольные ямы. Позор и бесчестье – вот что тебе суждено. И пусть каждый плюет на тебя, как плюю я, твоя мать!»
И отвесила мне крепкую пощечину, даром что старуха.
Я стерпела, усадила ее в коляску и спросила:
«Какое право у тебя меня проклинать? Кто ты такая, чтобы бить меня?»
И дала ей ответную пощечину.
Коляска тронулась в путь, и только в этот миг, только в этот миг, Йоста Берлинг, я осознала, что Маргареты Сельсинг на свете больше нет. Она умерла.
Нищий слушал ее, и на какой-то момент ему показалось, что звуки ее голоса заглушили манящий шепот далеких заснеженных лесов. Он и ожидать такого не мог. Подумать только: эта величественная дама, хозяйка Вермланда, рассказывает про свои грехи. И все ради того, чтобы вселить в него мужество, заставить продолжать жить! Ради того, чтобы он понял: не он один такой пропащий, другие тоже погрязли в грехе.
Он с трудом встал и подошел к майорше.
– Ну что? – спросила майорша со слезами в голосе. – Захотелось тебе жить, Йоста Берлинг? Из тебя мог бы выйти замечательный пастор, но никогда, слышишь, никогда тот Йоста Берлинг, которого ты утопил в вине, не был так чист и невинен, как Маргарета Сельсинг! А я своими руками погубила ее! Теперь ты понял, что обязан жить?
Йоста упал перед ней на колени.
– Простите меня, – прошептал он. – Не могу.
– Значит, решил… надо же, я, старая, зачерствевшая от горя женщина, сижу здесь и откровенничаю. С попрошайкой, которого нашла полузамерзшим в сугробе. С бродягой, который надумал лишить себя жизни. Надумал – так надумал. Мне же лучше – никому не передашь, что я тебе тут наплела.
– Госпожа майорша, я не самоубийца, я приговоренный! Мне и так нелегко, а вы… Поймите, я не имею права жить. Плоть моя растоптала и раздавила душу, я должен освободить ее, пока в ней еще теплится искра бессмертия, отпустить душу к Богу.
– Надеешься, долетит? – Она усмехнулась.
Йоста вздрогнул:
– Прощайте, госпожа майорша! Прощайте и спасибо.
– Прощай, Йоста Берлинг.
Нищий встал и неверными шагами, с поникшей головой поплелся к двери. После встречи с этой женщиной путь в далекие финские леса уже не казался таким легким и манящим.
У двери он обернулся, встретился взглядом с майоршей и обмер. В жизни не приходилось ему видеть такого превращения. Только что она была полна гнева, горечи и презрения, а сейчас черты лица волшебно изменились, и в глазах светилось сострадание. Сострадание, нежность, любовь и прощение.
И что-то дрогнуло в нем, что-то сверкнуло сквозь окутавшую душу ледяную пелену отчаяния. Он прислонился лбом к косяку, обхватил голову руками и горько зарыдал.
Майорша швырнула свою трубку в камин, подошла к нему и обняла – нежно и ласково, как когда-то обнимала мать.
– Мальчик мой… мальчик мой…
Она подвела его к стулу у камина, но он опустился на пол и уткнулся лицом в ее колени.
– По-прежнему жаждешь смерти?
При этих словах он хотел вскочить, но она силой удержала его.
– Я еще раз говорю – поступай, как хочешь, как велит твое сердце. Единственное, что я могу тебе обещать, если ты останешься жить, я возьму к себе пасторскую дочку, эту дикарку, и сделаю из нее человека. И она возблагодарит Бога, что тот послал ей тебя, а ты пропил ее муку. Ну как?
Он поднял голову и посмотрел ей в глаза:
– Вы всерьез?
– Всерьез, всерьез, Йоста Берлинг.
Он увидел перед собой злые, перепуганные глаза, сжатые в нитку по-старушечьи губы, красные замерзшие ручонки. Вполне может быть, если кто-то позаботится об этой девчонке, согреет ее рано очерствевшую душу, может, и забудет она со временем череду унижений, и исчезнет ее оскал на весь жестокий, ополчившийся против нее мир. Это показалось ему настолько важным, что мысль о призрачной смерти в вечных финских лесах уже не казалась такой привлекательной.
– Пока майорша будет ее опекать, я с собой не покончу, – тихо сказал он. – Я так и знал, что вы заставите меня жить тем или иным способом. Вы сильнее меня.
– Йоста Берлинг! – сказала она торжественно. – Я боролась за твою жизнь, как за свою собственную. Я взмолилась Богу – Боже, если осталось во мне хоть что-то от Маргареты Сельсинг, позволь ей хоть на секунду показаться на свет! Может быть, ей, Маргарете, погибшей во мне невинной девушке, ты поверишь! И Он, великий и непостижимый, позволил! Позволил ей показаться на свет, и ты, Йоста Берлинг, видел не меня! Ты видел ее, ее, Маргарету Сельсинг, полную любви и сострадания… потому ты и остановился у дверей. А она шепнула мне, она подсказала, что мысль о бедной озлобленной девчушке помешает тебе наложить на себя руки. О, души человеческие! Вы летите, как дикие птицы, куда вам вздумается, часто себе на погибель, но Господь наш знает, в какие силки вас ловить…
– Вы говорите о Боге, – задумчиво сказал Йоста Берлинг. – Действительно, непостижимый… Он лишил меня всего, отверг, бросил в мрак нищеты и отчаяния – и в последний момент не дает мне умереть… Да будет так…
С этого дня Йоста Берлинг стал одним из кавалеров из Экебю, как называла их майорша. Дважды пытался он покинуть Экебю. Как-то майорша подарила ему хутор неподалеку. Он переехал туда и решил зарабатывать физическим трудом. Поначалу все шло хорошо, но потом он утомился от одиночества и тяжелой работы и вернулся в Экебю. Все пошло своим чередом. В другой раз Йоста Берлинг нанялся домашним учителем к графу Хенрику Дона и влюбился в его сестру, Эббу Дона. Но когда он уже был близок к тому, чтобы завоевать ее сердце, она неожиданно умерла, и с тех пор он прекратил все попытки начать новую жизнь. Ему суждено было остаться кавалером в Экебю. Все пути к исправлению для разжалованного священника, похоже, были закрыты.
Ландшафт
А теперь надо описать продолговатое озеро, плодородную степь и дымчато-голубые горы по берегам, потому что именно здесь, в этих краях, протекала непутевая жизнь Йосты Берлинга и майоршиных кавалеров.
Озеро начинается довольно далеко на севере. Озера знают, где им начинаться, – лучшего места не выберешь. Лес, горы и холмы ни на секунду не прекращают собирать для него воду, ручьи и родники стремятся к нему круглый год. Белый, тонкий песок на берегу, на котором так сладко вытянуться, мыски и холмы, отражения деревьев в заросших кувшинками и лилиями заводях. А сколько нимф, и ундин, и наяд, и русалок! Наверное, они и мечтать не могли о таком месте для ночных игр…
Здесь, на севере, озеро приветливо и гостеприимно. Стоит только посмотреть на него ранним утром, когда оно просыпается и сбрасывает с себя утреннюю пелену – сначала медленно, словно лениво, а потом сразу, рывком освобождается от последних качающихся клочьев тумана. Розовое и свежее, оно тут же накидывает на себя тонкую сверкающую вуаль солнечных искр.
А ему все мало. Узким проливчиком прорвавшись сквозь песчаные дюны, озеро стремится на юг, искать новых приключений. Оно становится больше и величественнее. Правда, появляется работа: надо заполнить бездонные провалы, постараться украсить и без того живописный пейзаж. Озеро и здесь прекрасно, но по-иному – вода не такая голубая, как на севере, она темна и масляниста, под ней угадывается грозная глубина. Ветра сильнее и порывистее, берега суровее и однообразней. Чуть не круглый год снуют по озеру корабли, работают плотогоны, навигация прекращается поздно, чуть не перед самым Рождеством. Но в зимние дни озеро небезопасно: иногда оно начинает гневаться, темнеет, по нему бегут нарастающие белыми гребнями пены волны. В такие дни не стоит поднимать парус; немало неосторожных моряков нашли свою могилу в пучине. А потом успокаивается, замирает в мечтательной дреме и отражает каждое облачко так безупречно, что и понять нельзя, кто кого отражает – озеро небо или небо озеро.
Что ж, довольно теперь озеро? Нет, ему не угодишь. Оно продолжает стремиться на юг, хотя со всех сторон уже подступают неприступные скалы. С трудом, вновь оборотившись проливом, проталкивается наше озеро сквозь утесы и разливается в третий раз. Но могло бы этого и не делать: прежней красоты уже нет.
Ровные, скучные берега, ветра, правда, не такие свирепые, но и зимняя спячка наступает намного раньше – там, на севере, еще вовсю перегоняют плоты, а здесь озеро уже сковано льдом. Конечно, оно все равно красиво – как может быть некрасивым озеро? – но нет уже в нем той юной свежести и зрелой силы. Обычный водоем, как и многие другие. Двумя рукавами нащупывает озеро путь к Венерну, а когда находит, из последних сил обрушивается с кручи и с предсмертным грохотом замирает.
Озеро длинное, но и окружающая его равнина не короче. Конечно, ей не так легко пробиваться на юг, как озеру, – на пути встают реки, горы, не говоря уж о глубокой котловине на самом северном конце Лёвена. Но равнина не менее упряма, чем озеро, – в конце концов все-таки добирается до Венерна, и там-то ей привольно и спокойно. Охотнее всего она следовала бы берегам, и так бы оно и было, если бы не горы. Горы то и дело преграждают ей путь. Огромные серые стены, покрытые кишащими дичью лесами, изрезанные расщелинами и оврагами, поросшие мхом и лишайником. Каждая речушка, каждый ручей требуют свою дань, и равнина по пути на юг оставляет им на память крошечные озерца и болота, где клеенчатая черная вода почти не видна под изумрудным слоем ряски. Потом она натыкается на заброшенные углежогные ямы, на вырубки, откуда уже вывезены бревна, на выжженные под пашню наделы. А горы больше всего любят греться под солнцем и любоваться вечной игрой света и тени на своих склонах.
И с этими ленивыми горами трудолюбивая, богатая и кроткая равнина, стараясь сохранять вежливость, ведет вечный спор.
– Вы окружили меня своими стенами, это замечательно, я чувствую себя в безопасности. Больше мне ничего не надо, – говорит она горам.
Но куда там! Горы и слушать не хотят. Они высылают целые полки холмов и каменистых плато к самому озеру, возводят красивые смотровые площадки у самой воды. У равнины нет ни малейшей возможности понежиться на песчаных берегах – все заняли горы.
– Сказала бы спасибо, – отвечают горы. – Ты должна радоваться, что мы здесь стоим. Подумай, что бы с тобой было в декабре, перед Рождеством, когда над Лёвеном ночью и днем ползут ледяные смертные туманы!
Но равнина начинает жаловаться – и места маловато, и вида никакого.
– Глупее ничего не придумаешь! Поглядели бы мы, что ты будешь говорить о каком-то «виде», когда с озера задует пронзительный ветер! Ты же совсем голая! Чтобы вынести такое, нужен густой мех из ельника и гранитный хребет. Да и в конце концов, мы-то тебе чем не нравимся? Любуйся, сколько влезет!
А равнина только и делает, что любуется на эти горы. Больше ей и любоваться не на что. Конечно, горы красивы, в этом им не откажешь: чего стоит один только волшебный фонарь на их склонах, когда они по десять раз на день меняют цвет – от светло-серого до темно-фиолетового, а иногда вдруг вспыхивают закатным багрянцем. Надо только посмотреть, как в полдень они опускаются и сереют, уступая место огромному небу, а к концу дня опять вырастают сизой громадой на фоне заката. А то свет упадет так, что каждая расщелина, каждый мелкий утес, каждый выступ играют всеми переливами радуги, и видно их за много-много верст. Иногда все же горы милостиво расступаются и позволяют равнине подобраться к берегу и поглядеть на Лёвен, но не без умысла. Равнина видит разгневанное озеро, оно шипит и плюется, как пойманная рысь, а то покрыто холодным туманом – всем известно, откуда этот туман. Водяные варят пиво или стирку затеяли. Наверное, горы правы, решает равнина, ничего хорошего нет в этом озере, и снова прячется в тесные ущелья.
Люди начали возделывать равнину с незапамятных времен, и теперь она заселена довольно тесно. Везде, где, прыгая по камням, стремятся к озеру горные реки, строят они мельницы и фабрики. Там, где равнине все же удается добраться до берега, стоят церкви и пасторские усадьбы, а на каменистых склонах разместились крестьянские дворы, дома офицеров и даже господские усадьбы.
Но в те времена, о которых идет речь, в начале девятнадцатого века, равнина еще не была заселена так плотно, как сейчас. Там, где сейчас пашни и выпасы, были леса и болота. И народу было не так много, как сейчас. Промышляли извозом или уходили на заработки в города – прокормиться земледелием было почти невозможно. Одевались в домотканые одежды, ели овсяный хлеб и довольствовались ежедневным заработком в двенадцать шиллингов. Нужда стояла у дверей, но трудолюбивые и умелые люди не унывали. Их и спасали трудолюбие и мастерство, но, к сожалению, лишь в чужих краях эти замечательные свойства были оценены по достоинству.
Стараниями всей троицы – озера, голубых гор и богатой, плодородной равнины – образовался пейзаж, красоту которого трудно вообразить. И обитатели, как всегда бывает, старались соответствовать красоте природы – край и сегодня населен мужественными, одаренными, стойкими людьми. Но в наши дни нищета отступила, появилось образование. Люди стали жить лучше.
Пусть они будут счастливы, обитатели волшебного края на берегах длинного озера Лёвен и голубых гор! Не было бы их, не было бы и моего рассказа, сплетенного из их легенд и воспоминаний.
Ночь перед Рождеством
Его звали Синтрам, злобного заводчика из Форса, с обезьяньим туловищем, непомерно длинными руками и безобразной, вечно ухмыляющейся физиономией, того, для кого не было большей радости, чем сеять зло.
Его звали Синтрам, того, кто нанимал в работники только отпетых негодяев и драчунов, а в служанки – лживых и сварливых девок. Того, кто доводил собак до бешенства, втыкая им в нос иглы, того, кто был счастлив только в окружении мерзавцев и свирепых зверей. Его звали Синтрам.
Его звали Синтрам! Его звали Синтрам, того, для кого не было большего счастья, чем вырядиться под нечистого, надеть шкуру, прицепить рога, хвост и копыта и внезапно вынырнуть в темноте из-за печки или поленницы, пугая до полусмерти суеверных старушек и детей.
Его звали Синтрам, того, кто умел превратить нежную дружбу в непримиримую ненависть, кто отравлял сердца людей ложью и клеветой.
Его звали Синтрам. И в один прекрасный день явился он в Экебю.
* * *
– Волоките санки в кузницу, ставьте посередине и положите сверху днище от телеги, вот и стол готов. Что за праздник без стола! А сидеть на чем? Давайте сюда все, на чем можно зад пристроить. Пустые ящики, треноги сапожников, драные кресла, пуфики, санки без полозьев… а это что? Кузов от коляски? Это будет кафедра. Вы только посмотрите, какая шикарная! Колесо оторвано, стенки неизвестно где, один облучок остался, подушки разодраны и мхом поросли… а кожа вся красная! То ли от стыда, то ли от старости. Ну и развалина! А высоченная, как дом. Подоприте ее оглоблями, чтобы не рухнула.
Ура! Начинается рождественская ночь в Экебю. В двуспальной кровати под шелковым балдахином спит майор, спит майорша… спят и думают, наверное, что и кавалеры во флигеле спят. Как бы не так! Кем надо быть, чтобы такое подумать?
Босые кузнецы не ворочают поковки, чумазые мальчишки-подручные не таскают тачки с углем, молот, похожий на руку со сжатым кулаком, висит на крюке под крышей, печи не открывают свой красный зев, чтобы проглотить очередную порцию древесного угля. Кузница спит.
Спит кузница, спит… Спит устрашающее порождение человеческого разума, а кавалеры не спят! Кузнечные клещи поставлены в ряд, в их челюстях зажаты огарки сальных свечей – чем не канделябры! Рожковый фонарь Беренкройца привязали к молоту под потолком. Из сверкающего двухведерного медного котла вырываются языки призрачного голубоватого пламени – на решетке горит целая голова смоченного ромом сахара, и золотистая карамель стекает в играющий праздничными бликами пунш. Стол готов, сидеть есть на чем. Кавалеры встречают Рождество в кузнице!
То и дело вспыхивает смех. Их не пугает, что кто-то услышит шум застолья, – все заглушает величественный рев порогов за стенами кузницы.
Пирушка в разгаре. Что сказала бы майорша, если бы увидела? Но она ничего не скажет, потому что спит крепким сном в кровати под шелковым балдахином.
А если и проснется, что такого? Она с удовольствием осушила бы с ними стаканчик-другой. Умная женщина, ее не испугает застольная песня, она даже с удовольствием сыграет с ними в партию-другую в шилле[6]. Богатейшая дама в Вермланде, отважная, как мужчина, гордая, как королева. Любит попеть, послушать скрипку или рожок. И от вина не отказывается, и от карт, и застолье ей по душе. Припасы из кладовой – к столу, танцы и песни – пожалуйста, флигель с кавалерами – замечательно. Посмотрите на них у котла с пуншем, только посмотрите на этих кавалеров! Их двенадцать, двенадцать отборных мужей. Не светских мотыльков в модных фраках и обтягивающих панталонах, а настоящих мужей, сильных и отважных. Долго не померкнет их слава в Вермланде.
Высохшие за конторскими книгами пергаментные старики, толстяки, похожие на туго набитые кошельки, – это не про них. Дела их не волнуют. Они бедны и беззаботны. Лучшего имени, чем дала им майорша, и придумать нельзя. Кавалеры.
Не маменькины сынки, не сонные господа в сонных поместьях. Бродяги, пропойцы, весельчаки, искатели приключений.
Уже много лет пустует флигель, где когда-то жили кавалеры. Отставные офицеры и обедневшие дворяне уже не находят там приют. Никто не колесит по Вермланду в зыбких одноколках. По правде сказать, и пользы-то никакой от них не было, но земля без них скучнее. И как хочется, чтобы кто-то воскресил это веселое, вечно юное, беспутное племя!
Все эти знаменитые шалопаи играли на одном или нескольких инструментах. В головах у них, может, ничего дельного и не было, зато там кишели, как муравьи в муравейнике, песни, рифмы и зажигательные ритмы. Этим они были похожи друг на друга, но только этим. Каждый обладал особенным даром, отличавшим его от остальных.
Первым из тех, кто собрался у медного котла с пуншем, назову я Беренкройца, полковника с пышными белыми усами. Этот полковник помнил чуть не все песни Бельмана, но главное – ему не было равных в игре в шилле. Рядом с ним сидит его друг и однополчанин, молчаливый майор Андерс Фукс, великий охотник на медведей. А третий – маленький Рустер, полковой барабанщик. Он долго был денщиком Беренкройца, но был возведен в звание кавалера за несравненное умение варить пунш и держать генерал-бас в многоголосии. Нельзя не сказать и о пожилом подпоручике Рутгере фон Эрнеклу, большом франте и поклоннике женского пола. Он, казалось, никогда не снимал высокий черный шелковый воротник с бантом, жабо и парик, он даже пользовался румянами, как женщина. А как не упомянуть его могучего друга, капитана Кристиана Берга, рыцаря без страха и упрека? Правда, особым умом капитан не блистал: обмануть его было так же просто, как глупого великана из сказок.
В обществе этой пары часто можно было видеть маленького, пухлого Юлиуса, бывшего помещика, которого все называли патроном. Веселый и остроумный, говорун, художник, скальд и настоящий кладезь анекдотов, он постоянно разыгрывал подагрического подпоручика Рутгера фон Эрнеклу и простака-великана Кристиана Берга.
И, конечно, великий немец Кевенхюллер, изобретатель самоходной коляски и летательного аппарата, чье имя до сих пор можно уловить в шелесте листьев в непроходимых лесах. Истинный рыцарь по происхождению, да и вид у него самый что ни на есть рыцарский: эспаньолка, подкрученные усы, орлиный нос и постоянно прищуренные глаза в сети морщин, которые принято называть гусиными лапками. А как не назвать великого воина, кузена Кристофера, никогда не покидавшего кавалерский флигель, разве что для медвежьей охоты или в предвкушении очередного приключения. Рядом с ним – дядюшка Эберхард, философ и мыслитель. Он, может быть, и не поселился бы в Экебю, если бы не страстное желание не думать о ежедневном куске хлеба, а посвятить себя науке наук и закончить свой, без сомнения великий, труд.
А напоследок я оставила лучших из лучших: кроткого и богобоязненного Лёвенборга, который был слишком хорош для этого погрязшего в грехах мира и вряд ли соображал, куда ведут его пути. И, само собой, замечательного музыканта Лильекруну. У Лильекруны собственное поместье, но он и сам смог бы объяснить, что влечет его в Экебю. Скорее всего, душа его слишком жаждала разнообразия и новых впечатлений, чтобы перетерпеть унылую жизнь в захолустье.
Все одиннадцать уже далеко не юноши, а многие уже перешагнули порог старости. Но есть еще один, кому не исполнилось и тридцати, в ком сохранилась и душевная, и физическая молодость. Я говорю о Йосте Берлинге, кавалере из кавалеров! Он превосходил всех в искусстве говорить речи, петь, играть на инструментах, охоте, умении выпить. Я говорю о Йосте Берлинге, заядлом картежнике. Вот о ком я говорю, о Йосте Берлинге, обладающем всеми достоинствами, которыми должен обладать истинный кавалер. Подумать только, какой презент всей честной компании сделала майорша, приведя его в Экебю!
Посмотрите на него, как он взбирается на эту смешную, сделанную из обломков коляски и подпертую оглоблями кафедру! Посмотрите, как шарят по кузнице длинные фестончатые тени с черного потолка, словно набрасывая траурную шаль на его светлую прекрасную голову, голову бога-светоносца, преодолевшего хаос и тьму мира! И он и в самом деле похож на Аполлона – изящный, несказанно красивый, полный жажды новых приключений молодой бог.
Все ждут от него шутки, но он начинает с неожиданной серьезностью:
– Братья-кавалеры! Дело идет к полночи, но праздник продолжается. Теперь самое время поднять бокалы за тринадцатого за нашим столом!
– Йоста, брат мой! – восклицает патрон Юлиус. – Какой тринадцатый? Нас здесь ровно дюжина.
– Каждый год в Экебю умирает один из кавалеров, – голос Йосты с каждым словом становится все мрачней и торжественней, – умирает один из обитателей нашего флигеля, один из веселых, беззаботных, вечно молодых кавалеров. Так и быть должно – кавалер не имеет права состариться. Если дрожат руки и ты не можешь поднять бокал, если угасающие глаза не могут отличить пику от червы, что за радость для тебя от такой жизни? И что за радость для жизни от такого тебя? Каждый год умирает один из тринадцати, и каждый год приходит новый, чтобы пополнить наши ряды. Приходит новый, искусный, как и мы, в ремесле счастья, не чурающийся скрипки и карт. Дневным бабочкам не положено знать, что такое ночь. Они живут, только покуда им светит солнце радости и надежды. Так выпьем же за тринадцатого!
– Но Йоста! – дружно закричали кавалеры, не прикасаясь к бокалам. – Нас же только двенадцать!
А Йоста Берлинг, которого все называли поэтом, хотя он в жизни не написал ни одной поэтической строчки, ни на секунду не смутившись, продолжил торжественно и спокойно:
– Кавалеры, братья мои! Не забывайте, кто мы. Мы – те, кто отвечает за радость в нашем Вермланде. Те, кто не дает покоя смычкам, те, кто не дает остановиться танцам, благодаря нам не смолкают звуки песен и баллад. Наши руки не знают труда, и золото не занимает наши души. Если бы не было нас, угасло бы лето, умерли бы танцы и розы, песни и карты и в этом благословенном краю не осталось бы ничего, кроме железных рудников и заводчиков. Пока мы живы – жива радость. Шесть лет кряду празднуем мы Рождество в кузнице, и ни разу не решались выпить за тринадцатого.
– Но Йоста! – опять закричали кавалеры наперебой. – Нас только двенадцать! Как мы можем пить за тринадцатого?
На лице Йосты отразилось беспокойство.
– Разве? Разве нас только двенадцать? И что же с нами будет? Что же, по-вашему, мы обречены на смерть? На следующий год нас будет одиннадцать, потом десять? И что же, наши имена канут в вечность, будут упоминаться разве что в сказках? Выпьем же за тринадцатого! Я уже поднял за него бокал, и вы сделайте то же самое. Из глубин моря, из недр земли, с небес или из преисподней пусть явится он, чтобы встать в наши ряды. Я призываю тебя, тринадцатый!
И в эту секунду в дымоходе что-то загремело, из печи брызнул сноп искр, и в кузнице появился тринадцатый.
Перепачканный сажей, с рогами, хвостом и копытами, обросший грязно-серой мохнатой шерстью, с острой козлиной бородкой. Кавалеры в ужасе повскакали с мест.
Не испугался только Йоста Берлинг. Громовым голосом возгласил он:
– А вот и тринадцатый! Пьем за тринадцатого!
Конечно, это он, враг рода человеческого, кто ж его не знает… Легкомысленные кавалеры нарушили мир и покой святого Рождества, накликали на свою беду непрошеного гостя. Конечно, это он, подельник сонмища ведьм, непременный участник их шабашей на горе Блокулла, это он подписывает свои договоры кровью на угольно-черной бумаге. Тот самый, что семь дней и ночей танцевал вальс с графиней в Иварснесе, и семь священников не в силах были изгнать его.
Кавалеры, замерев, смотрели и лихорадочно пытались сообразить: ради чьей души явился он в рождественскую ночь? Кое-кто готов был уже дать стрекача, но постепенно до них дошло, что на этот раз нечистый вовсе не собирается заманивать в свои силки заблудшие души, вовсе нет. Оказывается, он не мог противостоять соблазну выпить с кавалерами стаканчик-другой огненного пунша, послушать музыку и песни и поиграть в шилле. Ему надоело сутками напролет исполнять служебные обязанности и захотелось разделить со смертными их радость в святую ночь.
Ах, кавалеры, кавалеры… кто из вас помнит, что это за ночь? Ночь, когда ангелы поют в полях, когда дети боятся проспать светлую заутреню… Скоро уже пробьет час зажигать свечи в церкви, а в лесной хибаре юноша уже приготовил смоляной факел, чтобы освещать своей девушке путь в церковь. Хозяйки выставили в окнах пирамидальные семисвечники, чтобы идущие в церковь прихожане могли полюбоваться на веселые огоньки. Пономарь повторяет псалмы, а старый прост[7] проверяет голос – возраст уже не тот, не дай бог дать петуха. «Слава Го-о-споду нашему на небеса-ах, – повторяет он, напрягая диафрагму, – миру на земле сла-ава, благим пожеланиям сла-ава…»
Ах, кавалеры, кавалеры! Лучше бы вам лежать в своих постелях, чем пировать с исчадием ада!
Но нет, не лежат кавалеры в своих постелях. Кавалеры пируют с исчадием ада.
Понемногу успокоились кавалеры, выпили, как предлагал Йоста, за здоровье тринадцатого, поднесли ему чарку с пылающим пуншем, освободили почетное место за столом. И странное дело… как же велико сатанинское очарование: уже казалось им, что в дьявольской роже, мерзкой харе сатира проступают черты их давних возлюбленных…
Беренкройц предложил партию в шилле, патрон Юлиус спел для него свои лучшие песни, а Эрнеклу затеял разговор о красивых женщинах, об этих прелестных созданиях, украшающих нашу жизнь. О чем же еще говорить с князем тьмы?
Дьявол явно наслаждался обществом – взгромоздился на облучок, аристократически небрежно откинулся на спинку, осклабился и, ухватив когтистой лапой чарку с пуншем, высоко поднял ее над головой.
И конечно, приветственную речь выпало говорить Йосте Берлингу – кому же еще, как не ему, предсказавшему явление нечистого духа.
– Ваша милость, – сказал он, и гулкое эхо его необыкновенного голоса тревожно и волнующе заметалось в притихшей кузнице. – Мы долго ждали вас в Экебю. Мы понимали, что визит ваш неизбежен. Ведь в любой другой рай дорога вам, прошу меня извинить, заказана. Но не в наш. Здесь мы живем, не утруждая себя ни севом, ни ткачеством, ни домашними обязанностями. Жареные голуби сами летят в рот, а горькое пиво и сладкий самогон черпаем мы из ручьев. Кому и оценить, как не вам, – превосходное местечко! И я уже сказал, ваша милость, мы, кавалеры, ждали вас давно. Потому что состав наш не полон. Только не подумайте, что перед вами двенадцать бездельников, готовых следовать за вами в ваши сомнительные чертоги. Нет, берите выше: мы – те самые двенадцать! Мы – те, что правили миром на прячущемся в вечных облаках Олимпе, мы – вся поэзия мира, мы – двенадцать птиц в вечнозеленой кроне Иггдрасиля[8]. Мы – вечные спутники поэзии, где бы она ни начинала вить свои изящные гнезда. Не двенадцать ли было нас за круглым столом короля Артура? Не двенадцать ли паладинов было при дворе Карла Великого? Один из нас был Туром, другой – Юпитером, и эта мерка нам по плечу и сегодня. Разве вы не угадываете золотые доспехи под лохмотьями? Разве вы не видите львов под ослиной шкурой? Время играет против нас, но, когда мы собираемся вместе, деревенская кузница превращается в Олимп, а флигель, в котором мы живем, – в Вальхаллу. Но, ваша милость, ряды наши неполны. Известно, что в бессмертной поэтической дюжине должен быть Локи[9], должен быть Прометей. Его-то нам и недостает. Итак, добро пожаловать, ваша милость!
– Вот это да! Вот это речь! Слово к слову, хоть сейчас в учебник риторики! Жаль, нет времени ответить такой же прочувствованной речью… Дела, ребята, дела. Сейчас должен исчезнуть, но в дальнейшем – ого-го! Клянусь, в дальнейшем готов исполнить в ваших играх любую роль! Спасибо за вечерок, старые трепачи! Увидимся!
Посыпались вопросы – и куда это ваша милость так торопится?
Ответ последовал незамедлительно:
– Благородная майорша, хозяйка Экебю, ждет продления контракта.
Кавалеры онемели от удивления.
Их хозяйка? Суровая, трудолюбивая дама, майорша из Экебю? Ей ничего не стоит поднять бочку с зерном на плечи, она сама сопровождает фуры с рудой из Бергслагена, а оттуда до Экебю путь не ближний. Если придется, спит, как спят батраки, на полу в амбаре, головой на мешке вместо подушки. Зимой проверяет, не погас ли огонь у углежогов, летом провожает плоты по Лёвену. Ругается как сапожник, но без ее слова ничто и с места не сдвинется – ни на ее семи заводах, ни у соседей. Муж ее только и занимается своими ручными медведями. Все знают – она здесь главная. И в своем приходе, и в соседних, а уж если начистоту – во всем Вермланде. Но для своих бездомных кавалеров она как мать. Шли и раньше такие разговоры, мол, нечисто тут дело, уж больно она везучая, эта майорша, – они и слушать не желали. Их покровительница продала душу дьяволу? Смех, да и только.
Но услышать такое от самого нечистого?
Посыпались изумленные вопросы – какой еще контракт?
А он неторопливо и обстоятельно объясняет – да, было дело, он устроил майорше все ее семь заводов в обмен на обещание, что она каждый год будет посылать ему одну душу. Всего одну – не так уж много за семь заводов.
И козлоногий злорадно ухмыльнулся.
Сердца кавалеров похолодели от ужаса.
Только теперь сообразили они, что можно было и раньше догадаться.
Каждый год умирает один человек в Экебю, один из гостей флигеля кавалеров, один из веселых, беззаботных, вечно молодых. На что здесь жаловаться? Это в природе вещей. Кавалеры не имеют права стариться. Что за кавалер, который не может поднять бокал трясущимися руками? Который смотрит гаснущим взором на сдачу и сослепу кидает черву вместо пики? Это уже не жизнь! Дневные бабочки живут, пока светит солнце, они не должны знать, что такое ночь, а когда им пробуют объяснить, они умирают.
Но только сейчас у кавалеров спала с глаз пелена – они поняли!
Будь проклята, женщина! Вот почему ты кормишь нас до отвала, вот почему не жалеешь ни горькое пиво, ни жгучесладкий самогон! Да потому, что мы прямо от буфета с напитками и ломберного столика должны провалиться в преисподнюю, в царство зла, в геенну огненную. Каждый год по одному.
Будь проклята, женщина, будь проклята, ведьма! Мы приходим в Экебю молодыми, полными сил, приходим в твой проклятый флигель – и что? Оказывается, мы приходим на заклание, ты высасываешь из нас жизнь, как паук высасывает жизнь из запутавшихся в паутине мух. В грибы-сморчки обращаются наши мозги, в сухой прах обращаются наши легкие, а душам суждена вечная тьма, и лишь на смертном ложе сознаем мы, какой долгий путь нам предстоит – путь без надежды на спасение!
Будь проклята, женщина! Ты погубила лучших из лучших, а нам, занявшим их место, суждена та же участь.
Кавалеры стояли как парализованные, а тут словно очнулись.
– Ах ты, проклятый нечистый дух! – заорали они наперебой. – Не надейся – никакой контракт с этой ведьмой ты не продлишь. Она умрет. Смотри, Кристиан Берг, наш могучий капитан Кристиан Берг, уже забросил на плечо самую тяжелую кувалду, какая только нашлась в кузнице. Он размозжит этой колдунье голову в лепешку! Наши души она не получит.
– А тебя, адово отродье, пристроим на наковальню и запустим механический молот! Не удерешь – видишь щипцы у стены? Узнаешь, как охотиться за душами кавалеров!
Дьявол труслив, это известно всем, поэтому разговоры про кузнечный молот ему очень не понравились. Он ухватил за рукав капитана Кристиана Берга и начал торговаться.
– Давайте сделаем так, уважаемые кавалеры, – проблеял он. – Вы возьмете себе заводы, все семь, а майоршу отдайте мне.
– Думаешь, мы такие же мерзавцы, как она? Мы никого никому не отдаем. То есть заводы мы получить не прочь, а с майоршей разбирайся сам.
– А что скажет Йоста? – тихо спросил кроткий Лёвенборг. – Пусть Йоста Берлинг скажет. Решение непростое, надо и ему высказаться.
– Вы что, все с ума посходили? – сказал Йоста Берлинг, приходя в себя от изумления. – Кавалеры! Из вас делают идиотов! Что мы без майорши? Души… не знаю уж, что суждено нашим душам, но неужели вы хотите еще при жизни стать неблагодарными предателями и убийцами? Тогда-то уж точно души загубим. Что мы без майорши? Я, например, слишком много лет пользовался ее добротой, ел ее еду и пил ее вино, чтобы ее предать.
– Ну и направляйся к дьяволу, Йоста, если у тебя есть такое желание. А мы не намерены. Почему бы нам самим не управляться в Экебю?
– Не пойму, что с вами. Вроде и не так много выпили. Вы что, и в самом деле поверили? Поверили, что сам дьявол забежал к нам на огонек? Не понимаете, что ли? Все, что он вам наплел, мерзкая ложь и клевета!
– Видите? Видите? Видите? – забормотал нечистый. – Вот вам пример! Вот как далеко дело зашло! Этот парень прожил в Экебю семь лет, а ему и невдомек, куда держит путь… – Тут дьявол запнулся, но все же выговорил ненавистное слово, хотя и произнес его как бы в кавычках: – Куда держит путь его «бессмертная» душа! Берегись, парень! Ой, берегись! Я как-то раз, помнится, уже стоял с лопатой наготове, что подсобить тебе в печку. Да, Йоста Берлинг… упрям ты. Неплохо поработала с тобой майорша. Считай, ты уже наш.
– Она не поработала со мной, а спасла мне жизнь. Что бы со мной было, если бы не она?
– Ну-ну… не забывай, что в ее собственных интересах держать тебя в Экебю. Ты малый даровитый, многих можешь завлечь в ловушку. Она тебя держит как приманку. Помнишь, как-то раз ты пытался улизнуть? И она подарила тебе хутор. Ты якобы собирался работать, зарабатывать себе на хлеб. И чем кончилось? Чуть не каждый день проходила она мимо, будто нечаянно, и каждый раз в компании красоток. Как-то в этой компании оказалась Марианна Синклер – и пошло-поехало. Ты забросил лопату подальше и вернулся в Экебю. Опять подался в кавалеры.
– «Чуть не каждый день», – передразнил Йоста. – Там же дорога проходит! Что ж ей, по пашням ковылять?
– Вот-вот… дорога рядом. А хутор твой случайно у самой дороги. А потом ты нанялся гувернером в Борг, к Хенрику Дона, и чуть не стал зятем графини Мэрты. И кто же все порушил? Разве не майорша сказала Эббе Дона, что ты лишенный сана пастор? И Эбба тебе отказала. Майорша, майорша… Ей надо было тебя вернуть.
– Ну и что? Эбба все равно вскоре умерла. Все равно она мне бы не досталась.
Нечистый дух подошел к нему поближе и наклонился чуть не к самому уху:
– Конечно, умерла. Из-за тебя и умерла. Руки на себя наложила. Разве тебе не говорили?
Йоста вздрогнул.
– Да ты и в самом деле настоящий дьявол! – крикнул он, пришел в себя и засмеялся.
– Еще раз повторю – все это подстроила майорша.
– Силен, силен… А почему бы нам самим не подписать с тобой контракт? Кровью, разумеется… Подписали – и все семь заводов переходят к нам.
– Давно бы так… Своего счастья не понимаешь.
Притихшие кавалеры зашумели. Йоста был первым среди них, и слово его было решающим. Откажись он от сделки – и они бы не стали подписывать. А семь заводов – невиданный подарок судьбы для нищих, как церковные крысы, кавалеров.
– Но заруби себе на хвосте, – сказал Йоста, – мы принимаем от тебя эти семь заводов исключительно для спасения души. Мы не собираемся там хозяйничать, не собираемся пересчитывать доходы и взвешивать привезенную руду. Мы не собираемся превращаться ни в пергаментных желчных старцев, ни в туго набитые кошельки. Мы не собираемся делать ничего, что не пристало кавалерам. Мы остаемся кавалерами.
– Мудрые, мудрейшие слова, Йоста, – угодливо хихикнул дьявол.
– И вот тебе условие: ты передаешь нам эти заводы на год. Ровно на один год. И если за это время сделаем что-то не по-кавалерски, если совершим хоть один разумный, практичный или бабский поступок, забирай свои заводы назад. И наши души в придачу. Пусть другие пользуются этими чертовыми заводами.
Нечистый пришел в восторг от предложения: начал потирать лапы и блеять что-то нечленораздельное.
– Но! – продолжил Йоста и предостерегающе поднял руку. – Но если мы выполним условие, если весь этот год останемся истинными кавалерами, дорога в Экебю тебе закрыта. Никаких контрактов и никакой компенсации за этот год ты не получишь. Ни от нас, ни от майорши.
– Вот ты чего захотел… Но, любезный Йоста, как-то не очень справедливо получается. Вам все, а мне ничего. Может, все-таки сойдемся на одной душонке? Одной-единственной? Майоршу-то я смогу заполучить, с чего бы это вам экономить на майорше?
– Я таким товаром не торгую, – ледяным голосом сказал Йоста, – но если ты и в самом деле нацелился на одну душу, могу предложить Синтрама из Форса. Он уже давно готов с тобой встретиться.
И они подписали контракт на заготовленной нечистым черной бумаге. Йоста Берлинг уколол мизинец, обмакнул протянутое дьяволом черное гусиное перо и поставил свою подпись кровью.
Кавалеры пришли в восторг. Целый год беспечальной жизни – такое только во сне может присниться. А потом как судьба рассудит. Они отодвинули то, что называли рыцарскими креслами, и затеяли хоровод вокруг котла с пуншем. С ними плясал и нечистый, пока не обессилел и не стал пить горящий пунш прямо из котла. Вслед за ним проделал то же самое Беренкройц, потом Йоста Берлинг. А потом кавалеры улеглись на пол – в середине кузницы сиял, как солнце, медный котел, а от него, как лучи от солнца, расходились тела кавалеров. То тот, то другой время от времени делал большой глоток и подталкивал товарища. Наконец они опрокинули котел с горячим липким напитком, хохоча повскакали с пола и переглянулись.
Дьявола с ними уже не было – он незаметно исчез в момент наивысшего веселья. Но его щедрые посулы словно остались висеть в воздухе прокопченной кузницы. Они освещали полумрак, как бесценные королевские украшения, как нимбы над головами непутевых кавалеров.
Рождественский ужин
И конечно же в первый день Рождества майорша пригласила всех на традиционный парадный ужин в Экебю.
Хозяйка сидит во главе накрытого на пятьдесят персон стола. Тот, кто уже составил о ней представление как о грубоватой провинциальной помещице в нагольном полушубке и с трубкой в зубах, приятно ошибется. Не узнать майоршу. Она царит за столом, окруженная облаком палевого шифонового платья, на руках – тяжелые золотые кольца и браслеты, а белоснежную шею украшает ожерелье из крупного жемчуга.
А где же кавалеры, где они, кавалеры? Те, что валялись в кузнице на земляном полу и пили из начищенного медного котла за новых хозяев Экебю, ошарашенные неожиданно свалившимся на них богатством? Где они?
Да вот они – сидят у изразцовой печи. Места за общим столом не нашлось. Слуги приносят им блюда последним, вино подливают не слишком уж щедро, на них не смотрят красавицы, никому не интересны блестящие остроты Йосты Берлинга.
А им хоть бы что. Они смирны, как объезженные жеребцы, как сытые львы. Всего лишь час оставила им ночь для тяжкого хмельного сна. Еще не рассвело, а уже потянулись они с факельным шествием к заутрене под серым от звезд небом. Увидели бесчисленные свечи, услышали рождественские псалмы – и заулыбались по-детски, и забыли ночь в кузнице, как забывают приснившийся кошмар.
Воистину могущественна майорша из Экебю! Никто не осмелится поднять на нее руку, ни у кого не повернется язык ей возразить. И уж конечно, не нищим кавалерам спорить с ней. Место за столом для них выбирает она, а может и вообще не пустить в обеденный зал – мало ли что взбредет ей в голову. Но без ее опеки они бы пропали. Наверное, на всей земле только одно место, где они могли существовать так, как повелевает их природа, и это место – Экебю. Господь да помилует их души, души поэтов, мечтателей и бездельников!
Весело, весело за главным столом! Сияют радостью прекрасные лучистые глаза Марианны Синклер, слышится тихий музыкальный смех графини Дона.
Но за столом кавалеров невесело. Они, которым суждено ради майоршиного богатства быть брошенными в преисподнюю, одному за другим, – неужели они не заслужили права сидеть за общим столом? Неужели они настолько жалки, что их стыдно посадить за стол с другими гостями?
Майорша сидит между простом из Бру и графом из Борга, и по всему видно, ей доставляет удовольствие их общество. Головы кавалеров склоняются все ниже и ниже, как у наказанных детей. И вновь отуманивают им разум и отягощают сердца полузабытые воспоминания этой ночи.
До их стола доносятся остроты и байки, которыми потчуют друг друга парадные гости, и вновь в души закрадывается ночная ярость. Да и хватит ли на их стол жареных рябчиков, которыми как раз в эту минуту слуги обносят гостей? Патрон Юлиус уверяет мрачнеющего с каждой минутой капитана Кристиана Берга, что птичек и на главный стол не хватит. Но это утешение не добавляет кавалерам бодрости.
– Я точно знаю, сколько рябчиков куплено, – говорит Юлиус. – Но нам-то что беспокоиться? К нашему столу она велела зажарить ворон.
Никто не засмеялся, разве что шевельнулись в кислой улыбке повисшие ватные усы полковника Беренкройца. У Йосты Берлинга такой вид, будто он размышляет, не убить ли ему кого-нибудь из гостей.
– Кавалерам и вороны сгодятся, – цедит он сквозь зубы.
Оказалось, опасения напрасны. На их стол тоже приносят полное блюдо роскошных золотистых рябчиков.
Но капитану Кристиану Бергу сама мысль о воронах показалась отвратительной. Он никого и ничего так не ненавидел, как ворон, этих каркающих и хлопающих крыльями выродков птичьего царства.
По осени он даже наряжался в женское платье, наматывал на голову цветную тряпку и изображал пугало – пугало, которого боялись все птицы, кроме ворон. И все для того, чтобы под общие насмешки подкрасться к своим врагам, безмятежно клюющим зерно на пашне, поближе, на расстояние ружейного выстрела.
А весной, когда у ворон начинались любовные игры и они забывали об осторожности, капитан косил ненавистных птиц десятками. Летом отыскивал и разорял гнезда, разбивал яйца, швырял о скалы еще голеньких, с широко разинутыми клювами птенцов.
И он взорвался.
Вгляделся в блюдо с рябчиками и зарычал на слугу:
– Ты, значит, решил, что я их не узнаю? Только потому, что в жареном виде они не каркают? Какая подлость – предложить Кристиану Бергу жареную ворону! Какая подлость!
И он начал швырять рябчиков, одного за другим, в стенку изразцовой печи. Изуродованные тушки шмякались на пол под громовой хохот кавалеров, по изящным сине-белым изразцам бежали коричневые потеки брусничного соуса, которым так гордился майоршин повар-француз. Он даже никому рецепта не сообщал, а когда спрашивали, смешно сдвигал нос в одну сторону, глаза заводил в другую и отвечал: «Игра природных сил».
И тут до ушей капитана донесся зычный голос майорши:
– Выведите его!
Огромный капитан Кристиан Берг словно ослеп от гнева. Он повернулся к майорше, как медведь, только что задравший нападающую собаку, поворачивается к следующей жертве. Медленным, тяжелым шагом, от которого задрожали двухдюймовые доски дубового пола, двинулся он к подковообразному столу, где сидели гости.
– Выведите его немедленно! – еще раз прорычала майорша.
Легко сказать! Необъятная мускулистая туша, грозно нахмуренный лоб, сжатые кулаки величиной с дыню. Никто и не пошевелился – подойти к такому и то страшно, а уж об «вывести» не может быть и речи.
Кристиан Берг остановился напротив майорши и севшим от ярости голосом произнес:
– Я разбил ворону об стенку. Что я неправильно сделал?
– Оставь нас, капитан!
– А совесть у тебя есть? Я спрашиваю – совесть у тебя есть, женщина? Подать ворону капитану Бергу! Дьявол тебя возьми с твоими грязными семью заво…
– Тысяча чертей! В этом доме имею право сквернословить только я! Не сметь! И вон отсюда!
– Думаешь, я тебя боюсь, старая ведьма? Думаешь, не знаю, как достались тебе твои семь заводов?
– Молчи, негодяй!
– Когда Альтрингер помер, он завещал эти заводы твоему мужу… все знают почему. Потому что ты была его любовницей!
– Замолчишь ты когда-нибудь?
– Потому что ты была такой верной женой, Маргарета Самселиус! А твой муж принял подарок, притворился, что ничего не знает… А всем этим рулил… всем этим рулил сама знаешь кто! Сатана всем рулил, вот кто! Тебе конец!
Майорша вздрогнула, побледнела и опустилась на стул.
– Да… ты прав, – подтвердила она тихим, странным голосом. – Теперь мне конец. И это твоя работа, Кристиан Берг.
Услышав эти слова, капитан Кристиан будто очнулся, по лицу пробежала судорога. У него перехватило дыхание, на глазах появились слезы.
– Я пьян! – воскликнул он. – Я сам не знаю, что наговорил! Ни черта я не говорил! Вы ничего не слышали! Пес и раб, раб и пес… вот кем я был для нее сорок лет. Маргарета Сельсинг! Я служил ей, как раб, как пес, всю мою жизнь! Что я могу сказать о ней плохого? Я – пес у ее дверей, раб, готовый на все, лишь бы жизнь ее стала легче. Она может бить меня, пинать ногами… ей можно все! Я люблю ее уже сорок лет! Как я могу сказать о ней что-то плохое?
Удивительное это зрелище – огромный, только что пылавший гневом капитан Кристиан падает на колени, ползет к майорше вокруг всего стола и вымаливает прощение. Целует край ее шелковой юбки, и по щекам его ручьями текут слезы.
А рядом с майоршей сидит невысокий, но крепко сложенный пожилой человек. Курчавые волосы, маленькие, косо посаженные глаза, выпирающая нижняя челюсть. Похож на медведя. Это майор Самселиус – немногословный, замкнутый человек. Долгие годы пробирался он по жизни одному ему известными путями, предоставив ежедневные заботы жене.
Выслушав признания капитана Кристиана, он поднимается со стула. Встают и майорша, и все пятьдесят гостей. Женщины плачут от страха, мужчины стоят как парализованные, а у ног майорши, целуя ее подол, громко рыдает Кристиан Берг. Представьте, только представьте эту сцену!
Широкая, поросшая волосами ладонь майора Самселиуса медленно сжалась в кулак.
Но майорша его опередила. Она заговорила – не так, как обычно, не звонким командным голосом, а глухо и презрительно.
– Ты похитил меня, – бросает она в лицо мужу. – Пришел, как грабитель, и похитил меня. Ты заставил меня побоями, принуждениями и руганью стать твоей женой. Ты получил то, что заслужил.
Майор Самселиус подался к ней со сжатыми кулаками. Она немного отступила и продолжила:
– Даже угорь извивается, когда его режут живьем, хочет ускользнуть. А куда ускользнуть жене от нелюбимого мужа? Только к любовнику. И ты хочешь сейчас отомстить мне за то, что произошло двадцать лет тому назад? Почему ты тогда меня не трогал? Помнишь, как мы жили в Шё, а он в Экебю? Он помогал нам в нашей нищете! Мы катались в его экипажах, пили его вино. Разве мы что-то от тебя скрывали? Или тогда не оттягивало тебе карман его золото? Не принял ли ты от него с благодарностью все семь заводов? Ты молчал и брал, брал и молчал… почему? Почему ты тогда не сжимал кулаки? Почему не бросался меня бить? Тогда, а не сейчас, двадцать лет спустя!
Майор обвел взглядом присутствующих и вдруг понял, что гости с ней согласны. Гости тоже так считают. Никто даже не сомневался, что дары и подношения были платой за его многолетнее молчание.
– Я этого не знал, – пробормотал он.
– Теперь знаешь. – В голосе ее зазвенел металл. – А я-то боялась, что так и умрешь, не узнав. Слава богу, теперь-то ты знаешь… И я могу говорить с тобой откровенно, с моим хозяином и тюремщиком. Так знай еще и то, что я все равно принадлежу ему! Тому, кому и была предназначена, тому, у кого ты меня похитил! И пусть об этом знают все, кто долгие годы шептался и сплетничал за моей спиной!
Ах, ничего нет на свете сильнее любви! Старая, но не умершая любовь звучит в ее голосе, любовью светятся ее прекрасные глаза. Перед ней стоит грозный муж со сжатыми кулаками, гости смотрят на нее со страхом и презрением. И она знает, что всему пришел конец – ее богатству, славе, власти… Но ничто не в силах ее удержать. Ничто не силах помешать ей хотя бы на эти короткие мгновения, хотя бы на словах вернуть счастливейшие воспоминания всей ее жизни.
– Он был настоящий мужчина, добрый и щедрый. А кто ты, чтобы вставать между нами? Таких, как он, больше нет. И не будет. Он подарил мне богатство, он подарил мне счастье, он подарил мне любовь, да святится имя его!
И тут майор, который так и стоял с занесенным для удара кулаком, опустил руку. Он сообразил, как наказать неверную жену.
– Вон! – зарычал он. – Вон из моего дома!
Она замерла.
А побледневшие кавалеры уставились друг на друга. Вот так все и сбывается – все, что предсказал нечистый. Вот они, последствия непродленного контракта! И если это так, значит, дьявол не солгал: майорша и в самом деле больше двадцати лет отправляла их души в преисподнюю.
– Пошла отсюда! – не унимался майор. – Иди просить милостыню на дорогах! Не будет тебе счастья от его денег, не жить тебе в его имениях! Конец майорше из Экебю. И если посмеешь переступить мой порог, я тебя убью.
– Твой порог? Ты выгоняешь меня из моего дома?
– Это не твой дом, а мой! Экебю принадлежит мне!
Майорша заметно растерялась. Она пошла к дверям, а муж чуть не наступал ей на пятки.
Внезапно она резко остановилась:
– Ты отравил всю мою жизнь! И ты считаешь, что в твоей власти взять и выгнать меня?
– Пошла, пошла! Вон!
Она остановилась на пороге, закрыла лицо руками и пробормотала: «Пусть все отрекутся от тебя, как ты отреклась от меня!.. Да станет дорога твоим домом, да будет клок соломы твоей постелью»… Она внезапно поняла – сбывается проклятие матери.
Добродушный прост из Бру и судья из Мункерюда приобняли майора Самселиуса и начали его успокаивать – дескать, зачем бередить старые раны, что было, то быльем поросло, давняя история, надо уметь забывать и прощать.
Он стряхнул их руки с плеч. К нему было страшно подойти – точно как к капитану Кристиану несколько минут назад.
– Давняя история? – рявкнул он. – Давняя? Да я до сегодняшнего дня ничего знать не знал про эту давнюю историю! Знал бы – она давно получила свое, прелюбодейка!
Слово это подействовало на майоршу, как удар кнута.
Она вскинула голову и отошла от дверей:
– Сначала ты уйдешь, а не я! Думаешь, можешь мной командовать? Думаешь, я тебя боюсь?
Майор не ответил. Он следил за каждым ее движением, готовый в любую секунду броситься на нее и разорвать в клочки.
– Помогите мне, господа! Помогите связать и утихомирить этого сумасшедшего, пока он не придет в себя! Не забывайте, кто он и кто я! Подумайте хорошенько: разве я должна ему подчиняться? На мне все огромное хозяйство, а он целыми днями бездельничает, кормит своих медведей в медвежатнике, чтоб им пусто было. Друзья и соседи, помогите! Если меня здесь не будет, пиши пропало. Все же знают, чем крестьяне зарабатывают на жизнь. Рубят мой лес, вывозят мой чугун. Углежоги продают мне уголь, плотогоны сплавляют бревна. Кузнецы, мастеровые, плотники – всем я даю работу. И вы всерьез считаете, что он может удержать все это на плаву? Говорю вам, не будет меня – начнется голод.
Гости закивали, опять чьи-то дружеские руки легли на плечи майора.
– Нет! – почти завизжал он. – Уходите! Кого вы защищаете? Прелюбодейку, клятвопреступницу! Говорю вам, если она не уйдет добровольно, я сам на руках оттащу ее на съедение моим медведям!
Поникли головы, опустились протянутые руки.
И тогда майорша прибегла к последнему средству:
– А вы, мои кавалеры, неужели вы позволите, чтобы меня выгнали из моего собственного дома? Не я ли вытаскивала вас, замерзающих, из сугробов в лютую зимнюю стужу? Или, может, когда-нибудь отказала я вам в кружке горького пива и жгучего самогона? Или требовала от вас денег за пропитание и жилье? Не жались ли вы к моим ногам, как дети льнут к матери? Может быть, вы не танцевали в моих залах? Не проводили дни напролет в безделье и развлечениях? Неужели вы позволите этому человеку, проклятию всей моей жизни, выгнать меня из моего же дома, который никогда бы ему не достался, если бы не я? Неужели вы позволите мне просить милостыню на дорогах?
Пока она говорила, Йоста Берлинг незаметно подошел к красивой темноволосой девушке за столом.
– Ты часто бывала в Борге пять лет назад, Анна, – тихо сказал он. – А ты знаешь, что именно майорша насплетничала Эббе Дона, что я разжалованный пастор?
– Помоги ей, Йоста! – только и смогла выговорить девушка.
– Сначала я хочу знать, правда ли, что по ее милости я стал убийцей.
– Что за мысли, Йоста? Ты же видишь, что происходит. Ей надо помочь.
– Я вижу только, что ты не хочешь отвечать… значит, Синтрам сказал правду.
И Йоста молча вернулся к столу кавалеров.
Нет, не вступился Йоста за майоршу. Не пошевелил пальцем, не сказал ни слова в ее защиту.
О, если бы майорша не посадила кавалеров за отдельный стол у изразцовой печи… если бы не дала им понять, что они здесь люди второго сорта! И не вспомнили бы они о ночных подозрениях – мало ли что привидится спьяну. И не искажены бы были их лица гневом и обидой, ничуть не меньшими, чем гнев и обида обманутого майора. Они тоже чувствовали себя обманутыми и оскорбленными.
Ни следа сострадания в словно окаменевших лицах дюжины кавалеров, поднявшихся с места и стоящих неподвижно вокруг своего унизительного стола.
Разве все, что происходит, не подтверждение пророчеств мохнатого дьявола?
– Контракт не продлен. Вот и результат, – прошептал один.
– Ступай в ад, ведьма! – взвизгнул другой.
– Если бы не муж, мы бы сами тебя погнали!
– Болваны! – попытался урезонить кавалеров старый Эберхард. – Вы что, не соображаете, что это проделки Синтрама? Что это был Синтрам, а никакой не дьявол?
– Понимаем, понимаем, – возразил Юлиус, – и что? Почему это не может быть правдой? Все знают, что Синтрам на побегушках у нечистого.
– Тогда иди, Эберхард, и заступись за нее! – издевательски произнес кто-то. – Ты же не веришь в ад, чего тебе бояться!
А Йоста Берлинг стоял неподвижно, не сказал ни слова.
Нет, и от этих насмешливых, задиристых, легкомысленных обитателей флигеля помощи майорше не дождаться.
И она поворачивается к дверям, сцепляет руки, как в молитве, и еще раз, на этот раз громко и отчетливо, повторяет проклятие матери:
– Пусть все отрекутся от тебя, как ты отреклась от меня! Да станет дорога твоим домом, да будет клок соломы твоей постелью…
Она берется за дверную ручку, но медлит. Воздев вторую руку, как для проклятия, майорша громко и торжественно произносит:
– Но помните, вы, все, кто обрек меня на изгнание! Помните, что придет ваше время. Вы разойдетесь в разные стороны, никто вас не будет здесь держать. И как вы устоите на ногах без такой подпорки, как я? Ты, Мельхиор Синклер, рука у тебя тяжелая, я знаю, что ты поколачиваешь жену, берегись! Ты, пастор из Брубю, помни: скоро грянет приговор. Ты, капитанша Уггла, присматривай за своим домом, нищета уже постучалась в твою дверь! А вы, молодые красавицы… Элизабет Дона, Марианна Синклер, Анна Шернхёк, кому-то из вас тоже придется бродить по дорогам в одиночестве и спать на соломе. А вы, кавалеры, берегитесь! Грянет шторм, и вас сметет с лица земли, как ненужный мусор. Ваши дни сочтены. Теперь они и в самом деле сочтены. Я не жалуюсь на свою судьбу, но мне жаль вас… разразится буря, и кто из вас устоит, если я упаду? Сердце мое разрывается от жалости к бедному люду. Кто даст им работу, когда меня не будет?
Она уже почти открыла дверь, но ее остановил возглас:
– Подожди!
Капитан Кристиан Берг, до этого лежавший неподвижно у майоршина стула и за все время не сказавший ни слова, поднялся на ноги.
– И сколько мне валяться у твоих ног, Маргарета Сельсинг? Прости меня, и я готов сражаться за тебя хоть с самим дьяволом!
Майорша замирает на месте. Видно, какая тяжкая внутренняя борьба происходит в ее душе. Но она понимает: если она простит его, если позволит ему вступить в поединок с ее мужем, то глупый великан, преданно любивший ее сорок лет, станет еще и убийцей. Этого она допустить не может.
– Я же должна и прощать? – сухо и спокойно произносит она. – Тебя? Тебя, из-за которого я должна покинуть свой дом? Садись на место, Кристиан Берг, и радуйся делу своих рук. Ты сделал все что мог.
И она ушла. И закрыла за собой дверь, оставив в зале тягостную, ничего хорошего не предвещающую тишину. Она проиграла, но даже в унижении была величественна и прекрасна. Не просила, не умоляла, не выказала ни малейшего признака слабости. До старости помнила она пронесенную через всю жизнь любовь и не изменила ей даже в роковую минуту. Не унизилась до плача, глаза ее были сухи и горели странным огнем, будто и не страшилась она нищенского посоха и сумы. И ни о чем не пожалела. Жаль ей было только бедных крестьян и мастеровых. И, конечно, двенадцать беспутных кавалеров, тех, кому она помогла подняться на ноги и защищала от ударов судьбы.
Все ее предали, но она нашла в себе мужество, чтобы удержать своего последнего друга и поклонника от гибельного шага. От убийства.
Удивительная женщина. Такие редко появляются на белый свет, и никто не знает, появится ли когда-нибудь подобная.
На следующий день майор заколотил двери и переехал в собственное поместье в Шё, рядом с самым большим из их заводов.
В завещании Альтрингера, благодаря которому майор получил все заводы, было ясно и четко указано, что ни один из них не может быть продан или подарен, а после смерти майора все имущество переходит к его жене и потомству. Полный бессильной злобы, что не может избавиться от ненавистного наследства, он принял решение: поставить управлять всеми своими заводами майоршиных кавалеров. Посчитал, что большего вреда наследству Альтрингера нанести невозможно.
А кавалеры? Они поверили, что злобный Синтрам и в самом деле на побегушках у врага рода человеческого. Все, что напророчил он ночью в кузнице, сбылось с необыкновенной точностью. Что ж, и кавалерам надо соблюдать договор – в течение года они не должны совершить ни единого разумного или полезного поступка. Никто из них даже не сомневался, что майорша и в самом деле злобная ведьма, вознамерившаяся погубить их бессмертные души.
И только старый Эберхард, философ, подсмеивался над их дурацкой, как он ее называл на своем философском языке, верой в злого духа. Но кто его слушал, старого скептика, настолько упрямого в своем неверии, что, если бы его привели в преисподнюю и показали сонмища ухмыляющихся бесов, он все равно утверждал бы, что они не существуют, потому что не должны существовать и не могут существовать. Именно поэтому дядюшка Эберхард и был великим философом.
А Йоста Берлинг помалкивал. Ни с кем не поделился, не сказал, что он думает о всей этой истории. Нельзя сказать, чтобы он таял от благодарности к майорше за то, что она привела его в Экебю и сделала кавалером. Иной раз приходило в голову, что ему следовало бы умереть в далеких лесах, как он жаждал когда-то. Это наверняка было бы лучше, чем чувство непреходящей жгучей вины в самоубийстве Эббы Дона. Он не кинул в майоршу свой камень, но и пальцем не пошевелил, чтобы ей помочь. Не смог себя заставить.
А для кавалеров настала веселая жизнь. Они купались в почестях и богатстве. Рождественские праздники прошли в непрерывных пирах. Йоста Берлинг ни с кем не делился горем, тяготившим его сердце, а по лицу его прочитать что-либо невозможно.
Йоста Берлинг, поэт
Рождественские праздники продолжались, на этот раз бал давали в Борге.
В те времена в Борге жили молодой граф Дона с красавицей женой. Поженились они совсем недавно, и все надеялись, что не прошли еще у графа первые восторги и бал должен получиться веселым.
И в Экебю пришло приглашение, но так вышло, что захотел поехать только один – Йоста Берлинг. Тот самый Йоста Берлинг, которого друзья называли поэтом.
И Борг и Экебю построены на берегу, только с разных сторон озера Лёвен, поэтому относятся к разным приходам. Борг принадлежит приходу Свартшё, а Экебю – приходу Бру.
По прямой довольно близко, но когда, навигация закрыта, а лед еще не встал, приходится добираться вокруг озера, Кавалеры порылись в сундуках и принарядили неимущего Йосту Берлинга, как принца, – не посрами, Йоста, честь кавалерства!
Новый фрак с серебряными блестящими пуговицами, накрахмаленное жабо, лакированные сверкающие ботинки. Ботинки особо заботили кавалеров: они качали головами, рассматривали их чуть не в лупу и снимали невидимые пылинки. На плечи накинули бобровую шубу. Мало того, в беговые сани кинули новую медвежью полость с устрашающими когтями на лапах и запрягли не кого-нибудь, а самого Дон Жуана, красавца жеребца, гордость майоршиной конюшни.
Йоста Берлинг легко вспрыгнул на санки, уверенно взялся за плетеные вожжи и свистнул Танкреда[10]. Молодым и непобедимым чувствовал он себя, а блестки инея на лоснящейся черной шкуре Дон Жуана словно подчеркивали окружающие его богатство и роскошь.
Выехал Йоста довольно рано. Было воскресенье, и, проезжая, он слышал пение псалмов в церкви Бру. Дальше узкая дорога вела через лесок в Бергу, в дом капитана Угглы. Там он намеревался отобедать.
Бергу никак не назовешь богатым поместьем. Мало того, нужда не раз прокладывала тропу к крытой торфом усадьбе. Но встретили Йосту с распростертыми объятиями, с песнями и шутками. Ему были рады, ему, как и остальным. Впрочем, нужда – такой же гость, а гостям в доме капитана Угглы рады всегда.
Старая домоправительница Ульрика Дильнер, на которой лежало все хозяйство в усадьбе, выбежала на крыльцо и сделала такой глубокий книксен, что Йоста даже испугался, как бы она не упала. На ее морщинистых, с вечным загаром щеках кокетливо затряслись накладные кудельки.
Она проводила Йосту в зал и начала без передышки рассказывать, как неустойчива и переменчива жизнь в усадьбе.
Беда у дверей, горько поведала она. Тяжелые времена. Даже хрена не нашлось к солонине! Сами подумайте: Фердинанд запряг Дису и поехал одалживать хрен в Мункерюд!
А сам капитан на охоте, принесет какого-нибудь тощего зайца, в него масла столько вбухаешь, сколько сам заяц не стоит. Но капитан горд несусветно – я, дескать, обеспечиваю хозяйство мясом! А то, не к ночи будь сказано, лису притащит – дурнее зверя Господь наш не создал, проку никакого, что от живой, что от дохлой.
А капитанша… спит пока, еще не проснулась. Полночи романы читала. Не создана она для работы, божий ангел.
Нет, не создана… только седая старуха Ульрика Дильнер с утра до ночи на ногах, хлопочет, пытается хоть как-то свести концы с концами. А не легко это, уж поверьте мне, дружок, ох, не легко… всю зиму на одной медвежатине. И жалованья ей не платят, старой Ульрике. Спасибо, на дорогу не выбросили, а ведь и выбросят, как увидят, что проку от нее мало. Нет-нет, это уж я так, хозяева хорошие, за человека ее считают, старую вешалку, глядишь, и похоронят по-человечески. Если, конечно, денег на гроб наскребут.
– А кто знает, как дело обернется? – воскликнула она неожиданно звонким, молодым голосом и вытерла легко набежавшую слезу. – По уши в долгу у этого негодяя, заводчика Синтрама, не к ночи будь сказано, а он ведь может не только меня, а всю семью разорить и выгнать на улицу. Хорошо хоть Фердинанд помолвлен с богатенькой Анной Шернхёк, но мне-то мнится, не к ночи будь сказано, надоел он ей.
– Что ты, Ульрика, все «к ночи» да «к ночи»? Утро на дворе! – улыбнулся Йоста.
– Поговорка такая… И что с нами будет? С тремя-то коровами да девятью лошадками? А с девицами нашими веселыми? Им бы только с бала на бал порхать. С нашими сухими пашнями, где ничего не растет, с Фердинандом? Добрый мальчик, только пора бы и мужчиной стать. Что-то будет с этим домом, с этими замечательными людьми, храни их Бог? Ничего не хочу сказать, хорошие люди, все их любят, и они всех любят. Всех любят, все любят… лишь бы не работать.
Постепенно стал собираться народ. Появился добродушный Фердинанд – ему удалось-таки занять хрен в Мункерюде. Веселой стайкой выпорхнули дочери, вернулся и сам капитан, розовый и возбужденный после охоты и купания в проруби. Он распахнул настежь окно – видно, после леса ему не хватало воздуха – и встретил Йосту крепким мужским рукопожатием. И последней явилась капитанша в пеньюаре. Она протянула Йосте Берлингу руку для поцелуя, и кружевной рукав соскользнул чуть не до плеча.
Настроение у всех было приподнятое. А какое может быть настроение в солнечное зимнее утро? Шутки, смех.
– Как вы там, в Экебю… в земле обетованной?
– Молочные реки, кисельные берега, – в тон ответил Йоста. – Освобождаем горы от лишнего железа и наполняем винные погреба. Вырубаем лес и строим кегельбаны и беседки. Ждем, когда пожелтеют поля – будет чем позолотить нашу жизнь.
Капитанша улыбнулась, но тут же вздохнула и произнесла одно-единственное слово:
– Поэт!
– Во многих грехах повинен, – сказал Йоста с притворной серьезностью, – но этим никогда не грешил. У меня за душой нет ни единой поэтической строки.
– Все равно вы поэт, Йоста Берлинг. Придется вам примириться с этим званием. Вы пережили больше поэм, чем написал иной плодовитый стихотворец…
И она начала пространно говорить о его растраченной жизни, о том, как плохо он распоряжается данными ему Богом дарованиями. Странно, но Йосту это почему-то не раздражало – настолько мягки и ласковы были ее почти материнские интонации, настолько его тронуло, что эта добрая, мечтательная женщина так искренне заботится о его судьбе. Мало того, она ждет от него великих подвигов.
– Я должна дожить до того дня, когда вы станете настоящим мужчиной, Йоста Берлинг.
За едой было весело и уютно. Мясо с хреном, капустой и обжаренными во фритюре вафлями, рождественское темное пиво. Йоста начал рассказывать о майоре, майорше и пасторе из Бру; слушатели то умирали со смеху, то на глазах у них появлялись слезы.
И в этот миг со двора донесся звон бубенцов, раздались крики, и в дом ввалился Синтрам.
Он прямо лучился от радости – весь, от лысой головы до ступней, – размахивал руками и строил гримасы.
– А слышали? Помолвка! Нынче в церкви Свартшё первое оглашение[11]! Анна Шернхёк выходит замуж за богатея Дальберга! Должно быть, бедняжка позабыла, что помолвлена с Фердинандом… Ну и память у молодых…
Разумеется, никто ничего не слышал. Удивление очень быстро сменилось отчаянием.
Надежды рухнули. Теперь им точно придется продавать имение, чтобы расплатиться с этим злобным уродом Синтрамом. Продать любимых коней… прощай, роскошная густавианская мебель, капитаншино приданое, прощай, веселая жизнь с пирушками и балами. Вновь медвежатина, а молодым придется искать работу на стороне, наниматься дворецкими и гувернантками.
Капитанша обняла сына и стала его утешать – женщины ветрены, но материнская любовь вечна и неизменна.
Но не забывайте! С ними был Йоста Берлинг, непобедимый Йоста Берлинг, поэт Йоста Берлинг! И в голове поэта Йосты Берлинга уже роился десяток планов.
– Рано падать духом! – воскликнул он. – Послушайте, всю эту комедию затеяла пасторша из Свартшё. Она имеет на Анну влияние, особенно теперь, когда Анна живет у нее в усадьбе. Это она уговорила Анну оставить Фердинанда ради старика Дальберга… но еще ничего не потеряно! Они пока не обручены, и надеюсь, не будут. Я сейчас же еду в Борг и найду Анну. Поговорю с ней, рассею это наваждение! Она во власти пасторши… я привезу ее сюда, и старому Дальбергу не видать ее как своих ушей.
Йоста собрался в путь. Ему наперебой желали удачи, а барышни даже напрашивались ехать с ним, но он отшутился. А Синтрам, предвкушающий, как утрут нос Дальбергу, остался в Борге дожидаться, пока Йоста привезет сбежавшую невесту. Он даже навязал Йосте зеленый дорожный кушак, подарок экономки Ульрики. Та, должно быть, всеми силами старалась улестить опасного кредитора.
А капитанша принесла три небольшие книжки, перевязанные красной ленточкой.
– Возьми, – сказала она. – Пусть, если у нас все развалится, останутся у тебя. Это «Коринна» мадам де Сталь. Не хочу, чтоб ее продали с молотка.
– Неудача исключена, – заверил ее Йоста.
– Ах, Йоста, Йоста… – Она провела ладонью по его русой голове. – Никого нет сильнее тебя, но и слабее не найти. На сколько тебя хватит? Как долго будешь ты помнить, что в твоих руках судьба целой семьи? Час? Два? Семьи, которую ты можешь спасти от разорения…
И вновь Йоста Берлинг на заснеженной дороге, вновь сидит он, укрытый медвежьей полостью, в легких беговых санках, с Дон Жуаном в упряжке и неутомимым псом Танкредом. Танкред, не отставая, но и не забегая вперед, весело косит на хозяина карим глазом.
Предвкушение приключения занимает душу нашего героя, он чувствует себя грозным соблазнителем, рыцарем, Дон Жуаном, похитителем невест.
И вот наконец пасторская усадьба в Свартшё.
Йоста спрыгивает с санок и идет в дом. Не хочет ли Анна, чтобы он подбросил ее на бал? Что за вопрос – конечно, хочет! Кто не хочет прокатиться в легких, элегантных беговых санках, да еще запряженных самим Дон Жуаном?
Долго ехали, не говоря ни слова. Прервала молчание Анна.
– А слышал ли Йоста, что говорил сегодня пастор? – спросила она с вызовом.
– И что он сказал? Что ты самая красивая девушка между Лёвеном и Кларэльвом?
– Йоста Берлинг сморозил глупость, как всегда. Пастор огласил мою помолвку с Дальбергом. Все уже знают.
– Не может быть! Если бы я знал, ни за что не предложил бы подвезти.
– Добралась бы как-нибудь и без Йосты Берлинга, – гордо ответила девушка.
– Что-то с тобой не так, – задумчиво произнес Йоста. – Я понимаю, нелегко это – девушке остаться сиротой. Кажется, весь мир против тебя. Вот ты и стала такой – лишь бы разозлить кого-нибудь. Никогда не знаешь, чего от тебя ждать.
– Жаль, ты все это сразу не сказал. Ни за что бы с тобой не поехала.
– И пасторша наверняка так подумала: тебе нужен кто-то, кто заменил бы отца. Иначе ни за что не посоветовала бы тебе выходить за эту развалину.
– Это вовсе не пасторша решала.
– Что? Значит, ты сама выбрала такого блестящего жениха?
– Он, по крайней мере, женится на мне не ради денег.
– Нет, конечно… стариков, как известно, интересуют только розовые щечки да голубые глазки… он просто изнемогает от нежности и желания.
– Йоста! Как тебе не стыдно!
– Только помни: играм и развлечениям конец пришел. Будешь сидеть на диване или ставить мужу примочки. Впрочем, зря это я. Глядишь, научит тебя в виру играть.
Она не сказала ни слова, пока Дон Жуан преодолевал довольно крутой подъем в Борг.
– Спасибо, что подвез! Думаю, не скоро решусь я с тобой прокатиться, Йоста Берлинг!
– Вот и правильно! Только не пожалей…Теперь-то, я думаю, мало найдется желающих с тобой прокатиться.
Анна, все еще в ярости от разговора, вошла в зал и надменно оглядела собравшихся. И надо же, первым, кого она увидела, был ее жених – маленький, лысый Дальберг. И стоял он рядом с элегантным, высоким, русоволосым Йостой Берлингом. У нее на секунду возникло желание вытолкать из зала обоих.
Жених подошел пригласить на танец, но она окинула его презрительным взглядом:
– Вы собрались танцевать? Вы же не танцуете!
Подбежали подруги – поздравить с помолвкой.
– Не валяйте дурака, девушки, – раздраженно прошипела Анна. – Не думаете ли вы, что я выхожу замуж по любви? Но Дальберг богат, и я богата, так что друг другу мы подходим.
За девушками последовали дамы – пожать руку и пожелать счастья.
– Поздравляйте пасторшу! – огрызнулась Анна. – Она рада куда больше меня.
И покосилась на Йосту Берлинга – его окружили гости, каждое его слово в сопровождении ослепительной белозубой улыбки встречали смехом и чуть не аплодисментами. Его речи заставляли забывать о прозе жизни, они ложились, как золотая пыльца ложится на серую холстину, превращая ее в драгоценную, сверкающую ткань. Никогда она не видела его таким. Он, оказывается, вовсе не изгой, не один из никчемных приживалов майорши, не бездомный паяц, нет, он выглядел среди других мужчин как настоящий король. Он и был королем этого бала.
А ее не пригласил ни один человек. Они что, все в заговоре против нее? Наверняка их подговаривает этот хлыщ, Йоста Берлинг! Хочет дать ей понять, какую глупость она делает, отдавая свое прекрасное тело и свои богатства этому сморчку Дальбергу… Десять танцев она простояла у стены, и ни один, ни один даже не подошел к ней!
Она кипела от гнева.
На одиннадцатый танец, мазурку, ее пригласил самый ничтожный из гостей, который, как и она, весь вечер подпирал стену.
Она покачала головой и ядовито спросила:
– Неужели весь хлеб съеден? Пора переходить на сухари?
Начали играть в фанты. Несколько девушек пошептались, встав в круг и склонив друг к другу светлокудрые головки, и присудили Анне поцеловать того, кто ей милее всех на этом балу. Они поочередно прыскали в рукав – должно быть, ожидали, что она выберет старика Дальберга.
Анна встала, еле удерживая слезы, и произнесла сквозь зубы:
– А можно я вместо поцелуя дам оплеуху? Но не тому, кто всех милее, а тому, кто всех мерзее?
И не успели девушки пикнуть, как щека Йосты Берлинга уже горела от полновесной пощечины, которую ему влепила строптивая и гордая Анна Шернхёк.
Он покраснел как рак, но взял себя в руки, схватил ее за запястье и тихо сказал:
– Жду тебя через полчаса в красной гостиной!
Анна оцепенела. Из его голубых глаз лилось такое упоительное сияние, такая колдовская сила, что она не могла выдавить ни слова. Сама не понимая почему, молча кивнула головой.
Но там, внизу, колдовство прошло. Встретила его холодно и надменно:
– Хотела бы я узнать, что за дело Йосте Берлингу до моего замужества?
Йоста уже приготовил убедительную речь, но спохватился – ему показалось, что сейчас разговор о Фердинанде не уместен. Можно все испортить. Анна, чего доброго, решит, что его наняли сватом. Поэтому он решил продолжать свою линию:
– Не думаю, что это такой уж тяжкий штраф за нарушенные обещания и даже клятвы – пропустить десять танцев. Другой на моем месте придумал бы что-нибудь похлеще.
– Какое тебе дело? Оставьте меня в покое! Вы все ухлестываете за мной ради денег… проклятые деньги! В один прекрасный день я побросаю их в Лёвен и буду смотреть, как вы за ними ныряете. Боюсь, передеретесь.
На слове «передеретесь» голос ее сорвался, она отвернулась, закрыла лицо руками и заплакала от незаслуженного унижения.
И сердце поэта дрогнуло. Ему вдруг стало стыдно – зачем он был так суров?
– Девочка моя, девочка, прости меня! Прости бедного Йосту Берлинга. Я ничтожный человек. Я никому не интересен. Ты же знаешь… всем наплевать, что я говорю, что я делаю, мои слова волнуют людей не больше, чем комариный укус. А я всего-то не хотел, чтобы самая красивая, самая богатая девушка в уезде отдала себя такому старику. Хотел уговорить, а вместо этого обидел и огорчил…
Он сел рядом на козетку и нежно положил руку на талию.
Анна не отстранилась. Она прижалась к Йосте, обхватила за шею и положила голову ему на плечо.
Ах, поэты, поэты… нет никого среди рода человеческого, кто сравнялся бы с вами силой, но и слабость ваша не имеет границ!
– Если бы я знала, – прошептала она, – если бы я только знала, никогда не дала бы согласия Дальбергу. Если бы я знала… я смотрела на тебя весь вечер… Йоста, они все ничтожества рядом с тобой.
– Фердинанд… – побледневшими губами прошептал Йоста Берлинг.
Она запечатала ему рот поцелуем.
– Ничтожество. По сравнению с тобой – ничтожество. Таких, как ты, больше нет. Тебе я буду верна по гроб.
– Я – Йоста Берлинг, – мрачно сказал он. – За меня ты не можешь выйти замуж. Я – никто.
– Ты – тот, кого я люблю. Лучший из мужчин. Тебе и не надо быть кем-то. Ты рожден королем.
И при этих словах кровь бросилась поэту в голову. Ее слова были полны такой нежности и ласки, что он забыл обо всем.
– Если хочешь быть моей, ты не можешь оставаться у пасторши. Я сейчас же, ночью, отвезу тебя в Экебю! Там я смогу быть тебе защитой и опорой, пока мы не отпразднуем свадьбу.
О, надо было видеть это ночное путешествие! Оглушенные зовом любви и ослепленные ее блеском, они мчались сквозь морозную, не знающую конца и края ночь. Дон Жуан нес их, пофыркивая от передавшегося ему возбуждения седоков, а скрип полозьев напоминал жалобу обманутых ими претендентов на ее руку. Какое им дело? Она не разжимала объятий, а он шептал ей в ухо:
– Нет ничего слаще ворованного счастья!
Помолвка… что им до помолвки? Что еще за помолвка, когда вспыхнуло пламя истинной любви? А людской суд? Йоста Берлинг верил в судьбу. Судьба – высший суд. И судьба распорядилась именно так, а с судьбой не поспоришь. И даже если бы звезды в огромном ночном небе оборотились зажженными канделябрами, а колокольчики на шее Дон Жуана – церковными колоколами, созывающими прихожан на свадьбу Анны Шернхёк со стариком Дальбергом, ничего бы не изменилось. Судьба повелела ей бежать с Йостой Берлингом.
Такова сила судьбы.
Они уже миновали пасторскую усадьбу и Мункерюд. Оставалось всего полмили[12] до Берги и еще полмили до Экебю. Дорога петляла по опушке леса. Направо неясным силуэтом громоздились скалы, налево – бескрайняя, серебристо отсвечивающая в лунном свете долина с наделами арендаторов, огороженными низкими, едва заметными под снегом заборчиками.
Танкред стелился в беге так, что иногда казалось, будто он лежит на снегу и неведомая сила влечет его вперед. Но вдруг он прижал уши, заскулил, одним прыжком запрыгнул в сани и оказался в ногах Анны Шернхёк.
Дон Жуан вздрогнул и резко прибавил ходу.
– Волки! – крикнул Йоста Берлинг.
Они увидели серую подвижную линию, похожую на набегающую волну в спокойном море. Волков было не меньше дюжины.
А Анна, как ни странно, не испугалась. День был настолько полон событиями, что появление волков ее не удивило – подумаешь, еще одно препятствие на пути к счастью. Это была настоящая жизнь – мчаться с любимым по искрящемуся под луной снегу, назло людям и ночным хищникам! Она громко засмеялась.
– Ты боишься? – крикнула она Йосте, перекрывая шум ветра и скрип полозьев. – Посмотри, они даже не гонятся за нами!
– Они бегут наперерез! Они настигнут нас там, на повороте.
Дон Жуан все прибавлял шагу, соревнуясь с лесными разбойниками, а Танкред непрерывно скулил от бессилия и страха.
У поворота волки и в самом деле поравнялись с санями, но Йосте удалось отогнать вожака кнутом.
– Ах, Дон Жуан, мальчик мой… ты бы легко ушел от волков, если бы не мы, люди…
Он развязал подаренный Синтрамом зеленый кушак и замахал им в воздухе. Волки ненадолго отстали, испугались, но потом преодолели страх и вновь пустились в погоню. Они были уже совсем рядом с санками, уже можно было разглядеть разинутые пасти с высунутыми языками, то и дело вспыхивающие белыми слепыми огоньками глаза.
И тогда Йоста схватил подарок капитанши – перевязанную ленточкой «Коринну» мадам де Сталь и швырнул в пасть вожаку.
Опять небольшая передышка, но хищникам понадобилось несколько секунд, чтобы растерзать в клочки знаменитый роман. Они вновь догнали санки, и седоки вновь слышали их запаленное дыхание, вновь чувствовали легкие толчки, когда они пытались ухватиться зубами за зеленый кушак Синтрама.
Йоста понимал, что Дон Жуан скоро выдохнется, что здесь нет ни одной усадьбы, кроме Берги, ни одной деревни. Если они не свернут в Бергу, гибель неминуема. Но возвращаться к людям, которых он так жестоко обманул, казалось Йосте еще страшнее смерти. Может, это и есть его судьба – гибель в далеких лесах? Но при чем тут Анна?
Они уже видели усадьбу капитана Угглы на опушке. В окнах горел свет – и Йоста понимал, для кого он горит.
А волки, приметив человеческое жилье, ретировались – исчезли, словно их и не было.
Санки пронеслись мимо Берги. На опушке, там, где дорога вновь уходила в лес, Йоста натянул вожжи, и Дон Жуан остановился как вкопанный. В чаще блеснули волчьи глаза. Хищники их уже поджидали.
– Повернем назад, скажем пасторше, что решили покататься при луне.
Они повернули, но какое там! Уже через несколько минут волки начали вновь сжимать кольцо, мелькали совсем близко, как серые призраки, молча. Лишь изредка какой-нибудь новичок в стае издавал короткий голодный вой. Стоит отъехать хоть на десяток саженей, и они обречены – острые клыки вонзятся в беззащитную человеческую плоть. Отдаленный свет в усадьбе волков уже не пугал. Они осадили Дон Жуана и прыгали, извиваясь в воздухе и стараясь ухватить коня за горло.
Анна замерла. Ей пришла в голову дикая мысль – а что, если волки сожрут их без остатка, а что, если никто и никогда не узнает, что с ними случилось? Или все же останутся какие-то ошметки на окровавленном снегу?
– Дело жизни и смерти! – крикнула она, нагнулась, схватила Танкреда и хотела швырнуть собаку волкам.
– Оставь его! – рявкнул Йоста. – Это ничего не даст. Им не собака нужна, а мы. – И он хлестнул коня.
Слава богу, все обошлось – через несколько минут сани въехали во двор усадьбы капитана Угглы. Волки преследовали их чуть не до крыльца, так что Йосте пришлось отгонять их кнутом.
Он остановился на крыльце и повернулся к девушке.
– Анна, – медленно и серьезно сказал он. – Бог не хочет этого. И если ты и в самом деле та, за кого я тебя принимаю, у тебя хватит сил держать язык за зубами.
В доме услышали звон колокольчиков, и почти все обитатели выскочили на крыльцо.
– Он привез ее! Он ее привез! – закричали они вразнобой. – Да здравствует Йоста Берлинг!
И бросились обнимать гостей.
Никто не задавал вопросов. На дворе глухая ночь, путешественникам нелегко далась дорога, и им надо дать отдохнуть. Главное сделано: Йоста привез Анну.
Все обошлось. Отделались романом мадам де Сталь, так высоко ценимым капитаншей, и зеленым кушаком Синтрама.
* * *
Весь дом уснул. Йоста потихоньку оделся, незаметно вывел из конюшни Дон Жуана и запряг его в сани. И тут на крыльце появилась Анна.
– Я слышала, как ты встал, – сказала она. – Я готова ехать.
Он подошел к ней и взял за руку:
– Ты еще не поняла? Этого не будет. Бог не хочет этого, попробуй понять! Я обедал у них, я слышал, какое горе ты им причинила своей предстоящей свадьбой с этим Дальбергом. И я поехал в Борг, чтобы уговорить тебя вернуться к Фердинанду. И вот что из этого вышло… только такой законченный негодяй, как я, мог так поступить. Я чуть не предал Фердинанда ради собственного счастья. Его мать, пожилая женщина, надеется, что когда-нибудь я стану мужчиной. Ее я тоже чуть не предал. И еще одна бедная женщина готова терпеть голод и холод, лишь бы жить в этой семье, лишь бы остаться среди друзей. А я собирался позволить Синтраму отнять у них все. Ты прекрасна, Анна, грех сладок, а Йоста Берлинг не из тех, кто долго сопротивляется соблазну. Что я за человек! – воскликнул он с рыданием в голосе. – Я же все знал! Знал, что значит для них этот дом, что значит для них возможность провести остаток дней в мире и покое, среди друзей и близких, и все же чуть не обрек их на разорение. Но теперь, Анна, когда я увидел, как они обрадовались твоему приезду – нет! Я не могу предать их еще раз. И не могу остаться с тобой, Анна, хотя ты наверняка могла бы сделать меня человеком. Я не имею права на тебя… О, любимая! Он, там, в небесах, играет нашими страстями и желаниями. Наверное, это Его право, но сейчас самое время склониться перед Ним, следовать Его указующему персту. Скажи, скажи мне, что с этого дня ты согласна нести свою ношу, потому что это не моя воля и даже не воля Фердинанда, а воля самого Бога! Все в этом доме верят в тебя, они тебя боготворят, скажи же, что ты останешься с ними и будешь им поддержкой и опорой! Обещай мне облегчить мое горе и разочарование в самом себе! Если ты любишь меня, обещай это! Я знаю, твое сердце щедро и открыто, ты можешь победить себя, ты можешь скрыть разочарование за ласковой улыбкой, ты можешь помочь в беде этим беспомощным людям.
И произошло то, чего он не ожидал. Анна кивнула. Глаза ее сверкали восторгом самоотречения и внезапного просветления.
– Я сделаю, как ты скажешь, Йоста. Я пожертвую собой, пожертвую с радостью и улыбкой.
– И ты не возненавидишь моих бедных друзей?
Она печально улыбнулась:
– Я буду любить их, пока люблю тебя.
– Только теперь я понял, – сказал Йоста тихо. – Только теперь я по-настоящему понял, какое ты сокровище и что я теряю. Как горько покидать тебя, любимая…
– Прощай, Йоста! Да хранит тебя Господь. Постараюсь, чтобы моя любовь не стала для тебя искушением и соблазном, – сказала она еле слышно и повернулась, чтобы идти в дом.
Он взял ее за руку:
– И ты скоро забудешь меня?
– Поезжай, Йоста! Мы всего только люди.
Анна захлопнула за собой дверь.
Он вскочил в санки, но она вновь появилась на пороге и подбежала к нему:
– А волки?
– Я как раз о них подумал. И знаешь, я уверен – этой ночью они меня не тронут.
Йоста хотел обнять ее в последний раз, но Дон Жуан нетерпеливо дернул санки, и он так и остался сидеть с протянутыми для объятия руками. Он даже не дотронулся до вожжей. Откинулся на спинку сиденья, оглянулся и горько заплакал.
Счастье было совсем рядом, и он сам его оттолкнул. Почему он не сохранил ее, эту прекрасную, нежную, страстно полюбившую его девушку?
Ах, Йоста Берлинг… самый сильный и самый слабый человек на земле!
Качуча
Ах, боевой конь, славный боевой конь! Стоишь, старина, стреноженный на лугу, – а помнишь ли дни своей юности?
Помнишь ли ты, храбрец, дни великих битв? Ты мчал как на крыльях, языками пламени развевалась твоя роскошная рыжая грива, а на взмыленной могучей груди алели капли крови. Ты летел, не зная страха, сверкала на солнце золотая сбруя, вздрагивала под копытами земля, и сам ты вздрагивал всей шкурой от восторга и азарта боя. Как ты был прекрасен!
Во флигеле кавалеров сгущаются сумерки. Красные сундуки у стен, на крюках развешана выходная одежда. Блики огня от пылающего камина мечутся по оштукатуренным стенам и желтым клетчатым шторам, скрывающим спрятанные в углублениях кровати.
Королевскими покоями их флигель не назовешь. И уж никак не сералем с мягкими козетками и пуховыми вышитыми подушками.
Но вот же она, скрипка Лильекруны! Что же играет он, о чем поет смычок его?
Качучу. Он играет качучу. Раз за разом играет он качучу.
Порви струны, сломай об колено свой деревенский смычок! Зачем играешь ты качучу, когда подпоручик Эрнеклу мучится от подагры и даже пальцем не может пошевелить на своей лежанке? Замолкни, спельман[13]! А не замолкнет, отнимите у него эту треклятую скрипку, размозжите об стену!
Качуча… не для нас ли этот танец, маэстро? Ты думаешь, мы должны броситься танцевать прямо здесь, на шатких досках флигеля, натыкаясь на стены, черные от сажи и жирные от грязи? Под этим низким потолком? Горе тебе, маэстро, ты смеешься над нами!
Качуча – для нас, для кавалеров? Качуча… за окном воет вьюга, стекла в морозных звездах. Может, ты надеешься, что снежинки запляшут в такт твоей качуче, может, ты играешь для них, легкокрылых детей непогоды?
А где женские тела, вздрагивающие от толчков разгоряченной крови? Где маленькие чумазые ручки, отшвырнувшие котелок, чтобы надеть кастаньеты? Где подоткнутые юбки, босые ножки, смело ступающие на выщербленные мраморные плиты двора? Где присевшие на корточки цыгане с гитарами и тамбуринами? Где мавританские аркады, волшебный лунный свет, густая и темная синева испанского неба? Есть ли у тебя все это? Если нет, отложи свою скрипку.
Кавалеры сушат одежду у огня, от промокших кафтанов поднимается тяжелый, смрадный пар. И что ему надо, Лильекруне? Неужели он хочет, чтобы они танцевали качучу в своих тяжелых сапогах с дюймовыми подошвами, на подбитых железом каблуках? В тех самых сапогах, в которых бродили весь день в лесу, увязая по колено в снегу, в поисках медвежьей берлоги? Неужели он хочет, чтобы они натянули свои тяжелые, влажно-горячие дымящиеся сермяги и пустились в пляс? Не иначе как с мохнатым медведем в обнимку…
Горячее вечернее небо, сверкающее золотой россыпью звезд, красные розы в темных волосах женщин, грешная истома в воздухе, звериное изящество движений и, конечно, любовь, любовь! Ни шагу без любви. Она везде – любовь поднимается душистым паром от красной земли, проливается теплым коротким дождем… где у тебя все это? Нет? Так какого же черта заставляешь ты нас мечтать о недоступном?
Ты жесток, Лильекруна; ты трубишь в боевой рог, а кони стары и стреножены. Рутгер фон Эрнеклу не может встать с постели, пощади, не мучь его сладостными воспоминаниями. Он ведь тоже когда-то надевал сомбреро и пеструю сетку на волосы, и у него была бархатная короткая курточка и кушак с ножнами для кинжала. Пощади его, маэстро!
Но нет, не остановить Лильекруну – он играет качучу. Раз за разом играет он качучу, и Эрнеклу бессильно закрывает глаза. Тяжко ему, Рутгеру фон Эрнеклу, он чувствует себя как любовник, который смотрит на ласточку, стремительным косым полетом улетающую к далекому и недоступному ему замку возлюбленной, как затравленный олень, которого гонит мимо желанного родника неумолимая собачья свора.
Лильекруна на миг отрывает подбородок от скрипки:
– А помнит ли подпоручик Розали фон Бергер?
Эрнеклу отвечает длинным, многословным проклятием.
– Легкая, как луч света. Она танцевала, как перламутровый глазок на кончике смычка. Подпоручик помнит ее, конечно же помнит, он же помнит театр в Карлстаде. Как молоды мы были!
Еще бы он не помнил ее! Маленькая, изящная, искрящаяся… как она танцевала качучу! Мало того, научила танцевать качучу и выщелкивать фиоритуры кастаньетами всех молодых людей в Карлстаде. На балу у наместника танцевали они па-де-де в испанских костюмах.
И он, молодой подпоручик, танцевал так, будто родился не в холодной Швеции, а в тени фиговых деревьев и платанов. Он танцевал как настоящий испанец.
Во всем Вермланде ни один человек не умел танцевать качучу, как подпоручик Эрнеклу. Ни один человек, кроме подпоручика Эрнеклу, не умел танцевать качучу так, чтобы заслужить упоминания в этом рассказе.
Какого кавалера потерял Вермланд, когда подагра сковала его члены, когда на всех суставах появились воспаленные и болезненные опухоли. Какого кавалера! Стройного, изящного, с горящими глазами, красавца и истинного рыцаря. Красавец Эрнеклу – только так и называли его местные девушки, они чуть не дрались за право хоть раз станцевать с таким партнером.
И опять и опять поднимает Лильекруна скрипку к подбородку, и опять начинает играть качучу, и уносят воспоминания подпоручика Рутгера фон Эрнеклу, уносят в невозвратные времена его молодости. Вот же она стоит, Розали фон Бергер. Только что они были вместе в гримерке. Он – испанец, она – испанка. Он поцеловал ее нежно и осторожно, чтобы не испугать своими черными накладными усами. И вот они танцуют – так, как танцуют качучу в тени фиговых деревьев и платанов под синим небом Испании! Она отстраняется в притворном смущении, он следует за ней. Он дерзок, она горда; он обижен, она ищет примирения. И когда он наконец, падает перед ней на колени и принимает ее в свои объятия, вдох восхищения проносится по бальному залу.
Он и в самом деле был испанцем. Настоящим испанцем.
Вот-вот, этот удар смычка, эта стонущая нота с форшлагом, именно тут он вытянулся, встал на носки и поплыл, как плывет черное предгрозовое облако. Какая грация! Этот момент стоило бы запечатлеть в мраморе или, на худой конец, в бронзе.
И только представьте! Подпоручик Эрнеклу и сам не мог бы объяснить, что с ним произошло. Он с трудом перенес ноги через край кровати, встал, развел руки, щелкнул пальцами и поплыл по скрипучим доскам – точно так, как в молодости, когда надевал для танцев такие тесные туфли, что у чулок приходилось отрезать подошву.
– Браво, Эрнеклу! Браво, Лильекруна! Ты вдохнул в него жизнь!
Но не слушаются ноги, нет, не встать подпоручику на носки, не удивить друзей замысловатыми па… Делает несколько шагов и валится на кровать. О, прекрасный сеньор, вы состарились!
А сеньорита? Может быть, и сеньорита уже не та?
Что ж, только под платанами Гранады танцуют качучу юные гитаны. Вечно юные, потому что они как розы. Потому что каждую весну появляются новые розы, и каждую весну появляются новые юные гитаны, новые звезды качучи.
Пора, пора порвать струны скрипки Лильекруны…
Нет, не пора! Играй, играй качучу, вечно играй качучу!
Пусть напоминает нам она, что мы так же молоды, как и были, не угасли в нас испанские страсти! И плевать мы хотели на слабые тела и окоченевшие суставы – чувства не стареют.
О, боевой конь, боевой конь!
Стоит тебе услышать клич трубы, вскидываешь ты голову и пытаешься поднять истертые железными путами ноги…
Бал в Экебю
О, женщины той поры!
Рассказывать о вас нечего и пытаться; с таким же успехом можно описывать Царство Небесное. Сплошная красота, сплошное сияние. Вечно юные, вечно прекрасные, нежные, как глаза матери, когда она смотрит на свое дитя. Невесомые, как бельчата, обвивали вы шеи своих мужей. Никогда не повышали вы голос в гневе, никогда не морщили досадливо лоб, руки ваши никогда не грубели. Вы, как светлые ангелы, царили в возведенных вами же храмах ваших домов, украшали их своей несказанной прелестью. Вы, святые мадонны, охраняли домашний очаг. Вам курили фимиам, вам молились, благодаря вам любовь творила истинные чудеса, а над головами вашими сияли золотые нимбы, замеченные поначалу поэтами, а потом и всеми остальными!
О, женщины той поры!
Это рассказ, как еще одна из вас одарила Йосту Берлинга своей любовью.
Еще не успели остыть на его губах поцелуи Анны Шернхёк, едва разомкнулось кольцо белых рук, но уже ласкали его губы еще горячее, и еще белее были руки, обвивавшие его шею.
И что он мог сделать, как не принять эти сладчайшие из даров? Любовь – самая древняя и неистребимая привычка нашего сердца, и горе неразделенной любви может исцелить только счастье любви разделенной. Странно устроено сердце: обжегшись, оно опять стремится к огню.
Через две недели после бала в Борге давали бал в Экебю.
Ах, какой это был праздник! Старики и старухи молодели и улыбались, стоило только заговорить про этот бал.
В те времена в Экебю всем заправляли кавалеры. Майорша бродила по дорогам с посохом и сумой, а майор уехал в Шё и слышать не хотел про ненавистное поместье. Он даже не приехал на бал – в Шё появилась оспа, и майор боялся разнести заразу.
Каких только развлечений не было за эти роскошные двенадцать часов! От первой хлопнувшей в потолок пробки за ужином до последнего удара смычка, когда давно уже миновала полночь. Куда канули эти волшебные часы, эти огненные вина, эти роскошные яства, эти остроумные скетчи, шарады и живые картины? Куда канули головокружительные танцы? Куда, в конце концов, подевались элегантные кавалеры и изысканные женщины?
О, женщины, женщины той поры, как умели вы украсить любой праздник! Какие потоки огня, остроумия, бурлящей молодости встречали каждого, кто приближался к вам! Ничего не жаль, никаких денег не жаль на восковые свечи, которым выпала честь освещать вашу красоту, на вино, вселяющее веселье в ваши сердца. Не жаль стоптать в прах подошвы в танцах, не жаль натруженных смычком рук.
О, женщины той поры, это вы, и никто иной, владели ключом от рая!
Лучшие из лучших, прелестнейшие из прелестнейших собрались в залах Экебю. Молодая графиня Дона, веселая и разгоряченная играми и танцами, как и должно быть в ее двадцать лет, очаровательные дочери мункерюдского судьи, смешливые сестры Фердинанда Угглы из Берги. И Анна Шернхёк, в тысячу раз прекраснее, чем раньше, – настолько шла ей роль добровольной жертвы и самаритянки, взятая той памятной ночью, когда за ними гнались волки… и многие, многие другие обреченные на забвение красавицы той поры.
И среди них, конечно, прекрасная Марианна Синклер.
Марианна Синклер, наверное, самая знаменитая из всех, Марианна Синклер, блиставшая при дворе, Марианна Синклер, которой восторгались все, куда бы она ни приехала, Марианна Синклер, так же легко высекавшая искры любви и обожания, как высекают искру из огнива, – она, Марианна Синклер, тоже почтила устроенный кавалерами бал своим присутствием.
Высоко, очень высоко стояла в ту пору звезда Вермланда, много было всего, чем по праву гордились его обитатели, но когда заходила речь о главных достопримечательностях края, всегда возникало имя Марианны Синклер.
Слухи о ее победах ходили по всей стране.
Поговаривали о невероятных предложениях, о порхающих вокруг ее прелестной головки графских коронах, о миллионах, которые обезумевшие поклонники готовы были бросить к ее ногам. Известна была и ее слабость к воинским доблестям и поэтическим лаврам.
Но красота – не единственное достоинство Марианны Синклер. Она умна и начитанна. Лучшие умы того времени искали случая побеседовать с ней. Сама она не писала, но семена ее замыслов, брошенные в поэтические души друзей-скальдов, дали обширные всходы в виде романсов и стихов.
В Вермланде, в медвежьем краю, она почти не бывала. Вся ее жизнь проходила в путешествиях. Ее отец, богач Мельхиор Синклер, сиднем сидел с женой в своем поместье и позволял Марианне навещать своих друзей в больших городах и богатых поместьях. Он с удовольствием рассказывал о ее расточительности, о ее друзьях, и оба они, старик Мельхиор и его жена, грелись в лучах дочерней славы.
Жизнь ее была сплошной чередой наслаждений и восхвалений. Казалось, даже сам воздух в ее присутствии сочился любовью, любовь вела ее по жизни, освещала путь. Она не могла жить без поклонения.
И сама она тоже влюблялась – часто, даже очень часто, но ненадолго, и не настолько, чтобы надеть на себя пожизненные оковы брака.
– Я жду моего героя, – отшучивалась она. – Жду, когда он переплывет крепостной ров и возьмет неприступную крепость. Зачем мне ручные, кроткие поклонники, без огня во взоре и отваги в сердце. Я жду того, кто похитит меня, пусть даже вопреки моей воле. Я жду настоящей любви, я даже готова бояться его, моего героя, могучего и непобедимого. А пока мой разум трезв и не затуманен страстью, я могу только улыбаться, когда кто-то старается меня завоевать, да еще и робеет при этом.
Ее присутствие воспламеняло разговор, придавало крепость вину, вселяло жизнь в смычки и струны, а когда она шла танцевать, у всех начинала кружиться голова, словно ее изящные ножки раскручивали дубовые половицы бального зала и превращали их в стремительную карусель. Она блистала в шарадах и живых картинах, оживляла бурлески тонким остроумием, ее прелестные губы…
Но здесь мы остановимся.
Ничего подобного Марианна не ожидала и не хотела. Да и вины ее не было – балкон, чарующий свет луны, кружевная шаль, рыцарский камзол, серенада… на них и лежит вина. Что они могли противопоставить лунному свету, молодые и неопытные люди?
И, как всегда, намерения были самые хорошие. Патрон Юлиус, остряк и выдумщик, предложил сюжет «Дон Жуана» – средневековый замок, молодая сеньора и ее поклонник. В этой живой картине Марианна должна была проявить себя как нельзя лучше.
В большой салон собралось множество гостей, и все увидели густо-синее испанское небо и толчками плывущую по нему желтую рогатую луну. Дон Жуан подкрался к увитому плющом балкону – он переоделся монахом, хотя из-под монашеского плаща выглядывали манжеты с золотой вышивкой и кончик шпаги, а на сапогах сверкали шпоры.
Переодетый Дон Жуан ударил по струнам гитары.
– Я не касался нежных уст
В горячем поцелуе,
И мой хрустальный кубок пуст,
Одну лишь воду пью я,
Сеньора, близостью маня,
Не подходи к решетке,
Твой взгляд, исполненный огня,
Ничуть не трогает меня,
Как и любовь красотки!
Нет, я не создан для любви,
Со мною спутники мои:
Сутана, крест и четки!
Он замолчал, и на балконе появилась Марианна в черном бархатном платье и кружевной вуали. Перегнулась через перила и спела медленно, с насмешкой:
– Подчинены твои мечты
Монашеским законам,
Но для чего ж дежуришь ты
У дамы под балконом?
Тут она оглянулась и забеспокоилась.
– Беги! Сюда идет супруг,
Он звон услышит шпор,
Ты тих и кроток, милый друг,
Но твой клинок остер!
При этих словах монах сбросил сутану, и перед зрителями предстал не кто иной, как Йоста Берлинг в шелковом, расшитом золотом рыцарском облачении. Он не внял предупреждению красавицы, вскарабкался по столбу на балкон, изящным движением перекинул тело через перила и, как и предусмотрел патрон Юлиус, упал ей в ноги.
Она на секунду возвела глаза к небу в безмолвной молитве и с чарующей улыбкой протянула ему руку для поцелуя.
И в этот момент упал занавес.
Перед Марианной стоял на коленях Йоста Берлинг, вдохновенный, как поэт, и дерзкий, как предводитель войска; глаза его искрились умом и смехом, они умоляли, убеждали, околдовывали и повелевали. Гибок и мощен был он, пылок и пленителен.
Разразились аплодисменты. Несколько раз поднимался и опускался занавес, а молодые артисты стояли в той же позе, Йоста не сводил с Марианны лучистых, смеющихся и молящих глаз.
Наконец аплодисменты стихли, занавес опустился в последний раз. Теперь героев никто не видел.
И что же сделала Марианна Синклер? А вот что: Марианна Синклер наклонилась и поцеловала Йосту Берлинга. Он обнял ее за голову и удержал, и ей ничего не оставалось, как целовать его еще и еще.
И кто же виноват? Марианна? Йоста?
Да нет, нет, конечно же вины их нет. Балкон, смешная рогатая луна, которую никак не удавалось плавно вести по синему небу, кружевная шаль, рыцарский камзол, серенада, аплодисменты… Бедные молодые люди ни в чем не виноваты. Они этого не хотели. Не для того же отталкивала она уже готовые украсить ее прелестную головку графские короны, не для того же отказывалась от миллионных состояний, которые бросали к ее ногам, чтобы завязать роман, – и с кем? С Йостой Берлингом! И ведь не забыла она еще историю с Анной Шернхёк!
Нет, вины их нет. Ни он, ни она этого не хотели.
И все обошлось бы, если бы не кроткий Лёвенборг, которому было поручено поднимать и опускать занавес. Тот самый Лёвенборг, со слезами на глазах и с улыбкой на устах, Лёвенборг, отягощенный трагическими воспоминаниями и вряд ли замечающий, что происходит в этом чуждом ему мире. Когда он увидел, что Йоста и Марианна сменили позу, он решил, что сцена имеет продолжение, и потянул за канат.
Молодые люди на балконе поначалу ничего не заметили, да и вообще бы не заметили, если бы не аплодисменты. Волна чувства накрыла их с головой, хохот и шум аплодисментов доносились до них приглушенно, как сквозь вату.
Марианна вздрогнула и хотела убежать, но Йоста ее удержал.
– Пусть думают, что так и надо! – прошептал он, ощущая, как испанская сеньора задрожала всем телом, как мгновенно остыл, словно подернулся сухим пеплом, жар ее губ. – Не бойся. Красивые губы для того и созданы, чтобы целоваться. Это их долг и право.
Объятие их казалось бесконечным, целая вечность прошла, пока Лёвенборг догадался опустить занавес, но и на этом дело не кончилось. Аплодисменты не смолкали, занавес поднимался и опускался, и не меньше ста пар глаз смотрели на застывшую в чувственном объятии юную пару.
Потому что ничего не может быть прекраснее, чем два юных, прекрасных существа в чувственном объятии. Они напомнили публике, что высшее счастье, которое только может быть дано смертному, – любовь. И никто даже подумать не мог, что эти поцелуи вовсе не театральное действо, не живая сцена. Никому и в голову не пришло, что сеньора дрожит не от показной страсти, а от стыда, а юный рыцарь – от волнения. Никто даже не заподозрил неладное.
Наконец-то они оказались за сценой.
Марианна провела рукой по лбу:
– Сама не понимаю, что на меня нашло.
– Конечно, конечно. – Йоста скорчил брезгливую гримасу. – Ты с ума сошла! Целоваться публично – и с кем? С Йостой Берлингом! Какой позор!
Она не сдержалась и захохотала:
– О чем ты? Все знают, что Йоста Берлинг неотразим. А я что? Я не хуже других.
И конечно, они тут же договорились, что никому не выдадут их маленькую тайну. Театр есть театр, пьеса есть пьеса. Дон Жуан еще более неотразим, чем Йоста Берлинг.
– А я могу на тебя надеяться? – спросила Марианна, когда пришло время возвращаться к гостям.
– Фрёкен… мадемуазель Марианна может на меня надеяться. Кавалеры умеют хранить тайны.
Она опустила глаза, и странная улыбка заиграла на ее губах.
– А если все же правда выплывет? – спросила она. – Что люди обо мне подумают, господин Йоста?
– Они не подумают ровным счетом ничего. Подумают, что ты замечательная актриса, вошла в роль и не могла остановиться.
Марианна продолжала улыбаться, не поднимая глаз.
– А господин Йоста? Что думает по этому поводу господин Йоста Берлинг?
– Я думаю, что фрёкен… мадемуазель Марианна в меня влюбилась.
– Даже не собиралась! Могу в доказательство проткнуть господина Йосту вот этим испанским кинжалом. Есть господин Йоста, нет господина Йосты – мне все равно.
– Дороги нынче стали женские поцелуи. Один поцелуй – и жизнь кончена.
Йоста шутливо пригорюнился, посмотрел исподлобья на Марианну и вздрогнул: с девушкой что-то случилось. Взгляд ее внезапно вспыхнул яростной, почти невыносимой ненавистью, он и в самом деле походил на удар испанского кинжала.
– Я бы хотела… Я бы хотела, чтобы жизнь господина Берлинга на этом окончилась, сейчас, в эту минуту.
Слова ее, а еще более взгляд зажгли в крови поэта знакомую сладкую истому.
– О, если бы это было так! – сказал он тихо и задумчиво, и глаза его заблестели слезами. – О, если бы это были не слова, а стрелы, со смертельным свистом вылетающие из густых зарослей, если бы это был кинжал или яд… если бы они были во власти умертвить жалкое тело и дать душе моей желанную свободу…
Марианна взяла себя в руки и улыбнулась.
– Что за ребячество, – сказал она, взяла его под руку и повела к гостям.
Они так и не сняли свои испанские костюмы, и появление пары вновь вызвало аплодисменты. Выстроилась очередь желающих поздравить их с успехом.
Никто ничего не заподозрил.
Опять начались танцы, но Йоста Берлинг постарался скрыться. Кинжальный взгляд Марианны… он прекрасно понял, что она хотела сказать.
Для нее это позор. Позор, что она влюбилась в Йосту Берлинга, позор, что он влюбился в нее. Позор хуже смерти.
С танцами покончено. Он не хотел их видеть, всех этих чопорных красавиц.
Их взгляды, их легко заливающиеся краской щечки – не для него. Их легкие ножки порхают не для него, не для него этот зазывный грудной смех. Потанцевать с ним – почему бы нет, водить компанию, кокетничать, но никто из них не захочет отдать свою судьбу в его руки. В ненадежные руки Йосты Берлинга.
Он пошел в сигарную, где гости постарше собрались у ломберных столиков. Свободное место нашлось у стола, где сидел огромный хозяин такого же огромного поместья Бьорне. Он играл вперемежку то в тридцать одно, то в польский банчок, и, похоже, выигрывал – на столе перед ним лежали небрежный ворох двенадцатишиллинговых ассигнаций и кучка серебряных монет по шесть эре.
Ставки росли и без Йосты, но Йоста добавил пылу. Счет уже шел на риксдалеры – появились серые, зеленые ассигнации и даже желтые десятки.
Мельхиору Синклеру продолжало везти.
Но и Йоста не сплоховал – перед ним тоже медленно, но верно росла кучка выигранных денег. Игроки пасовали один за другим, и вскоре за столом остались только двое: Йоста Берлинг и огромный, как медведь, помещик из Бьорне. И Йоста выиграл.
– Йоста, паренек! – захохотал помещик, демонстративно потряс бумажником и вывернул кошелек. – Больше у меня при себе нет. Что нам теперь делать? Я, как видишь, нищий, а в долг не играю. Обещал матери, понимаешь. – Он снова захохотал и вынул из кармана брегет.
Часы он проиграл. Такая же участь постигла и бобровую шубу. Мельхиор разгорячился не на шутку и собирался было поставить на карту коня и санки, но его остановил невесть откуда взявшийся Синтрам.
– Поставь что-то посерьезней, тогда отыграешься! – посоветовал коварный заводчик. – Надо переломить везенье!
– Какого дьявола мне ставить, если удача отвернулась? – усмехнулся Мельхиор.
– Поставь-ка, драгоценный брат Мельхиор, свою драгоценную дочку на карту! Ее-то ты точно не проиграешь, совесть не позволит.
Йоста засмеялся:
– Господин Синклер может смело ставить на карту свою дочь – этот выигрыш мне все равно не видать как своих ушей.
И помрачневший было всесильный Мельхиор тоже затрясся от смеха. Ему, конечно, не особенно понравилось, что имя Марианны упоминают за игорным столом, но предложение Синтрама выглядело настолько дико, что он даже не разозлился. Почему бы не поставить на карту Марианну? Дело беспроигрышное. Йоста прав – Марианну ему не видать как своих ушей.
– Ну что ж… – громогласно заявил Мельхиор, – если на то пошло… скажем так: если ты, Йоста, выиграешь и добьешься ее согласия, обещаю свое благословление. Так что вот моя ставка: не сама, конечно, Марианна, а мое благословление. Если, конечно, она его попросит.
Йоста поставил весь свой выигрыш, и ему вновь повезло. Заводчик Синтрам вздохнул и развел руками: не идет карта – значит не идет. Против судьбы не поборешься. Против прухи не попрешь, сформулировал он свою мысль.
Было уже за полночь. Поблекли розовые щечки красавиц, локоны распрямились, воланы на платьях помялись. Мамаши дочерей на выданье стали подниматься с диванов – бал продолжался уже больше двенадцати часов, пора и честь знать.
Но в последние томительные минуты бала взял Лильекруна свою скрипку и ударил по струнам. Прощальная полька. У крыльца уже фыркают лошади, уже солидные господа завязывают дорожные кушаки и шнурки на ботинках, дамы толпятся у дверей в мехах – кончен, кончен бал. Для пожилых бал кончен, но молодежь никак не оторвать от танцев. Уже и в шубах, и в накидках, а все пляшут они как заведенные – то встанут в круг, то парами, то вчетвером. Потеряет девушка кавалера – не беда, тут же подхватит другой.
И опечаленного Йосту Берлинга тоже захватил этот вихрь. А почему бы нет? Почему бы не вытанцевать прочь унижение, почему бы не разгорячить кровь, не развеселиться, как остальные? Он танцевал без устали, ему начало казаться, что стены пошли кругом, да что стены – даже мысли завертелись весело и беспорядочно, и уже не жгла сердце обида.
И кто же его партнерша, кого он взял за руку и вырвал из сумасшедшей карусели, кто же она, эта легкая, как пушинка, тонкая и гибкая? Почему, не успел он взять ее за руки, побежали огненные токи между ними? Ах, Марианна, Марианна!
А пока Йоста танцевал, Мельхиор Синклер, дожидаясь дочь, нетерпеливо топтался на снегу в своих огромных ботфортах. Синтрам, уже сидя в коляске, крикнул ему:
– Может, тебе и не стоило проигрывать дочку Йосте Берлингу.
– Это еще почему?
Синтрам ответил не сразу – тщательно разобрал вожжи, взял хлыст.
– Потому что они целовались всерьез. Ничего такого в живой картине не задумано. – Он хлестнул лошадь, и коляска сорвалась с места.
И вовремя – если бы промедлил, неизвестно, чем бы кончилось дело. Все знали, как вспыльчив огромный Мельхиор Синклер и как тяжелы его кулаки.
Помещик вернулся в зал и первое, что он увидел, как Марианна, его дочь, танцует не с кем-нибудь, а именно с Йостой Берлингом.
То, что происходило, даже и танцем назвать нельзя: дикая, исступленная пляска, побледневшие и побагровевшие лица, тонкая взвесь пыли от столетних досок пола, догоревшие до огарков восковые свечи в канделябрах, красноватый колеблющийся свет, похожий на адское пламя. И в этой, как ему показалось, застывшей на мгновение призрачной толпе летела в своем царственном танце безупречно красивая, неутомимая пара, Йоста и Марианна. Они ничего не замечали вокруг, они были захвачены стихией движения и в то же время повелевали ей легко и непринужденно; казалось, стоит им захотеть, и они полетят, не касаясь пола, к одним им ведомой цели.
Мельхиор Синклер недолго смотрел на них. Он вышел на крыльцо, грохнул за собой дверью, сел в санки, где ждала жена, и через минуту они уже неслись по накатанной колее.
И когда Лильекруна опустил свою скрипку и вытер пот со лба, Марианне сказали, что родители уже уехали, не стали ее дожидаться.
Она удивилась, конечно, но виду не подала: уехали – значит уехали. Она нашла шубку и вышла. Дамы решили, что у нее собственный экипаж.
Но никакого экипажа у Марианны не было. Она бежала по снегу в своих шелковых бальных туфельках. Ее обгоняли экипажи, она шарахалась в придорожные сугробы, но никто даже предположить не мог, что это сама Марианна Синклер бежит, увязая в снегу. Красавица Марианна Синклер!
За воротами Экебю дорога стала пошире, и она прибавила шаг. Ей стало жутко. Придорожные кусты в темноте напоминали затаившихся медведей. Остановилась, перевела дух и опять побежала.
От Экебю до Бьорне близко, самое большее – четверть мили[14]. Когда Марианна подбежала к усадьбе, ей в первую секунду показалось, что она заблудилась. Все двери заперты, свет погашен. Но нет, это их усадьба. Бьорне. Неужели родители еще не добрались?
Она сильно постучала в дверь, потом начала колотить дверным кольцом по медной накладке. Гулкое эхо носилось по всему дому, но никто не выходил.
Пальцы примерзли к металлу. Марианна с трудом, содрав кожу, оторвала руку.
Всесильный заводчик, помещик Мельхиор Синклер запер двери своего дома для собственной дочери.
Он много выпил и обезумел. Он ненавидел Марианну – только за то, что она, как ему спьяну показалось, симпатизирует Йосте Берлингу. Мало что соображая от гнева, запер жену в спальне, прислугу в кухне, пообещав, что оторвет голову каждому, кто посмеет впустить в дом беспутную шалаву. Никто слова не сказал – домашние знали, что он вполне способен сдержать свои людоедские обещания.
Никто и никогда не видел Мельхиора Синклера в такой ярости. Может, оно и к лучшему, что он не впустил Марианну в дом, – если бы она появилась, он вполне мог ее убить.
Как он только ее не баловал! Золотые украшения, шелковые платья, а какое образование он ей дал! Она была его гордостью, его божком, он преклонялся перед ней, словно на голове у нее была корона. Его принцесса, несравненная, прекрасная, гордая Марианна! Разве жалел он что-нибудь для нее? Разве отказывал ей в чем-то? Он, считавший себя неотесанным бурбоном, недостойным такой дочери! Ах, Марианна, Марианна!
Как ему не возненавидеть ее! Подумать стыдно – влюбилась в Йосту Берлинга! Целовала его! При всех! Она ему больше не дочь! Раз она могла так обесчестить и себя, и его, она ему больше не дочь! Пусть убирается на все четыре стороны! Какой позор – влюбиться в такого, как Йоста Берлинг! Пусть ночует в Экебю, пусть стучится к соседям, пусть хоть в сугробе валяется, ему все равно. Она уже вывалялась по уши в грязи, его прекрасная Марианна. Ее больше нет. Украшение и утешение всей его жизни… она для него не существует.
Мельхиор лежал в постели и распалял сам себя. Он прекрасно слышал, как она стучит в дверь. А ему-то какое дело? Он спит. Там, на крыльце, стоит обесчещенная любовью к разжалованному священнику женщина. Для падших созданий вроде нее в его доме нет места. Если бы он любил ее чуть меньше, если бы она не была ему так дорога, если бы он чуть меньше гордился ею… Тогда, может быть, он и преодолел бы отвращение и впустил ее.
Да, надо признать, благословление на ее брак он проиграл в карты Йосте Берлингу. Но открыть ей дверь? Впустить в свой дом? Ни за что… Ах, Марианна!
А что же Марианна? Что делает в это время она, ослепительная красавица, королева балов и приемов, желанная собеседница величайших умов страны?
В отчаянии колотит она в дверь своими израненными руками, умоляет о прощении.
Но никто не слышит ее, дом словно вымер, застыл в ледяном молчании.
Что можно представить себе ужаснее? Даже и я – рассказываю, а у меня бегут мурашки по коже от страха. Она вернулась с бала, где была признанной королевой! Гордой, счастливой королевой! И сброшена с пьедестала в эту бездонную, ледяную ночь, где ей суждено погибнуть в двух шагах от родного дома. Не униженной, не избитой, не проклятой, а выброшенной из собственного дома с леденящей душу, бесчувственной расчетливостью!
Я думаю о громоздящейся над ней морозной, истыканной алмазными гвоздиками звезд равнодушной тьме, о снежных равнинах, о молчаливых, будто затаившихся лесах. И люди, и природа заснули спокойным сном, и я вижу только одну живую точку в этом белом безмолвии. Все горе мира, весь страх, вся лишенная надежды тоска сосредоточились в этом живом комочке плоти. О боже, остаться одной в этом заледеневшем, спящем мире, где не от кого ждать поддержки и участия!
Впервые в жизни она встретилась с истинным жестокосердием. Ее мать даже не поднялась с постели, чтобы спасти ее. А старые слуги, оберегавшие каждый ее шаг, сдувавшие с нее пылинки, они же тоже слышат, как она погибает здесь, у дверей собственного дома! И пальцем не пошевелят, чтобы ей помочь… За какое преступление она наказана? Где еще ей ждать любви и прощения, как не за этими дверьми? Если бы она даже убила кого-то, и то… она была уверена, что, если бы она даже осквернила себя убийством, ее не встретили бы этим страшным, необъяснимым молчанием. Она могла пасть как угодно низко, но приди она домой в язвах и обносках – ее встретили бы с любовью и пониманием. Эта дверь в ее дом, где она никогда не видела ничего, кроме безграничной и безусловной, слепой любви.
Но может быть, достаточно? Неужели сердце отца ее не дрогнет?
– Отец! – кричит она в отчаянии. – Я замерзаю! Мама, ты, которая так преданно оберегала меня всю жизнь, не спала ночей над моей кроваткой, почему же ты спишь сейчас? Проснись, только проснись, я никогда больше не причиню тебе огорчений!
Она выкрикивает все это одним духом и замолкает, задерживает дыхание, чтобы лучше слышать. Дом молчит. Ни хлопка открываемой двери, ни скрипа половиц.
Она заламывает руки. Отчаяние настолько поразило ее, что даже слез нет.
О, этот длинный, темный дом с закрытыми наглухо дверьми и слепо поблескивающими в ночи темными окнами… он кажется нежилым. Что с ней будет теперь? С ней, лишенной родительского крова? Отец сам прижал раскаленное тавро к ее плечу, и она останется меченной этим позором навсегда, пока видит над собой звездное небо.
– Что со мной будет, отец? Что обо мне подумают?
Наконец она заплакала. Холод медленно, но неумолимо сковывал ее тело.
Горе тому, кто окажется на ее месте в морозную беспощадную ночь, но вдвойне горе тому, кто стоял так высоко, как стояла она, и все же провалился в погибельную бездну. Как после этого не страшиться жизни? Как не понять, на каком утлом суденышке плывем мы в нелепой надежде, что боги жизненных штормов пощадят именно нас! Горе колышется вокруг, как бескрайнее море, голодные волны плещут через борт, они уже готовы поглотить нас. И ни земли, ни островка, ни случайного корабля – ничего. Только незнакомое небо над океаном отчаяния…
Но тс-с-с… наконец-то, наконец-то! Послышались легкие, осторожные шаги.
– Мама, это ты?
– Да, моя девочка. Это я.
– Открой же дверь!
– Не могу, дитя мое. Отец не велел тебе открывать.
– Я прибежала сюда из Экебю по сугробам в шелковых туфельках! Стою здесь уже час, стучу и кричу. Я же замерзну насмерть! Почему вы бросили меня и уехали?
– Девочка моя, девочка… зачем ты целовала Йосту Берлинга?
– Тогда скажи отцу – это была шутка! Неужели он решил, что я в него влюбилась? Это была шутка, игра! Неужели ты тоже думаешь, что мне нужен Йоста!
– Иди к управляющему, Марианна, попроси, чтобы он пустил тебя переночевать. Отец пьян и ничего слышать не хочет. Он и меня не выпускал. Я прокралась на цыпочках, когда он уснул. Он убьет меня, если я тебя впущу.
– Неужели я должна идти к чужим людям, когда у меня есть дом? И ты так же жестока, как отец! Как ты могла допустить, чтобы меня выбросили из дому замерзать? Если ты не впустишь меня, я ни к кому не пойду. Лягу в сугроб и умру…
И мать положила руку на рукоятку замка, чтобы открыть дочери дверь, но тут послышались тяжелые шаги на лестнице и суровый голос отца:
– А ну, вернись на место!
Марианна прислушалась. Мать отошла от двери, раздались грубые ругательства и…
Марианна не поверила своим ушам. Она услышала звук, похожий на звук пощечины, потом еще раз и еще… Этот негодяй посмел ударить ее мать! Этот медведь, с кем не мог сравниться силой ни один забияка в уезде, бил слабую женщину, свою жену.
Марианна упала на крыльцо, корчась, как будто били ее, а не мать. Она рыдала, и слезы тут же превращались в прозрачные льдинки на пороге.
Пощады, пощады! Откройте же дверь, пусть он бьет меня! Кем надо быть, чтобы ударить мать за то, что она пыталась утешить своего ребенка, спасти его от неминуемой гибели на морозе!
Душа ее еще не знала такого унижения. Только что она была королевой, а сейчас валяется в снегу, как высеченная рабыня… Ну нет, она не рабыня. Ее охватила холодная ярость. Окровавленной рукой начала она колотить в дверь.
– Слышишь, ты, тот, кто бьет мою мать! Ты пожалеешь! Ты будешь рыдать горькими слезами, но не будет тебе прощения! – крикнула она и, пятясь, отошла от крыльца.
Отбросила в сторону шубку, осталась в черном шелковом платье и легла в сугроб, раскинув руки, похожая на огромную убитую птицу. Лежала и думала, каково будет отцу выйти завтра из дома и найти ее мертвой здесь, рядом с дверью, которую ей так и не открыли. Ей ничего уже не хотелось – только чтобы нашел ее именно он, ее отец.
* * *
О, смерть, бледная подруга моя! От тебя не уйти, еще никому не удавалось уйти от тебя. Но в этом есть и утешение. Даже ко мне, нерадивой из нерадивых, придешь ты, ласково примешь из рук моих мутовку и стеклянную банку с мукой, развяжешь заношенные башмаки, снимешь рабочее платье. Мягко и властно облачишь меня в тонкое, умело драпированное льняное платье и уложишь на обитое шелковыми кружевами ложе. Башмаки более не нужны ногам моим, и на руки мои наденешь ты нитяные перчатки, им никогда уже не придется марать себя работой. И ты благословишь меня на отдых, и засну я тысячелетним сном. Избавительница-смерть, нет на земле ленивее труженицы, чем я, и с дрожью восторга мечтаю я о блаженном миге, когда заберешь ты меня в свое царство.
Бледная подруга моя, я смиренно покоряюсь тебе, тебе не составит труда испытать на мне свою силу, но есть и другие, не такие покорные. Куда тяжелее была борьба твоя с женщинами той поры! Какие жизненные силы таились в их изящных телах! И даже лютый мороз тщетно старался охладить их горячую кровь…
Ты заботливо уложила прекрасную Марианну на смертное ложе и присела рядом, как старая нянька присаживается к колыбели, чтобы убаюкать младенца. Нет в мире няньки вернее и преданнее тебя, моя бледная подруга. Ты знаешь, как укачать и успокоить дитя человеческое, и приходишь в гнев, когда товарищи по играм с шумом и гамом будят только что сомкнувшего глаза ребенка и вновь вовлекают его в свои дикие забавы. Даже страшно подумать, в какую ярость пришла ты, когда кавалеры подняли Марианну с ее смертного ложа, когда один из них прижал ее к себе и горячие слезы его начали капать на побелевшее чело!
* * *
Погашены свечи в Экебю, уехали гости. Кавалеры собрались в своем флигеле вокруг последней, уже полупустой, чаши с пуншем.
Йоста щелкнул несколько раз по краю хрустальной пуншницы, она отозвалась мелодичным колокольчиком. Он решил сказать речь. Речь о женщинах той далекой поры.
– О, женщины! – сказал Йоста. – Рассказывать о вас нечего и пытаться; с таким же успехом можно описывать Царство Небесное. Сплошная красота, сплошное сияние. Вечно юные, вечно прекрасные, нежные, как глаза матери, когда она смотрит на свое дитя. Невесомые, как бельчата, обвиваете вы шеи своих мужей. Никогда не повышаете вы голос в гневе, никогда не морщите досадливо лоб, руки ваши никогда не грубеют. Вы, святые мадонны, охраняете храм домашнего очага. Вам курят фимиам, вам молятся, благодаря вам любовь творит истинные чудеса, а над головами вашими сияют золотые нимбы, замеченные поначалу поэтами, а потом и всеми остальными!
Кавалеры, хмельные от пунша и сладких речей Йосты, повскакали с мест. Кровь кипела и бурлила в их жилах, даже старина Эберхард и тяжелый на подъем кузен Кристофер не усидели на месте. С невероятной скоростью запрягли коней и на двух санях пустились в путь – еще раз восславить тех, кого они не уставали восславлять всю жизнь, спеть каждой из них серенаду, всем им, с ясными глазами и розовыми щечками, всем, кто осчастливил своим появлением большой бальный зал поместья Экебю.
О, женщины той поры! Наверняка сладко было вам, уже взлетевшим на полные волшебных снов небеса, проснуться от звуков спетой в вашу честь серенады!
Но кавалерам так и не удалось осуществить свой трогательный план. Они подъехали к Бьорне и нашли красавицу Марианну в сугробе у дверей своего дома.
Они ужаснулись и преисполнились ярости. Только представьте себе – найти ангела, которому они молились, обезображенным и выброшенным за порог!
Йоста поднял руку со сжатым кулаком и погрозил затихшему дому.
– Вы, – выкрикнул он хриплым от гнева голосом. – Вы, осквернители святынь, вандалы в райском саду! Да будьте вы прокляты, уродливые исчадия ненависти и злобы!
Беренкройц зажег свой рожковый фонарь и осветил бледное, уже со смертной голубизной, лицо Марианны. Они увидели руки с содранной кожей, слезы, льдинки слез на ресницах, и зарыдали от жалости, как рыдают женщины. Она была для них не только ангелом, но и прекрасной женщиной, один вид которой согревал их старые сердца.
Йоста Берлинг упал рядом с ней на колени.
– Вот лежит она, моя невеста! Она наградила меня обручальным поцелуем, а отец обещал свое благословление. Она ждет меня! Она ждет меня в своей белоснежной постели!
Он поднял ее на руки.
– Домой, в Экебю! В снегу нашел я ее, и никто не в силах отнять ее у меня! Даже будить не станем этих мерзавцев, у кого хватило сердца выбросить ее в мороз на улицу, о чьи двери она разбила в кровь свои нежные руки!
Никто не стал перечить. Он положил Марианну в санки, Беренкройц взялся за вожжи и крикнул:
– Натирай ее снегом, Йоста!
Холод совершенно сковал тело бедняжки, но сердце еще билось. Она даже не потеряла сознание, хотя не могла ни открыть глаза, ни пошевелить губами. Она понимала, что кавалеры нашли ее, но дать им знак было не в ее силах. И она лежала неподвижно, а рыдающий Йоста то лихорадочно тер снегом ее лицо и руки, то покрывал поцелуями, как безумный. Ей страшно захотелось ответить на его ласку, хотя бы движением руки, но тело не слушалось.
Она все помнила. Лежала неподвижно, все еще скованная холодом, но голова была ясная, как никогда раньше. Неужели она влюблена в Йосту Берлинга? Да, влюблена. А может, это просто прихоть, каприз одного вечера? Нет. Вдруг она поняла, что любит его уже много лет.
Она сравнила себя с ним, да и с другими вермландскими знакомыми. Веселые и непосредственные, как дети, они не знали отказа своим желаниям. Если им чего-то хочется, они готовы на все. Поверхностная, пустая жизнь, они никогда не заглядывали в глубину души. И она стала такой же, а какой еще она могла стать, находясь все время в их окружении? Никогда не отдавалась она целиком своему чувству, будь это любовь или что-то иное. Она всегда смотрела на себя как бы со стороны, какая-то часть ее «я» смотрела на все происходящее с иронической усмешкой. Но подсознательно она всегда стремилась к чувству, которое захватило бы ее целиком, в которое она могла бы нырнуть, как в омут, и захлебнуться от счастья.
И вот оно пришло, это чувство. Явился ее герой.
Когда она целовала Йосту Берлинга на шатком бутафорском балконе, она, может быть, впервые в жизни, не думала о себе.
А сейчас, когда она лежала полумертвая в санях и Йоста Берлинг, рыдая, пытался вернуть ее к жизни, она поняла, что любит его. Марианна прислушалась к биению своего сердца. Вернется ли к ней подвижность? Ее вдруг захлестнула сумасшедшая радость, что все сложилось именно так. Ее выгнали из дому, и теперь она, без всяких сомнений, принадлежит Йосте.
Боже, как глупа была она! Сколько лет она боялась дать волю чувствам! Какое это счастье – уступить порывам любви, покорно парить в ее необозримом пространстве!
Вдруг ее охватила тревога. Неужели к ней не вернется счастье движения? Раньше лед сковывал ее душу, она оставалась холодной, хотя внешне была подвижна, весела и даже игрива. А теперь сердце пылает от страсти, а тело скованно ледяными оковами.
И Йоста почувствовал, как ее ледяные руки обхватили его шею в бессильном объятии.
Руки ее почти невесомы, но ей-то кажется, что она обняла любимого изо всех сил в удушающем порыве страсти.
И когда Беренкройц увидел это объятие, он отпустил вожжи, поднял голову и посмотрел на серое от звезд небо, стараясь отыскать в нем свое любимое созвездие Плеяды.
Каретный сарай
Дорогие мои друзья, дети рода человеческого! Вполне может быть, что вы читаете эти строки ночью, глубокой и тихой ночью, такой же, как та, что стоит сейчас за окном, когда я пишу. Вы, наверное, решили, что наконец-то можно вздохнуть с облегчением. Кавалеры вернулись в Экебю и, уложив Марианну в лучшей гостевой комнате рядом с большим салоном, наконец-то погрузились в глубокий спокойный сон.
Они и в самом деле улеглись в свои постели, и в самом деле уснули, и устали они ужасно, но выспаться после беспокойной ночи, проспать до полудня, как поступили бы вы на их месте, дорогие читатели, им так и не пришлось.
Вы, наверное, уже забыли, что, пока происходили все эти события, старая майорша бродила по дорогам с посохом и сумой. Но новый образ жизни никак не повлиял на ее характер: если уж она задумывала что-то, что ей представлялось важным, ничто не могло ее остановить, и уж тем более не остановила бы ее боязнь нарушить покой старых грешников. А в эту ночь решила она вот что: выгнать кавалеров из Экебю.
Прошли те времена, когда царила в Экебю майорша во всем своем блеске и величии, когда сеяла радость в своем окружении, как Господь сеет звезды в ночном небе. Пока она, нищая и бездомная, ходила по Вермланду, вся слава и честь богатого поместья Экебю оказалась в руках кавалеров, и они управлялись с поместьем так же, как ветер управляется с золой от костра или весеннее солнце с последними сугробами.
Иной раз кавалеры выезжали на длинных, богато украшенных санях с колокольчиками и плетеными вожжами, и если случайно натыкались на нищенку-майоршу, не опускали они глаза от стыда, не делали, по крайней мере, вид, что не узнают ее, – наоборот.
Они грозили ей кулаками, а иногда еще и поворачивали сани, тесня ее в придорожные сугробы. А майор Фукс, знаменитый охотник на медведей, каждый раз сплевывал через левое плечо – боялся, что старая ведьма сглазит или наведет на него порчу.
Ни малейшей жалости, ни малейшего сострадания. Она была им отвратительна – колдунья, продавшая душу дьяволу. И если бы с ней случилось несчастье, они горевали бы не больше, как если бы в канун Пасхи случайным выстрелом из ружья убили пролетавшую ведьму.
Им и в голову не приходило, что в преследовании старой, обездоленной женщины есть что-то мерзкое. Когда люди чрезмерно пекутся о своей бессмертной душе, они часто причиняют другим невыносимые страдания.
Иногда по вечерам, вернувшись во флигель после очередной попойки, замечали они скользящую по двору темную тень и понимали, что это майорша пришла полюбоваться на свои бывшие владения. И тогда из окон до нее доносились грубая ругань и презрительный смех.
И, как это ни горько, равнодушие и презрение к своей благодетельнице все глубже закрадывались в беспутные сердца кавалеров. Семена ненависти, посеянные Синтрамом, дали обильные всходы. Конечно же душам их не грозила опасность, даже если бы майорша осталась в Экебю. Побег с поля битвы уносит больше жизней, чем сама битва.
А майорша никакой ненависти к кавалерам не испытывала. Всей ее ярости хватило бы в лучшем случае на то, чтобы высечь их розгами, как провинившихся мальчишек, а потом оставить жить в своем флигеле и по-прежнему кормить, поить и одаривать милостями, от которых у нее самой становилось теплее на душе.
Но сейчас она не находила себе места. Она боялась за любимое поместье, оставленное на попечение кавалеров. С таким же успехом можно оставить овец на попечение волков, а весенние посевы – на попечение журавлей.
Наверняка не одну ее постигла такая участь. Немало найдется людей, кому выпало на долю видеть, как рушится их гнездо, как идут прахом многие годы терпеливого и ежедневного труда. Видеть, как их любимый дом смотрит на них, как раненый зверь, наблюдать его медленную гибель и сознавать свое бессилие. Наверняка многие из этих людей чувствуют себя преступниками – только преступник мог допустить, чтобы тщательно ухоженные деревья покрывались лишайником и медленно гибли, чтобы заботливо присыпанные гравием дорожки зарастали сорной травой. Наверняка хочется им упасть на колени в поле, что когда-то удивляло соседей урожаями, и умолять не судить строго – не по своей воле, а волею судьбы вынуждены были они забросить родное гнездо. И не решаются они посмотреть в глаза старым коням, отворачиваются, потому что мало у кого хватит отваги выдержать эти молчаливые, укоризненные взгляды. И не решаются они постоять у калитки, посмотреть, как возвращаются коровы с выпаса.
Нет ничего ужаснее на свете, чем перешагнуть порог приходящего в упадок отчего дома.
Умоляю вас, всех, кто оживляет и согревает заботой поля и луга, парки и цветущие сады, не оставляйте их! Ухаживайте за ними с любовью и сердечной радостью, потому что грустно, когда человек скорбит об увядающей природе, но еще грустней, когда природа скорбит о делах человеческих.
Когда я думаю о гордом и славном поместье Экебю, отданном на откуп беспутным кавалерам, то от всей души желаю, чтобы план майорши удался.
А план ее заключался вовсе не в том, чтобы силой вернуть себе Экебю.
Важно было другое – освободить свой дом от этих сумасшедших, от этой библейской саранчи, после набега которой и трава не растет.
Пока майорша ходила по дорогам и жила подаянием, она не переставала думать о своей матери и постепенно поняла, что нет для нее спасения, пока сама мать не снимет проклятия с ее души.
Жива ли она? Никто не сообщал о ее смерти, так что, скорее всего, она так и живет у себя на хуторе в лесах Эльвдалена. Ей уже девяносто, а она по-прежнему вся в работе. Летом доит коров, зимой помогает углежогам. Работает и работает… и мечтает, должно быть, о дне, когда Господь посчитает, что долг ее на земле выполнен.
К тому же майорша втайне надеялась, что мать ее так долго живет на свете, потому что не может умереть, не сняв проклятия с любимой дочери. Не может умереть мать, проклявшая своих детей, пока не снимет проклятия.
И теперь высшей целью для майорши стало вот что: она должна вернуться в дом своей юности. Пройти по густым лесам вдоль длинной реки Эльвдалена и вернуться в дом, где она родилась, где прошли самые счастливые годы ее жизни. Пока она не вернется домой, не будет ей покоя. И нельзя сказать, чтобы все проклинали ее и осуждали, нет; многие предлагали ей и кров, и пищу, и дружбу, но она нигде не осталась. Она брела от хутора к хутору, от поселка к поселку, и горечь переполняла ее сердце, потому что проклятие матери непосильным грузом прижимало ее к земле, гнало все дальше и дальше.
Она уже решилась совершить это покаянное паломничество в родные места, но сначала надо было позаботиться о любимом поместье. Она не хотела оставлять его в руках пропойц, беспутных расточителей данных им Богом дарований.
А как же иначе? Неужели от этого кому-то легче, если она вернется в свой дом и застанет запустение и разруху? Что ее ждет тогда? Смолкнувшие молоты в кузнях, разбежавшиеся слуги, изможденные, полуживые кони?
Ну нет, пока она еще в силах, пока ей верно служит разум, она выпроводит их отсюда.
Майорша прекрасно понимала, почему муж поручил управление поместьем кавалерам. Он наверняка злорадствовал, видя, как разлетается по ветру нажитое ею богатство, как рушатся ее заводы, как приходят в негодность мастерские, как разбегаются рабочие, как зарастают сорняками ее угодья. Но она понимала и другое: если удастся выпроводить пригретую ею ораву бездельников и пьяниц, мужу будет просто-напросто лень искать других. Да и поискать таких: по всей стране вряд ли найдется не только дюжина, а и с полдюжины похожих на них подобных обормотов. Она была уверена: если кавалеры исчезнут, поместье перейдет в руки ее старого управляющего и инспектора, и они будут вести дела так, как заведено ею.
Именно поэтому темная тень ее уже много ночей незаметно скользила вдоль черной стены завода. Она заходила в хижины арендаторов, шепталась с мельником и его подсобниками, советовалась с кузнецами и молотобойцами.
И никто не отказался. Все были рады ей помочь. Честь завода, его слава и репутация были им дороги так же, как и ей. Нельзя было более оставлять с таким трудом налаженное дело в руках кавалеров, которые берегли нажитое, как ветер бережет золу от костра или как волк бережет овечью отару.
И в эту ночь, когда весельчаки натанцевались и напились вдоволь, напелись, наигрались и замертво попадали на свои койки, – именно в эту ночь решено было от них избавиться. Майорша долго ждала в кузнице, пока они уймутся, пока погаснет во флигеле кавалеров последняя свеча.
Имение погрузилось в сон. Настал час.
Майорша приказала заводским собраться у флигеля, а сама пошла в господский дом. Ей открыла та самая дочь пастора из Брубю, озлобленная на весь мир девчонка, из которой она воспитала замечательную служанку, настоящую камеристку – ловкую, умную, с хорошими манерами. Она встретила хозяйку со свечой в руке и поцеловала ей руку.
– Добро пожаловать, госпожа, – сказала она.
– Задуй свечу, – усмехнулась майорша. – Неужели ты думаешь, я заблужусь в собственном доме?
И она бесшумными шагами обошла весь дом, от погребов до чердака, попрощалась с каждой комнатой, с каждой каморкой.
Она разговаривала с памятью.
Служанка ни слова не произнесла, но слезы ручьем текли по ее щекам.
Майорша открыла шкафы для белья, провела рукой по тончайшим дамастовым простыням, потом подошла к секретеру, где хранилось столовое серебро, погладила изящные серебряные кувшины и чаши. Посмотрела на кипу пуховых одеял в чулане, преодолевая желание перетрогать все до единого, а то и просто броситься в мягкое, податливое облако и забыть все на свете. Инструменты, ткацкие станки, ручные прялки. Подошла к ларю с приправами и сунула руку под крышку, где, как сосиски, были нанизаны на длинный общий фитиль сальные свечи.
– Высохли, – удовлетворенно кивнула она. – Можно разрезать и отнести на место.
Потом спустилась в погреб, прошла вдоль рядов пивных бочек, потрогала в темноте пыльные горлышки винных бутылок на стеллажах.
Настала очередь буфетной и кухни.
Майорша прощалась со своим домом. Со всем, что было нажито годами упорного, изнуряющего труда.
И под конец она пошла в жилую часть.
В столовой пощупала откидную доску столешницы.
– Немало людей наелось досыта за этим столом.
В каждой комнате она останавливалась ненадолго и шла дальше. Потрогала каждый из широких диванов, положила руку на прохладную плиту мраморного подзеркального столика на позолоченных ножках. Посмотрела на зеркало в багетной раме, увитой танцующими античными богинями.
– Богатый дом, – задумчиво сказала майорша. – Вечная память человеку, одарившему меня всем этим.
В бальном зале, где недавно еще бесились танцующие пары, кресла с высокими узорными спинками уже были расставлены в строгом порядке вдоль дубовых панелей.
Майорша подошла к клавикордам и рассеянно нажала клавишу. Одинокая надтреснутая нота отозвалась во всей анфиладе комнат странным, тоскливым эхом.
– И в мое время веселья здесь хватало…
Резко отвернулась и пошла в комнату для гостей рядом с салоном. Служанка двинулась за ней. Здесь шторы были закрыты, и они окунулись в тревожный, вибрирующий мрак.
Майорша подняла руку и притронулась к лицу девушки:
– Ты плачешь?
Служанка разразилась рыданиями:
– О, госпожа… они разорят весь дом! Почему госпожа покидает нас? Почему она позволяет этим кавалерам, чтоб им… почему госпожа позволяет им здесь хозяйничать?
Майорша потянула за шнурок. Тяжелые шторы немного разошлись в стороны.
– Разве я учила тебя кукситься? Посмотри в окно! На дворе полно народу! Завтра и запаха кавалеров в Экебю не останется!
– И вы вернетесь, госпожа? – Девушка улыбнулась сквозь слезы.
– Мое время еще не пришло… Мой дом – дорога, постель моя – клок соломы. – Она слабо улыбнулась. – Но тебе я поручаю заботиться об Экебю. Сделай это для меня, девочка, пока я в пути.
И они пошли дальше. Ни дочка пастора, ни хозяйка не заметили, что они не одни. Именно в этой комнате, которую они только что оставили, спала Марианна Синклер.
Спала? Нет, она не спала. Она слышала каждое слово из их разговора. Слышала и все поняла.
Она лежала, не шевелясь, и слагала гимн любви.
– О, любовь, чудо из чудес! Меня бросили в ад, но ты превратила его в рай. Мои руки примерзали к железу, мои слезы застывали в жемчужины на пороге моего родного дома. Сердце мое окаменело от ненависти, когда я услышала, как бьют мою родную мать. В ледяном сугробе хотела я остудить эту ненависть, но явилась ты, о любовь. Любовь! Огнем своим ты согрела мое сердце, которое ничто не могло растопить, только ты. И что мои страданья по сравненью с этим неземным блаженством? Ничто. Я порвала все цепи, у меня нет отца, нет матери, нет дома. Люди отвернутся от меня и осудят. Наверное, ты так и задумала, великая и необъятная любовь, ты не могла допустить, чтобы я стала недостижимой для любимого! Рука об руку пойдем мы по свету. Не досталось Йосте Берлингу богатой невесты – ну и что? Нам не нужны залы, люстры и серебро, мы будем жить в лесной хижине. Я буду присматривать, не занялось ли пламя в углежогной яме, помогать налаживать силки на глухарей и зайцев, я буду готовить ему еду и штопать его одежды. Любимый мой, я буду сидеть в одиночестве на опушке и тосковать, но не по утерянному богатству, а только по тебе, только по тебе, любимый! Я буду прислушиваться, не хрустнет ли ветка под твоими ногами, не слышна ли твоя веселая песня, когда ты с топором на плече приближаешься к дому! Любимый мой, любимый, я ждала тебя всю жизнь… и буду ждать всегда, сколько бы мне ни осталось…
Так лежала она и упивалась вечными, как мир, словами любви, и как раз в эту минуту в комнату вошли майорша со служанкой.
А когда они покинули комнату, Марианна вскочила и начала одеваться. Уже второй раз за этот день пришлось ей надеть черное бархатное платье и шелковые бальные туфельки. Завернулась, как в шаль, в одеяло и опять выскочила в этот бесконечный мрак.
Тихо помаргивая звездами, распростерла над землей ледяные свои крылья морозная февральская ночь. Никогда не кончится она, эта ночь. Ее непроглядная тьма, ее лютое морозное дыхание будут царить на земле и после того, как взойдет солнце, после того, как превратятся в воду сугробы, по которым, не чуя ног, бежала красавица Марианна.
Она бежала за помощью. Она не могла допустить, чтобы людей, спасших ее от неминуемой смерти, открывших ей сердца и двери своего дома, просто-напросто выгнали на улицу. Она решила бежать в Шё, к майору Самселиусу. Времени почти не было – дорога туда и обратно займет не меньше часа.
Майорша попрощалась со своим домом и вышла во двор, где уже собрался народ.
Битва началась.
Она выстроила людей вокруг высокого, узкого строения, где во втором этаже жили кавалеры. Отсюда и пошло знаменитое название – флигель кавалеров. Там, наверху, в большой комнате с белеными стенами, с красными сундуками и большим складным столом, на котором в луже самогона плавают тузы и валеты, там, где широкие койки в углублениях стен скрыты от глаз желтыми клетчатыми гардинами, – там они спят и видят сны. О, беспечные, наивные кавалеры!
А в конюшне с полными яслями дремлют их кони, и снятся им славные походы молодости. Что может быть лучше – уйдя на покой, вспоминать безумные проделки юности, военные кампании и ярмарки, где им, правда, приходилось ночи напролет стоять под дождем, пока хозяева пировали в трактирах. А рождественские бега после заутрени! А когда менялись лошадьми и надо было показать все, на что они способны, когда полупьяные господа с налитыми кровью глазами, выкрикивая ругательства и размахивая вожжами, погоняли своих любимцев, хотя и погонять не надо было. Сладки и прекрасны их молодые сны, и вдвойне прекрасны оттого, что никогда больше не придется им мчаться, взмыленными, из последних сил и что проснутся они в теплом стойле перед полной кормушкой. О, беспечные, наивные кони!
И свалены в старом каретном сарае отжившие свой век экипажи – изъезженные коляски и фаэтоны, разбитые сани, повозки, когда-то заботливо покрашенные желтой или красной масляной краской, зеленые телеги. Там стоит и первая в Вермланде форсистая двуколка – трофей Беренкройца в кампании 1814 года. Брички на железных и деревянных рессорах, дрожки, которые в народе называли «кофейные жаровни», одноколки, именуемые «куропатками», воспетые во времена, когда они колесили по проселкам страны. И сани, сани… длинные сани, в которые умещались все двенадцать кавалеров, и сани с кибиткой вечно мерзнущего кузена Кристофера, и старые сани Эрнеклу с изрядно траченной молью медвежьей полостью и семейным гербом на крыле. И конечно, беговые сани, несчитаное количество беговых саней.
Много, много кавалеров жили и умерли в Экебю. Имена их забыты и ничего не скажут любознательному потомку, но майорша заботливо сохранила их экипажи, те, на которых они в первый раз приехали в Экебю, даже велела построить огромный каретный сарай.
И все эти коляски, дрожки и фаэтоны стоят здесь и медленно покрываются слоем пыли, и слой этот с каждым годом становится все толще и толще.
Гвозди уже не держатся в гниющем дереве, краска облупилась, шерстяная набивка торчит из проеденных молью дыр.
– Дайте нам отдохнуть, дайте нам спокойно развалиться! – молят старые экипажи. – Слишком долго тряслись мы по дорогам, мокли под дождями и глотали дорожную пыль. Дайте нам отдохнуть! Давным-давно мчали мы господ наших на их первый бал, давным-давно, сияющие и свежевыкрашенные, сопровождали их в любовных приключениях, давным-давно добирались с ними по весенней распутице на юг, на ипподром в Тросснесе. Дайте нам отдохнуть! Почти все господа наши спят вечным сном, а оставшиеся никогда уже не покинут Экебю.
И лопается кожа на фартуках, расшатываются ободья, гниют спицы и втулки. Старые экипажи не хотят жить. Они хотят умереть, как умерли их хозяева.
Многолетняя пыль лежит на них, как саван, и они молча и лениво распадаются, как распадается плоть. Никто их не трогает, кроме неумолимого седока – времени. И то хорошо: при любом прикосновении они рассыплются в прах. Раз в год открываются ворота: приезжает новый постоялец, всерьез решивший поселиться в Экебю. Но как только слуга закрывает ворота, как только новая двуколка или фаэтон попадают в это мертвое царство, усталость и старческая немощь одолевают вновь прибывшего. Моль, крысы, жучки-древоточцы и другие служители распада дружно набрасываются на него, но ему все равно. И экипаж гниет и ржавеет в сладком полузабытьи.
Так и было. До сегодняшней ночи.
До сегодняшней лютой февральской ночи.
В эту ночь, в эту лютую февральскую ночь, велит майорша отворить каретный сарай.
И в свете фонарей и факелов ищут ее слуги экипажи, принадлежащие нынешним кавалерам – обитателям Экебю. Вот двуколка Беренкройца, вот сани Эрнеклу с фамильным гербом, вот узенький возок с кибиткой кузена Кристофера.
Майорша даже не смотрит, летние или зимние экипажи выкатывают слуги из сарая, ей важно, чтобы каждому из кавалеров достался свой.
А в стойле будят старых коней, дремлющих над своими яслями.
Что ж, беспечные мечтатели, пришел ваш час: сны иногда оборачиваются явью.
Снова предстоит вам взбираться по крутым склонам и жевать подгнившее сено на постоялых дворах, снова придется отведать вам плетки, снова придется гнать по льду, такому скользкому, что и ступить на него страшно.
Они словно оживают на глазах, эти старинные экипажи! Низкорослых, выносливых норвежских лошадок, словно в насмешку, запрягают в похожий на собственное привидение, покрытый вековой пылью высоченный фаэтон, длинноногих скаковых коней – в низенькие беговые сани. Экипажи скрипят и потрескивают, а старые кони фыркают и скалятся, когда в их беззубые рты вставляют удила. Им бы дремать до скончания века, а теперь все их бессилие, дрожащие от слабости передние ноги, давно окостеневшие плюсневые суставы, которые называют скакательными, все их старческие недуги выставлены на всеобщее обозрение.
Конюхам все же удается кое-как запрячь все эти смехотворные экипажи. Они мнутся некоторое время и подходят к госпоже – спросить: а на чем же поедет Йоста Берлинг? Все знают, что он приехал в Экебю не сам, его привезла майорша на телеге, где он валялся между корзин с древесным углем.
– Запрягите Дон Жуана в лучшие беговые санки и дайте ему самую большую медвежью полость, ту, с посеребренными когтями! – Она видит недоумение конюхов и продолжает: – Запомните! Нет в моей конюшне коня, которого пожалела бы я, чтобы избавиться от этого человека.
Итак, лошади и экипажи разбужены, но кавалеры еще спят.
Теперь настала их очередь подышать морозным ночным воздухом, но они спят. Спят мертвым сном. И разбудить их – задача посложнее, чем выкатить из сарая разваливающиеся сани или вывести из стойла покорных, немощных коней. Отважные, крепкие, наводящие страх воины, закаленные в сотнях приключений, о которых слагают легенды. И они, конечно, готовы защищаться до последней капли крови. Нелегкая это задача – вытащить их из постели и усадить в запряженные рыдваны.
Майорша велит поджечь копну соломы рядом с усадьбой, чтобы огонь был виден во флигеле.
Работники смотрят на нее вопросительно.
– Солома моя, – твердо говорит она. – И все Экебю мое.
И когда яркое пламя горящей соломы освещает небосвод, она хрипло кричит:
– Будите их!
Но спят, спят пьяные кавалеры. И двери в их флигель заперты.
Толпа начинает выкрикивать страшное, хорошо знакомое всем, а особенно тем, кто занимается выплавкой чугуна, слово. Слово, способное и мертвых поднять из гроба.
– Пожар! Пожар!
Но кавалеры спят. Спят кавалеры.
Кто-то лепит большой твердый снежок и запускает в окно флигеля. Стекло разбито вдребезги, но напрасно: кавалеры спят. Спят кавалеры!
И снится им, как прекрасная девушка кидает им платочек, а звон разбитого стекла напоминает аплодисменты перед закрытым занавесом и оглушительный шум ночного пира.
Нужно выстрелить из пушки прямо над ухом или вылить на них ведра ледяной воды – тогда, может быть, они проснутся.
Они весь долгий день кланялись, танцевали, музицировали, играли на сцене и пели. Они пьяны и обессиленны, и спят сном глубоким, как сама смерть. Кавалеры спят.
И этот благословенный сон едва не спасает их от унижения и позора.
Люди во дворе начинают сомневаться. А что, если они уже послали за помощью? А что, если они притаились там с пальцем на спусковом крючке, готовые уложить первого же, кто посмеет нарушить их покой?
Кавалеры хитры и отважны, и упорное их молчание что-то значит. Не просто так они молчат. Кто поверит, что они позволят застать себя врасплох, как спящий медведь в берлоге?
Люди продолжают выкрикивать «пожар, пожар!», но уже без прежнего энтузиазма, и в голосах их слышатся сомнение и страх.
И тогда майорша берет топор и в несколько ударов крошит входную дверь.
Взбегает по лестнице и рывком открывает дверь в опочивальню ее кавалеров:
– Пожар!
Этот голос им знаком, на этот голос они не могут не отозваться, они проснулись бы, даже если бы она не выкрикнула, а прошептала это слово – «пожар». И сработала засевшая в спинном мозгу привычка повиноваться этому голосу – кавалеры похватали свои одежды и посыпались вниз по лестнице, один за другим.
А там их уже ждали. Хватали поодиночке, швыряли на землю, связывали руки и ноги и тащили в предназначенные им призрачные экипажи. Никто не ушел, поймали всех. Связали Беренкройца, мрачного полковника, и могучего Кристиана Берга, и дядюшку Эберхарда, философа.
Поймали даже непобедимого Йосту Берлинга.
План майорши удался. Она оказалась сильнее, чем все кавалеры, вместе взятые.
Жалок был вид их, когда сидели они со связанными ногами в своих призрачных рыдванах. Двор гремел от их проклятий и ругательств, а взгляды, полные бессильной ярости, могли бы поджечь всю усадьбу.
А майорша переходила от экипажа к экипажу с одними и теми же словами:
– Поклянись, что никогда не вернешься в Экебю.
– Пропади пропадом, ведьма!
– Клянись, иначе прикажу оттащить тебя назад связанным, и ты там сгоришь с потрохами, потому что сегодня ночью я сожгу ваш флигель дотла!
– Не решишься!
– Не решусь? Разве Экебю не мое поместье? Ах, мерзавцы! Думаете, я не помню, как вы плевали мне вслед, когда встречали на дороге? Думаете, не было у меня искушения сжечь вас там всех вместе с проклятым флигелем? Вас, которые пальцем не шевельнули, когда меня выгнали с позором из собственного дома! Клянитесь!
Майорша страшна в своей ярости, хотя мы с вами, дорогие читатели, наверняка подозреваем, что она не так уж разгневана, как хочет показать. Но кавалеры этого не знают. К тому же вокруг нее толпятся работники с топорами, так что лучше уж поклясться, пока не дошло до кровопролития.
Майорша велит принести из флигеля одежды кавалеров и их красные сундучки. Беднягам развязывают руки и вкладывают в них вожжи.
Все это продолжается довольно долго.
Тем временем Марианна успела добраться до Шё.
Майора она застала уже одетым. Он не любил долго спать по утрам, к тому же надо было кормить его любимых медведей.
Майор молча выслушал ее сбивчивый рассказ, пошел к медведям, надел намордники и двинулся в Экебю.
Марианна следовала за ним, едва не падая от усталости. Но когда она увидела зарево пожара над Экебю, чуть не потеряла сознание от ужаса.
Господи, что за страшная ночь? Один избивает жену, дочь его погибает от холода у крыльца родного дома. Эта страшная женщина настолько преисполнена ненависти, что готова сжечь врагов живьем. Старый майор собирается спустить чудовищ на своих же работников.
Марианна бросилась бежать, уже не замечая, насколько она замерзла и измучена, и намного опередила майора с его медведями. Прорвалась сквозь толпу работников и крикнула:
– Майор! Сюда идет майор со своими медведями!
Все замерли. Словно тревожный ветер пролетел по толпе.
– Значит, ты позвала майора? – тихо спросила майорша Марианну.
Но та ее не слушала.
– Бегите! – надрывалась Марианна. – Бегите, а то будет поздно! Ради бога! Я не знаю, что у майора на уме, но он идет сюда с медведями!
Все взгляды устремились на майоршу.
– Благодарю за помощь, дети мои, – недрогнувшим голосом обратилась она к работникам. – Расходитесь по домам! Не дай бог, если с кем-то что-то случится по моей вине или кого-то потащат в суд. Все и задумано было так, чтобы никто не пострадал. И мне вовсе не хочется, чтобы кто-то из моих верных помощников был убит или сам стал убийцей. Ступайте!
Никто не двинулся с места.
Майорша повернулась к Марианне.
– Я знаю, ты влюблена, – сказала она. – Тебя охватило любовное безумие. Но избавь тебя Бог когда-нибудь увидеть, как у тебя на глазах разоряют твой дом и ты не в силах хоть что-то сделать, чтобы его спасти. И старайся поступать, как велит рассудок, даже когда ярость захлестывает душу. Расходитесь, расходитесь, дети мои! – вновь обратилась она к людям. – Пусть Бог хранит Экебю, а мне пора в дорогу. Я должна навестить свою мать. А ты, Марианна, когда к тебе вернется рассудок, когда Экебю будет разорено и край захлестнет нужда, подумай о том, что ты сделала сегодня, и позаботься о людях…
Она взяла свой посох и, не оборачиваясь, ушла со двора. За ней медленно потянулся собравшийся народ.
Когда появился майор со своими медведями, он застал только Марианну и ряд древних полуразвалившихся рыдванов, запряженных такими же древними, если не древнее, одрами. Марианна побежала развязывать пленников.
Они сидели, не открывая рта, и смотрели в сторону. Им было стыдно, как никогда раньше. Большего позора они никогда не переживали.
– Мне было не лучше, когда я стояла на коленях на крыльце собственного дома в Бьорне. Всего-то несколько часов назад.
Дорогие читатели, я не буду подробно описывать, как закончилась эта страшная, лютая ночь. Как освободили кавалеров, как распрягли лошадей и закатили назад в сарай старые экипажи. Над восточной грядой холмов уже занимался новый день, ясный и спокойный зимний день. Насколько милее душе ясные, солнечные дни, чем ночи с их таинственными шорохами и волчьим воем!
Одно только скажу: когда кавалеры вновь собрались в своем флигеле и выпили по нескольку капель оставшегося в чаше пунша, внезапно пришло озарение.
– Да здравствует майорша! – дружно закричали кавалеры.
Потрясающая женщина! Служить ей, обожать ее, исполнять любые прихоти – долг и радость настоящего кавалера!
Вот только зачем она заключила договор с Сатаной? Как обидно, что такая замечательная женщина собирается отправить их души в преисподнюю.
Медведь-шатун с Гурлиты
В лесной чаще живут опасные звери. Челюсти их вооружены хищно поблескивающими клыками или загнутыми клювами, лапы – острыми когтями. Они только и ждут, чтобы впиться в горло жертвы, и глаза их светятся в темноте жаждой убийства.
В лесной чаще живут волки. Днем они прячутся, а по ночам выходят на охоту. Они преследуют крестьянские сани, и бывает, что несчастная мать бросает им грудного ребенка, чтобы спасти жизнь себе и своему мужу.
И рыси водятся в лесной чаще. Люди называют их по-разному, но никогда настоящем именем, потому что это опасно. Чаще всего говорят «йопа». Или «она». А если уж произнес слово «рысь», смотри вечером, хорошо ли заперта овчарня, надежен ли засов в курятнике. Ей ничего не стоит вскарабкаться по отвесной стене, потому что когти ее остры, как стальные гвозди, и ничего не стоит ей просочиться в любую, самую узкую щель, потому что тело ее гибко и сильно, как стальная пружина. Она прокусывает горло овцы и пьет кровь из сонной артерии, потом убивает следующую и следующую, пока не передушит всех овец. Эта дикая оргия смерти не прекращается, пока хоть одна из несчастных овечек подает признаки жизни.
А наутро находит крестьянин всех своих овец мертвыми, с перегрызенным горлом – йопа не оставляет свидетелей.
И не забывайте про филинов, чье уханье можно слышать в сумерках. Не дай бог передразнить его, тут же прилетит он на своих бесшумных широких крыльях и выклюет глаза обидчику. Потому что филин – не птица. Филин – призрак леса.
И в самой непроходимой чаще обитает самый страшный из всех, самый большой и самый опасный – медведь. Медведь, чья сила превышает силу дюжины отборных силачей. Медведь, тот самый медведь, что, войдя в силу и заматерев, не страшится никакого оружия – его можно свалить только серебряной пулей. Подумайте только – серебряной пулей! Можно ли увенчать зверя более страшным, леденящим душу ореолом? Что за тайными, грозными силами обладает это чудовище, что даже обычный свинец его не берет? Не иначе, духи зла взяли его под защиту.
И если встретить его в лесу, огромного, как скала, убегать бесполезно. Защищаться тем более. Надо броситься на землю и притвориться мертвым. Наверное, нет ни одного ребенка в этих краях, которому бы ни разу не приснился сон: он лежит на земле, а над ним нависла гигантская мохнатая туша. Медведь перекатывает его лапой, он слышит тяжелое, зловонное дыхание, но главное, не шевелиться. И тогда зверь отходит в сторону и роет яму, чтобы спрятать добычу. И тут надо тихо подняться и уходить – сначала медленно и неслышно, а потом бежать со всех сил.
Но подумайте, только подумайте – а что, если медведь не пойдет на эту уловку? Если он чересчур голоден, чтобы брезговать падалью? Или он заметил, как ты пытаешься убежать, и пустится вдогонку? О, боже!..
Страх, как ведьма, прячется в чащобе и, завидев человека, заводит свои колдовские песни. Ты почти парализован страхом, ты не замечаешь волшебной красоты вокруг, тебе уже кажется, что природа зла и коварна, как спящая змея. Вот оно, озеро Лёвен, раскинулось перед тобой во всей своей девственной прелести, но не верь ему! Каждый год собирает оно дань, каждый год община отпевает утопленников. Или лес, заманчиво мирный, душистый… ласково перешептываются деревья, но помни: в этом невинном лесу прячутся опасные хищники, а в них – это знают все – вселяются неупокоенные души убийц, подзуживаемые к кровавым преступлениям лесной нечистью.
А может быть, довериться беззаботно журчащему ручейку? Как бы не так! Вода его несет заразу и смерть, стоит только искупаться после захода солнца.
Не верь по весне убаюкивающему кукованию: кукушка к осени превратится в коршуна с безжалостными глазами и наводящими ужас когтями. Не верь мху, не верь лиловому вереску, не верь теплым скалистым откосам, на которых так приятно полежать летним вечером. Природа вовсе не милосердна, она одержима злыми силами, полными ненависти к роду человеческому. Везде ждет тебя опасность. И странно, что люди все еще существуют на этой земле; видно, кому-то удается избежать всех этих опасностей, целехоньким пройти сквозь лабиринт уготованных ему природой коварных ловушек.
Ведьма страха… прячется ли она до сих пор в вермландских лесах? Поет ли свои жуткие колдовские серенады? Омрачает ли улыбчивую красоту здешних мест? Власть ее огромна, уж кому не знать, как не мне, выросшей в этих краях? И стальная чушка в колыбели, и раскаленный уголь в детской ванночке – все это помогало, наверное, но я до сих пор помню, как холодная, костлявая рука страха сжимала мое детское сердце.
Но прошу вас, не воображайте, что я собираюсь рассказать что-то страшное и леденящее душу. Это всего лишь старая история про огромного медведя с горы Гурлита, и я должна ее поведать, а там уж ваше дело решать, правда это или нет. Собственно, все охотничьи истории таковы: можно им верить, а можно и не верить.
* * *
Этот и взаправду огромный медведь жил на самой вершине горы, называемой Гурлита, чьи крутые недоступные склоны нависают над берегом озера Лёвен.
Стены и крышу его жилища образовали поросшие торфяным мхом корни поваленной сосны, ветви и сучья защищали берлогу от ветра, выпадающий поздней осенью снег надежно конопатил щели, и медведь мог спокойно спать с осени до весны.
Можно подумать, что он настоящий поэт, истинный мечтатель, этот мохнатый владыка леса, этот косоглазый разбойник. Неужели он просто хочет забыться во сне, чтобы не видеть скучные и холодные ночи и бесцветные зимние дни? Неужели он хочет проспать всю эту тоскливую непогоду и проснуться от журчания весенних ручьев и пения птиц? А может, ему приятно смотреть во сне на краснеющие брусничные поляны и огромные муравейники, полные рыжевато-коричневых вкуснейших тварей? Или на пасущуюся на зеленеющем склоне белоснежную овечку? Неужели ему выпало такое счастье – проспать всю зиму напролет?
Пурга завивается меж сосен, бродят обезумевшие от голода волки и лисы. Почему только медведям дозволено спать всю зиму? Пусть он встанет, косолапый, пусть узнает на своей шкуре, какой пронизывающий холод сковал землю, как увязают лапы в глубоких сугробах! Нечего ему спать!
Но только посмотрите, как заботливо он себе постелил! Ни дать ни взять Спящая Красавица из сказки. И как ее разбудил поцелуй любви, так его разбудят нежные поцелуи весны. Он надеется проснуться от протиснувшегося сквозь хворост солнечного луча, который ласково ущипнет его за нос, от капели из тающих на крыше его берлоги сугробов, от журчания первых ручьев. И горе тому, кто рискнет разбудить его раньше времени!
Если бы хоть кто-нибудь спросил, как хозяину леса угодно устроить свою жизнь. Если бы дробь не влетела со свистом в берлогу и не впилась в кожу, как рой комаров…
Он слышит выстрелы и крики. Он пытается стряхнуть с себя сон, пытается размять затекшие и ослабевшие суставы и с трудом расшвыривает хворост – нелегкий труд для старого воина. Но надо же посмотреть, что происходит там, посреди ненавистной зимы. Что за шум? Не весенний ли первый гром, не ветер ли валит ели и раскидывает слежавшийся снег?
Но нет. Не весна и не ветер. Кавалеры. Кавалеры из Экебю.
Старые знакомые. Кавалеры из Экебю. Он помнит ту ночь, когда Беренкройц и Фукс сидели в засаде на хуторе крестьянина из Нюгорда. Выпили бутылку – какая же охота без самогона? – и мирно задремали. И как раз в этот момент хозяин леса разметал торфяную крышу хлева. Они проснулись, когда он уже вытаскивал из стойла убитую корову, и бросились на него с ружьем и тесаком. Корова медведю не досталась, но сам он все же убежал, хоть и остался без глаза.
И еще хуже была вторая встреча с кавалерами. Они с супругой-медведицей и медвежатами как раз готовились залечь в спячку в своей берлоге на горе Гурлита. Он помнит – кавалеры появились неведомо откуда. Он опять ушел. Расшвырял все вокруг и убежал. Но остался хромым, пуля застряла в бедре. А когда он вернулся, снег у берлоги был весь залит кровью его царственной супруги, а медвежат люди забрали с собой. Они вырастут среди людей и станут их друзьями и слугами.
Но сейчас дрожит земля, осыпается пушистый снег с хворостяной крыши берлоги, и словно сказочное чудовище из-под земли вырастает он, король и хозяин здешних лесов, великий боец, заклятый враг кавалеров. Берегись, Фукс, гроза медведей! И ты берегись, завзятый игрок в шилле полковник Беренкройц, и ты, Йоста Берлинг, герой сотен приключений!
Горе вам, поэты, мечтатели, герои-любовники! На поляне стоит Йоста Берлинг, палец его на спусковом крючке, и прямо на него идет огромный медведь. Почему он не стреляет? Почему Йоста Берлинг не стреляет?
Почему не спустит он курок, почему не выстрелит в широкую мохнатую грудь? Медведь уже совсем близко, можно стрелять. И он, Йоста, один, остальным стрелять несподручно. О чем он думает? Не думает ли, что он, как главнокомандующий, принимает медвежий парад?
Нет, конечно. Но мы знаем, о чем он думает. Он думает о прекрасной Марианне, которая лежит тяжело больная в Экебю. Она сильно простудилась в ту кошмарную ночь, и было бы странно, если бы этого не случилось, после того как она чуть не час пролежала в сугробе в легком бальном платье.
Конечно же он думает о ней. И она тоже жертва эпидемии ненависти, жертва страшного проклятия, настигшего человечество. И Йосту передергивает от мысли, что и он жертва. Он тоже вышел с ружьем не погулять и не пострелять в цель – он вышел преследовать и убивать.
И как раз в минуту этих невеселых раздумий из чащи вышел чудовищных размеров медведь и двинулся прямо на него. Слепой после удара тесака одного из кавалеров, хромой после выстрела другого. Кавалеры убили его подругу, украли его детей. Его зимний покой нарушен, он совершенно одинок, шерсть его свалялась. И Йоста во внезапном прозрении понимает зверя. Единственное, что у того осталось, – его собственная жизнь.
«Не буду стрелять, – решает Йоста. – Пусть он убьет меня, но стрелять я не буду».
Зверь идет прямо на него, но Йоста стоит не шевелясь, вытянувшись, как на параде, и когда медведь уже рядом, он берет ружье на караул и щелкает каблуками.
И – о чудо! – хозяин леса поглядел на него своим единственным, налитым кровью глазом и проковылял мимо. Ему некогда связываться с Йостой Берлингом. Надо спасать жизнь. Медведю не мешают огромные, в человеческий рост, сугробы – он вламывается в лес, скатывается по крутому спуску и исчезает.
Загонщики ждали выстрела Йосты, но не дождались, а теперь лихорадочно палят в убегающего зверя.
Но уже поздно. Кольцо прорвано. Медведь исчез. Фукс задирается, Беренкройц ругается на чем свет стоит, а Йоста только смеется.
Как они могли подумать, что он, человек на вершине счастья, омрачит блаженство убийством божьей твари?
Итак, огромный медведь с Гурлиты ушел из засады невредимым. Но зимняя спячка его прервана, а нет ничего опаснее медведей, разбуженных до прихода весны. Их называют шатунами. А когда шатуном становится такой медведь, как этот, много повидавший на своем веку гигант с Гурлиты, он опасен вдвойне. Никто так ловко и потаенно, как он, не срывает крыши низких, похожих на погреба, овчарен, никто так не обходит капканы, никто так не ускользает из засады.
У крестьян просто-напросто кончилось терпение. Они уже несколько раз посылали гонцов к кавалерам – умоляем, помогите покончить с этим разбойником.
Весь февраль, день за днем, ночь за ночью, рыскали кавалеры в верховьях Лёвена, но зверь, хитрый, как лиса, и стремительный, как волк, не давался. Они устраивают засаду на хуторе – а он буйствует в соседнем, ищут его в лесу – а он уже преследует крестьянские дровни на льду озера. Он стал настоящим грабителем, дерзким и безжалостным. Мог забраться на чердак и опустошить матушкин горшок с медом, мог задрать лошадь в упряжке на глазах у отца.
И постепенно все начали понимать, что это за медведь и почему Йоста не решился в него выстрелить. Страшно сказать, а еще страшнее поверить – это не обычный медведь, и дело даже не в его величине и силе. Убить его нельзя, если у тебя нет в запасе серебряной пули. Пули из серебра и колокольной меди, мало того, отлить ее надо на колокольне, и не в любой день, а в четверг, и даже не в любой четверг, а в новолуние. Ни пастор, ни звонарь ничего не должны не только знать, но даже подозревать… короче говоря, нелегко раздобыть такую пулю.
* * *
У всех медведь как кость в горле, но есть в Экебю кавалер, для которого вся эта история – личная трагедия. Вы, конечно, поняли, что речь идет о майоре Андерсе Фуксе, знаменитом охотнике на медведей. Он потерял покой и сон, для него это было невыносимо: как это он, майор Фукс, гроза медведей, не может убить шатуна с Гурлиты? Он долго ворчал и не верил, но и для него под конец стало ясно: только серебряная пуля. Иначе этого зверя не завалить.
Красавцем мрачного майора назвать никак нельзя. Тяжелый, неуклюжий, свекольная физиономия с обвисшими щеками и тройным, а кое-где и четверным подбородком. Жесткие, как сапожная щетка, черные усики над толстой верхней губой, а волосы не берет никакой гребень. Торчат, как у черного стриженого ежа. Молчаливый, слова не вытянуть, и к тому же великий обжора. Короче говоря, он не из тех, кого женщины встречают улыбками, кокетливыми взглядами и объятиями; да собственно, и сам он мало интересовался прекрасным полом. Трудно даже представить, что однажды майор Фукс падет жертвой чар какой-нибудь красавицы. Все, что касается любви и любовных страданий, майора Фукса не интересовало.
И вот настал вечер четверга. Узенькая, в палец толщиной, полоска месяца висела над горизонтом еще за пару часов до захода солнца.
Майор Фукс, не сказав никому ни слова, покинул Экебю. На плече у него висело ружье, а в ягдташ положил он горелку и литейную форму для пуль. Он направлялся в церковь в Бру – решил попытать счастья, хотя и не особенно верил во все эти суеверия. Не может же счастье в конце концов не улыбнуться такому честному и порядочному человеку, как он, майор Фукс!
Церковь стояла на восточном берегу узкого пролива, соединяющего северную и южную части озера, так что путь его лежал через переброшенный через этот пролив шаткий мост.
Он шел, погруженный в невеселые мысли, не глядя на живописный, расположенный на склонах поселок, на изящные силуэты домов, четко, как в театре теней, вычерченных на экране вечернего неба, на круглую вершину горы Гурлиты.
Он смотрел под ноги и размышлял, как бы ему раздобыть ключ от церкви и подняться на колокольню, но так, чтобы никто об этом не знал.
Но уже у самого моста чьи-то отчаянные крики заставили его поднять голову.
Надо сказать, что в те времена в церкви Бру служил органистом некий немец по имени Фабер, робкий, тщедушный человечек с вечной заискивающей улыбкой. А звонарем был Ян Ларссон, толковый, работящий крестьянин. Правда, бедный – пастор из Брубю выманил у него все отцовское наследство, целых пятьсот риксдалеров.
Этот самый звонарь ни о чем так не мечтал, как жениться на хорошенькой девице Фабер, сестре органиста, а тот никак не хотел отдавать сестру замуж за бедного Яна. Из-за этого между ними разгорелась настоящая вражда. И именно в этот вечер Ян подкараулил органиста на мосту, взял его за грудки и поднял над перилами – если не отдашь за меня сестру, брошу в пролив. Но Фабер не сдавался. Он кричал, брыкался и только повторял: «Нет, нет и нет!», хотя то и дело с ужасом бросал взгляды на черную, кипящую порогами полосу ледяной воды далеко внизу, между заснеженными берегами.
Неизвестно, чем бы кончилось дело. Рассвирепевший Ларссон мог и в самом деле бросить крошку-органиста в пролив. Но как раз в эту секунду на мосту появился Фукс. Завидев грозного майора, звонарь перепугался, отпустил Фабера и бросился бежать со всех ног.
Маленький Фабер повис у спасителя на шее и рассыпался в благодарностях. Майор аккуратно поставил органиста на доски моста и пожал плечами – не за что, мол, благодарить. А может быть, пожатие плеч значило совсем другое – майор сильно недолюбливал немцев после того, как во время померанской войны пережил осаду Путбуса на острове Рюген[15]. Никогда в жизни он не был так близок к голодной смерти, как тогда. Ну и немцы.
Фабер решил тут же бежать к исправнику Шарлингу и пожаловаться, что звонарь пытался его убить, но майор его разочаровал: в этой стране, сказал он, убить немца за преступление не считается. Это, конечно, было не так, но майор, как я уже сказала, сильно не любил немцев.
Тогда Фабер в порыве признательности пригласил майора домой на домашние свиные сосиски и кружку муммы[16].
Майор не хотел было идти, он торопился. Хотя что может быть лучше домашних немецких сосисок… К тому же его осенило: наверняка у органиста дома есть ключ от церкви.
Они поднялись по склону холма, где рядом с церковью жили и пастор, и звонарь. Здесь же стоял дом органиста.
– Прошу меня извинить, – непрерывно трещал Фабер, – прошу извинить, у нас с сестрой беспорядок, ужасный беспорядок. Дела были с утра. Резали петуха. Петуха резали.
– Большое дело! – буркнул майор. – Петух – зверь незначительный.
И почти сразу появилась маленькая девица Фабер с пенящейся брагой в глиняных кружках.
Все уже знают, что майор не баловал вниманием женский пол, но юная фрекен Фабер была так прелестна в чепчике и фартучке! Гладко причесанные светлые волосы, домотканое платье без единого пятнышка – майор не мог отвести глаз. Маленькие ручки так ловки и хлопотливы, круглое личико так розово, что майор Фукс даже крякнул от удовольствия. Если бы он увидел такую очаровательную крошку лет двадцать пять назад, тут же помчался бы делать предложение.
Но глаза заплаканные. Может быть, именно эти прозрачные от слез глаза и произвели на майора такое впечатление.
Мужчины ели и пили, а она беспрерывно сновала взад-вперед: то забирала посуду, то приносила еще сосисок, то подливала в кружки брагу. Потом спросила:
– А как брат распорядится поставить коров в сарае?
– Дюжина справа, чертова дюжина слева, – мгновенно ответил Фабер. – Тогда они бодаться не будут.
– Вот это да! – удивился майор. – У тебя столько коров, Фабер?
Но тут же выяснилось, что коров только две. Он просто называл их так: «Дюжина» и «Чертова дюжина». В разговоре и в самом деле можно было подумать, что у него двадцать пять коров. Целое стадо.
И еще майор узнал, что Фабер перестраивает хлев, так что коровы временно ночуют в дровяном сарае.
Девица Фабер вновь остановилась около брата:
– Плотник спрашивает, какой высоты хлев закладывать?
– Пусть коров померит, какого они роста. По коровам и хлев.
Хороший ответ, мысленно одобрил Фукс.
Слово за слово, спросил майор, отчего у сестры глаза заплаканы. Оттого, сказал Фабер, что я не позволяю выйти замуж за звонаря, мало того что нищего и бесприданника, да еще и в долгах по уши. Вот она и плачет с утра до ночи.
От этих слов и частично от выпитой браги майор погрузился в глубокую задумчивость. Он пил кружку за кружкой, ел сосиску за сосиской и, похоже, сам того не замечал. Фабер уже начал вздрагивать, когда майор тянулся за очередной сосиской. Но странно – чем больше майор пил, тем яснее становилась голова.
Он твердо решил помочь несчастной девице Фабер. Но при этом не забывал и о главной цели своего визита – то и дело искоса поглядывал на большую связку ключей на гвозде у двери. В конце концов Фабер, вынужденный пить вместе с майором, уронил голову на стол и захрапел.
Майор потряс его за плечо, убедился, что органист спит, схватил ключи и шапку и вышел прочь.
Через минуту он уже вскарабкался по узкой крутой лестнице в звонницу. Колокола нависли над ним, разинув пасти от удивления. Еще больше они, должно быть, удивились, когда он начал скрести напильником самый большой колокол – как вы помните, для заговоренной пули нужна колокольная медь. Достал горелку, начал лихорадочно рыться в сумке и обозвал себя болваном. Он забыл главное! Он забыл серебро. Без серебра никакой силы в пуле не будет. Какая неудача! Так замечательно совпало – и новолуние, и четверг, и удалось незамеченным проникнуть в башню, – и все пошло прахом.
Он выругался так смачно, что даже колокола тихонько запели от неожиданности.
Или это не колокола? Это какой-то звук внизу, в церкви. Шаги? Да, несомненно. Тяжелые шаги.
Кто-то поднимается по лестнице.
Майор Фукс, тот самый майор Фукс, кто только что разразился такими громовыми ругательствами, что задрожали колокола, задумался. Что делать? Может, кто-то решил помочь ему отлить заветную пулю?
А шаги все ближе и ближе. Ночной посетитель явно идет на колокольню. Сейчас из люка покажется его голова.
Майор отошел в сторону, погасил рожковый фонарь и спрятался за массивной балкой. Не то чтобы он испугался, но если вся эта история выплывет наружу… ему вовсе не хотелось выставлять себя на смех.
Не успел он спрятаться, в люке и в самом деле показалась голова.
Майор хорошо знал этого человека – пастор из Брубю. Тот славился своей невероятной жадностью и скупостью, а в последнее время просто потерял рассудок. Он прятал свои сокровища повсюду, выискивая места, где бы их никто не нашел. Пастор приподнял доску пола, сунул туда что-то, подозрительно огляделся и полез вниз.
Не успела голова пастора исчезнуть, как майор, недолго думая, открыл тайник. О, черт, сколько денег! Несколько пачек крупных купюр, а среди них… среди них… вот оно! Кожаный мешочек с серебряными монетами.
Честный майор взял пару монет, ровно столько, сколько ему нужно для заговоренной медвежьей пули, остальное положил на место и закрыл доску, проверив, не осталось ли щели.
Когда он спустился вниз, ружье уже было заряжено серебряной пулей.
Он шел и размышлял, не одарит ли его судьба еще какой-нибудь удачей в эту ночь. Хорошо известно, что чудеса чаще всего случаются в ночь с четверга на пятницу.
Медведь… если бы каналья-медведь знал, что коровы органиста ночуют в ветхом, к тому же незапертом дровяном сарае, чуть ли не под открытым небом!
А это что? И в самом деле что-то большое и темное на лужайке, направляется к сараю.
Он вскинул ружье, уже приготовился нажать курок… и задумался.
О чем думает майор? Что удерживает от выстрела этого завзятого охотника, грозу медведей?
А думает он о хрупкой, тоненькой девушке с заплаканными глазами. Как хорошо было бы помочь ей и влюбленному звонарю! Но неужели ради этого он откажется от чести самому уложить чудовище с Гурлиты?
Потом майор будет рассказывать, что ни одно решение в жизни не далось ему так трудно, как это. Но так прекрасна и так несчастна была бедняжка Фабер, что он скрепя сердце опустил ружье.
И что же делает майор? Он будит звонаря, вытаскивает, полуодетого, на улицу и сует ему в руки ружье.
– Сейчас ты убьешь медведя, который подбирается к сараю Фабера, – говорит он. – И тогда он отдаст за тебя свою сестру. Убив такого медведя, ты сразу станешь уважаемым человеком. Это не обычный медведь, это настоящее чудовище. Лучшие охотники страны дорого бы дали за честь убить такого зверя.
И он вкладывает свое заряженное серебряной пулей ружье в руки еще не проснувшегося звонаря. Пулей, отлитой в новолуние, в четверг, из серебра и колокольной меди… но этого старого гиганта с Гурлиты, хозяина леса, убьет не он, а кто-то другой.
Майора колотит от зависти, но он сдерживается.
Звонарь водит ружьем, целится, целится… будто собирается уложить не медведя, а Большую Медведицу, медленно вращающуюся в бездонном мраке ночи вокруг Полярной звезды.
И наконец гремит оглушительный выстрел. Он слышен, наверное, даже на вершине горы Гурлита.
Но куда бы ни целился звонарь Ян Ларссон, медведь обречен. Именно так и бывает с серебряными пулями: можно целиться хоть в Большую Медведицу, пуля все равно попадет медведю в сердце. Зверь с устрашающим ревом встает на дыбы и падает.
Начинает сбегаться народ с ближайших дворов – что за стрельба среди ночи? Никогда раньше один-единственный выстрел не будил столько людей, но ведь всем известно: когда стреляешь серебряной пулей, грохот такой, хоть уши затыкай. И когда соображают, в чем дело, все бросаются поздравлять звонаря – этот медведь держал в страхе весь поселок.
Тщедушный Фабер тоже здесь, но майор уже проклинает себя за свою щедрость. На органиста подвиг звонаря, кажется, не произвел ни малейшего впечатления. Только подумайте! Звонарь спас не чьих-нибудь коров, а именно его, Фабера! А немец не только не пригласил его тут же в зятья, но даже не поблагодарил!
Каков негодяй! Майор в гневе начал постукивать сапогом по снегу. Каков негодяй! Не зря он так не любит немцев. Вот вам пожалуйста – неблагодарная тварь. Неблагодарность – страшный грех. Но, с другой стороны, сосисками и брагой тот угощал его от чистого сердца…
Он собрался было втолковать этому бесчувственному лилипуту, какой великий подвиг совершил звонарь, но не смог выдавить ни слова – горечь, что он впустую пожертвовал заветным выстрелом, лишила его дара речи.
Непостижимо! Великий подвиг, а парню отказывают в сватовстве, хотя любая девушка с радостью пошла бы за такого героя.
Звонарь и еще несколько парней собрались разделывать тушу, побежали в сараи точить тесаки, остальные постепенно разошлись по домам, и майор Фукс остался один у неподвижной туши.
Ну нет.
Пришлось ему опять открывать церковь огромным ржавым ключом, опять карабкаться на колокольню по лестничке с покосившимися хлипкими ступеньками, будить спящих голубей.
И когда деревенские парни под наблюдением майора стали разделывать убитого медведя, они обнаружили, что в зубах его зажата пачка денег. Пятьсот риксдалеров. Никто до сих пор не знает, откуда взялись эти деньги, но, поскольку заколдованного зверя убил звонарь, трофей по праву принадлежит ему.
И как только сошлись на том, что владелец клада не кто иной, как звонарь Ян Ларссон, органист Фабер будто прозрел, подошел к звонарю и объявил, что будет счастлив и горд иметь такого зятя.
В пятницу вечером майор вернулся в Экебю после двух вечеринок: у звонаря отмечали удачный выстрел, а у Фабера – помолвку. Юная девица Фабер выходила за звонаря Яна Ларссона, и глаза ее сияли такой веселой голубизной, что никто бы и не поверил, что еще накануне они были полны горьких слез.
Настроение у майора сквернее некуда. Его не утешает даже, что медведь, которого он считал главным личным врагом, побежден, хоть и не им. Не радует и подаренная ему звонарем шкура убитого зверя.
А может, кто-то посчитает, что грустит он вовсе не о медведе-шатуне, а о крошечной девице Фабер, доставшейся другому. И будет не прав. Никакой грусти по этому поводу майор не испытывает. Но надо понимать, какой удар для охотника: старый, одноглазый медведь-шатун, гроза округи, хозяин здешних лесов, убит, а ему, майору, так и не удалось выстрелить серебряной пулей из своего много повидавшего ружья.
Он поднимается во флигель и молча швыряет шкуру на пол перед сидящими у камина кавалерами. Но не думайте, что он тут же пустился рассказывать о своей экспедиции! Только много месяцев спустя удалось выудить из него подробности ночной истории. Но и тогда не открыл он правду про тайник скряги-пастора из Брубю, а сам пастор вряд ли обнаружил пропажу.
– Красивая шкура, – похвалил Беренкройц. – Могучий зверь. Только непонятно, что его выгнало на охоту посреди зимы. Иди ты его настиг в берлоге?
– Его застрелили в Бру.
– Огромный зверь, – вступил в разговор Йоста, – не такой огромный, как тот гигант с Гурлиты, но тоже громила.
– Почти такой же, – подтвердил Кевенхюллер. – Только тот был одноглазый.
Фукс бросился к шкуре и обомлел. Оба глаза были целы-целехоньки, и ему даже показалось, что шкура ему подмигнула.
И надо было поглядеть в этот миг на знаменитого майора Фукса, грозу окрестных медведей! Неказистый майор просиял так, что на какую-то секунду сделался настоящим красавцем. Значит, этот не тот медведь? Не его личный супостат?
– Слава тебе, великий и милосердный Господь наш!
Он сцепил руки на груди, поднял голову к потолку и за весь оставшийся вечер не произнес ни слова.
Сидел и о чем-то думал, а на губах его играла мечтательная улыбка.
Аукцион в Бьорне
Мы, молодые, с удивлением слушаем рассказы о тех далеких временах.
– Неужели у вас каждый день давали балы? Каждый день, пока вы были молоды и сияли красотой? Неужели жизнь в те времена была одним сплошным приключением?
– Неужели все юные девушки были так прекрасны и так ласковы, что чуть не после каждого приема одну из них похищал Йоста Берлинг?
И качают головами умудренные опытом старики, и начинаются рассказы про жужжание ткацких и прядильных станков, про хлопоты на кухне, про грохот цепов в дни обмолота, про доносящиеся из леса глухие удары топоров. Но надолго этих нравоучительных повествований не хватает; куда интереснее, как тормозят в морозной пыли санки у крыльца, как валится в них гурьбой нарядная молодежь, как мчатся они по заснеженным лесам! А танцы ночи напролет, а пунши и крюшоны, а порванные струны на скрипках!
А бешеная охота, стоившая подчас жизни и самим охотникам! А шум и выкрики искателей приключений вдоль берегов длинного, дважды перепоясанного озера Лёвен! Далеко разносились их крики, качались и падали деревья, сходили лавины, все злые духи, казалось, собирались сюда на праздник. А голодные звери подбирались к одиноким хуторам. И прощай, тихий домашний уют – словно восьминогий конь Удена Слейпнер промчался по краю, унося мертвых героев в Вальхаллу, промчался и затоптал весь семейный уют, все тихое счастье. Сердца мужчин вспыхивали героической жаждой подвигов, а бледные от ужаса женщины покидали свои дома.
При этих рассказах у нас, молодых, сердце замирает от страха и преклонения.
Вот это были люди, думаем мы. Нам таких никогда не увидеть.
– А они, люди той далекой поры, никогда не думали, что творят? – спрашиваем мы стариков.
– Конечно, думали. Как же, конечно, думали.
– Но не так, как мы. Мы думаем по-другому.
И старики пожимают плечами – наверное, не понимают, что мы имеем в виду и как можно думать по-другому.
Откуда им знать, что наше поколение уже безнадежно заражено двуликим микробом – самонаблюдением и самоанализом, что он, этот микроб, уже занял место в наших душах. И когда мы говорим, что думаем по-другому, имеем в виду именно это: самонаблюдение и самоанализ, двухголового демона с ледяными глазами и длинными, узловатыми, но цепкими пальцами, наше второе «я», засевшее в темных уголках сознания и разрывающее его на части, как старушки разрывают старые тряпки, собираясь шить лоскутное одеяло.
Узловатые пальцы отрывают и прикладывают друг к другу наши размышления и ощущения, примеряют их то так, то эдак, пока все не превращается в кучу никому не нужного тряпья. Все возвышенные чувства, благородные мысли, все, что мы сказали и сделали, – все идет под ножницы самоанализа, и ледяные глаза, осмотрев результат, издевательски усмехаются.
– Посмотрите сами. Сплошное тряпье. Гроша ломаного не стоит.
Но и в ту далекую пору это существо уже начало селиться в человеческих душах, пусть не во всех, пусть незаметно, но ведь так и начинаются эпидемии. Презрительно ухмыляющееся двухголовое существо с ледяными глазами, не желающее признавать разницу между истиной и ложью, добром и злом, все понимающее, ничего не осуждающее, копающееся в мелочах, разбирающее на части любое душевное движение, как ребенок разбирает игрушку, желая понять, как она устроена. Равнодушное существо, парализующее убийственной иронией любое сердечное движение, любую новую мысль.
Прекрасная Марианна, увы, была одной из тех, в кого вселился бес самоанализа. Она чувствовала, как ледяные глаза его следят за каждым ее шагом, каждым словом, как иронически ухмыляется он, этот бес, на каждый ее искренний порыв. Ее жизнь превратилась в театральное представление, где самоанализ был единственным зрителем. Она уже не была Марианной Синклер: она не радовалась, не любила, – она играла роль прекрасной Марианны, а двухголовый бес наблюдал за ее игрой ледяным взглядом: то одобрительно, то не очень.
Она словно разделилась на две половины. Одна половина, бледная и несимпатичная, с издевательской усмешкой наблюдала за действиями второй и никогда не находила не то что похвалы, даже слова одобрения – только иронический, разрушительный анализ.
Но куда подевался этот ядовитый страж в ту ночь, в ту бурную ночь, когда она впервые осознала полноту жизни?
Где он был, когда она, умница и насмешница Марианна, целовала Йосту Берлинга на глазах у публики? Когда она в гневе и отчаянии бросилась в сугроб с одним желанием – умереть? Где он тогда прятался, этот самоанализ?
А он и не прятался. Он съежился в неприметный комок, он был ослеплен и почти уничтожен. Потому что могучая волна захватившей ее страсти просто-напросто смыла его куда-то в мусорный угол сознания, и Марианна, может быть, впервые в жизни с восторгом и упоением почувствовала свою цельность, цельность страстно влюбленной женщины.
О ядовитый дух самоиронии! Когда она подняла свои полупарализованные смертельной стужей руки и обхватила в слабом и страстном объятии шею Йосты Берлинга, ты, должно быть, взял пример с полковника Беренкройца: поднял голову и долго смотрел на сияющее в ночном небе семизвездье Плеяд.
Не было, не было у тебя никакой силы в ту ночь. Зря пытался ты скорчить свою излюбленную ироническую усмешку. Ты даже помышлял о самоубийстве, когда Марианна, пылая от жара, слагала свой гимн в честь любви, когда она, едва согревшись, вновь выскочила на мороз в бальных туфельках и помчалась в Шё, чтобы спасти своего любимого.
Ты закрыл свои ледяные глаза и сцепил чуть не в предсмертной мольбе свои длинные, корявые пальцы, когда увидел, как разгорается в небе над Экебю алое зарево пожара. И ты услышал над собой удары огненных крыльев – они прилетели за тобой, грозные буревестники истинной страсти, с пылающими крыльями и стальными когтями, они вырвали тебя из души Марианны Синклер и бросили в пустоту вечности, и ты даже поверил, что в жизни бывают настоящие чувства и настоящие подвиги, как бы ты ни старался доказать обратное.
Но живуч этот кислотный дух! Пролетели, разорвав ночное небо, могучие птицы любовных страстей и исчезли – кто может расчислить их путь, кто может предсказать, когда и где они появятся в следующий раз… и, о горе! – пролетели птицы, утих шум их крыльев, и восстал ты из небытия и вновь поселился в душе прекрасной Марианны.
Весь февраль Марианна пролежала в Экебю в жару. И это была не только простуда, как все решили поначалу, – вы, надеюсь, помните, в Шё, куда она бегала за майором, в то время бушевала оспа. Оспа вцепилась в нее, простуженную и изможденную, и она долго была близка к смерти. В конце февраля молодой организм победил заразу, и Марианна стала поправляться. Но на лице ее остались следы когтей этой страшной болезни. Вряд ли кто-то теперь назовет ее прекрасной Марианной…
Но пока об этом никто не знал, кроме ее самой и сиделки. Даже кавалеры не знали. В комнату, где лежала больная, их не пускали.
Подумайте сами – чем заняться человеку, когда он сутки напролет лежит в постели, когда никто к нему не приходит, когда ему не с кем поговорить? Когда у человека больше времени для разрушительных самонаблюдений и самоанализа?
И этот двуглавый дух вновь глазеет на нее ледяными своими очами и вновь перебирает сухими корявыми пальцами ее мимолетные чувства, раскладывает пасьянсы из ее тайных надежд и ухмыляется, потому что они никогда не сходятся.
И Марианна смотрит на себя его глазами и помогает раскладывать пасьянсы, и постепенно блекнут и умирают ее чувства, а только что казалось, что на свете ничего нет, кроме ее любви. Вот лежит она, притворяется больной. Притворяется несчастной, притворяется влюбленной, притворяется одержимой жаждой мести. Все притворство, думает она. Достаточно одного трезвого взгляда, и сразу ясно – все притворство. Да, все это есть, все это было, но не всерьез. В искривленном ледяном хрусталике устремленных на нее глаз все обращается в ложь, но она лежит и думает, что за этим существом с ледяными глазами наблюдает еще одна пара глаз, а за теми – еще одна, и так до бесконечности… вся иерархия мироздания построена на лжи и притворстве, подсказывает ей бес самокопания.
Она слышит его убаюкивающие резоны и чувствует, как вспыхнувшая в ней в ту ночь и выплеснувшаяся наружу могучая жизненная сила постепенно сдувается, как воздушный шарик. Хватило только на одну ночь. Ярости, ненависти, любви – хватило только на одну ночь. Не больше.
Она уже не была уверена, любит ли она Йосту Берлинга. Ей очень хотелось повидаться с ним и проверить, способен ли он преодолеть разъедающий ее душу скепсис.
Пока она лежала в жару, ее занимала только одна мысль: чтобы никто не узнал про ее болезнь. Марианна не хотела видеть родителей, не хотела примирения с отцом – она была уверена: как только он узнает, как тяжело она больна, тут же начнет раскаиваться. Поэтому она постаралась, чтобы родителям сообщили, что ее якобы поразила неприятная, но неопасная глазная болезнь, что-то вроде светобоязни, – такое с ней бывает довольно часто, когда она возвращается в родные места. Поэтому она и прячется за опущенными шторами. Сиделке приказала молчать. Кавалеры собрались было привезти доктора из Карлстада, но она строго-настрого запретила. Ни в коем случае. Да, конечно, это оспа, но легкая форма, абортивная, щегольнула Марианна научным словом. В домашней аптечке в Экебю конечно же найдутся все необходимые лекарства.
Она ни секунды не думала, что может умереть; все, о чем она мечтала, пока болела, – как можно скорее подняться с постели и поехать с Йостой к священнику для помолвки.
Но вот болезнь отступила, и к ней вернулась ее привычная холодная мудрость. Ей казалось, что в этом мире помешанных она единственная, кто сохраняет рассудок. Ненависть, любовь… она же не могла ни любить, ни ненавидеть. Она понимала отца, она понимала всех. Там, где есть понимание, нет места ненависти.
Ей доложили, что Мельхиор Синклер собирается продать все, что имеет, с аукциона, чтобы опозорившей его дочери не досталось никакого наследства. Говорили, что он озабочен только тем, чтобы и вправду опустошить поместье. Мебель, утварь, скотина, сельскохозяйственный инвентарь – все пойдет с молотка. А потом и сама усадьба. А деньги сложит в мешки и утопит в Лёвене. Разруха, отчаяние и раскаяние – вот ее наследство. Марианна слегка улыбнулась – узнаю отца. Это его характер, ничего другого от него и ждать нельзя.
Она уже почти забыла, как в лихорадочном любовном восторге мечтала о хижине в лесу, мечтала жить жизнью углежогов. Вернее, не забыла, но теперь вся эта безумная ночь казалась ей дурным сном, все ее восторги – напыщенными и неискренними. Ей хотелось ясности и простоты. Она устала от постоянной игры, и все, что было, тоже казалось ей частью безвкусной игры – так, во всяком случае, подсказывал тот, с ледяными глазами. Разложил пасьянс из ее чувств, нашел для них подходящие, не такие высокопарные имена и показал – смотри-ка, тройки и семерки, а ты думала – тузы.
Марианна даже не особенно горевала о своем обезображенном лице, но каждый раз вздрагивала при мысли, что ей придется выслушивать соболезнования.
Но иногда, иногда… не часто, но иногда охватывала ее смертельная тоска – хотя бы секунду побыть самой собой, узнать, что за страсти прячет от нее поселившийся в ней демон самоанализа! Жест, слово, поступок – все что угодно, но естественный, вырвавшийся из глубины души, а не рассчитанный заранее…
И в один прекрасный день, когда она посчитала себя более или менее здоровой, Марианна оделась, легла на диван и велела позвать Йосту Берлинга.
Но Йоста на зов не явился – сказали, уехал на аукцион в Бьорне.
* * *
Слухи подтвердились – в Бьорне и в самом деле проходил большой аукцион. Старинная, богатая усадьба. Многие приехали издалека.
Могущественный Мельхиор Синклер велел выложить все имущество в большом зале. Тысячи предметов, сваленных в кучу от пола до потолка.
Он носился по дому, как архангел в Судный день, и тащил в зал то одно, то другое – ничего не хотел оставлять. Единственное, на что не упал его гневный взгляд, – кухонная утварь. Чугунки, деревянные табуретки, оловянные кружки, медные блюда. Потому что ничто из этого барахла не напоминало ему о Марианне. Но в ее комнате он учинил настоящий разгром. Двухэтажный кукольный домик, маленький стульчик, который он когда-то заказал для нее столяру, книжные полки, диван, кровать – всё долой.
Он переходил из комнаты в комнату, хватал все, что попадалось под руку, и волок вниз, в зал, где проходил аукцион. Пыхтел под тяжестью диванов, мраморных столиков, но не останавливался ни на минуту, сваливал все как попало, нисколько не заботясь, чтобы продаваемое имущество имело хоть какой-то товарный вид. Открыл буфеты и вывалил оттуда роскошное семейное серебро. Марианна к нему прикасалась – к черту! Набирал чудовищные охапки белоснежных дамастовых простыней, скатертей с кружевами по краям шириной в ладонь, все сделанное по заказу, с любовью, редкостная ручная работа, – всё к черту! Марианна недостойна! Груды фарфоровой посуды валились у него из рук, осколки валялись по всему полу, но он не обращал внимания. Чашки с фамильным гербом наверняка имеют музейную ценность – к черту! Пусть кто-то пользуется. Скинул с чердака ворох постельного белья, перины и подушки, такие мягкие, что человек тонул в них, как в волнах ласкового моря, – к черту! На них спала Марианна.
Он то и дело бросал яростные взгляды на старую мебель. Есть ли среди всего этого хоть один стул, на котором она не сидела? Или диван? Или картина, которую она не разглядывала? Люстра, которая ей не светила? Зеркало, в которое она не смотрелась? Он выругался и погрозил кулаком этому призрачному миру невозвратимой памяти. Охотнее всего он вырвал бы у аукционера молоток и раскрошил все это вдребезги.
Но, может быть, аукцион – еще более изощренная месть. Пусть все уйдет чужим людям. Пусть их равнодушные руки и взгляды постепенно обратят в прах память о ней. Он сто раз видел, как в хижинах арендаторов хиреют предметы барского обихода, лишенные любви и почтения, – так же, как лишена любви и почтения его родная дочь. К черту! Пусть вылезает обивка, шелушится позолота, пусть ломаются гнутые ножки, пусть покрываются жирными пятнами столешницы, пусть стоят они, эти столы и стулья, и тоскуют по родному дому. Пусть разлетятся по всей стране, пусть никому не придет в голову вновь их собирать и окружать любовью.
И когда аукцион начался, в большом зале усадьбы было не протолкнуться из-за кое-как сваленной мебели и предметов домашнего обихода.
Поперек комнаты он поставил составленный из двух сдвинутых торцами столов прилавок. За ним стояли аукционист, выкликающий номера лотов, двое писарей и секретарь – ему велено было вести протокол. Кроме того, Мельхиор Синклер распорядился поставить трехведерный бочонок с самогоном.
Перед столом, в сенях и во дворе толпились аукционеры и непременные для любых аукционов зеваки. Настроение приподнятое, шум, веселые выкрики. Рядом с бочонком устроился сам Мельхиор Синклер, пьяный и полубезумный, с налитыми кровью глазами. Он то принимался хохотать, то выкрикивал что-то нечленораздельное и каждого, кто предлагал достойную ставку, приглашал на стакан шнапса из бочонка.
Среди аукционеров затесался и Йоста Берлинг. Он старался держаться поодаль, чтобы его не дай бог не заметил Мельхиор Синклер. Он такого не ожидал; сердце сжалось от предчувствия беды.
А где же мать Марианны? Он поискал ее глазами, и тревога его усилилась. И против воли, странным образом сознавая, что сейчас решает не он, а судьба, Йоста пошел искать госпожу Густаву Синклер.
Много дверей пришлось приоткрыть нашему герою, чтобы найти Густаву. Крутому заводчику надоели ее причитания по поводу постельного белья и льняных полотенец, и он кулаками загнал ее в продуктовый чулан – о каких еще перинах она скулит, когда потеряна навсегда родная дочь!
Дальше гнать жену было некуда – Густава присела за лестницей, скорчилась и закрыла лицо руками в ожидании удара, а может быть, и смерти от тяжелых кулаков мужа. Но тот постоял, тяжело дыша, отвернулся и ушел. Правда, дверь за собой запер и ключ положил в карман. Пусть посидит в чулане. С голоду не помрет, а он отдохнет от ее причитаний.
Так и сидела там, пока Йоста Берлинг не увидел ее лицо в маленьком окошке. Она поднялась на лесенку и выглядывала из своей тюремной камеры.
– А что делает здесь тетя Густава? – спросил удивленный Йоста.
– Он меня запер, – прошептала она.
– Хозяин?
– Да… Я думала, убьет. Послушай, Йоста… возьми ключ от зала, зайди в кухню и открой чулан. Тот ключ подходит.
Йоста сделал, как она сказала, и через пять минут крошечная фру Синклер стояла в пустой кухне.
– Но вы же могли приказать служанке вас выпустить! – удивился Йоста.
– Доверить им ключ? Чтобы они в любой момент могли открыть чулан? Ты смеешься… Да я, кстати, и прибралась немного. Никогда не думала, что на верхних полках скопилось столько мусора! – На лице ее изобразился ужас. – Как я могла это упустить…
– У вас и так полон рот хлопот, – сказал Йоста. Ему захотелось ее утешить. – Все не переделаешь.
– Уж будь уверен… За всем надо следить. Без меня и ткацкий станок встанет, и прялка не зажужжит. А теперь… – Она запнулась, вытерла набежавшую слезу и спохватилась: – Что я такое болтаю! Нет у меня больше ни станков, ни прялок. Он же все распродает.
– Несчастье какое-то, – согласился Йоста.
– Ты же знаешь, Йоста, наше большое зеркало в прихожей. Это не простое зеркало… стекло все целиком, без швов, и рама, как вчера позолотили. Оно мне от матери досталось, а он и его пустил с молотка…
– Он просто спятил.
– Можно и так сказать… Да что там, именно спятил. Не утихомирится, пока мы не пойдем по дорогам с протянутой рукой, как майорша.
– Не думаю, чтобы дело зашло так далеко, – усомнился Йоста.
– Еще как зайдет! Помнишь, майорша предсказала нам злую судьбу, когда уходила из Экебю? Вот оно все и сбывается… она бы не позволила ему разорить Бьорне. Подумай только: его собственный драгоценный фарфор, из родительского дома! Чашкам цены нет! Майорша ни за что бы не позволила.
– А с чего он так… взбесился?
– А ты не понимаешь? Марианна не вернулась! Он дни напролет кружил по дому и ждал. Бродил по аллеям – вперед-назад, вперед-назад… и ждал. Так он тосковал по ней… вот и помешался. Такой был… я слово не решалась сказать.
– Марианна думает, он зол на нее.
– Ну нет, она так не думает. Она-то его знает… гордая чересчур. Ни за что первый шаг не сделает. Они одинаковые, Йоста, что он, что она. Упрямые, себялюбивые. А я между двух огней.
– Но тетушка Густава наверняка знает, что Марианна выходит за меня замуж?
– Ах, Йоста… никогда она за тебя не выйдет. Это она говорит, только чтобы отца подразнить. Слишком уж она избалована, чтобы идти за бедняка, да и гордость ее съедает. Поезжай домой и скажи – если она не явится, пусть прощается со всем ее наследством. Он же спустит все за бесценок.
Йоста разозлился. Бессердечная тетка – речь идет о судьбе дочери, а она сидит в кухне и причитает о каких-то зеркалах и чашках.
– И не стыдно вам, тетушка? – закричал он. – Вы выбрасываете дочь из дому на верную смерть, замерзать в снегу, а теперь утверждаете, что это она виновата, из гордости не желает вернуться. И при этом считаете, будто она может бросить любимого человека ради наследства… Хорошо же вы о ней думаете.
– Йоста, дорогой, и ты тоже разозлился… хватит уже ненависти! Я сама не знаю, что говорю… Я же пыталась ей открыть, но он не дал, да еще избил меня. Я же ничего не смыслю… они же все время повторяют, что он, что она: ты ничего не смыслишь. Хочешь – женись на Марианне, Йоста, я не против. Женись, если сможешь сделать ее счастливой. Это не так легко… ох, нелегко это, Йоста, сделать женщину счастливой.
Йоста постепенно остыл, и ему стало стыдно – как он мог поднять голос на это забитое существо? Загнанная, запуганная старушка, но сердце у нее, несомненно, доброе.
– Тетушка даже не спросила, как Марианна…
Она неожиданно разрыдалась:
– А ты не станешь злиться, если я спрошу? Я только и жду момент… подумай, я же ничего не знаю, знаю только, что она жива… Я ей и одежду посылала, и ни словечка в ответ. Я уж думала, вы… ты и она… не хотите, чтобы я что-то знала… – Она вытерла слезы, всхлипнула и опять зарыдала.
С чего это он набросился на несчастную мать? Вой волчьей стаи не испугал бы его так, как ее рыдания. Йоста не выдержал:
– Марианна все это время была тяжела больна. Она заразилась оспой. Только сегодня она должна в первый раз встать с постели и попробовать посидеть на диване. Она никого к себе не пускала, кроме сиделки. Даже я не видел ее с той ночи.
Фру Густава Синклер сделалась бледной как полотно и, ни слова не говоря, выскочила, оставив Йосту стоять посреди кухни.
Собравшиеся видели, как она подбежала к мужу и прошептала ему что-то на ухо. Его физиономия покраснела еще сильней, а рука отпустила кран бочонка, и самогон полился на пол.
Дело выглядело так, будто фру Синклер явилась с какими-то важными новостями и, по-видимому, аукцион будет прерван. Молоток аукциониста замер в воздухе, писцы оторвали перья от бумаги и подняли головы. Никто не выкликал ставок. Наступило молчание.
Мельхиор Синклер словно очнулся:
– Ну что? Почему замерли?
Молоток опустился, писцы схватились за перья. Аукцион продолжился.
Йоста так и не выходил из кухни. Фру Синклер вернулась в слезах.
– Не помогло, – прошептала она. – Я думал, он тут же остановит это безумие, когда узнает, что Марианна больна. Но нет, гордость не позволила.
Йоста пожал плечами и попрощался. У него не было желания продолжать разговор.
В сенях он встретил Синтрама.
– Ну и представление! – воскликнул тот, потирая руки. – Веселая история! Ты просто мастер, Йоста! Гляди, какую кашу заварил!
– Это еще не все, – шепнул ему на ухо Йоста. – Приехал пастор из Брубю с полными санями денег. Говорят, хочет купить все поместье. Платит наличными. Вот тогда, дядюшка Синтрам, и будет представление, когда великий Синклер узнает, кто покупатель.
Синтрам втянул голову в плечи и беззвучно захохотал. Отсмеявшись, пошел в зал и направился прямо к Мельхиору Синклеру.
– И ты здесь, братец Синтрам, дьявольское отродье? – хохотнул Мельхиор. – Учти: если хочешь выпить, придется что-то купить. Сначала купить, потом выпить, а не наоборот.
– Тебе, как всегда, повезло. – Синтрам наклонился к Мельхиору. – Приехал настоящий покупатель. Полные сани денег. Хочет купить Бьорне. И дома, и утварь – всё. Эти-то аукционеры не себе покупают, все на него работают. Он их уговорил. Сам, видно, пока не хочет показываться.
– Так скажи, кто он, и мы с ним выпьем от души.
– Пастор из Брубю, братец Мельхиор.
Нельзя сказать, чтобы пастор принадлежал к кругу лучших друзей Мельхиора Синклера. Они враждовали годами. Говорят, Мельхиор даже устраивал засады на пастора, чтобы дать взбучку этому лицемерному святоше, который без стеснения грабил свою паству.
Хоть Синтрам и отступил предусмотрительно, избежать гнева Мельхиора ему не удалось. Стакан с водкой угодил ему в лоб, а остатки из бочонка вылились на ноги. Но без компенсации Синтрам не остался. Последовала сцена, которую он долго не мог вспоминать без сердечного веселья.
– Этот пастор намылился купить мое поместье? – зарычал Мельхиор. – Этот негодяй? А вы здесь все под его дудку пляшете?! Совсем совесть потеряли?
И он выхватил у писаря чернильницу и запустил в толпу. За чернильницей последовал подсвечник.
Вся горечь, накопившаяся в его измученном сердце, нашла наконец выход. Он рычал, как носорог, да и сам напоминал разъяренного носорога, сжимал кулаки и швырял в аукционеров все, что попадалось под руку. Стаканы и бутылки из-под водки летали по воздуху, как камни из пращи. Он сам себя не помнил.
– Конец аукциону! – ревел Мельхиор. – Шиш вам, а не аукцион! Вон отсюда! Пока я жив, этому негодяю пастору не видать Бьорне, как своих ушей! Вон! Я вас научу, как делать подложные ставки!
Он попытался выместить гнев на аукционисте и писцах, но те успели улепетнуть, опрокинув на Мельхиора столы. Тогда заводчик бросился на мирную и уж никак не ожидающую такого поворота событий толпу аукционеров.
Возникла полная неразбериха. Чуть не две сотни пришедших на аукцион теснились у двери, пытаясь уберечься от гнева одного-единственного человека – хозяина поместья.
Он выгнал их из зала, но преследовать не стал. Когда последний аукционер покинул зал, он запер дверь на засов, вытащил из свалки матрас и пару подушек, лег и уснул, не обращая внимания на царивший вокруг бедлам.
* * *
Сразу по приезде Йосте передали, что Марианна выразила желание с ним поговорить. Очень уместно – он только и ждал случая с ней увидеться.
Он перешагнул порог спальни и остановился перед ведущими в комнату ступеньками. Здесь царил полумрак – окна были зашторены, – и он даже не сразу обнаружил, где его возлюбленная.
– Стой, где стоишь, Йоста, – услышал он ее голос. – Кто знает, может, пока еще опасно ко мне приближаться.
Но какое там! Он в два прыжка преодолел лесенку, его душило нетерпение поскорее увидеть любимую. Потому что она была прекрасна. Ни у кого не было таких мягких, шелковых волос, такой матовой белизны лба; весь абрис ее был создан из лаконичных, переливающихся и дополняющих друг друга линий.
Он думал о ее бровях, прорисованных четко и тонко, как тычинки лилии, о ее дерзко и изящно изогнутом носике, о ее губах, похожих на две прильнувших друг к другу волны в спокойном море, о безупречном овале лица и подбородка.
Он думал о ее розовой коже, о загадочно приподнятой брови, о веселых искорках в ярко-синих, похожих на драгоценные камни глазах, чья синева подчеркивалась фосфоресцирующей белизной белков.
Она была прекрасна, его любимая! Подумать только, никто бы и не догадался, какое горячее сердце бьется под этой гордой оболочкой. Никто бы и не догадался, что она способна на подвиг преданности, на самопожертвование – так мастерски играла она свою роль гордой и недоступной красавицы. Даже думать о ней приносило ему огромную радость, а уж видеть – и говорить нечего.
Она рассчитывала, что он останется у дверей, но он уже был совсем рядом и упал на колени у изголовья.
Он упал у ее изголовья, умоляя Бога, чтобы у него хватило сил выполнить свое решение.
А решил он вот что: обнять ее, поцеловать – и попрощаться.
Конечно, он любил ее. Конечно, он мечтал, чтобы их любовь продолжалась, но горький опыт подсказывал, что и это чувство будет растоптано.
Где ему найти этот цветок, эту розу без корней и подпорки, которую он мог бы сорвать и назвать своей? И даже ее, Марианну… он подобрал ее на дороге, полумертвую, выброшенную из дому, спас от смерти, но удержать ее он не может.
Когда же любовь настроит струны свои на такой высокий, на такой чистый лад, что ни один аккорд, ни одна нота, ни одна пауза не прозвучат фальшиво? Когда же сможет он построить замок своего счастья на фундаменте, не подточенном чужой тоской и чужим несчастьем, где он мог бы дышать чистым, не ворованным воздухом…
Он лихорадочно искал слова прощания.
Твой дом полон горя, вот так начнет он свой монолог. Твой дом полон тоски и рыданий, и сердце мое разрывается. Ты должна ехать домой, Марианна, твой отец обезумел от тоски, а матери грозит опасность. Он может ее убить, сам не сознавая, что творит. Ты должна ехать домой.
Он уже открыл рот, чтобы произнести эти роковые слова, но они так и остались несказанными.
Он взял ее лицо в руки, поцеловал и онемел. Сердце заколотилось так, словно собиралось выскочить из груди.
Оспа. Когти ее оставили страшные следы на прекрасном лице Марианны. Кожа погрубела, стала серой и пористой, обезображенной оспинами. Никогда больше на зацветет нежный румянец на ее щеках, никогда не проступят трогательные голубые жилки на висках. Никогда не засверкают прежним голубым огнем глаза под отечными веками. Роскошные брови исчезли, а белоснежная эмаль глазных белков пожелтела и словно растрескалась, как покрывается сеткой кракелюр лак на старинных полотнах.
Не осталось и следа былой красоты. Все ее черты, что когда-то казались нарисованными одним росчерком пера замечательного художника, отяжелели, стали грубыми и непривлекательными.
Многие потом оплакивали ее былую красоту. По всему Вермланду шли разговоры – люди горевали, как будто их лишили чего-то важного, желанного украшения их нелегкой жизни. Вспоминали ее живые, блестящие глаза, безупречную кожу, светлые красивые локоны. В Вермланде умеют ценить красоту, как, наверное, нигде больше. Простые люди сокрушались, будто потеряли самый драгоценный камень в короне своего обожаемого края, будто сама их жизнь, не одушевленная вдохновенной красотой Марианны Синклер, стала скучнее и тоскливее.
Но первый, кто увидел, как изуродовала красавицу Марианну неумолимая болезнь, даже не думал предаваться отчаянию.
Его душа словно взорвалась, он вряд ли сам смог бы определить, что это за чувства – нежность, жалость… они переполняли его, как по весне переполняют русло вышедшие из берегов реки. Растущая с каждой секундой любовь исторгала волны жара, слезами счастья подступала к глазам, заставляла дрожать руки и все тело.
Любить ее, защищать, не давать в обиду, стать ее рабом, ангелом-хранителем!
Сильна любовь и сама по себе, но стократно сильней любовь, прошедшая огненное крещение болью. Кем надо быть, чтобы именно сейчас окончательно сразить Марианну, сказать, что они должны расстаться?
И он к тому же не просто не хотел, он не мог ее оставить. Он был уверен, что не она ему, а он обязан ей жизнью, ради нее он готов совершить любой смертный грех.
И он молча целовал ее и плакал, пока старая сиделка чуть не насильно увела его из комнаты.
После его ухода Марианна долго не произносила ни слова – лежала и думала о Йосте. На какую жертвенную любовь он, оказывается, способен… хорошо, когда тебя так любят, решила она и попыталась прислушаться к своему сердцу.
Да, хорошо, когда тебя любят, но любишь ли ты сама? Что ты чувствуешь?
И она поняла, что не чувствует ровным счетом ничего. Даже меньше, чем ничего.
Что случилось с любовью? Умерла? Куда она скрылась, плод ее сердца?
Или просто затаилась в темных уголках ее души, пытается спрятаться от ледяных глаз демона самокопания и самоанализа, от его корявых пальцев, от унизительного смеха?
– Ах, любовь моя, плод моего сердца… – повторила она с беспокойством определение, подсказанное ее ледяным двойником, скорее всего, с издевкой. – Жива ли ты или исчезла навсегда, как исчезла моя красота?
* * *
На следующее утро заводчик и помещик Мельхиор Синклер зашел в спальню жены.
– Присмотри, чтобы в доме навели порядок, Густава, – сказал он. – Я еду за Марианной.
– Конечно, дорогой Мельхиор. Конечно, наведу.
На том и порешили.
И через час могущественный Синклер уже ехал в Экебю.
Невозможно представить, какие перемены произошли с ним всего за несколько часов. В богатых санях с откидным верхом сидел благожелательный, благородный, аристократически бледный господин. Для такого случая он надел лучшую меховую шубу и подпоясался лучшим кушаком. Волосы аккуратно причесаны. Единственное напоминание о вчерашнем – глубоко запавшие глаза.
И так же невозможно представить, каким солнечным, каким ясным выдался этот февральский денек. Снег сверкал, как глаза юной дебютантки, когда ее приглашают на первый в жизни вальс с настоящим кавалером. Березы воздевали к небу кружевные красно-коричневые ветви, украшенные поблескивающими иголками инея.
Природа словно решила устроить себе маленький праздник, а праздник природы понятен всем, и нет на земле существа, которое отказалось бы в нем поучаствовать. Кони фыркали и танцующим шагом выбрасывали заиндевевшие копыта. Они бежали так резво, что кучер мог бы и не покрикивать и не щелкать кнутом. Но он все равно покрикивал и щелкал кнутом.
Без всякой надобности – от хорошего настроения.
Сани остановились у парадной лестницы в Экебю.
Вышел слуга.
– Где хозяева? – спросил великий Синклер.
– На охоте. На медведя пошли – на того самого, шатуна с Гурлиты.
– Все?
– Все до одного, патрон. Здоровенные корзины с едой с собой взяли и поехали. Кто ради медведя, кто ради корзины.
Заводчик расхохотался так, что смех его отозвался эхом во всех уголках усадьбы. Он тут же полез в кошель и дал слуге серебряный далер за находчивость.
– Передай моей дочери: за ней приехал отец! Пусть не волнуется, не замерзнет – санки крытые, и волчья полость припасена.
– Патрон не хочет зайти в дом?
– Спасибо, мне и здесь хорошо.
Слуга исчез. Патрон Синклер развалился в санях и огляделся. Он был в таком лучезарном настроении, что вряд ли что-то могло его испортить. Он так и думал, что придется подождать. Марианна еще спит, наверное. Ну что ж, можно и подождать. Он огляделся.
Под самой крышей висела длинная сосулька, и солнце никак не могло с ней сладить. Сначала оно послало лучик, чтобы растопить ее у основания, в надежде, что она рухнет под собственной тяжестью. И в самом деле, с сосульки упала капля, и лучик отвлекся – дело сделано, осталось за малым. Но как только он отвернулся, сосулька тут же застыла, теплые капли опять превратились в лед. Луч начал все снова, но несколько попыток закончились так же – ничем. На помощь пришел другой луч, настоящий пират: он вцепился в самый кончик, взял сосульку на абордаж и не отпускал, пока не началась настоящая звонкая капель.
Заводчик расхохотался.
– А ты не дурак, – похвалил он солнечный луч.
На дворе ни души. Он прислушался. В доме тоже было очень тихо, никакого шевеления, но он не видел причин для нетерпения. Уж это-то он знал – женщинам нужно время, чтобы привести себя в порядок, а что это значит – «привести себя в порядок», – он тоже хорошо знал.
Он поднял голову и поглядел на голубятню, закрытую решеткой. Даже окошко зарешечено. Пока зима не кончилась, голубей не выпускали, иначе они стали бы легкой добычей для коршуна. Время от времени в окошке показывалась птичья головка и тут же пряталась.
– Весны дожидаются, – сказал заводчик кучеру и вынул часы. Голуби подходили к оконцу регулярно, как по расписанию. – Придется еще потерпеть, дружок.
И в самом деле, голубиная головка выглядывала каждые три минуты. Ровно три минуты, ни больше ни меньше.
– Интересно… каждые три минуты проверяет, не началась ли весна. Торопыга… Говорю же – подождать надо.
Собственно, ему самому тоже пришлось ждать, но ему-то торопиться некуда.
Лошади поначалу нетерпеливо били копытом, но потом стихли, прижались друг к другу головами и задремали на солнце.
И кучер – даже странно: он сидел на козлах по-военному прямо, голову повернул к солнцу, вожжи не выпускал, но храпел так, что, наверное, во всей усадьбе слышали. Если там кто-то есть, в этой молчаливой усадьбе.
А заводчик не спал. Его и в сон не клонило. Он даже припомнить не мог, когда ему было так хорошо и легко на душе, как во время этого бесконечного ожидания.
Марианна была больна! Оттого она и не могла сразу вернуться домой, но теперь-то она выздоровела! Она вернется домой, и все будет хорошо. Все будет как раньше.
Она же понимает, что отец уже отошел, что он больше на нее не сердится. Чего ей еще надо – не прислал кого-то, приехал сам, в крытых санях, пару лучших коней запряг…
А вон синица на пчелином улье, устроилась у самого летка. До чего же дьявольски хитры эти птахи! Перекусить захотелось, а пчелы спят. И вот она начинает постукивать своим острым клювиком по улью – тюк-тюк, тюк-тюк. А рой там, внутри, висит шевелящимся черно-коричневым мешком. Но не просто висит – у них там все в строжайшем, раз и навсегда заведенном порядке. Они постоянно меняются местами – те, кто внутри роя, вылезают на поверхность, а наружные пчелы устремляются в серединку – согреваться. Справедливость прежде всего. И так день за днем, всю долгую зиму. Довольно однообразно.
А тут кто-то стучит! Весь улей жужжит от любопытства – кто бы это мог быть? Друзья? Враги? Нет ли какой угрозы сообществу?
Особенно беспокоится королева улья – пчелиная матка. Ее мучит совесть. Уж не призраки ли это трутней, убитых ею сразу после оплодотворения?
– Пойди и узнай, что там за стук! – приказывает она пчеле-привратнице.
И та, выкрикнув «Да здравствует королева!», устремляется к летку. А там уже поджидает синица: раз – и нет привратницы.
А королева по-прежнему в неведении. Она посылает следующую пчелу, потом следующую – и всех их ждет та же судьба. Пчелы исчезают одна за другой, и никто не может сообразить, в чем дело, кто там так упорно стучится в их жилище. Начинается паника – теперь уже все уверены, что это духи трутней явились отомстить за свою поруганную жизнь. Пчелы мечутся по улью – если бы не слышать этого стука! Если бы не это проклятое любопытство! Если бы научиться спокойно выжидать – мало ли что, постучат и перестанут.
Слоноподобный Мельхиор Синклер умирал от хохота, наблюдая эту сцену, у него даже слезы на глазах выступили. Вот дуры-пчелы! Там же у них одни самки, вот что получается, когда рядом нет настоящих мужчин! А эта желто-зеленая каналья, хитрюга-синица, какова!
Действительно, могли бы выждать немного, не суетиться – синице самой бы надоело колотить клювом. С другой стороны, они же не знают, чем дело кончится. Ждать легко, когда точно знаешь, что в конце концов дождешься, а уж если есть чем развлечься, пока ждешь, тогда совсем хорошо.
Из-за угла вышел большой дворовый пес. Вид самый непринужденный – слегка помахивает пушистым хвостом, даже потянулся разок, – но идет крадучись, то и дело оглядывается. Вдруг остановился, еще раз оглянулся и начал быстро раскидывать снег передними лапами. Ясное дело – стащил что-то на кухне и припрятал, шельмец.
Пес добрался до заначки, поднял голову и навострил уши. Прямо перед ним на кочке сидели две сороки.
– Укрывательство краденого! – сварливо верещат они. – Укрывательство краденого! Мы представители местной власти. Немедленно сдать награбленное!
– Заткнитесь, жулье! Это я представитель местной власти, а не вы. В усадьбе всем распоряжаюсь я.
– Да уж! А мы и не знали, кто хозяин усадьбы! – издеваются сороки и прыжками приближаются чуть не к самому носу.
Пес не выдерживает и бросается на сорок. Они улетают, но не быстро, еле взмахивая крыльями. И пока пес пытается поймать одну, другая уже ухватила спрятанный кусок мяса. Но он слишком тяжел, поднять его она не может и начинает рвать клювом. Пес вернулся, отогнал воровку, зажал лапами мясо и принялся торопливо есть. Сороки уселись рядом и продолжают свой оскорбительный галдеж. Пес время от времени огрызается, но мясо не отпускает, иногда только ворчит или делает показной выпад. Сороки отпрыгивают на метр, и все начинается сначала.
Солнце уже катится к закату, оно висит уже над самой вершиной горы на западе. Мельхиор Синклер смотрит на часы – уже три. А мать приготовила обед к двенадцати…
На крыльце появился все тот же слуга и сообщил, что фрекен Марианна хочет поговорить с господином Синклером.
Мельхиор перекинул через руку волчью полость и в замечательном настроении поднялся по лестнице.
Марианна услышала тяжелые шаги отца. Она еще не решила, поедет она с ним домой или нет, но этому затянувшемуся, мучительному ожиданию надо положить конец.
Она выжидала, надеялась, что кавалеры вернутся в усадьбу, но они не вернулись. Значит, придется самой искать выход. Молчаливый поединок с отцом надоел и к тому же утомил.
Для начала она решила испытать судьбу – наверняка он подождет минут пять, рассвирепеет и в гневе вернется в Бьорне. Или начнет молотить в дверь. Или подожжет усадьбу.
Но отец сидел в санях, чему-то улыбался и терпеливо ждал. Странно – она не чувствовала к нему ненависти. Ни ненависти, ни любви. Правда, внутренний голос предостерегал, что, если она опять попадет в зависимость от отца, ничем хорошим дело не кончится. А что будет с Йостой?
Если бы отец проявил хоть какие-то признаки нетерпения! Если бы он начал кричать, звать ее, если бы приказал откатить санки в тень, где не так слепило солнце, хотя бы задремал, в конце концов! Но нет, он сидел и ждал. Воплощенное терпение и… и, наверное, мудрость.
Совершенно уверен, что она придет, никуда не денется. Надо только подождать.
У нее заболела голова. И не пройдет, пока он там сидит и ждет. Словно бы его чудовищная воля срывала ее с места и тащила вниз, по лестницам.
Но поговорить-то с ним можно?
Она послала слугу, отдернула все шторы и легла на диван так, чтобы лицо ее было освещено как можно подробнее. Намеренно – подготовила испытание для отца. С его взрывным характером можно ожидать чего угодно. Ну и пусть.
Но Мельхиор Синклер в этот день был не похож на себя.
Он не произнес ни слова, ни одним невольным жестом не показал, что огорчен или, по крайней мере, удивлен. Она прекрасно знала, как он гордится ее внешностью, ее редкостной красотой. Но на его лице она не прочла ни тени печали. Он не хотел причинить ей боль. Он сделал вид, что ничего не произошло, и Марианна прекрасно понимала, каких невероятных усилий это ему стоило. И поведение отца тронуло ее до глубины души. Она вдруг поняла, почему мать до сих пор любит этого человека.
Он не сомневался. Ни упреков, ни извинений – спокойная уверенность, что все будет так, как он хочет.
– Я захватил волчью полость, Марианна. Накинь, она не остыла – лежала у меня на коленях.
На всякий случай Мельхиор подошел к камину и на растопыренных руках расправил шкуру перед огнем – пусть будет еще теплей.
Помог ей встать с дивана, закутал в полость, накинул большой шерстяной платок на голову, а концы протянул под мышками и завязал на спине.
Ну и пусть. Она словно лишилась воли. Приятно, когда о тебе заботятся, а воля… что ж, воля пусть отдохнет. Приятно, что не надо ничего решать, особенно сейчас, когда мир потемнел и сузился, когда в голове нет ни единой мысли, а если и есть какие-то, то ей не дано определить: ее это мысли или чьи-то еще.
Огромный заводчик сгреб дочь, отнес в сани, поднял верх, извозчик прикрикнул на коней, и они покинули Экебю.
Марианна закрыла глаза и вздохнула. Ей было очень хорошо в этой грубой волчьей полости, но не оставляло чувство потери. Как будто она расставалась с настоящей жизнью… а что для нее настоящая жизнь? Я не умею жить и только играю роль, подумала она и вздохнула еще раз.
* * *
Через пару дней мать устроила ей встречу. Хозяин дома поехал проверить возчиков леса, а она послала за Йостой.
Йоста даже не поздоровался, остался стоять у дверей. Уставился в пол, как упрямый подросток, и молчал.
– Но, Йоста! – воскликнула Марианна то ли весело, то ли с насмешкой.
Она сидела в кресле и смотрела на него взглядом, который он не мог растолковать.
– Да. Йоста. Меня зовут Йоста.
– Но подойди же ко мне, Йоста!
Он двинулся к ней, по-прежнему не поднимая глаз.
– Ближе, ближе! Встань рядом со мной на колени.
– А это еще зачем? – буркнул он, но подчинился.
– Что я хочу сказать тебе, Йоста… наверное, к лучшему, что я вернулась домой.
– Конечно… если есть уверенность, что фрекен Марианну опять не вышвырнут в сугроб.
– Ах, Йоста! Я тебе уже не нравлюсь? Неужели я так безобразна?
Он притянул ее к себе и поцеловал, но лицо его по-прежнему оставалось холодным.
Ее развлекало все происходящее. Если ему угодно ревновать ее к родителям, ну что ж, она не против. Это пройдет. А вот попробовать вернуть его расположение – это было бы забавно. И не только забавно… она не могла объяснить почему, но она и в самом деле хотела его вернуть. Наверное, потому, что он был единственным, кто освободил ее от самой себя. Пусть на короткое время, но все же… и если кому-то и удастся повторить этот подвиг, то только ему, и никому другому.
И она начала говорить. Сказала, что вовсе не собиралась оставить его навсегда, но какое-то время они должны делать вид, что их отношения закончены. Он же сам видел, отец был близок к помешательству, а мать в любой момент могла стать жертвой его безумия. Йоста должен понять – у нее не было другого выхода. Только вернуться в родительский дом.
И тут его прорвало. К чему это притворство? Я не собираюсь становиться твоим мячиком. Ты меня предала, как только тебя опять поманили в твой богатый сумасшедший дом. И я не могу тебя любить. Я вернулся с охоты, а ты просто исчезла! Слуги сказали, что ты уехала с отцом. Уехала! Не сказала ни слова, не оставила записки, не просила ничего передать. Я чуть с ума не сошел от горя. Я не могу любить женщину, которая способна причинить такую боль… Собственно, ты никогда меня и не любила. Ты просто кокетка, тебе нужен кто-то, кто ласкал бы тебя и целовал здесь, поблизости от дома, чтобы далеко не ездить.
– Так ты уверен, что я позволяю молодым людям ласкать меня и целовать?
– Уверен. Женщины не так святы, как им хочется казаться. Эгоизм и кокетство, больше ничего. Пустота. Если бы ты знала, что со мной было, когда я вернулся с охоты и узнал, что ты уехала! Я как будто упал в прорубь. И эта рана никогда не заживет. Никогда!
Марианна попыталась объяснить, как все было. Напомнила о своей верности.
– Все это не имеет теперь значения. Я раскусил тебя. Ты эгоистка, и ты меня не любишь. И никогда не любила. Никогда не любила, – повторил он в третий или четвертый раз. – Любящая женщина так поступить не может.
Он все время возвращался к этой главной мысли – любящая женщина так поступить не может. Как ни странно, Марианна почти наслаждалась этой сценой. Злиться ей не хотелось – она прекрасно понимала его гнев и обиду. И разрыва с ним она не особенно боялась, хотя постепенно в душу закралась тревога. Неужели она и в самом деле нанесла ему такую рану, что он к ней охладел?
– Йоста, – произнесла она примирительно. – Ты сказал, эгоистка. Объясни мне, в чем заключался мой эгоизм, когда я в бальных туфельках, еще не оправившись, помчалась в Шё за майором, чтобы спасти вас от беды? Я же знала, что там оспа.
– Любовь – это любовь. Любовь живет любовью, а не благотворительностью.
– Значит, ты хочешь, чтобы с этого момента мы стали чужими?
– Именно это я и хочу.
– Йоста Берлинг довольно переменчив.
– Да, мне уже говорили.
Неприступен и холоден, как лед, растопить его невозможно. А сказать правду – и она не теплее. Демон самоанализа тихо хихикал у нее в душе, глядя на ее попытки изобразить влюбленность.
– Йоста… – Марианна решила сделать еще одну попытку. – Поверь мне, я никогда, ни на одну секунду не хотела причинить тебе боль, хотя, наверное, со стороны это так и выглядит. Умоляю, прости меня!
– Не могу. Простить тебя я не могу.
Марианна прекрасно знала, что, если бы и в самом деле была в него влюблена, она нашла бы способ его вернуть. И она изо всех сил пыталась сыграть влюбленность, старалась не обращать внимания на сверлящие ее изнутри ледяные глаза.
– Не уходи, Йоста! Не уходи в гневе! Ты разбиваешь мое сердце! Подумай, какая я стала уродина! Никто больше меня не полюбит!
– И я не полюблю. Попробуй жить с разбитым сердцем. Другие же как-то живут.
– И я никого не смогу полюбить! Прости меня и не оставляй. Ты единственный, кто может спасти меня от себя самой.
Он оттолкнул ее и встал.
– Ты лжешь, – сказал он со спокойствием, удивившим его самого. – Я не знаю, зачем я тебе нужен, но вижу совершенно ясно: ты лжешь. Зачем я тебе? Ты так богата… в женихах недостатка не будет.
С этими словами он повернулся и ушел.
И только когда за ним закрылась дверь, ни секундой раньше, пришло к ней ощущение огромной потери.
Любовь, плод ее души, выбралась из темного угла, куда загнал ее демон с ледяными глазами, демон самоанализа. Она вернулась. Любовь, о которой так мечтала Марианна, в честь которой слагала гимны, вернулась, но было уже поздно. Вернулась, всемогущая и печальная, любовь-дитя, любовь-королева, а ее верные приближенные, тоска и боль утраты, молча несли шлейф королевской мантии.
И в тот момент, когда Марианна осознала, что Йоста Берлинг оставил ее навсегда, ее пронзила такая боль, что она чуть не потеряла сознание. Прижала руки к сердцу, стараясь унять страшную тоску невосполнимой утраты, и просидела так несколько часов. Без слез, без причитаний, потому что никакие слезы в мире не могли не то что заглушить, но даже облегчить эту боль.
Зачем отец разлучил их? В тот момент любовь еще была жива в ее душе, но болезнь и слабость помешали ей осознать ее величие и непрощающую мощь.
О, Боже, почему Ты не позволил мне очнуться раньше? Я потеряла его. Я потеряла его навсегда.
Только сейчас она поняла, что он был единственным. Единственным и незаменимым повелителем ее заблудшей, раздвоенной души. От него она стерпела бы все. Злые и несправедливые слова, все что угодно – она любила бы его еще сильнее, еще преданнее. Если бы он ударил ее, она целовала бы его руку.
Марианна схватила перо и начала лихорадочно писать. Сначала попыталась передать свою любовь и тоску, потом умоляла – если не о любви, то хотя бы о милосердии.
Получалось нечто вроде стихов.
Она писала и писала – в странной надежде, что сможет унять терзавшую ее боль.
Когда она закончила, ей показалось, что если Йоста прочитает все это, то обязательно поверит в ее любовь. Надо послать ему. Завтра же. Не может быть, чтобы после этого страстного признания он не вернулся.
Но на следующий день ее вновь одолели сомнения. Перечитала послание, и оно показалось ей жалким и глупым. Ритм то такой, то сякой, местами вообще исчезает, а рифма то появляется, то ее и с огнем не сыщешь. Да Йоста только посмеется над такими стихами.
И опять, в который раз, проснулась гордость. Если он ее не любит, а он сказал, что не любит, тогда к чему это унижение? Выпрашивать любовь – что может быть позорнее?
Опять начала подавать голос житейская мудрость с ледяными глазами – ты должна быть рада, что не связалась с Йостой. Собиралась провести жизнь в нищете?
Но она так страдала, что постаралась заглушить доводы разума.
Через три дня после того, как она с пугающей ясностью осознала, что любит Йосту Берлинга так, как никого и никогда не сможет полюбить, она запечатала стихи в конверт и крупно написала его имя.
Но так и не отправила. Пока нашла подходящего посыльного, наслушалась о Йосте Берлинге столько, что поняла: слишком поздно.
Но я должна сразу сказать, что это неотправленное письмо стало для Марианны трагедией, отравившей всю ее жизнь. Потому что остался без ответа вопрос: а может быть, ей все же удалось бы вернуть Йосту?
Всю жизнь она возвращалась к этой мысли – если бы я не тянула так долго, если бы отправила ему письмо сразу, может быть?.. Может быть. Она была почти уверена, что он бы к ней вернулся.
Но горе расставания вернуло ей то, что не успела вернуть любовь, – цельность души, этого божественного сосуда, вмещающего все. Добро и зло, сладость любви и горечь разлуки. И демон с ледяными глазами не выдержал кипения чувств в ее душе – растаял. Исчез и больше никогда не появлялся. И ее искренность, ум и обаяние привлекали к ней бесчисленное количество поклонников, и все они, перекинувшись с ней хотя бы парой слов, переставали замечать ее обезображенное оспой лицо. Ее очень любили все, с кем она встречалась.
Но люди говорят, что Марианна так и не смогла забыть Йосту Берлинга. Она оплакивала его так, как человек может оплакивать напрасно прожитую жизнь.
А стихи ее сохранились, их читали, они даже ходили в списках, но потом, конечно, забыли. Но мне они кажутся очень трогательными, особенно когда я держу их в руках: пожелтевшая бумага, выцветшие чернила, мелкий, аккуратный почерк. Подумайте, тоска всей жизни влита в эти неуклюжие строки, и я переписываю их с мистическим страхом, словно они обладают какой-то тайной, непонятной мне силой.
И вас я тоже прошу прочитать стихи Марианны и подумать – как сложилась бы ее жизнь, если бы последние судороги самоанализа не помешали ей отправить это письмо по адресу? Эти строки, несмотря на их несовершенство, несут на себе отпечаток истинной страсти. И может быть, может быть… Вполне может быть, что, прочитав их, Йоста Берлинг вернулся бы к Марианне – настоящее чувство, даже неумело выраженное, не может не найти отклик в человеческой душе.
Бесформенные, наивные строки трогают и умиляют. И решусь сказать, что, будь стихи снабжены мастерской рифмой, если бы они уместились в выверенный размер, они наверняка потеряли бы в искренности. И как горько думать, что она не решилась послать стихи любимому, постеснявшись их неумелости! А ведь очень часто бывает, что в погоне за совершенством формы теряется самое главное – настоящее, большое чувство.
И еще раз прошу вас быть снисходительными. Эти строки написала юная девушка, которую постигло первое в ее жизни настоящее, большое горе.
Ты любила, дитя… но уже никогда
Тебе не узнать любви. Очнись.
В душе, как пожар в степи, загорелась любовь,
С криком взметнулись в небо стаи испуганных птиц.
Возвращайтесь, птицы! Все уже отгорело,
Вам ничто не грозит. Все уже отгорело,
То, что уже отгорело, не вспыхнет вновь.
Ты любила, дитя… но уже никогда
Не услышишь ты голос любви.
Сердце твое, как школьник на скучном уроке.
Сидя на жесткой скамье, он хочет свободы и ласки,
Хочет веселья и игр, но не с кем ему играть.
Сердце твое, как часовой, забытый на вечном посту.
Он охраняет то, что давно исчезло,
Что ж охраняет он? Ничто. Пустоту.
Пустоту незачем охранять.
Ушел он, твой единственный, ушел.
Мир погрузился в топкое болото
Предательства, рассудка и расчета,
Он крылья дал тебе… Да что там!
Он спас тебя. Вознесся над потопом
В безмолвие сияющих вершин…
Не дал тебе погрязнуть в вязкой тине…
Но ты сама его отвергла. Он ушел.
Но молю, любимый, не дай ненависти
Прорасти из колючего кокона обиды,
Я не смогу жить, зная,
Что душа твоя отравлена ненавистью,
Знаю, что я ее заслужила.
Я очень хочу жить,
Но не смогу.
И груз твоей ненависти
Ляжет тяжелым камнем мне на могилу.
Молодая графиня
Спит молодая графиня до десяти, требует к завтраку свежеиспеченный хлеб. Молодая графиня вышивает крестиком и любит поэзию. Она ничего не понимает в ткацком деле и совершенно не умеет готовить. Очень, очень избалованна молодая графиня.
Но молодая графиня жизнерадостна и весела, и жизнерадостность ее заражает всех. Ей охотно прощают и долгое валяние в постели, и страсть к свежей выпечке, и многое другое, потому что она очень щедра, много жертвует на благотворительность и на редкость сердечна и приветлива. Со всеми без исключения.
Отец молодой графини – шведский аристократ, всю жизнь прожил в Италии, где его удерживали не только головокружительные пейзажи и ласковый климат, но и жена, одна из самых красивых женщин этой и без того неправдоподобно красивой страны. Граф Хенрик Дона путешествовал по Италии, был принят в доме аристократа, познакомился с его дочерями, женился на одной из них и увез в Швецию.
Ей, с детства знающей шведский язык и заочно влюбленной во все шведское, страна медведей пришлась по вкусу.
Она так естественно вписалась в бесконечную череду развлечений на берегах длинного и узкого озера Лёвен, что многие пожимали плечам – ну и ну, необычная иностранка, будто всю жизнь прожила в наших краях. Она словно и не понимает, что она не просто молодая женщина, а графиня. Ей и следовало бы вести себя как графине – но ничего подобного! Ни чопорности, ни жеманности, ни старания подчеркнуть – не забывайте, мол, перед вами аристократка старинного рода! Ничего такого и в помине нет – юное, веселое создание. Даже посмотреть на нее – и то настроение поднимается.
Особенно увивались вокруг нее пожилые господа. Молодая графиня пользовалась у них невероятным успехом. Полюбуются на нее на балу, а потом все – и прост из Бру, и судья из Мункерюда, и Мельхиор Синклер, и капитан Уггла из Берги, – все до единого в припадке необъяснимого доверия рассказывают женам, что вот-де, если бы они встретили такую женщину лет тридцать – сорок тому назад…
– Да ее тогда и на свете не было! – охлаждают их пыл жены.
А на следующем балу пеняют молодой графине, что она похищает сердца их мужей.
В шутку, разумеется, но червячок все же гложет. Они прекрасно помнят графиню Мерту, эти пожилые дамы. Когда та первый раз приехала в Бергу, она была так же весела и беззаботна, так же любима всеми. Но со временем превратилась в тщеславную, пустую кокетку. Ни о чем, кроме развлечений, и думать не желала.
– Если бы у нее муж был нормальный, усадил бы ее за работу, – ворчали соседки. – Ткать бы по крайней мере научил…
И здесь они правы. Ткацкий станок – лучшее средство от любого горя, от любого опасного увлечения… Ах, как много женщин спас от беды ткацкий станок!
Но с молодой графиней немного по-иному. Она и сама хотела бы стать хорошей хозяйкой. Есть ли доля лучше – счастливая жена, замечательная хозяйка, устроительница домашнего очага? И на балах и вечеринках усаживается она поближе к пожилым дамам.
– Хенрик очень хочет, чтобы я научилась вести хозяйство, – говорит она просительно. – Чтобы я стала хорошей хозяйкой, как его мать. Научите меня хотя бы ткать.
Вздыхают пожилые дамы – надо же, граф Хенрик считает, что его мать – хорошая хозяйка! Эта стрекоза! А потом вздыхают еще раз – как научить эту неопытную девчушку ремеслу, которому учатся годами? Как объяснить ей, что такое бердо, почему в пасме тридцать зубьев, каковы из себя навой и пришва? Как ткут камчу, какие узоры бывают – «гусиный глаз», «скиталец»… да мало ли их? Это с малых лет надо…
А самое главное – любой, познакомившись с молодой графиней, тут же задает себе вопрос: как она могла выйти замуж за графа Хенрика? За известного своей редкостной глупостью графа Хенрика?
Беда тому, кто глуп. Жаль его. А особенно жаль, если он не просто глуп, а настолько глуп, чтобы, будучи глупым, поселиться в Вермланде.
Сколько рассказывают историй про глупость графа Хенрика! Будто он всю жизнь только и делал, что всякими способами старался доказать свою глупость, хотя и прожил на свете не так уж много – всего-то двадцать лет с небольшим.
Вот, к примеру, рассказывают, как он развлекал Анну Шернхёк. Запрягли несколько санок, отправились кататься, и он оказался в санях вдвоем с Анной.
– Какая ты красивая, Анна! – будто бы сказал граф.
– Вовсе нет, граф.
– Думаю, самая красивая в Вермланде.
– Конечно же это не так.
– Ну, во всяком случае, среди нашей компании.
– И это вряд ли.
– Но уж в наших с тобой санках ты точно самая красивая. Это-то ты не будешь отрицать?
Нет. Этого она отрицать не стала.
Потому что графа Хенрика назвать красавцем никак нельзя. О нем говорили, что голова на тонкой шее досталась ему в наследство, ее передавали из поколения в поколение уже лет двести. И мозг в ней, конечно, со временем ссохся и пришел в негодность.
От отца досталась, злословили соседи, а может, и от деда, а может, и того раньше. Ясное дело, такую голову и наклонить страшно – а вдруг отвалится, не новая все ж таки! Вот он и ходит, как аршин проглотил. И кожа желтая, и морщины – чему тут удивляться? И отец эту голову носил, и дед. Волос почти нет, губы бескровные, острый подбородок. Чему тут удивляться? Если головой пользоваться столько лет, и кожа пожелтеет, и морщины появятся. И волосы выпадут.
Всегда находился какой-нибудь остряк, который из кожи вон лез, чтобы подбить графа сказать очередную глупость, а потом порадовать друзей веселым рассказом.
Его счастье, что он этого не замечал. Высокопарный, преисполненный чувства собственного достоинства, серьезный – ему даже в голову не приходило, что люди могут шутить и разыгрывать друг друга. Достоинство в любом жесте, в подчеркнуто прямой осанке, в манере поворачиваться на зов всем телом.
Несколько лет назад он был с визитом у судьи в Мункерюде. Приехал верхом, в высокой шляпе, желтых бриджах и сверкающих сапогах. И все было хорошо, пока граф не собрался домой. В березовой аллее он зацепил своей высокой шляпой за сук, и шляпа слетела. Он спешился, поднял шляпу, сел в седло, гордо выпрямился и поехал тем же путем. Шляпа опять слетела.
И так четыре раза.
Судья не выдержал:
– А почему бы вам, друг мой, в следующий раз не объехать эту ветку?
И на пятый раз все сошло благополучно. Шляпа осталась на голове.
Но вот что удивительно – молодая графиня любит своего мужа, несмотря на старческую голову. К тому же там, в Италии, она и знать не знала, что в его родной стране над этой головой сияет мученический нимб глупости. Там он был окружен некоей завесой тайны, и поженились они при очень и очень романтических обстоятельствах. Стоит только послушать рассказы молодой графини, как Хенрику пришлось ее похитить! Она сначала говорит просто «при романтических обстоятельствах», потом мечтательно улыбается и добавляет: «Очень и очень романтических».
А дело было вот в чем: узнав, что она собирается предать религию своих предков, перейти из католицизма в протестантство, монахи, кардиналы и священники пришли в неслыханную ярость. Они подстрекали чернь, дом осадила толпа, к Хенрику даже подсылали убийц. Мать и сестра умоляли ее отказаться от замужества. Но отец не на шутку разгневался и стоял на своем. Как? Всякий сброд будет диктовать ему, за кого выдавать замуж дочь?
И он приказал графу Хенрику ее похитить. И поскольку в осажденном доме о венчании и речи быть не могло, молодой граф с невестой по боковым переулкам прокрались в шведское консульство. В следующие четверть часа произошло вот что: она отказалась от католической веры, сделалась протестанткой, их торопливо обвенчали, посадили в закрытый экипаж, и молодая пара помчалась на север.
– Конечно, ни о каком оглашении и речи не было, – обычно добавляла молодая графиня. – Жаль, конечно, хотелось бы в красивой церкви, а не в скучном консульстве, но тогда Хенрик лишился бы невесты. Они там все такие вспыльчивые… и отец, и мать, и кардиналы, и монахи… такие вспыльчивые, просто ужас. Если бы нас поймали, точно бы убили. Обоих. И при этом были бы уверены, что спасли мою душу. Хенрика, само собой, прокляли и предали анафеме.
Но и с переездом в Борг любовь не прошла, хотя жизнь здесь была поспокойнее, не такая «очень и очень романтическая». Ей нравилось звучное имя мужа, она заворожена славным прошлым предков. Ее трогает, как нелепая чопорность Хенрика оттаивает от одного ее присутствия, как голос его, когда он обращается к ней, становится теплым и ласковым.
И он ее любит и балует; не надо забывать, что она с ним обвенчана, а для католички, даже бывшей, нет более святого понятия, чем узы брака. Молодая графиня даже представить такого не могла: как это так – замужняя женщина не любит своего мужа. А как же тогда небесные узы?
И он вполне соответствовал ее идеалу. Справедливый, никогда не лжет, ему и в голову не приходит: как это – солгать?
Никогда не изменяет данному слову, и она считает его аристократом, то есть именно таким, каким и должен быть истинный аристократ.
* * *
Восьмого марта у исправника Шарлинга день рождения, и на холмах Брубю полно народу. Съезжаются все – и с востока и с запада, приглашенные и не приглашенные, все знают: в усадьбе Шарлинга еды и питья хватит на всех, а в бальном зале достаточно места для желающих потанцевать, пусть едут хоть изо всех семи приходов.
Приезжает и молодая графиня – она никогда не упускает случая потанцевать, развлечься и повидаться с соседями.
Но сегодня она не так весела и беззаботна, как обычно. Кто знает, не посетило ли ее предчувствие, что и ее ждут испытания? Что настал и ее черед погрузиться в водоворот драматических событий, потрясших в тот год идиллические берега Лёвена?
Она по дороге смотрела, как заходит солнце. Спустилось с безоблачного неба и исчезло, не оставив даже привычной золотой каймы над синеющим горизонтом. Блеклый сумеречный воздух, ледяные порывы ветра – вот и все, что осталось от веселого зимнего дня.
Молодая графиня смотрела, как в этой титанической борьбе света и мрака постепенно побеждает мрак. Лошади прибавили шагу, им хотелось поскорее оказаться под крышей и получить вечернюю порцию сена. Лесорубы заторопились домой, служанки вернулись с вечерней дойки. В лесу заухал филин, где-то вдалеке провыл волк.
День, любимец всего живого, побежден. Ночь вступает в свои права.
Мир за несколько минут словно выцвел. Становилось все темней и холодней, и молодая графиня уже не замечала никакой красоты вокруг, все казалось безобразным и серым. И все, что она любила, все, на что надеялась, тоже поблекло, все укрыли сумерки скучным серым туманом. Час усталости, час бессилия, час осознания поражения. И для нее, и для всего огромного мира.
Она думала о себе, о том, как сердце ее брызжет радостью, окропляя все вокруг золотом и пурпуром, – надолго ли его хватит? Со временем устает и сердце…
– И сердце мое бессильно, – сказала она вслух и прислушалась к этим пугающим словам. – О, богиня сумерек, дымная богиня сумерек, когда-нибудь и ты завладеешь моей душой. И я увижу жизнь такой, какой она есть, – безобразной и серой. И тогда побелеют мои волосы, согнется спина и остановится сердце…
За этими невеселыми размышлениями она и не заметила, как санки въехали во двор исправника Шарлинга. И первое, что ей попалось на глаза, – мрачное женское лицо в зарешеченном окошке флигеля.
Это лицо было ей знакомо. Майорша из Экебю. И юная женщина поняла, что вечер окончательно испорчен.
Можно опечалиться, услышав о чужом несчастье, но если своими глазами его не видишь – это как рассказ о чужой, незнакомой стране. Но как можно веселиться с глазу на глаз с чужой бедой, с бедой, у которой есть лицо – лицо пожилой женщины?
Графиня знала, конечно, что исправник Шарлинг посадил майоршу под арест – хотел дознаться, что та творила в Экебю в ночь после знаменитого бала. Но что арестантская не где-то, не в тюрьме, не в участке, а именно здесь, в усадьбе главного полицейского начальника, в двух шагах от бального зала, графиня никак не думала… Оттуда даже прекрасно виден этот флигель и прилипшее к решетке исстрадавшееся лицо. И ей, майорше, наверняка слышны танцевальная музыка и оживленный говор гостей.
Настроение совсем упало.
Молодая графиня танцует. Она танцует вальс, кадриль. И менуэт, и новомодный энглез, но в промежутках между танцами потихоньку бежит к окну и смотрит на флигель. В окне горит свет, и ей видно, как майорша ходит по камере. Безостановочно, взад-вперед, как пойманный зверь. Как мы можем танцевать? Наверняка не одна я знаю, что майорша здесь, совсем рядом, но все притворяются, что им ничего не известно. Какие скрытные люди в Вермланде…
И каждый раз, как посмотрит в окно, шаг ее все тяжелее, и смех застревает в гортани.
Жена исправника наткнулась на молодую графиню, когда та в очередной раз протирала схваченное морозом стекло, чтобы посмотреть на флигель.
– Ах, беда какая, – прошептала она чуть не на ухо графине. – Какая беда!
– Я даже танцевать не могу, – шепнула графиня в ответ.
– Я и бал-то не хотела затевать, пока она там заперта. Ее, как арестовали, держали в Карлстаде. Но надо дознание проводить, вот и привезли сюда. Но не сажать же ее в грязную камеру в участке, вот кто-то и предложил ткацкую во флигеле. Я бы ее в малом салоне поселила, если бы к нам нынче люди не приехали. Графиня-то почти с ней не знакома, а ведь она была нам всем как мать родная. Мать и королева. Что она о нас подумает? Мы здесь скачем, а у нее такая беда… одно хорошо – почти никто и не знает, что она там.
– Ее и арестовывать не следовало, – серьезно и даже строго сказала молодая графиня.
– Правда ваша, графиня, а с другой стороны, что делать-то было? Кто знает, чем бы кончилось. Подожгла свои же стога, кавалеров решила выдворить – ее дело. А майор? Он же охотился за ней, как за зверем! Так и до большой беды недалеко… И кто знает, чем бы кончилось, если бы ее не посадили. На Шарлинга и так все косо смотрят, что он отдал такой приказ. Даже в Карлстаде начальство недовольно – дескать, мог бы посмотреть сквозь пальцы. Но он у меня как скала – поступил, как посчитал нужным, и никто ему не указ.
– Но теперь же ее осудят?
– Ну нет, кто ее осудит. Оправдают, конечно, но… Что ей вынести пришлось, страшно подумать! Она почти помешалась. Графиня же понимает – каково такой гордой женщине видеть, что с ней обращаются как с преступницей? Я-то, между нами говоря, тоже считаю – не надо было ее арестовывать. Сама бы справилась со своим майором.
– Так отпустите ее!
– Это да… кто угодно может ее отпустить. Кто захочет, тот и отпустит. Любой, кроме исправника и его жены. Мы не имеем права. Обязаны ее сторожить, особенно сегодня, когда здесь столько ее друзей собралось. Посадили двух охранников, дверь на засове – не дай бог, кто к ней проникнет… но если бы кто-то решился ее выпустить, как бы мы были рады! И Шарлинг, и я.
– А можно ее навестить?
Госпожа Шарлинг, не говоря ни слова, крепко схватила молодую графиню за запястье и потащила за собой. В прихожей они накинули теплые платки и побежали через двор.
– Еще неизвестно, захочет ли она с нами разговаривать. Ну и не беда, не захочет – так не захочет. Пусть, по крайней мере, знает – мы про нее не забыли.
В сенях флигеля и в самом деле двое парней охраняли дверь, хотя она и так была закрыта на толстый, с облупившейся краской деревянный засов. Их пропустили к заключенной без всяких разговоров – жена исправника едва ли не главнее самого исправника.
Камера майорши оказалась довольно просторной, но почти все пространство занимали ткацкие станки и приспособления. Собственно, это и была ткацкая мастерская, но Шарлинг распорядился поставить на окно решетку и сделать засов. В случае необходимости мастерская заменяла камеру.
Майорша продолжала мерять шагами комнату. Посетительницам даже показалось, что она их не заметила.
А она и в самом деле не заметила. Майорша не понимала, где она находится. Знала только, что продолжает свой долгий путь, двадцать шведских миль, двести километров. Она идет к своей матери. Она идет к матери, потому что та ждет ее в своей ветхой избушке в лесах Эльвдалена. Давно ждет, и ей надо торопиться, она не имеет права отдыхать: матери уже за девяносто, и она может не дождаться дочери.
Она измерила пол в ткацкой в локтях и теперь считает шаги. Локти складываются в сажени, сажени в полумили и мили.
Тяжела и длинна дорога, но она не решается отдохнуть. Избегает наезженных путей, бредет по глубоким сугробам, вечные леса шумят над ней. Переведет дух в прокопченном финском чуме или в шалаше углежогов – и дальше, дальше. А иногда и такого нет – ни одного человеческого жилища на много миль вокруг. И она подстилает лапник, а обремененные замерзшей землей корни вывороченной осенними штормами ели защищают ее от ветра.
И наконец пройдены двадцать миль, расступается лес, и она видит полузасыпанную снегом красную крестьянскую хижину. Кипят незамерзающие пороги Кларэльвена, и по их шуму понимает майорша, что пришла домой.
И мать видит, какой нищей и несчастной пришла к ней дочь, и, увязая в снегу, бредет к ней навстречу и открывает объятия…
И тут майорша поднимает голову, замечает дверь, замечает устремленные на нее взгляды и понимает, где она.
На секунду приходит ей мысль, не сошла ли она с ума. Майорша в задумчивости присаживается на пол. Но неодолимая сила тянет ее вперед. И снова она в пути, снова считает локти, сажени и полумили.
За все время, что она просидела в этой странной тюрьме, майорша не сомкнула глаз.
И две женщины, прижавшись к стене, смотрели на нее с ужасом и состраданием.
Молодая графиня никогда не забудет эту картину. С тех пор майорша является ей во снах, и она просыпается с жалобным стоном, с залитым слезами лицом.
Майоршу не узнать – она очень сдала, волосы поредели, из плохо заплетенной тонкой косички вылезают неопрятные пряди. Черты лица начали таять и оплывать, как оплывает восковая свеча. Грязная, рваная одежда. Но даже в таком виде в облике ее так много достоинства и даже властности, что жалость тут же уступает место невольному поклонению.
И самое сильное впечатление на молодую графиню произвели ее глаза, запавшие, обращенные внутрь, готовые в любую секунду погаснуть, но вдруг мелькнет в них такая дикая, опасная искра, что мурашки бегут по коже; кажется, старуха эта может в любой момент броситься на тебя, как разъяренная рысь.
Они стояли довольно долго. Наконец майорша остановилась перед юной графиней и посмотрела на нее так строго, что бедная женщина невольно отступила и схватилась за руку госпожи Шарлинг.
Внезапно черты лица пленницы просветлели, в них появилась жизнь. Словно и не было припадка помешательства.
– Ну нет, нет, не так уж все плохо, – сказала она и еле заметно улыбнулась.
Майорша неуловимо светским, мало кому дающимся жестом пригласила их присесть и сама села рядом, но чуть в отдалении, демонстративно стараясь не испачкать их бальные платья. Все это она проделала с таким достоинством и с такой естественной грацией, что они сразу забыли про лохмотья – перед ними была самая богатая и влиятельная дама в Вермланде, гордая владелица огромного поместья Экебю.
– Не так уж все плохо, – повторила она, – если вы, графиня, решились оставить бал, чтобы навестить одинокую нищую старуху. У вас, несомненно, добрая душа.
Графиня Элизабет даже ответить не смогла на эту неожиданную сентенцию – у нее перехватило горло. За нее ответила фру Шарлинг – графиня, сказала жена исправника, не могла заставить себя танцевать, она все время думала о вас, госпожа майорша.
– Дорогая фру Шарлинг, – майорша вновь улыбнулась тонкой, непонятно что означающей улыбкой, – не огорчайте меня. Неужели дело зашло так далеко, что я мешаю юным дамам радоваться жизни? Дорогая графиня, я старая злая женщина, и не следует печалиться о моей участи, я ее заслужила. Как вы считаете, это достойный поступок – ударить свою мать?
– Нет, но…
Майорша внезапно протянула руку и поправила выбившийся из-под платка светлый локон.
– О, дитя, дитя… как вы могли выйти замуж за известного своей глупостью Хенрика Дону?
– Я люблю его.
– Я так и думала… – Майорша кивнула. – Добросердечное дитя… плачет с теми, кому грустно, смеется с теми, кому весело. И говорит «да» первому встречному, от кого услышит «я вас люблю». Конечно, конечно… Никакой загадки. Идите и танцуйте, дитя мое, танцуйте и будьте веселы. В вас нет зла.
– Но мне бы хотелось что-то сделать для госпожи майорши.
– Сделать… – тихо повторила майорша, и вдруг в голосе ее появились торжественные ноты. – Жила однажды старая женщина в Экебю, которая вознамерилась посадить под замок все ветра мира. А теперь она под замком, а ветра на свободе. Разве удивительно, что шторм придет и в наши края? Я уже стара, графиня, и я знаю, что так и будет. Божья буря разразится над нами. Большой вихрь поднимется от краев земли[17].Что ж, иногда поражает он огромные царства, а иногда и маленькую, полузабытую провинцию. Но это воля Божья, и она не щадит никого. Большая честь – почувствовать ее на себе.
Большой вихрь! Благословенная божья буря, шторм, ураган, пронесись над нами! Твари небесные и морские, прислушайтесь и ужаснитесь! Уже грохочут раскаты небесной грозы. И пусть порывы этого вихря повалят шаткие заборы, взломают ржавые замки, разнесут по щепке обветшавшие и покосившиеся дома.
Тоска и страх придут на землю. И пусть попадают с деревьев птичьи гнезда, кукушечье гнездо на вершине рухнет вместе с приютившей его старой сосной, а драконьи языки великого вихря достанут и до недосягаемого жилища мрачного филина в горной расщелине.
Вы-то думаете, все хорошо у нас? Нет, не хорошо. Ах, как нужна буря Божья! Я-то понимаю и не жалуюсь… – Пророческие нотки в монологе постепенно угасли. Последние слова майорша произнесла совсем тихо: – Мне бы только найти мою мать… ступайте, девочка… Ступайте, я теряю с вами время. Мне пора к матери. И вы ступайте. Но опасайтесь тех, кто по тщеславию или глупости считает, что оседлал грозовое облако, ниспосланное Богом!
Она отвернулась, и с ней случилась мгновенная перемена: царица и пророчица превратилась в сгорбленную старуху, и старуха эта вновь пустилась в путь по своей клетке, отмеряя несуществующие локти и сажени. Глаза погасли и обратились внутрь.
Графиня и госпожа Шарлинг постояли немного и вышли из ткацкой.
Как только они вернулись в танцевальный зал, графиня направилась к Йосте Берлингу:
– Я хочу вам сказать, господин Берлинг, я была у майорши. Думаю, она ждет, что вы поможете ей освободиться от тюрьмы.
– Что ж… ждать никому не запрещается.
– Впрочем, она, возможно, и не ждет… но вы обязаны ей помочь.
Он посмотрел на нее мрачно и, как ей показалось, вызывающе:
– Я никому ничем не обязан, графиня. Чем я ей обязан? Все, что она сделала для меня, обернулось моим же поражением.
– Но, господин Берлинг…
– Если бы не она, я бы давно уже спал вечным сном в северных финских лесах… неужели она ждет, что я стану благодарить ее, что она сделала меня кавалером в Экебю? Графиня считает должность кавалера почетной?
Графиня отвернулась и отошла. С этим человеком не о чем говорить. Он несправедлив и озлоблен.
Кавалеры… Они явились сюда со своими скрипками, дерут струны и дуют в свои рожки и даже не думают, каково слышать эти звуки там, в запертой на дубовый засов камере. Пришли сюда танцевать, пока не протопчут подошвы на купленных майоршей башмаках, и им наплевать, что их благодетельница томится в двух шагах от них и наверняка видит их извивающиеся силуэты за изукрашенными морозным орнаментом окнами.
Мир сразу потерял для молодой графини все свои заманчивые краски. Ах, как опечалила ее тяжкая судьба майорши! Но еще больше – человеческая жестокость. Она опустила голову.
– Могу я пригласить графиню на танец?
Она подняла глаза – перед ней стоял Йоста Берлинг.
Она отрицательно покачала головой – нет, не можете.
– Графиня не желает со мной танцевать? – Йоста внезапно и сильно покраснел.
– Ни с вами, ни с кем из кавалеров.
– Значит, мы не достойны такой чести?
– Дело не в чести, господин Берлинг. Просто я не нахожу удовольствия танцевать с людьми, нарушающими важнейшую заповедь. Неблагодарность – страшный грех, господин Берлинг… – Она собиралась продолжить, но Йоста, не дослушав, развернулся на каблуках.
Довольно много гостей были свидетелями этой сцены, и не было человека, который не признал бы правоту молодой графини. Обо всем, что произошло в Экебю, судачили постоянно, и все осуждали бессердечие и неблагодарность майоршиных кавалеров.
Но в эти дни Йоста Берлинг был опасен, как хищник в лесу. С того самого дня, когда он вернулся с охоты и обнаружил исчезновение Марианны, душа его была полна желанием отомстить, и в голове витали кровавые планы совершить что-то, что потрясло бы и испугало вермландское «светское» общество – мысленно он всегда ставил слово «светское» в кавычки.
Ну что ж, если графине так угодно, пусть… ей хочется приключений, хорошо. Пусть испытает на себе, что такое настоящее приключение. Ей, рассказывают, пришлось по вкусу, как молодой граф ее похитил. Почему бы не пережить такое волнующее событие еще разок? И ему тоже пора сбросить с себя мрачное оцепенение, охватившее его после бегства Марианны. Прошло уже восемь дней – срок немалый. Он разыскал полковника Беренкройца, могучего капитана Кристиана Берга и медлительного кузена Кристофера. Все трое известны тем, что даже под страхом смерти не откажутся от заманчивой авантюры.
Четверка держит совет – как отомстить за поруганную честь флигеля кавалеров?
* * *
Бал постепенно выдохся, гости начали разъезжаться. У крыльца выстроилась вереница саней. Мужчины надевают свои шубы, женщины пытаются найти свои одежды в беспорядочном ворохе, наваленном прямо на полу в гардеробной.
Молодой графине не терпелось поскорее уехать с этого гнетущего душу бала. Она даже оделась раньше всех – первой прибежала в гардеробную и теперь с улыбкой наблюдала веселую возню с шубами, накидками, ботиками и шалями.
И тут на пороге появился Йоста Берлинг.
Дамы обомлели – мужчинам в дамскую гардеробную входить не полагалось. Не полагалось видеть редеющие волосы пожилых дам, снявших бальные чепцы, а уж тем более не полагалось смотреть, как молодые дамы задирают бальные юбки и аккуратно заправляют их под шубы, чтобы не помялись туго накрахмаленные воланы.
Не обращая внимания на визг дам, Йоста шагнул к графине, поднял ее на руки, выскочил в прихожую и сбежал по ступенькам к саням.
Разве остановят его возмущенные возгласы? Йосту Берлинга? Вы смеетесь! Гостьи в панике выскочили на крыльцо, но увидели только, как Йоста с графиней на руках вскочил в ждавшие его сани, и экипаж, взметнув снежную пыль, помчался к воротам.
Дамы узнали коня – это был Дон Жуан. Они узнали кучера – это был полковник Беренкройц. И, до глубины души обеспокоенные участью молодой графини, побежали за мужьями.
Те не теряли времени – попрыгали в сани и под предводительством графа Хенрика пустились в погоню за похитителем.
А он, похититель, развалился в санях, крепко сжимая добычу. Все горести забыты, хмель очередного приключения опьянил его настолько, что он поет во весь голос – какую-то серенаду про любовь и розы. А она, бледная, окаменевшая от страха, не может пошевелиться – так крепко прижимает он ее голову к своей груди. А может быть, она в обмороке.
И что же делать мужчине, когда он видит так близко бледное, беспомощное лицо, открывающие белоснежный лоб золотые волосы, мученически закрытые серые глаза? Глаза, в которых, как ему почему-то кажется, наверняка прячется веселая искорка – даже жертве не может не прийтись по вкусу такое замечательное приключение.
И что же делать мужчине, когда красные губы белеют от холода и страха?
Конечно же целовать! Целовать этот мраморный лоб, эти закрытые глаза, эти бледные губы!
Но тут она приходит в себя и вырывается из его объятий, как сжатая пружина, да с такой яростью, что ему приходится употребить всю свою немалую силу, чтобы она не выбросилась из саней. Наконец он с большим трудом усаживает ее в угол саней и перекрывает все пути к отступлению.
– Эй, Беренкройц! – спокойно, но очень громко, стараясь перекрыть шум встречного ветра, говорит Йоста. – Подумай только, это третья женщина, которую я похищаю этой зимой. Но те вешались на шею и покрывали меня поцелуями, а эта ничего не хочет – ни целоваться, ни даже танцевать. Можно после этого понять хоть что-то в женщинах?
А во дворе усадьбы исправника визжали дамы, мужчины выкрикивали ругательства, истерически звенели колокольчики в упряжках, словно это была и не ночь, а какой-то бесшабашный праздник.
Двое, которым было поручено охранять майоршу и никуда не отлучаться, изнывали от любопытства.
Что там происходит? Почему такой крик? – спрашивали они друг друга.
Но тут дверь открылась, и чей-то голос выкрикнул:
– Ее похитили. Он забрал ее и уехал!
Они выскочили, будто их пружина подбросила, даже не заглянув в ткацкую, где была заперта майорша. Кого же еще могли похитить?
Стражникам повезло – им удалось впрыгнуть в одни из саней погони. Но далеко не сразу до них дошло, кто и кого похитил.
А тем временем Берг и кузен Кристофер спокойно вынули засов.
– Майорша свободна, – сказал Берг.
Они не смотрели на майоршу. Они смотрели в пол. Встали по обе стороны двери, как часовые, только опустили головы.
– Майоршу ждут запряженные санки.
Она вышла в опустевший двор, села в сани и укатила прочь.
А Дон Жуан тем временем миновал Брубю и легкой, летящей рысью мчал к скованному льдом озеру. Морозный ветер приятно обтягивал лицо, звенели бубенцы, в небе сияли бесчисленные звезды, а голубой снег искрился под луной так, что можно было подумать, что кто-то специально усыпал их путь алмазами.
Йоста Берлинг пришел в поэтический восторг.
– Беренкройц! – поспешил он поделиться вдохновением. – Смотри, Беренкройц, как странно все устроено! Точно так же, как Дон Жуан уносит эту юную женщину, время уносит человеческую жизнь. Ты олицетворяешь необходимость этой гонки, я олицетворяю желание, истинное желание, которое не может сдержать даже воля. А ее, беспомощную жертву, время влечет все глубже и глубже в пропасть забвения…
– Какое еще забвение! – рявкнул Беренкройц, хлестнул Дон Жуана, отчего тот побежал еще быстрее, и обернулся, сверкнув наросшими звездами инея на ватных усах. – Помолчи лучше. Нас догоняют, сейчас будет тебе забвение.
– За нами волки, Дон Жуан, а мы с тобой – добыча! – не унимался Йоста. – Дон Жуан, мальчик мой, вообрази себя молодым лосем! Беги через кусты, ищи брод в болотах, прыгай в прозрачные озера, плыви, гордо подняв голову, и исчезни, исчезни в этом спасительном мраке вечных еловых лесов! Ах, Дон Жуан, похититель женщин! Слейся с природой! Беги, как молодой лось!
Бешеная погоня поднимает в нем бурю восторга. Крики преследователей кажутся ему звуками церковного органа с низко свистящим контрапунктом ветра. Графиню трясет от страха, мелко-мелко стучат ее зубы, точно ксилофон выводит свои узоры на торжественном, многоголосом и на удивление гармоничном аккорде, взятом самой природой. Мурашками бежит по телу волна вдохновения.
Он отпускает графиню, встает во весь рост и срывает с себя шапку.
– Я Йоста Берлинг! – кричит он. – Я Йоста Берлинг, самый богатый человек в мире, обладатель десяти тысяч поцелуев и тринадцати тысяч любовных записок! Да здравствует Йоста Берлинг! Поймайте его, если можете!
И в следующую секунду он уже прильнул к ушку графини.
– Как вам скорость, графиня? Королевская скорость, королевская прогулка! За Лёвеном раскинулся Венерн, а за Венерном – море… мир скован льдом, графиня, повсюду черно-синий лед, он с грохотом катится нам под ноги, а от этого грохота падают с неба звезды… а за спиной гиканье погони! Вперед! Только вперед! Неужели вам не нравится наша прогулка, о, моя юная, моя прекрасная графиня?
Она резко оттолкнула его и выпрямилась.
А в следующую секунду он уже стоял перед ней на коленях.
– Я последний негодяй, графиня, но вам не следовало унижать меня и кавалеров. Вы воображали, что стоите на такой высоте, что нам до вас не дотянуться. Вас можно понять… Ну что ж… вы любимица земли и неба. И тем более как вы могли толкнуть падающего? Как вы могли оскорбить презрением тех, от кого и так отвернулась судьба?
Он схватил ее руки и прижал к губам.
– Если бы вы знали, как это горько – чувствовать себя отверженным. Но есть и преимущества – можно делать все что угодно, никто от тебя ничего хорошего не ждет. Так что я ничьих ожиданий не обманул – поступил как негодяй.
И только теперь он заметил, какие ледяные у нее руки. Она не успела надеть перчатки!
Он достает из кармана большие кожаные варежки, надевает ей на руки – и сразу успокаивается. Порыв вдохновения прошел, как его и не было.
Сел в свой угол саней, отодвинулся от графини как можно дальше.
– Вам нечего бояться, – тихо и даже скучно сказал он. – Посмотрите, куда мы едем. Не подумали же вы всерьез, графиня, что мы можем причинить вам какое-то зло?
Ее сознание было парализовано страхом, но тут она очнулась и подняла голову. Дон Жуан уже пересек озеро и теперь не быстро, но бодро тянул сани вверх, по склону к Боргу.
Экипаж остановился у крыльца ее усадьбы, и он помог молодой даме выйти из саней. Ее окружили слуги, и к ней, как по мановению волшебной палочки, вернулось мужество.
– Позаботьтесь о коне, Андерссон, – сказала она конюху. – Надеюсь, господа, так любезно доставившие меня домой, зайдут ненадолго? Граф сейчас будет здесь.
– Если графиня того пожелает, разумеется.
Йоста выскочил из саней. Беренкройц, ни секунды не сомневаясь, бросил вожжи конюху и спрыгнул с облучка.
С молодой графиней во главе процессия двинулась в дом. Графиня даже не старалась скрыть злорадство, хотя на лбу появилась морщинка сомнения. Она ожидала, что кавалеры откажутся от приглашения – мало ли чем может кончиться встреча с мужем похищенной женщины?
Должно быть, они плохо знают ее Хенрика. Строгого, честного, справедливого, настоящего мужчину, истинного рыцаря. Сейчас в усадьбу явится отставшая погоня, и Хенрик раз и навсегда запретит этим негодяям, насильно похитившим его жену, появляться в их доме.
Она с удовольствием представляла, как возмущенный Хенрик позовет слуг, укажет им на кавалеров и громовым голосом скажет:
– Этих господ никогда и ни при каких условиях на порог не пускать!
И самое главное, она ждала, что граф возмутится не столько инсценировкой похищения – в конце концов, ее можно посчитать безвкусной шуткой; нет, ему должна в первую очередь претить черная, отвратительная неблагодарность кавалеров к своей благодетельнице – старой майорше.
Он, благородный и великодушный, воспылает справедливым гневом, и любовь придаст огня его словам. Он, ее защитник и покровитель, берегущий ее, как чудом доставшуюся ему драгоценность, – как он может допустить, чтобы неотесанные грубияны бросались на его жену, как коршуны на воробья!
Месть, месть и еще раз месть! Молодую графиню, ласковую и беззлобную, готовую любить и прощать, терзала жажда мести. Она чувствовала себя оскорбленной и униженной.
Беренкройц, полковник с седыми, похожими на вату усами, нимало не смущаясь и никого не спрашивая, сразу прошел к камину – так было заведено в доме: к приезду хозяйки всегда должен пылать камин.
Йоста остался у дверей, присел на табурет и молча наблюдал, как служанка помогает графине снять меховую шубку. Он смотрел на нее, и вдруг ему стало так хорошо на душе, как не было уже много лет. На него будто снизошло откровение – Йоста сам не смог бы объяснить как, но он вдруг понял, что за изящной светской оболочкой этой молодой женщины, почти девочки, таится невероятной, божественной красоты душа.
Душа ее до поры дремлет, связанная внушенными ей с детства правилами, но вот-вот проснется и заявит о себе, и вся ее доброта, кротость, невинность станут видны и понятны всем. Йоста чуть не засмеялся от радости, видя, как молодая графиня старается напустить на себя маску гнева, как она хмурит брови, как пылает ее лицо.
Ты и сама не знаешь, как ты хороша, подумал он, закрыл глаза и чуть не застонал от внезапного, но очень болезненного укола совести.
Как мало мы знаем, что скрыто за внешней оболочкой, думал он с горечью. Но вот что, Йоста Берлинг, сказал он сам себе. С этой минуты ты будешь ее рыцарем, защитником и слугой – разве не долг каждого служить божественному и прекрасному? Как мы опозорились… а впрочем, во всем есть хорошая сторона, привычно оправдал он себя. Если бы не эта история с похищением, если бы не ее бледность и дрожь, если бы она не оттолкнула его с таким отвращением… с отвращением, превозмогшим смертельный страх, если бы он не почувствовал, как ранима она и как оскорблена их грубостью, – если бы не все это, он никогда бы не узнал, какая высокая и благородная душа скрыта в этом веселом, беззаботном с виду создании.
Откуда ему было узнать? Нельзя прочитать, что у человека на душе. Любит танцы, приветлива – вот и все. Таких много. И к тому же как ее угораздило выйти замуж за этого болвана, графа Хенрика? Это тоже говорило не в ее пользу.
А теперь, когда он узнал… теперь он ее раб до конца дней, раб и верный пес, как говорит капитан Кристиан Берг. Раб и пес, и ничего больше.
Он молитвенно сложил руки. С того самого дня, с того самого богослужения, с той проповеди, когда его подхватила и несла на своем заоблачном гребне огненная волна вдохновения, он не испытывал ничего подобного. Он почти не обратил внимания, когда в гостиную с грохотом ввалились граф Дона и еще человек двадцать заиндевевших мужчин, проклинающих неотесанность кавалеров и их непростительную проделку.
Йосту они поначалу и не заметили, буря проклятий обрушилась на Беренкройца. Тому, впрочем, было не привыкать – он поставил ногу на каминную решетку, локоть на колено, подбородком оперся на кулак и уставился на преследователей.
– Что все это значит? – заревел щуплый граф и принял воинственную осанку.
– Что значит? – спросил Беренкройц. – А вот что: покуда есть на земле женщины, найдутся и дурачки, пляшущие под их дудку.
Граф побагровел:
– Я еще раз спрашиваю: что это значит?
– Тогда позвольте и мне спросить: что значит, когда графиня отказывает в танце Йосте Берлингу?
Граф вопросительно посмотрел на жену.
– Я не могла с ним танцевать, Хенрик! Не могла и не хотела! Ни с ним, ни с одним из этих… я думала о бедной майорше! Она их облагодетельствовала, а они и пальцем не шевельнули, чтобы ей помочь.
На старческой физиономии графа Хенрика отразилось удивление.
– На то мы и кавалеры, – продолжил Беренкройц, – мы никому не позволяем нас оскорблять. К тому же развлекать дам – наша обязанность. Если дама отказывает нам в танце, мы приглашаем ее на прогулку. – Он осклабился, и ватные усы разошлись в стороны. – Успокойтесь, граф, ничего не случилось. Так что на этом инцидент можно считать исчерпанным.
– Ну нет, – тонким голосом крикнул граф. – Инцидент отнюдь не исчерпан! За поведение моей жены отвечаю я! И потому спрашиваю: если моя жена оскорбила Йосту Берлинга, почему он не подошел ко мне и не пожаловался?
Беренкройц продолжал ухмыляться.
– Я спрашиваю! – повторил граф.
И тут Беренкройц ответил вот что:
– Никто не просит у лисы разрешения снять с нее шкуру.
Граф торжественно положил правую руку на грудь:
– Никто не скажет обо мне, что я несправедлив. Я сужу своих слуг – иногда строго, иногда не очень, но всегда справедливо. Почему же я не имею права быть судьей собственной жене? Суд кавалеров я отметаю как несостоявшийся. Они не имели никакого права судить мою жену. Я не признаю этот суд. Не признаю! Его не было, слышите? Его не было! Он не считается!
Он выкрикнул последние слова чуть не фальцетом. Беренкройц покосился на спутников графа. Среди них не было ни одного, кто не оценил бы ловкость полковника – как он одурачил глупого Хенрика Дону. Ухмылялись все – и Синтрам, и Даниель Бендикс, и Дальберг. Азарт погони обернулся неожиданным развлечением.
А молодая графиня попросту не понимала, что происходит. Что там не признает ее муж? Что не считается? Пережитый ею страх? Железная хватка Йосты Берлинга? Бессвязные восклицания, дикие поцелуи – все это не считается? Что происходит? Неужели и вправду победила серая богиня сумерек, стирающая различия между тем, что хорошо и что плохо?
– Но, Хенрик…
– Молчите! – тем же фальцетом выкрикнул граф и принял странную позу, которая, очевидно, должно была соответствовать роли высшего судии, – вытянул шею и слегка, почти незаметно, наклонил голову. – Как можете вы, женщина, судить мужчин? Как можете вы, моя жена, унижать человека, которому я охотно пожимаю руку? Какое вам дело до майорши, какое вам дело, что кавалеры посадили ее в клетку? И правильно сделали! Откуда вам знать, в какую ярость приходит мужчина, узнав о неверности жены? Может быть, вы и сами собираетесь выбрать этот путь, раз так ее защищаете?
– Но, Хенрик… – Голос ее прозвучал по-детски жалобно. Она даже подняла перед грудью руки, словно собиралась ладонями защититься от несправедливых слов мужа. Боже мой, она и так беззащитна среди этих грубиянов, а тут еще собственный муж ее в чем-то обвиняет! Никогда ее сердце не оправится от этой обиды, никогда больше ему не светить людям таким ровным, нежным, ласковым светом… – Но, Хенрик! Кого я защищаю… разве это важно! Важно, что вы должны защищать меня!
Йоста Берлинг с трудом вырвался из плена своих возвышенных размышлений и лихорадочно соображал, чем помочь бедной девочке.
Но встать между мужем и женой он не решался. Хотя…
– Где Йоста Берлинг? – Граф точно прочитал его мысли.
– Я здесь. Граф говорил речь, а я, признаюсь, задремал. Думаю, граф не будет возражать, если мы поедем домой. Час поздний, а после санных прогулок так и тянет в сон. – Йоста попытался свести все к невинной шутке.
– Йоста Берлинг! – торжественно произнес граф Хенрик Дона. – Поскольку графиня без всяких на то причин отказала вам в танце, я приказываю ей поцеловать вашу руку и попросить прощения!
– Но, дорогой граф. – Йоста с трудом заставил себя улыбнуться. – Нет такой руки, которую пристало бы целовать юной и прекрасной даме. Вчера моя рука была в крови убитого лося, ночью перепачкана сажей после драки с углежогами. Ваш суд, граф, был великодушным, мудрым и благородным. Я более чем удовлетворен. Поехали домой, Беренкройц!
Граф подбежал к двери и заступил ему дорогу:
– Нет, не уходите! Жена обязана слушаться мужа. Я хочу, чтобы она поняла, к чему ведет самовольство.
Йоста не знал, что делать. Графиня побледнела, губы ее задрожали.
– Делайте, как я сказал!
– Хенрик… я не могу.
– Можете, – сурово произнес граф. – Еще как можете. Но я прекрасно вижу, что вы задумали. Вы хотите заставить меня драться на дуэли с этим человеком. Только из-за каприза, что он вам не нравится. Что ж, если вы не хотите дать ему удовлетворение, придется это сделать мне. Женщинам нравится, когда мужчины погибают из-за них. Вы совершили скверный поступок и не хотите его исправить. Значит, это должен сделать я. Дуэль, любезная графиня. И через несколько часов вы увидите мой окровавленный труп.
Она посмотрела на него долгим взглядом, и у нее словно открылись глаза. Она впервые поняла, что представляет собой ее муж. Глупое, трусливое, тщеславное и жалкое существо. Ничтожество.
– Успокойтесь, – сказала она тихо и холодно. – Я выполню ваш приказ.
Но теперь настала очередь Йосты.
– Нет, графиня, вы не станете этого делать. Вы не станете целовать мою руку. Вы, невинное, беззащитное дитя, с такой чудесной, светлой душой! Я никогда больше к вам не приближусь, клянусь! Никогда! О, горе мне! Я несу с собой смерть и разрушение, я порчу все чистое и доброе, все, к чему ни прикоснусь. Вы не должны ко мне прикасаться, я боюсь вас, как огонь боится воды! Вы не станете это делать!
И он судорожно спрятал руки за спину.
– Не убивайтесь так, господин Берлинг, – тем же ледяным, невыразительным голосом сказала графиня. – Мне это безразлично. Я виновата перед вами, я прошу прощения и прошу позволить мне поцеловать вашу руку.
Йоста, по-прежнему держа руки за спиной, начал проталкиваться к двери.
– Если вы не примете извинений моей жены, я буду вынужден драться с вами, господин Берлинг, – сказал граф. – К тому же ее постигнет другое, куда более суровое наказание.
Графиня пожала плечами.
«Он спятил от трусости», – прошептала она про себя. А вслух сказала вот что:
– Пусть будет, как сказал мой муж. Вы же этого с самого начала хотели, господин Берлинг, – унизить меня и оскорбить.
– Я? Хотел вас унизить? Неужели вы и в самом деле так думаете? Ну, хорошо… единственный выход для меня – сделать так, чтобы вам нечего было целовать.
И с этими словами он, растолкав собравшихся, подбежал к камину и сунул руки в огонь. Кожа мгновенно покраснела, сморщилась, затрещали охваченные пламенем ногти. Но почти в ту же секунду ошеломленный Беренкройц схватил Йосту за шиворот и швырнул на пол. Йоста поднялся и сел на подставленный кем-то стул. Ему было стыдно за свой порыв. Она может подумать, что все это хвастовство и дурацкая бравада. Что за странная, театральная выходка – вокруг полно зевак, которые только и радуются неожиданному повороту дела.
Надо срочно уходить. Но не успел он подняться, как графиня подбежала к нему и упала на колени. Посмотрела на закопченные, багровые руки.
– Я поцелую ваши руки, – тихо сказала она. – Как только ожоги заживут, я поцелую ваши руки. Я поцелую ваши руки. – Она повторяла эти слова, и слезы градом катились на уже начавшие набухать белесые волдыри.
Для нее это стало настоящим откровением. Ее охватило незнакомое ей доселе блаженство. Неужели все еще может случаться такое на этой земле? Неужели кто-то может решиться на такое ради нее? Этот красавец, способный на все, неукротимый в делах и в словах… какая поэтическая душа, какие безумные, самоотверженные поступки! Герой, истинный герой, он создан из другого материала, чем остальные. Раб своих прихотей, минутных страстей, страстный и пугающий, но какая в нем сила, сила, не останавливающаяся ни перед чем, даже перед самопожертвованием.
Весь вечер ее терзала невыразимая тоска, она видела вокруг себя только трусость, жестокость и горе. Но теперь все забыто. Существование вновь обрело смысл для юной графини. Нет, серая богиня сумерек, далеко тебе до победы! Мир опять расцвел волшебными красками, сделался ярким и живым.
* * *
И той же ночью во флигеле пожилые кавалеры на все лады проклинали Йосту Берлинга.
Давно пора было спать, но он не давал им покоя. Они задернули шторы, погасили свечи – но где там! Он говорил и говорил, не закрывая рта.
Кавалеры узнали, какой ангел эта юная графиня, как он обожает ее, как он будет служить ей и поклоняться. Он даже рад, что другие женщины его предали, потому что теперь он может посвятить свою жизнь ей, юной графине, и только ей. Конечно, она презирает его, но это неважно, он будет счастлив лежать у ее ног, как собака.
– Все знают остров Лагён на нашем озере? Видели ли вы его с юга, где иссеченная временем скала отвесно поднимается из воды? А с севера, где остров плавно скользит к воде, где берега поросли роскошными вековыми елями? Где песчаные отмели поднимаются из воды причудливым рисунком? Где на вершине скалы до сих пор сохранились развалины старинной пиратской крепости?
Там, и только там построит он замок в честь юной графини, мраморный замок! Он вырубит в скале широкие лестницы, они будут вести прямо к морю, и к ним будут приставать корабли. В этом замке будут сияющие залы и высокие башни с золотыми шпилями. Это будет достойное обиталище для юной графини! Деревянная лачуга на мысе Борг недостойна этого ангела! Даже нога ее не должна ступать туда!
Он никак не мог остановиться. Кое-где за желтыми клетчатыми шторами уже послышался храп. Но те, кому не удавалось уснуть, проклинали последними словами Йосту Берлинга и его внезапное помешательство.
– О, люди! – обратился он к ним торжественно. – Что я вижу перед собой? Я вижу зеленую, прекрасную планету, покрытую либо творениями человека, либо руинами. Египетские пирамиды давят землю неслыханной тяжестью, Вавилонская башня пронзает небеса, вырастают замки и неприступные крепости. Но все, что построено людьми, рано или поздно обратится в прах. Все тщетно! Бросьте кельмы и кирки, разбейте кирпичные формы! Прилягте на траву, накройте голову фартуком каменщика и стройте светлые, воздушные замки мечты! Что делать душе вашей в корявых и недолговечных стенах из камня и обожженной глины? Стройте, стройте же вечный, неразрушимый замок сладостных видений и несбыточных снов!
И он, хохоча, отправился спать.
А когда графиня узнала, что кавалеры освободили майоршу, она пригласила их всех на обед.
Так началась долгая дружба юной графини и нашего героя, Йосты Берлинга.
Истории с привидениями
Что нового, о дети нынешней поры, могу я вам рассказать? Ничего. Правда, бывает, что хорошо забытое может показаться новым. Например, сказки, которые нам рассказывала старая седая няня. Мы, малыши, собирались в детской, а она рассказывала. Или подслушанные рассказы конюхов и арендаторов. Они садились у камина, ждали, когда просохнет их насквозь промокшая одежда, доставали из кожаных ножен, висящих на шеях, как медальоны, широкие ножи и мазали масло на толстые куски свежего хлеба. Или рассказы в усадьбах, они ведь тоже забыты – старые господа покачивались в креслах-качалках, пили дымящийся тодди и вспоминали ушедшие времена.
И, наслушавшись рассказов няни, конюхов и господ, ребенок видит в ночном небе не тучи, а кавалеров в своих шатких двуколках, не звезды, а мерцающие восковые свечи в старом графском имении на мысе Борг, а за жужжащей прялкой в соседней комнате сидит не кто иной, как старая Ульрика Дильнер. Для ребенка все эти люди были вполне реальными, они жили где-то рядом.
Но если такого ребенка, чья голова битком набита сказаниями, посылали на темный чердак за охапкой льна или сухарями, он старался там не задерживаться – стремительно слетал по деревянной лесенке, бегом через сени и поскорее в кухню. Там, в чердачном полумраке, сразу вспоминались страшные истории про нечестивого заводчика из Форса, того, кто вступил в сговор с дьяволом.
Давным-давно прах злобного Синтрама покоится на кладбище в Свартшё, но разве кто поверит, что Господь призвал его душу! А ведь так и написано на могильной плите: «Господь призвал его душу».
Зачем Господу такая душа? Пока Синтрам был жив, все знали, что он меченый, один из тех, к кому в долгие, дождливые воскресные вечера приезжает тяжелая черная карета, запряженная четверкой черных же лошадей. Элегантный господин в черном легко спрыгивает с подножки и за партией в кости или в шилле помогает хозяину скоротать доводящие до бешенства, унылые, однообразные часы. Далеко за полночь продолжается игра, и когда на рассвете таинственный гость покидает жилище Синтрама, он всегда оставляет прощальный подарок… жди несчастья.
Он меченый, Синтрам… если вдруг начинается всякая чертовщина, невидимые экипажи въезжают в усадьбу, щелкают бичи, кто-то вскрикивает на крыльце, сама по себе хлопает дверь – жди Синтрама. Собаки и даже люди просыпаются от этого шума, вскакивают, подбегают к окнам – никого. Но все уже знают – скоро явится Синтрам.
Ох уж эти люди, связавшиеся со злыми духами! Мало того что и от них добра не жди, так еще и нечисти всякой вокруг развелось, как комаров в летний вечер. Как, по-вашему, что это за пес был, который во времена Синтрама то и дело показывался в Форсе? Слезящиеся красные глаза, язык свисает чуть не до земли, а с него кровь капает. И дышит, дышит зверюга… тяжело дышит, с хрипом, будто без отдыха отмахал сюда из преисподней. Как-то обедали работники в кухне, а он в дверь скребется. Служанки чуть в обморок не попадали от страха, а один конюх, поздоровее, выхватил из печи горящую головню, открыл дверь и сунул зверю прямо в пасть. Вой такой раздался, что у людей сердце зашлось. Из пасти искры, по шерсти искры… убежал пес, а следы его на дороге долго еще видны были – светились адским огнем.
Нечисто, нечисто было с заводчиком. Уедет, случалось, по делам, упряжка как упряжка, кони как кони, а вернется к ночи – где кони? Черные быки в упряжи! Кто жил у дороги, божились: огромные рога, таких и не видывали никогда. И мычание их слышали, и огненный след видели на сухой траве.
Не зря, не зря торопились маленькие ножки поскорее убежать с огромного темного чердака. Сами подумайте: а вдруг из темного угла полезет кто-то, чье и имя-то нельзя называть? Никакой уверенности.
И что самое скверное – все эти твари не только нечестивым показываются, тем, с кем у них договор, они и обычных людей не щадят. Разве старая Ульрика Дильнер не видела их? И она, и Анна Шернхёк много чего могут порассказать.
* * *
О, друзья мои, дети человеческие! Вы, кто танцует, вы, кто смеется… От всей души прошу вас: не танцуйте так самозабвенно, не смейтесь так громко! Не дано нам знать, наступит ли наш шелковый башмачок на вощеные доски пола или на и без того разбитое сердце. Не отзовется ли наш веселый, серебристый смех отчаянием в чьей-то измученной душе…
Вот так, наверное, и произошло с Ульрикой Дильнер. Слишком уж больно отдавались в ее старом сердце танцевальные па, смех молодежи казался ей ненатуральным. И все потому, что сжимала ей сердце тоска по несбывшемуся – по достойному званию замужней женщины. В конце концов согласилась она на предложение Синтрама, переехала к нему в Форс и разлучилась со старыми друзьями в Берге, с кем делила и дорогие сердцу хозяйственные заботы, и постоянную тревогу о завтрашнем дне.
Все произошло быстро и весело. Синтрам посватался к ней на Рождество, а в феврале сыграли свадьбу. В тот год Анна Шернхёк поселилась в доме капитана Угглы, и вскоре выяснилось: Анна прекрасно справляется с хозяйством. Так что Ульрика без угрызений совести оставила друзей ради желанного положения замужней женщины.
Без угрызений совести, но не без сомнений. Потому что огромные, пустые комнаты в Форсе были холодны и неуютны. Как только темнело, ее кидало в дрожь, и она начинала невыносимо тосковать по родному дому.
А хуже всего были бесконечные воскресные вечера. Они тянулись медленно-медленно, темные, наполненные страхом, как черная болотная вода, и, казалось, не было им конца, как не было конца ее мрачным мыслям.
И вот как-то в марте она дожидалась Синтрама. Он собирался приехать обедать после мессы. Места себе не находила – так одиноко и тоскливо ей было. Она поднялась в салон и села за клавикорды. Последнее утешение – клавикорды с украшенной пасторальным рисунком крышкой: пастушок с флейтой и пастушка на пронзительно-зеленом холме. Клавикорды достались ей в наследство от матери, и она привезла их с собой в дом Синтрама. Им она могла жаловаться сколько угодно, и они ее понимали.
Но, конечно, тут читатель улыбнется и пожмет плечами. Она заиграла польку! Подумайте, Ульрика, с ее разбитым сердцем и надломленной душой, не умела играть ничего, кроме польки. Давно-давно, еще до того, как пальцы ее одеревенели и заскорузли от бесконечных мутовок, сковородок, половников и разделочных ножей, она успела разучить только одну-единственную польку… Веселая полька словно засела в пальцах, но ничего больше она не умела, ничего, что лучше подходило бы ее грустному и подавленному настроению. Она не могла сыграть ни траурный марш, ни страстную сонату, ни жалобную народную песню – ничего. Только эту разудалую польку.
Она играет ее каждый раз, когда поверяет душу старым клавикордам, когда ей хочется плакать и когда ей хочется улыбаться. Она и на свадьбе ее играла, эту польку. И когда первый раз переступила порог своего нового дома, тоже присела к клавикордам и сыграла польку.
Старые струны наверняка понимают, как она несчастна.
Если кто-то проедет мимо усадьбы, наверняка подумает, что злобный заводчик дает бал, настолько бойко и весело звучит полька. Когда-то, в Берге, она помогала развеять тревогу, вселить бодрость даже в несытые времена.
Тараум-па-па,
Тараум-па-па,
Тараум-па, ум-па, ум-па-па!
Скрипя, выпрямлялись ревматические суставы, восьмидесятилетние кавалеры, усмехаясь своей немощи, пускались в пляс… весь мир не удержался бы от танца, до того задорна и смешна эта полька.
Но старая Ульрика плачет.
Холодный дом, мрачные, раздражительные слуги, даже домашние животные и те злые и неприветливые. Ей так не хватает доброжелательных, улыбающихся лиц… и вот об этом-то и рассказывает ее веселая полька.
Тараум-па-па,
Тараум-па-па,
Тараум-па, ум-па, ум-па-па!
Люди никак не привыкнут, что она теперь фру Синтрам, называют по-старому: мамзель Дильнер. И полька хохочет над ее тщеславием: неужели все это ради того, чтобы к тебе обращались «фру»?
Тараум-па-па…
Она изо всех сил колотит по клавишам, точно собирается порвать струны на своих стареньких клавикордах. Столько рвущих душу звуков надо заглушить! Голодный плач крестьян, проклятия разоренных арендаторов, насмешки строптивой прислуги… и самое главное, немой стон стыда. Стыда, что она вышла замуж за скверного, злого человека.
Под звуки этой польки Йоста Берлинг танцевал с молодой графиней, Марианна Синклер – со своими многочисленными поклонниками. И даже майорша из Экебю с удовольствием скакала под зажигательный ритм этой польки, пока еще жив был красавец Альтрингер. Она видит их перед собой, пару за парой, вот они проносятся перед ней в вихре молодости, красоты и пьянящего веселья. Горячие токи радости струятся между ними, потому что ее полька заставляет румяниться щеки и зажигает глаза лучистым светом любви. Где они все? Ее разлучили с ними… но пусть гремит полька! Так много памяти надо заглушить… так много живой, теплой, памяти, пронизанной любовью, как вода в озере ранним утром пронизана игривыми змейками солнечных лучей.
Она играет, она пытается заглушить тоску и страх. Ее сердце вот-вот разорвется от ужаса, когда видит она кошмарного черного пса, когда слышит, как слуги шепчутся о черных быках с невиданными рогами.
Какие-то звуки в прихожей. Пришел муж. Она слышит, как он входит в гостиную и садится в кресло-качалку. Можно даже не оглядываться – скрип половиц под полозьями этого кресла ни с чем не спутаешь.
Она продолжает играть, она нажимает клавиши, но полька умерла, она слышит только назойливый скрип кресла-качалки.
Бедная старая Ульрика, измученная, беспомощная, заблудившаяся среди чужих! У нее нет друга, кому могла бы она посетовать на свою судьбу, разве что старые клавикорды, предлагающие ей в утешение одну-единственную польку…
Полька в этом доме – как смех на кладбище или застольная песня в церкви.
Скрип-скрип… и она обрывает польку на затакте. Клавикорды смеются над ней. Ульрика встает и идет к качалке.
А в следующую секунду она без чувств рухнула на пол. Потому что в кресле сидит и покачивается вовсе не ее муж, а другой, тот, имя которого не решаются называть дети, тот, кто караулит их на темных пыльных чердаках.
* * *
Может ли когда-нибудь тот, чья душа с детства напитана сказаниями и легендами, освободиться от их власти? За окном воет ночной ветер, кусты олеандра и фикуса своими скрипучими листьями задевают тонкие деревянные колонны, на которые опирается балкон, над дальней цепью гор нависает ночное небо… а я сижу и пишу эти строки одна, при колеблющемся свете лампы, с поднятыми шторами. Мне уже немало лет, но и сейчас мурашки бегут по спине, как и в первый раз, когда мне рассказали эту историю. И мне трудно сосредоточиться. Я то и дело поднимаю глаза и вглядываюсь – не прячется ли кто? Вон там, в углу. Или подхожу к балконной двери – не просунул ли черный пес свою страшную морду через решетку? Он всегда со мной, этот страх, оставленный на всю жизнь слышанными в детстве рассказами, и если ночь особенно темна, а одиночество, к которому я стремлюсь, становится невыносимым, я бросаю перо, забираюсь в постель и натягиваю на голову одеяло.
В детстве я никак не могла понять – как же Ульрика Дильнер пережила эту историю? Я бы на ее месте точно умерла.
Помог счастливый случай. Анна Шернхёк заехала в Форс, нашла бедную Ульрику на полу в салоне и привела в чувство. Но я точно знаю – если бы на месте Ульрики была я, меня бы спасти не удалось. Я бы к этому времени уже отдала Богу душу.
Нет ничего страшнее слез старого человека. Нет ничего страшнее, когда седая голова падает вам на грудь, когда сморщенные пальцы хватают вас за руку, а у вас нет слов утешения. Не дай вам Бог видеть старого человека в беде, которой вы не в силах помочь!
Молодые – совсем другое дело. Они сильны, у них есть будущее, у них есть надежда. Но какое несчастье, когда плачут старики, какое отчаяние охватывает вас, когда видите вы, что те, кто был вашей поддержкой и опорой с самого детства, склоняются перед вами в горестной и безнадежной жалобе!
Именно так чувствовала себя Анна Шернхёк. Она слушала бессвязный рассказ старой Ульрики и не видела для нее никакого выхода.
Старушка дрожала как осиновый лист, и слезы градом катились по ее увядшему лицу. Она говорила и говорила, иной раз так бессвязно, что Анна начинила сомневаться, понимает ли Ульрика, где находится. Морщины казались глубже, чем обычно, накладные локоны промокли, все ее длинное, худое тело непрерывно сотрясали судорожные всхлипы.
Как-то надо было положить этому конец, и Анна решила отвезти Ульрику назад, в Бергу. Она, конечно, законная жена Синтрама, но так дальше продолжаться не может. Если Ульрика останется, нечестивый заводчик окончательно доведет ее до сумасшествия.
Ах, как обрадовалась несчастная старушка! Обрадовалась и сразу испугалась: нет, она не решится оставить дом и мужа. А вдруг он вышлет в погоню этого кошмарного пса?
Анна Шернхёк все же преодолела сопротивление, что-то присочинила, чем-то насмешила и даже пригрозила. И через полчаса старушка уже сидела в санках. В упряжи была старая Диса, а на козлах сидела сама Анна.
Дорогу уже начало развозить – вторая половина марта, сани немилосердно трясло, но старая Ульрика не жаловалась: подумать только, знакомые сани, знакомая лошадка, которая верно служила в Берге – наверное, столько же лет, сколько она сама.
И Ульрика перестала плакать. Старая преданная служанка перестала плакать, как только они проехали Арвидсторп, у Хёгберга она уже смеялась, а когда подъезжали к Мункебю, начала рассказывать про свою молодость, как она служила у графини в Сванехольме.
К северу от Мункебю дорога стала еще хуже – каменистая, ухабистая, с бесконечными подъемами. Бедной Дисе приходилось тащить сани в гору по извилистой размытой колее, а с горы еще хуже, представьте только, как трудно удержать санки на крутом склоне. Пересекли долину – и опять надо подниматься на следующий холм.
И как раз когда они поднимались на холм у Вестраторпа, Ульрика оборвала рассказ на полуслове и схватила Анну за руку. На опушке рощи сидел огромный черный пес.
– Смотри!
Пес исчез среди деревьев. Анна даже не успела его рассмотреть.
– Гони! – почти взвизгнула Ульрика. – Гони, как только можешь! Синтраму донесли, что я сбежала!
Анна засмеялась. Смех – лучшее лекарство против страха. Но Ульрика даже не улыбнулась.
– Сейчас мы услышим его бубенцы, верь моему слову. Перевалить не успеем.
Диса наконец дотащила сани до макушки холма Элуфсбакен и остановилась перевести дух. Именно в эту секунду до них донеслось звяканье колокольчиков.
Бедняга Ульрика задрожала от ужаса. Она всхлипывала и качала головой, сжав побелевшие губы. Анна дернула вожжи, но Диса не двинулась с места, только покосилась на нее удивленным глазом: что с тобой, хозяйка? Неужели ты думаешь, что старая Диса сама не знает, когда бежать, а когда шагать? Не хочешь ли ты поучить меня? Меня, Дису, которая двадцать лет в этих краях, которая знает здесь каждый камешек, каждый мостик, каждый хутор и какой высоты на этом хуторе ворота?
А звон все приближался.
– Это он, это он! Это его бубенцы!
Все громче и громче звенят колокольчики, уже неестественно громко, это уже не звон, а оглушительный грохот. Анна даже повернула голову – уж не положила ли лошадь Синтрама голову прямо на ее сани? Нет, и это удивительно: звон то слева, то справа, а никого не видно, будто это и не колокольчики звенят, а сам воздух. Будто и не Синтрам преследует их, а только его бубенцы.
Так бывает ночью, когда возвращаешься из гостей, – колокольчики звенят, а кто едет – не видно. Звенят колокольчики. Звенят все громче, вызванивают мелодию, поют, говорят… и лес отвечает им гулким, тревожным эхом.
И как заражает эта тревога! Анне уже хочется, чтобы поскорее показался преследователь, она уже почти жаждет увидеть Синтрама и его огненно-рыжего коня – все лучше, чем этот необъяснимый, настойчивый, переливчатый звон.
– Эти бубенцы меня доняли, – говорит она полушепотом.
И колокольчики тут же подхватывают словцо и распевают на разные мотивы: «Дон – доняли, доняли-дон, дон-дон-доняли…»
Совсем недавно, совсем-совсем недавно ехала она в санях по этой же дороге, а за санями гнались волки. Она видела в темноте их разинутые пасти, видела, как блестят белые клыки, представляла, как разорвут ее на части свирепые хищники, – и ей не было страшно. Мало того, сейчас ей кажется, что это была самая прекрасная ночь в ее жизни. Силен и красив был впряженный в сани конь, силен и красив был человек рядом, и восторженный ужас погони сладко захлестывал душу.
А сейчас… старая лошадь, старая, беспомощная спутница… Анна так остро ощутила свое бессилие, что ей захотелось плакать. Никуда, никуда не деться от этого мучительного, издевательского, неправдоподобно громкого звона.
Она спрыгнула с саней – надо с этим как-то кончать. Почему она должна бояться этого злобного, всеми презираемого негодяя?
Внезапно в быстро сгустившихся сумерках она различила конскую голову, а потом и всего коня, и санки, а в санках, как и следовало ожидать, сидел Синтрам.
Но вот что удивительно – она не видела, как приближается экипаж. Он словно соткался из мартовских сумерек прямо у нее на глазах.
Анна бросила поводья Ульрике и пошла навстречу Синтраму.
Он одержал коня.
– Какая удача! – воскликнул заводчик. – Вот так повезло бедному Синтраму! Дорогая фрекен Шернхёк, позвольте попросить вас о маленькой услуге. Не могли ли бы вы довезти в Бергу моего спутника?
– А где патрон прячет своего спутника?
Синтрам откинул полость, под ней оказался человек. Судя по всему, он крепко спал.
– Выпил лишку, – хохотнул Синтрам, – вот и спит. Да он вам знаком! Это же Йоста Берлинг.
Анна вздрогнула.
– Понимаете, фрекен Шернхёк, – продолжил Синтрам, – впрочем, это известно: тот, кто предает любимого, тот продает его душу дьяволу. Я и сам попал к нему в когти таким путем. Тут вот какая ловушка: люди-то сдуру считают, что это высший подвиг – отказаться от любви. А любить, по их мнению, грешно.
– Что имеет в виду патрон? – непослушными губами выговорила потрясенная Анна.
– А я вот что имею в виду: не надо было отпускать Йосту Берлинга, фрекен Анна.
– Бог того пожелал.
– Ну да, ну да, старая песня. Любить грешно, отказаться благочестиво. Господь, по-вашему, на дух не переносит счастливых людей. Он за ними волков посылает… А если и не Бог вовсе, что тогда, фрекен Анна? Почему вы думаете, что это Бог послал волков? Ведь и я мог попросить своих серых овечек из Доврефьелля погнаться за парочкой влюбленных. Вдруг это не Бог, а я послал волков, потому что не хотел упустить одного из моих? Не Бог, а я, фрекен Анна…
– Не искушайте меня, господин заводчик, – только и смогла выговорить Анна. – Если это так, душа моя погибла.
– А вот посмотрите-ка сюда, фрекен Анна. – Синтрам наклонился над спящим Йостой Берлингом. – Посмотрите на его мизинец! Эта ранка никогда не заживет, потому что мы оттуда кровь взяли, и он подписал контракт. Он мой, фрекен Анна. Кровь непобедима. Только любовь может освободить его, но я думаю, смысла нет… если мне удастся его сохранить, он станет милейшим парнем.
Анна изо всех сил старалась побороть охватившее ее оцепенение. Околдовал он ее, что ли? Это же полное сумасшествие. Никто, ни один человек не может добровольно продать душу нечистой силе. Но мысли путаются, сгустившиеся сумерки давят на нее непомерной тяжестью, и лес поодаль, как свора чудищ, готовых в любую секунду ринуться на нее. Ее охватил парализующий, никогда не испытанный страх.
– Может быть, фрекен Анна, вы хотите сказать, что в вашем приятеле не так-то много осталось хорошего? Что в его душе и губить нечего, так что невелика победа? Не скажите, не скажите… Он никогда не издевался над крестьянами, не изменял обнищавшим друзьям, не был карточным шулером… Да, вот еще: никогда не соблазнял замужних женщин.
– Я хочу сказать, что господину патрону незачем притворяться посредником, вы и есть нечистый дух, господин патрон!
– Давайте меняться, фрекен Анна. – Заводчик усмехнулся. – Анна Шернхёк берет Йосту Берлинга и выходит за него замуж. И он будет ваш, а этим, в Берге, просто дайте денег. Вы теперь знаете, фрекен, что Йоста Берлинг мой, но я могу ради вас от него отказаться. Вспомните еще раз, что вовсе не Бог послал вам волков вдогонку, и давайте меняться.
– А что вы хотите взамен?
Синтрам ухмыльнулся:
– Вот именно, что я хочу взамен? Ах, фрекен Анна, мне много не надо. Отдайте мне вон ту старушенцию, что сидит у вас в санях.
– Изыди, Сатана! – сорвалась на крик Анна. – Неужели ты думаешь, что я способна на предательство? Пожертвую старым другом, обману ее надежды? Отдам ее тебе, чтобы ты довел ее до помешательства? Изыди!
– Спокойно, спокойно, фрекен Анна. – Синтрам продолжал улыбаться. – Подумайте хорошенько! Я отдаю вам молодого, красивого, даже очень красивого молодого человека, а в обмен всего-то прошу эту старую калошу.
Анна истерически захохотала, чтобы скрыть страх.
– Подумайте только, патрон, – сказала она, забыв, что только что назвала его Сатаной. – Мы стоим здесь и торгуемся из-за душ, как на лошадиной ярмарке в Брубю!
– Именно так, фрекен Анна, именно так. Но я понимаю, семейная честь не позволяет, очень вас хорошо понимаю… это правда, семейную честь Шернхёк надо беречь… ну что ж, мы облегчим ваши душевные муки.
И он громко позвал жену, и та, к удивлению Анны, вылезла из саней и, дрожа мелкой дрожью, подошла к мужу.
– Вы только посмотрите, вот вам пример послушной жены! Даже гордая фрекен Шернхёк не может помешать жене откликнуться на зов законного мужа… так и порешим. Я вытащу Йосту из саней и оставлю его здесь, на этом самом месте. Кто захочет, подберет.
И он уже собирался поднять бесчувственного Йосту Берлинга, но тут Анна наклонилась к нему и, почти касаясь губами уха, шепнула:
– Поезжайте домой, патрон! Заклинаю вас, поезжайте домой! Или вы не знаете, кто вас ждет в кресле-качалке? Мне кажется, неудобно заставлять ждать такого гостя!
Ей немало пришлось пережить страхов за этот день, но то, как изменился Синтрам, услышав ее слова, показалось ей страшнее всего. Нечестивый заводчик с перекошенной физиономией натянул вожжи, развернул сани, хрипло вскрикнул и хлестнул своего рыжего коня. Конь рванул с места, из-под полозьев и копыт брызнули снопы искр, и сани полетели вниз по крутому, опасному склону.
Анна Шернхёк и Ульрика Дильнер остались одни, но не обменялись ни словом. Ульрика с опаской косилась на горящие диким огнем глаза Анны и не решалась открыть рот. А Анне нечего было сказать несчастной старухе, ради которой она только что принесла такую жертву. Она принесла в жертву душу любимого человека.
Ей хотелось броситься ничком на землю, кататься по мокрому снегу, рвать на себе волосы и посыпать голову снегом и песком.
До этого момента ее отречение от Йосты казалось ей чем-то возвышенным, духовным подвигом, к тому же в глубине души она не считала, что отреклась от него, еще ничто не было потеряно. А сейчас она даже не отреклась, она попросту предала его, пожертвовала его душой…
В тягостном молчании доехали они до Берги, и когда Анна Шернхёк открыла дверь гостиной, она в первый и последний раз в своей жизни упала в обморок. За столом сидели Синтрам и Йоста Берлинг и мирно беседовали. На подносе стоял полупустой графинчик горячего тодди, наверняка они здесь не меньше часа.
Ульрика Дильнер, в отличие от Анны Шернхёк, в обморок не упала. Она-то знала своего мужа. Она-то заметила, что с тем, что остановил их на холме, что-то было не так.
Капитан и капитанша Уггла оказались хорошими посредниками. Они уговорили Синтрама, чтобы тот оставил Ульрику в Берге. Синтрам не возражал – не хватает мне только сумасшедшей в доме, сказал он.
* * *
Было бы смешно настаивать, чтобы дети нынешних времен верили в эти старые истории. Ясно ведь, почти все они или выдумки, или ложь. Но страх, пережитый старой Ульрикой, когда заскрипели полозья старого кресла-качалки… а сомнения и искушения Анны, когда она слышала нарастающий звон невидимых бубенцов, это ведь не ложь? И не выдумка?
Ах, если бы! Ах, если бы все это было выдумкой и ложью…
История Эббы Дона
Все знают этот удивительной красоты мыс не восточном берегу Лёвена, тот, где стоит усадьба Борг. По обе стороны его омывают нежные волны затканных серебристой парчой заливов, а если взобраться на вершину холма, открывается поистине волшебный вид.
И все же я не советовала бы туда ходить.
Никто не поймет, как оно завораживающе прекрасно, озеро моей мечты, пока не увидит с мыса Борг, как медленно скользят по зеркальной воде последние, похожие на привидения клочья предутреннего тумана. Никто не поймет, как оно завораживающе прекрасно, пока не выглянет в окошко маленького голубого кабинета, где по углам таятся бесчисленные воспоминания… Пока не выглянет в окошко и не увидит, как отражается в воде бледно-пурпурный закат.
Но я повторяю: не ходите туда, на этот мыс!
Потому что может случиться, что вы, наглядевшись на эти чарующие виды, пожелаете остаться навсегда в этих помнящих столько горя залах старинной усадьбы. Если вы молоды, богаты и счастливы, вы даже, возможно, купите эту усадьбу и поселитесь там со своей молодой женой. Так поступают многие.
Нет, нет и еще раз нет. В Борге вы не найдете счастья. Как бы вы ни были богаты, как бы вы ни были опьянены счастьем, очень скоро и вы омочите слезами эти и без того пропитанные слезами полы. И очень скоро стены, где прячется вековое эхо скорби, всосут и ваши горестные вздохи.
Красивое старинное поместье отмечено печатью горя. Говорят, где-то здесь, в этих местах, похоронена ведьма, приносящая несчастья и вечное горе. Не нашла она покоя в могиле и отравляет мертвенным своим дыханием все живое.
Если бы я была хозяйкой Борга, я перекопала бы весь мыс – и выложенные каменной плиткой аллеи елового парка, и полы в подвалах усадьбы, и плодородные поля. Я не успокоилась бы, пока не нашла изъеденный червями труп ведьмы и не закопала бы его на освященной земле погоста в Свартшё. Мало того, заплатила бы звонарю, чтобы колокола над могилой звонили дольше и сильнее обычного, и богато одарила бы и пастора, и пономаря, чтобы они с удвоенной силой проповедями и псалмами упокоили бы принесшую столько горя ведьму.
А если и это не поможет, выбрала бы я штормовую ночь потемнее и подожгла бы деревянные стены усадьбы, чтобы никто и никогда не соблазнился поселиться в этом проклятом доме. Разве что галки совьют гнездо в торчащем на унылом пепелище закопченном кирпичном дымоходе.
Но, конечно, и мне было бы страшно смотреть, как вырывается из крыши пламя, как взлетают в ночное небо фонтаны искр, как, отгорев, серыми невесомыми мотыльками бессильно опускаются они на землю, как густой багровый дым все гуще окутывает гибнущую графскую усадьбу, как стены, перед тем как упасть, изгибаются, точно человек, пытающийся сохранить равновесие. В треске и реве пламени наверняка услышала бы я отзвуки старых, отныне бездомных воспоминаний, а в голубых каемках оранжевых языков беспощадного огня мерещились бы мне потревоженные привидения. В горе тоже есть своя красота, подумала бы я, и заплакала, как плачут язычники, когда уничтожают их храмы с древними богами.
Но помолчите, помолчите вы, предсказательницы и пифии, рано каркать и оплакивать еще не случившиеся несчастья. Пока еще красуется усадьба на вершине увенчавшего мыс невысокого холма, пока еще устремлены в небо гордые вершины елей в парке, еще сверкает под мартовским солнцем заснеженный луг, еще звенит веселый смех графини Элизабет.
По воскресеньям она ходит в церковь в Свартшё, это совсем близко от Борга, и, как правило, приглашает гостей на ужин. Судья из Мункерюда постоянный посетитель этих ужинов, и капитан с капитаншей из Берги, и адъюнкт, и даже нечестивый Синтрам. А если и Йоста Берлинг случайно забредет в Свартшё, она приглашает и его. А почему бы не пригласить и Йосту Берлинга?
Она и понятия не имеет, что уже ходит сплетня: якобы Йоста так часто появляется на восточном берегу не случайно, а чтобы повидать графиню. А может быть, и нет; кто знает, может, его привлекает выпивка и ломберный столик у Синтрама… все может быть; все знают, какой крепкий парень этот Йоста, тело у него отлито из железа, а вот сердце дает слабину. Все знают, что ему достаточно одного взгляда на искрящиеся глаза и локон светлых волос на мраморном лбу, и всё: Йоста уже влюблен по уши.
Молодая графиня очень добра к нему. Впрочем, чему удивляться – она добра ко всем. Может посадить оборванного мальчишку-попрошайку на колени, а если видит по дороге старика, обязательно остановит кучера и подсадит беднягу в свои санки.
Йоста обычно сидит в маленьком, обитом голубыми штофными обоями кабинете, откуда открывается роскошный вид на озеро, и читает графине стихи. Ничего плохого в этом нет; он ни на секунду не забывает, что она графиня, а он – бездомный авантюрист. Йоста почитает ее за святую. Он с таким же успехом мог влюбиться в глиняную царицу Савскую на балюстраде в церкви в Свартшё.
Его самое страстное желание – служить ей, как пажи служат королевам. Он тает от счастья, когда она позволяет ему закрепить шнурками коньки на ботинках, а если принимается за вязание, он с радостью держит моток шерсти на расставленных ладонях. Он управляет ее санками. Нет, ни о какой любви между ними и речи нет – Йоста Берлинг из тех, кого называют поэтическими натурами, он счастлив в этой атмосфере невинных романтических грез.
Молодой граф молчалив и серьезен, Йоста брызжет весельем. Молодой графине очень нравится его общество. Никто, глядя на нее, не скажет, что она вынашивает в своем сердце запретную любовь. Она думает только о танцах и развлечениях. Ей бы хотелось, чтобы земля была совершенно плоской, без всяких камней, гор и озер, чтобы можно было передвигаться по ней, танцуя. Она бы с радостью протанцевала от младенческой колыбели до могилы в тонких шелковых туфельках.
Но слухи, как известно, особенно немилосердны, когда речь идет о молодых женщинах.
После ужина в Борге господа отправляются на половину графа – покурить и подремать, пожилые дамы устраиваются в креслах в гостиной и откидывают свои достойные головы на подголовники, а графиня и Анна Шернхёк идут в голубой кабинет поверять друг другу сердечные тайны.
Анна привезла старую Ульрику назад в Бергу в воскресенье, а в следующее же воскресенье после ужина молодые женщины уединились в кабинете.
Вряд ли найти на земле девушку несчастнее, чем Анна. Куда девалась ее жизнерадостность, веселая задиристость, с которой она отшивала любого, кто пытался завести с ней отношения поближе?
Все, что случилось на заснеженном холме, звон бубенцов, разговоры, Синтрам, бесчувственный Йоста Берлинг, – все погрузилось в сумерки, из которых это наваждение, наверное, и возникло. Она помнила все, но очень смутно, более того, у нее не было уверенности, что все было на самом деле, что это не плод ее больного воображения. Ни одного слова, ни одного отчетливого воспоминания…
Нет, не так. Осталось одно воспоминание, отравившее ее душу.
– А если и в самом деле не Бог? – шептала она про себя. – Если не Бог послал волков?
Она ждала знака свыше, она ждала чуда. То и дело смотрела в небо, внезапно оглядывалась, точно у нее за спиной стоял кто-то, кто помог бы ей решить эту загадку. Но небеса пусты, и земля темна. Ни путеводной звезды, ни огонька в тумане, загадка оставалась загадкой и мучила ее несказанно.
А сейчас она сидела напротив графини, и взгляд ее упал на крошечный голубой букетик подснежников в руке Элизабет. И вдруг ее осенило: она же прекрасно знает, где растут эти подснежники, и знает, кто их собирал.
Словно удар молнии. И спрашивать не надо – голубые подснежники в начале апреля растут только в одном месте: в Экебю, в березовой роще на склоне у берега озера.
Она не может оторвать глаз от голубых звездочек, не оставляющих равнодушным ни одно сердце, от этих крошечных пророков; они прекрасны и сами по себе, но еще прекраснее окружающий их ореол надежды. Они предвещают весну, а та, возможно, еще прекраснее.
Но Анну не трогает нежная, хрупкая красота первых весенних цветов. Она смотрит не отрываясь, и сердце ее закипает гневом, яростным, как рокочущий раскат грома вслед за пронзительной молнией узнавания. По какому праву графиня Дона держит эти цветы, собранные на берегу в Экебю?
Все они заодно. Синтрам, графиня, все вокруг словно сговорились соблазнять Йосту Берлинга всевозможными искушениями, но она его защитит, чего бы это ей ни стоило. Всей кровью сердца она его защитит.
И первое, что надо сделать, – вырвать эти цветы из рук графини, выбросить, растоптать, уничтожить – еще до того, как она покинет этот маленький голубой кабинет.
И начинается борьба не на жизнь, а на смерть с крошечными голубыми звездочками. Дамы в гостиной откинули свои достойные головы на подголовники и ни о чем не догадываются, господа на половине графа наслаждаются трубками – мир и покой в графской усадьбе. И только здесь, в маленьком голубом кабинете, идет отчаянное сражение.
О, как правы те, кто держит руки подальше от рукоятки меча, кто умеет ждать, кто укрощает необдуманные призывы сердца и передает все в руки Господа! Сердце часто ошибается, а зло, как известно, порождает еще большее зло.
Но Анне Шернхёк кажется, что она увидела наконец путеводную звезду.
– Анна, – ласково просит графиня. – Расскажи что-нибудь.
– О чем?
Графиня теребит пальцами нежные лепестки подснежников.
– Неужели тебе нечего рассказать о любви? Как это – любить?
– Нет. Я ничего не знаю о любви.
– Неправда! Разве нет в этих краях места под названием Экебю, где полным-полно кавалеров?
– Такое место есть. Есть место под названием Экебю. Там живут люди, которые высасывают кровь из нашего края, мутят головы, делают людей непригодными к серьезной работе, люди, которые развращают молодежь и отравляют лучшие умы. Ты хочешь послушать про их любовные приключения?
– Еще бы! – Графиня весело рассмеялась. – Мне нравятся кавалеры.
И тут Анна Шернхёк начинает говорить. Она говорит короткими, отрывистыми фразами, с большими паузами, отчего речь ее кажется высокопарной, но на самом деле она изо всех сил пытается унять поднявшуюся бурю. В душе ее все кипит.
Графиня не может не чувствовать непонятной ей страсти, ей страшно и в то же время интересно.
– Любовь кавалера? Вера кавалера? Утром одна возлюбленная, днем – другая. Одна на западе, другая на востоке. Положение женщины в обществе роли не играет – сегодня графиня, завтра нищенка. Нет ничего вместительнее на земле, чем его сердце. Но горе той, кто полюбит кавалера! Она будет находить его пьяным в канаве, ей суждено с ужасом смотреть, как он за карточным столом проигрывает дом ее детей. Ей придется примирится с его ухаживаниями за другими женщинами. О, Элизабет, если кавалер приглашает порядочную женщину на танец, ее долг – отказаться; если он посылает ей букет цветов, ее долг – бросить их на землю и растоптать. А если ее постигло несчастье, если она влюбилась, ей лучше умереть, чем выйти замуж за кавалера. Есть среди них один. Разжалованный пастор. Он лишился сутаны из-за пьянства. Приходил пьяным в церковь. Выпил освященное вино для причастия. Ты разве ничего про него не слышала?
– Нет…
– Его выгнали, и он бродил по стране, попрошайничал и пил. Пил, пил… Мог украсть, лишь бы раздобыть спиртное.
– А как его зовут?
– Его уже нет в Экебю. Майорша подобрала его, отмыла, купила одежду и уговорила твою свекровь взять его учителем к твоему мужу, графу Хенрику.
– Разжалованного пастора? Не может быть!
– Молодой, крепкий, образованный – почему нет? Если бы только он не пил… Графиня Мэрта, кстати, порядком взбалмошна. Ей нравилось дразнить проста, дьякона… но на одном она настояла: дети не должны знать о прошлом своего учителя. Сын перестанет его уважать, а дочь… дочь ее была ангелом, она бы просто не смогла жить с ним в одном доме.
И вот он приехал в Борг. Скромный и почтительный, если присядет, то на самый краешек стула, а если в доме гости, уходит в парк. И там, в пустынных аллеях елового парка, он встречал юную Эббу Дона. Она была не из тех, кто любит шумные застолья, а с тех пор, как графиня Мэрта похоронила мужа, пиры в усадьбе устраивали чуть не каждый день. Эббе не нравились пиры, но она была не строптива. Она не протестовала, кроткая и застенчивая девочка. Ей к тому времени исполнилось семнадцать. Она не отличалась здоровьем, но была очень красива: ясные карие глаза, нежный румянец на щеках. У нее было хрупкое, но стройное тело, она слегка наклонялась вперед при ходьбе, а когда подавала руку, пожатия почти не чувствовалось, она просто вкладывала в вашу руку свои тонкие, изящные пальчики. И маленький, серьезный, вечно молчащий ротик… а если она говорила, то как! Тщательно выговаривала каждое слово, медленно и осторожно. В ее голосе не было девичьей живости, веселья, он звучал приглушенно и вяло, как последний аккорд усталого музыканта.
Она была не похожа на других. Тихая, почти невесомая походка, такая осторожная, что все время казалось, будто она спасается от погони и боится выдать свое присутствие. Глаза всегда опущены, точно она не хотела созерцанием окружающей суеты нарушить покой в величественном храме ее души. Судя по всему, храм этот она построила еще в детстве, и посторонним туда входа не было. Про таких говорят – не от мира сего.
В детстве бабушка рассказывала ей сказки. И однажды вечером сидели они у камина и молчали – сказка кончилась. Братья Карсус и Модерус, добрый тролль Лункентус, прекрасная Мелузина[18] возникли из небытия и, как пламя в камине, медленно угасли. Герои побеждены, красавицы принцессы обуглились и лежат неподвижно, но стоит только растопить камин, и все они вернутся к жизни. Пока бабушка рассказывала эти печальные истории, рука девочки гладила ее шелковую юбку. Шелк – странная ткань: если его погладить особым образом, он попискивает, как маленькая птичка. Эбба так молилась, потому что она была из тех, кто никогда не молится словами.
Сказка кончилась, а спать еще рано. И тогда бабушка начала тихо рассказывать ей историю о ребенке из Иудеи. Когда он родился, пели ангелы, вся земля слышала их пение, потому что мальчику этому суждено было стать великим царем. Короли с востока пришли в Иудею, ведомые светом звезды, и богато одарили дитя золотом и курениями. Старики качали головами и предрекали младенцу славное будущее. Ребенок рос, и другие дети не могли равняться с ним ни красотой, ни умом. Уже в двенадцать лет он превосходил мудростью верховных жрецов и ученых.
Земля не видела ничего прекраснее, чем этот младенец и его деяния, но были и недоброжелатели. Были и завистники, которые никак не хотели признать его своим царем.
Бабушка рассказала, как мальчик стал мужчиной и чудотворцем.
Все живое на земле любило его и поклонялось ему, но только не люди. Рыбы сами приплывали в его сети, хлеб наполнял корзины, вода по его мановению превращалась в вино.
А люди даже не подумали возложить на него подобающий великому царю всех людей золотой венец. Не было в его окружении кланяющихся придворных. Он ходил по земле как нищий, совершал чудеса и, казалось, не замечал, что его ненавидят: лечил больных, возвращал слепым зрение, воскрешал из мертвых.
– Но! – сказала бабушка и подняла палец. – Люди не хотели доброго царя.
Они послали наемников, и его схватили, пока он ужинал со своими учениками. Над ним издевались, надели венец из терновника, рваную мантию и заставили тащить тяжелый крест к месту казни. А толпа насмехалась над ним, и все кричали: «Царь, царь иудейский!»
– О, дитя мое, – сказала бабушка, – как любил он высокие горы! Он взбирался на горы, чтобы поговорить с небесными жителями, с гор проповедовал он, объяснял свое учение. А теперь его вели на гору, чтобы распять. Они прибили его ступни и ладони гвоздями к кресту и оставили доброго царя висеть на кресте, будто он был разбойник и грабитель.
А чернь продолжала насмехаться, только мать и его ученики плакали. Они горевали, что ему суждено умереть, так и не став царем на земле.
А как горевала природа! Солнце потемнело, задрожали скалы, разразилась невиданная гроза и расступились могилы, чтобы умершие могли поделиться своим горем с живыми.
Малышка положила бабушке голову на колени и плакала так, что бабушка пожалела, что рассказала эту историю.
– Не плачь, деточка, – сказала она. – Добрый король покинул свою гробницу и улетел к своему отцу на небеса.
– Бабушка… – всхлипнула девочка. – А он так и не получил царство?
– Он сидит на небесах по правую руку от Господа.
Но девочка плакала так горько и безутешно, как могут плакать только дети.
– Почему они так плохо с ним обошлись? Почему люди такие злые?
Она так рыдала, что старушка испугалась уже всерьез.
– Скажи, бабушка, скажи, что ты выдумала! Все же кончилось по-другому, ведь правда? Люди не могут быть такими злыми с добрым царем! Ведь он получил царство на земле, получил, да?
Она судорожно обняла бабушку, а слезы так и катились ручьями по щекам.
– Деточка моя… – сказала бабушка и задумалась. Как же ей утешить ребенка и не погрешить против правды? – Деточка моя, многие верят, что он вернется, и тогда настанет на земле царство добра и света, и продлится оно тысячу лет.
Даже хищники станут кроткими, дети будут играть с ядовитыми змеями, медведи пастись с коровами. Никто никому не причинит зла, копья согнут в косы, а мечи перекуют на орала. И никогда не покинет землю радость, потому что царствовать будет добро.
Личико девочки немного просветлело.
– А у него будет трон? У доброго короля?
– Конечно! Золотой трон.
– А слуги и придворные? А золотая корона?
– А как же!
– А скоро он вернется?
– Вот этого никто не знает.
– А мне можно будет посидеть у его ног на скамеечке?
– Даже не сомневайся. Обязательно!
– Как я рада, бабушка!
И вечер за вечером, много зим, сидели эти двое, бабушка и внучка, у камина и говорили о добром царе. Малышка готова была говорить о тысячелетнем царстве добра и света ночью и днем и никогда не уставала придумывать все новые детали, как хорошо будут жить люди в этом царстве.
И я хочу сказать вот что: время от времени попадаются молчаливые дети, и мы даже понятия не имеем, что они носят в себя тайны. Такие тайны, о которых они боятся проговориться, и поэтому молчат. Странные и необычные мысли бродят в этих головках. Как много среди этих созданий с вечно опущенными глазами истинных девственниц, которых на небесах дожидаются их женихи… Как много среди них тех, кто ничего так не желает, как сидеть на скамеечке у ног царя вселенной, натирать его ноги розовым маслом и осушать своими светлыми волосами.
Конечно, Эбба Дона никому и никогда об этом не рассказывала, но с того вечера она жила только мечтами о возвращении доброго царя и тысячелетнем царстве добра и света.
Она ждала его. Она ждала, не возникнет ли он из пурпурной дымки заката, в кротком сиянии непререкаемой святости, в окружении миллионов ангелов, и пройдет мимо, и позволит ей прикоснуться к его мантии.
Она с завистью думала о благочестивых женщинах с покрытыми головами, никогда не поднимающих глаз на собеседника, живущих в добровольном заточении в серых катакомбах монастырей. Наверняка в тесных кельях их посещают волшебные видения, возникающие в непостижимом мраке человеческой души.
Такой она росла, такой и осталась, когда в пустынных аллеях парка повстречалась с учителем брата.
– Я не хочу сказать о нем ничего плохого, – продолжила Анна Шернхёк. – Я охотно верю, что он любил этого ребенка, эту девочку, которая выбрала его своим поводырем. Думаю даже, что душа его вновь обрела крылья веры во время долгих прогулок с молчаливой Эббой, которая никогда и никому не доверяла так свою душу, как доверила ему. Думаю, что и сам он чувствовал себя с ней ребенком, добрым, кротким, неиспорченным ребенком.
Но если он и в самом деле любил ее, почему не подумал, что худшего дара, чем его любовь, и представить невозможно? Он, отверженный, что он хотел? О чем думал, бродя по аллеям рядом с графской дочерью? О чем думал лишенный сана пастор, когда она доверчиво рассказывала ему про свои тайные мечтания? Что он хотел? Пропойца и забияка, он наверняка знал, что вернется к этим сомнительным радостям, как только представится случай. Но продолжал серьезно выслушивать ее доверчивые излияния, часами гулял с ней по аллеям – с ней, мечтающей о небесном женихе! Почему он не бежал от нее как черт от ладана? Почему не уехал, чтобы никогда больше не показываться ей на глаза? Не лучше ли было для него бродить по дорогам, воруя и выпрашивая милостыню, чем чинно гулять по графским аллеям, притворяясь скромным и благочестивым молодым учителем? Ведь из жизни не вырвешь прошлые грехи, как листок дневника… И тем более, когда он понял, что Эбба Дона неизбежно его полюбит, неужели он не должен был немедленно исчезнуть из ее жизни?
Только не думайте, графиня, что он выглядел как спившийся бродяга с вялыми серыми щеками и вечно красными глазами. Нет, он был на редкость хорош собой, силен и здоров, даже многолетнее пьянство не смогло победить данное ему Богом роскошное тело. Королевская осанка и стальные мышцы.
– Он еще жив?
– Не знаю… это старая история.
Что-то шевельнулось в душе Анны Шернхёк. Ей вдруг разонравилась вся ее затея. Все равно она никогда не скажет графине, о ком идет речь, так уж пусть лучше думает, что он умер.
– Но тогда-то он был еще молод, – продолжила она свой рассказ. – И наверное, в нем снова пробудилась жажда жизни. Он обладал необыкновенным даром речи, и к тому же у него было пламенное, пылкое сердце.
И как-то вечером он заговорил с ней о любви. Она не поддержала разговор, рассказала только о бабушкиной истории и о царстве своей мечты, как ждет она, что добрый царь вернется на землю. И взяла с учителя слово, что он будет глашатаем слова Божьего, одним из тех избранных, кому выпадет счастье подготовить и ускорить Его приход.
И что ему было делать? Он, лишенный сана священник, станет проповедовать наступление Царства Божьего? Не было другого пути, который был бы для него менее доступен, чем тот, что она предлагала. Но он не решился сказать ей правду, не решился нанести такой удар невинной девочке, которую полюбил всей душой. И пообещал сделать все, что она просит.
После этого никакие слова им были не нужны. Не подлежало сомнению, что в один прекрасный день она станет его женой. Но это была любовь духовная, никаких поцелуев и объятий. Он даже не решался к ней прикоснуться, она казалась ему хрупкой, как лепесток цветка. Но теперь она иногда поднимала свои мечтательные карие глаза, чтобы встретить его взгляд. А он, когда они лунными ночами сидели на веранде, незаметно целовал ее волосы.
Но грех его состоял в том, что он забыл и о прошлом, и о настоящем. Конечно, в пылу любви он мог забыть, насколько он беден и ничтожен. Но что ей в один прекрасный день придется выбрать между и женихом на земле и женихом в небесах, между ним и владыкой тысячелетнего Царства Света и Справедливости, – об этом он не имел права забывать. Для такого хрупкого создания, как Эбба, подобный выбор был не по силам.
Прошло лето, потом осень и зима. Когда пришла весна, Эбба Дона заболела. Снег в долинах развезло, в горах лавины, зимники ненадежные, можно провалиться под лед. И такая распутица, что не проехать ни в санях, ни на коляске. Графиня Дона приказала привезти доктора из Карлстада, ближе ни одного врача не было. Но она могла приказывать сколько угодно – ни приказами, ни просьбами, ни молитвами не могла она уговорить слуг поехать за врачом. Она даже упала на колени перед кучером, но и тот отказался. У графини даже случился припадок – от горя она потеряла сознание и забилась в конвульсиях. Графиня Мэрта не знала меры ни в чем – ни в радости, ни в печали.
А жизнь Эббы была в опасности – у нее началось воспаление легких, надо принимать срочные меры, а врача нет.
За врачом поехал учитель. Поездка была смертельно опасной, но он поехал. Рискуя провалиться, ехал по вздувшемуся, с промоинами весеннему льду, прокладывал путь в сошедших лавинах. Ему приходилось вырубать во льду ступени для коня и помогать тому выбираться из топкой грязи. Поговаривали, что доктор согласился приехать только после того, как учитель пригрозил ему пистолетом.
Когда учитель привез доктора, графиня Мэрта бросилась ему в ноги.
– Бери все что хочешь! – лихорадочно бормотала она. – Бери мою дочь, мое имение, деньги – бери все!
У нее и вправду был безудержный темперамент.
– Вашу дочь, – только и сказал учитель. – Я беру вашу дочь.
Он так и сказал: я беру вашу дочь.
Повторив эти слова, Анна Шернхёк внезапно замолчала.
– А дальше-то что? Что дальше? – нетерпеливо спросила молодая графиня.
– А дальше нечего рассказывать… – промямлила Анна.
Анна Шернхёк была из тех несчастных, кто осужден всю жизнь прожить под гнетом собственных сомнений. Уже целую неделю она не находила себе места, а сейчас поняла, что и сама не знает, что хочет. Вся ее затея, все, что совсем недавно выглядело единственно правильным, оказалось несправедливым и даже подлым. Она горько жалела, что начала этот разговор.
– Мне кажется, ты меня разыгрываешь, Анна. Я же должна знать конец этой истории! Чем все кончилось?
– Я же говорю, особенно нечего рассказывать. Для Эббы Дона настал час смертельного поединка. Любовь восстала против любви, земля бросила вызов небесам.
Графиня рассказала Эббе про совершенный ради нее подвиг молодого учителя и добавила, что в качестве вознаграждения обещала ему ее руку.
Девушка уже была на пути к выздоровлению, она уже лежала не в постели, а на диване, одетой, но была все еще очень бледна и молчаливей, чем обычно.
Она с упреком подняла на мать свои карие глаза и спросила:
– Мама, ты собираешься отдать меня лишенному сана пастору? Человеку, потерявшему право служить Богу? За вора и попрошайку?
Графиня обомлела.
– Дитя мое, кто тебе это сказал? Я была уверена, что ты ничего не знаешь.
– Я случайно услышала разговор твоих гостей. В тот самый день, когда заболела.
– Но подумай сама: он спас твою жизнь!
– Я думаю о том, что он меня обманул. Он сам должен был все мне рассказать.
– Он говорит, что ты его любишь.
– Да, я любила его. Но я не могу любить человека, который меня обманул.
– Чем же он тебя обманул? Утаить что-то не значит обмануть.
– Тебе этого не понять, – прошептала Эбба и замолчала.
Ей вовсе не хотелось рассказывать матери о тысячелетнем Царстве Света ее мечты, мечты, которую ее любимый обещал ей помочь воплотить в жизнь.
– Эбба, если ты его любишь, ты не должна думать о том, кем он когда-то был. Важно, кто он сейчас, и важно, что ты его любишь. Он будет мужем графини Дона, богатым и могущественным. А богатым и могущественным легко прощают грехи молодости.
– Мне нет дела до грехов его молодости, мама. Беда в том, что он никогда не сможет быть тем, о ком я мечтала. И поэтому я не могу выйти за него замуж.
– Эбба! Ты, надеюсь, помнишь, что я дала ему слово?
Девушка побледнела еще сильнее, хотя, казалось, бледнеть уже некуда.
– Мама, если ты выдашь меня замуж за этого человека, ты разлучишь меня с Богом.
– Если я выдам тебя за него замуж, я сделаю тебя счастливой. Я в этом уверена. Ты будешь счастлива с этим человеком. Подумай сама, тебе уже удалось сделать из него чуть ли не святого. Ты думаешь, мне легко забыть, что он беден и презираем, а мы – древнего дворянского рода? Но я закрываю глаза! Я закрываю глаза, чтобы у тебя была счастливая возможность дать ему шанс на исправление! И у меня нет сомнений, что я поступаю правильно. Ты же знаешь, как я презираю предрассудки.
Скорее всего, она произнесла этот монолог потому, что терпеть не могла, когда ей возражают. Но вполне возможно, графиня верила в свои слова. Не так-то легко понять графиню Мэрту.
И с этими словами графиня повернулась и вышла из спальни.
Девушка долго неподвижно лежала на диване. В душе ее продолжалась смертельная схватка земной любви и любви небесной. Но победил в этой схватке принц ее детских фантазий. На западе разгорался многоцветный, пурпурный и бирюзовый, роскошный закат. И бедная девочка решила, что ее небесный возлюбленный подает ей знак. И поскольку мать ее уже приняла решение и у нее не будет возможности служить Ему так, как она мечтала всю свою недолгую жизнь, Эбба решила умереть. Что еще она могла сделать, если мать заставляет ее связать судьбу с человеком, которому никогда не суждено стать провозвестником доброго царя человечества?
Она подошла к окну и открыла его настежь. Сырые и зябкие сумерки заключили в свои смертельные объятия хрупкое, ослабленное болезнью тело.
Для нее не составило труда навлечь на себя смерть – болезнь, как и следовало ожидать, вернулась с удесятеренной силой.
– Никто, кроме меня, не знает, что она искала смерти. Я нашла ее у окна, Элизабет. Я слышала ее лихорадочный бред. Она очень привязалась ко мне в ее последние дни. И я видела, как она умирала. Снова был закат. Она протянула руки к полыхающему горизонту и умерла. Умерла с улыбкой, словно и в самом деле увидела, как раздвинулся багровый занавес и появился Он, царь земной и небесный, готовый принять ее в свои объятия. И именно мне она поручила передать тому, кого она любила, что Небесный Повелитель не позволил ей стать его женой. Но я не решилась. Я не решилась сказать ему, что он убил ее. Не решилась взвалить на его плечи эту чудовищную ношу. И конечно же он ее не убивал. Но он, тот, который ложью завоевал ее любовь, – разве он не убийца, Элизабет?
Графиня давным-давно перестала теребить подснежники и сидела с каменным лицом, боясь пропустить хоть слово. А при последних словах встала, и букетик подснежников свалился на пол.
– Теперь я знаю, Анна, что ты меня разыгрываешь. Какая же это старая история, если Эбба умерла пять лет назад? И ты еще была ее наперсницей! Тебя тоже старой не назовешь. Скажи же мне, кто был этот человек… этот учитель?
Анна Шернхёк внимательно посмотрела на молодую графиню и рассмеялась.
– Ты же хотела услышать любовную историю. Вот и услышала. Забеспокоилась и даже слезу пролила.
– Что ты хочешь сказать? Что ты все это выдумала?
– Конечно! Все это – сплошные фантазии.
– Ты злая.
– Что ж… может быть, может быть. Но и счастливой меня не назовешь. Знаешь, дамы, должно быть, уже проснулись и господа накурились своих трубок и вернулись в салон. Пойдем, пожалуй.
На пороге их остановил Йоста Берлинг – оказывается, он их разыскивал.
– Хочу испытать ваше терпение, – сказал он, смеясь, – помучаю минут десять. Вы должны послушать мое сочинение.
И рассказал, что ночью ему снились такие яркие сны, что он написал стихи. Его называют поэтом, но он до сегодняшнего дня не написал ни строчки, так что это всего-навсего прозвище. А сегодня ночью, то ли во сне, то ли наяву, начал писать. Но оказалось, наяву, потому что утром обнаружил у себя на столе целую поэму.
– Никогда бы не подумал, что способен на такое. Послушайте!
И прочитал следующее:
Волшебный час! Прозрачная луна
Позолотила лилии в вазоне,
Несмелая вечерняя роса
Рассыпала алмазы на газоне…
И мы с тобою вышли на веранду,
Увитую плющом и виноградом,
Туда, где своевольная лоза
Развесила гирлянды. Где-то рядом,
В неразличимых зарослях лигустры,
Пел соловей. И пели наши чувства
В тот дивный час, когда взошла луна.
Льет резеда печальный аромат.
Из сада на истертые ступени
Спешат узорные, изменчивые тени…
Так дух, покинув тела каземат,
Спешит взлететь в небесные сады,
Стремится ввысь к свободе и спасенью…
Кто устоит перед соблазном счастья?
Кто устоит перед волшебной властью
Ночных теней, печальной резеды?
Как в жертву наступающей зиме
Приносят розы лепестки сухие,
Так мы хотели бы без жалоб, без забот
Истаять, раствориться без следа
В безмолвной и загадочной стихии,
Как поутру последняя звезда…
Ах, слишком долго мы, за годом год,
Тревожили покой природы вечной.
Пора и нам в стихии бесконечной
Рассеяться, не ведая тоски,
Как этих роз сухие лепестки.
Летучей мыши острый силуэт
Мелькнул на фоне лунного подноса
И тут же, словно не было его,
Исчез. Мелькнул – и больше ничего,
Как привиденье вечного вопроса,
Который так же вечно ждет ответ:
Куда исчезнем мы, когда земные тропы
Исходим до конца? Куда направим стопы?
А может быть, истаем, словно этот
Летучей мыши острый силуэт?
И ты, склонившись к моему плечу,
Промолвила застенчиво и нежно:
– Нет, участи такой я не хочу,
Когда умру, а это неизбежно,
Моей душе сужден иной маршрут,
И ангелы ее не унесут:
Она в твоей душе найдет приют!
…Ты умерла. Я часто прихожу
На эти старые, истертые ступени.
Но если светит полная луна —
Покою нет душе моей. Она
Рождает на песке все те же тени:
И радость, и печаль, и грех, и искупленье…
Создатель кару на меня обрушит,
И страшной казнью буду я казним
За то, что чистую и праведную душу
Лишил надежды на свиданье с Ним!
– Йоста, – сказала Анна шутливо, хотя у нее перехватило горло, – о тебе говорят, что ты пережил в жизни больше поэм, чем написал самый плодовитый поэт, который ничем больше не занимался. Но знаешь, тебе лучше придерживаться своего способа сочинять поэмы – жить, как живешь. Мало ли что придет в голову, если не спится.
– Не особенно снисходительно.
– И не стыдно тебе? Пришел и читаешь про смерть, про горе, про страдания.
Но Йоста уже не слушал. Он смотрел на молодую графиню. Она сидела совершенно неподвижно, как изваяние, и побледнела так, что ему показалось, что она сейчас упадет в обморок.
Но в обморок она не упала, а с невероятным трудом выдавила только одно слово:
– Уходите!
– Кто? Я? Я должен уйти?
– П-п-пастор… – Она ни с того ни с сего начала заикаться.
– Элизабет, замолчи! – закричала Анна.
– Спи… спившимся пасторам, лишенным сана, не место в моем доме!
– Что она имеет в виду, Анна? – спросил совершенно растерявшийся Йоста.
– Тебе лучше уйти, Йоста.
– Но почему? Что все это значит?
– Скажи ему, Анна, скажи ему… – Графиня уже не заикалась, но, похоже, была близка к истерике.
– Нет уж, графиня, скажи сама!
Молодая графиня сжала зубы и несколько мгновений помолчала, собираясь с духом.
– Господин Берлинг, – она подошла к Йосте чуть не вплотную, – у вас удивительная способность! Вам каким-то образом удается заставлять людей забывать, кто вы есть на самом деле. И я ничего не знала до сегодняшнего дня. Я только что услышала рассказ о смерти Эббы Дона. Она умерла, потому что полюбила недостойного ее любви человека. Ваша поэма, господин Берлинг, открыла мне глаза. Человек, которого она полюбила и который убил ее, это вы. И я не понимаю, как решается человек с вашей биографией показываться в обществе достойных дам. Надеюсь, я выразила свою точку зрения предельно ясно.
– Яснее некуда, графиня. В свою защиту могу сказать только одно. Я был уверен, что вы все обо мне знаете. Я никогда и ничего от вас не скрывал, но, как вы понимаете, кричать на всех углах об одном из самых горьких событий в моей жизни по меньшей мере странно. Тем более мне самому.
Он повернулся и ушел.
И в этот самый миг графиня наступила своей маленькой ножкой на букетик подснежников, похожих на голубые звезды, и растерла его в прах.
– Вот этого я и хотела, – холодно сказала Анна, – но с этой минуты нашей дружбе конец. Не думай, что я смогу тебе простить, как ты обошлась с Йостой. Ты указала ему на дверь, ты оскорбила его, ты была жестока, ты издевалась над ним! Над ним, за кем я готова идти хоть в тюрьму, хоть к позорному столбу! Никому, кроме меня, не дозволено охранять его от ударов судьбы. Ты сделала, как я хотела, но я тебе этого не прощу.
– Но Анна, Анна!
– Ты думаешь, я поведала тебе всю эту историю для развлечения? Ты думаешь, у меня не разрывалось сердце, пока я тебе рассказывала?
– Но тогда зачем? Зачем?
– Зачем? Затем, что я не хочу, чтобы он стал любовником замужней дамы.
Мамзель Мария
Тише, умоляю вас, тише!
Что-то жужжит над головой. Должно быть, шмель. Тише, тише, не двигайтесь с места! Вы чувствуете этот аромат? Его ни с чем не спутаешь! Лимонная полынь, которую в народе называют божьим деревом, лаванда, черемуха, сирень, нарциссы… Какая роскошь – вдыхать этот запах серым осенним вечером в городе! И не так много нужно – всего-то представить этот клочок земли, и тут же начинает жужжать шмель, реют ароматы… и я без всякого труда переношусь в крошечный квадратный цветник, защищенный со всех сторон кустами лигустры. В углу – беседка из подстриженных кустов сирени и маленькая скамеечка. Между цветочных грядок в форме сердечек и звезд узенькие тропинки, посыпанные морским песком. С трех сторон цветник окружен лесом. Ближе всего к садику полуодомашненные рябины и черемуха, они очень красиво цветут и добавляют свой медовый аромат к благоуханию сирени. За ними ряды берез, а еще подальше начинается ельник, настоящий ельник, тихий, темный и сказочный.
А с четвертой стороны, там, где нет леса, стоит небольшой серый дом.
Цветник, куда мне так легко перенестись в мыслях, в двадцатые годы девятнадцатого века принадлежал госпоже Мореус из Свартшё. Она стегала и вышивала для хуторян одеяла, готовила праздничные обеды и этим зарабатывала на жизнь.
Дорогие мои подруги, если вы спросите, что бы я хотела пожелать вам для счастья, я в первую очередь назову две вещи: пяльцы и цветник. Не те маленькие, круглые пяльцы, на которых нынешние дамы вышивают крестиком для развлечения, а старинные, расшатанные временем, большие деревянные козлы с рамкой, клиньями и дубовыми винтами с полустертой резьбой. За такие пяльцы хоть пять человек садись, места всем хватит, а как весело работать наперегонки, жевать печеные яблоки, да еще и хвалиться, у кого с изнанки петли легли лучше. А можно сыграть в «кому в Гренландию» или в фанты с колечком и хохотать так, что перепуганные белки в лесу замертво падают в снег. Да-да, дорогие подруги, ничего больше для счастья не нужно. Пяльцы зимой, цветник летом. Не сад, а именно цветник; всю радость от сада отравит мысль, сколько денег вы на него угрохали. Цветник! Такой цветник, чтобы вам не нужно было нанимать садовников и декораторов, цветник, за которым вы сами и будете ухаживать, и не надрываться при этом, а получать удовольствие. Посадите на кочки шиповник, у его корней приютятся незабудки. И пусть растут где попало, хоть на траве, хоть на дорожке, большие, легкомысленные маки. Их и сажать не надо, они сами себя сажают, где хотят. И не забудьте насыпать торфяной каскад в виде диванчика и посадить там аквилегию и императорский рябчик – и на сиденье, и на спинке.
А старая госпожа Мореус в то время обладала немалыми сокровищами: у нее были три веселые и усердные дочери, домик у дороги, кое-какие сбережения, спрятанные на дне сундука, несколько шелковых шалей, кресло с высокой прямой спинкой, а самое главное, разнообразные знания и умения, без которых не обойтись, если зарабатываешь на жизнь своим трудом. Но больше всего она дорожила старинными пяльцами, именно такими, какие я описала в предыдущем абзаце, и, конечно, цветником, который она называла «розарий».
Теперь самое время рассказать, что в домике фру Мореус жила еще и маленькая, сухонькая мамзель[19]. Она снимала торцевую комнатку в мезонине. Мамзель Мария, как ее называли, имела свое мнение по поводу всего на свете. Впрочем, те, кто много времени проводит в одиночестве и размышлениях, всегда имеют свое мнение, потому что опровергнуть его некому.
Мамзель Мария, к примеру, была твердо уверена, что любовь – источник всех бед и несчастий в нашем и без того печальном мире. Каждый вечер перед сном она опускала голову на сложенные ладони и молилась. Сначала традиционные молитвы, «Отче наш» и «Господи, благослови», а под конец всегда просила Бога оградить ее от мытарств любви.
– Я стара, бедна и некрасива, – обычно говорила мамзель Мария. – Не хватало ко всему этому еще и влюбиться! Избавь меня, Боже, от любви!
Она работала с утра до ночи. День за днем. Вышивала шторы и скатерти красивым рельефным узором и продавала – и хуторянам, и арендаторам, и господам. Рассчитывала вышиванием скопить на собственный домик.
Она уже присмотрела место: высоко на холме напротив церкви в Свартшё, оттуда открывается роскошный вид на окрестности. Это была ее затаенная мечта. Но о любви она даже слышать не хотела. Упаси Господи!
Если она, к примеру, летним вечером слышала звуки скрипки с перекрестка, делала большой крюк лесом. Опять собралась молодежь, скрипач устроился на перекладине забора и наигрывает на своей немудреной скрипке, а парни и девушки отплясывают польку. Нет уж, лучше не видеть и не слышать.
На второй день Рождества в домике госпожи Мореус обычно собирались пять-шесть деревенских невест. Всем известно: никто лучше госпожи Мореус и ее дочерей подвенечный наряд не сошьет. И каждый раз они доказывали, что не зря за ними идет такая слава: и миртовый венок, и подвенечная шелковая корона с вышитыми бисером узорами, роскошный шелковый же кушак, на груди – букет роз, сделанных так искусно, что их хотелось понюхать. Подол украшен гирляндой цветов из тафты, таких мелких, что вся окантовка напоминает сутаж. Восторг, да и только; но мамзель Мария никогда не спускалась вниз. Ей не хотелось смотреть на всю эту суету, потому что вся эта суета была во имя любви.
Но когда девицы Мореус зимними вечерами сидели у пяльцев и вышивали очередное покрывало, когда гостиная налево от прихожей лучилась домашним уютом, когда яблоки, подвешенные в камине, покрывались мелкими капельками пота, желтели и морщились, когда забежавший на огонек красавец Йоста Берлинг или добродушный Фердинанд помогали вдевать нитки в иголки и смешили девушек так, что стежки получались кривыми, когда непрерывно звенели смех и шутки и все откровенно предавались невинному флирту, мамзель Мария не выдерживала, сворачивала работу и уходила из дома. Она ненавидела все проявления любви, все пути, которые она, эта любовь, выбирает. Даже самые невинные.
Мамзель знала, какие беды приносит людям любовь. Она многое могла бы порассказать. Мало того, ей было удивительно, как она, эта любовь, до сих пор решается показываться на земле, как ее не отпугивают жалобы брошенных и проклятия бросивших, как она выносит стоны пленников, скованных ее цепями. Она не понимала, как ее, эту любовь, до сих пор держат крылья, почему она не рухнет раз и навсегда в пропасть, у которой нет ни имени, ни дна.
Нет, конечно, и мамзель Мария была молода когда-то, но и тогда она ненавидела любовь. Никогда не позволяла она увлечь себя танцами и флиртом, пусть даже шутливым.
Гитара, подарок матери, висела на чердаке уже много лет, расстроенная и пыльная. Она к ней почти не прикасалась и уж подавно не пела песен о любви. На окошке стоял розовый куст, тоже подарок матери, но поливала она его редко и неохотно. Она не любила цветы – символы любви. Среди пыльных веток сновали пауки, а о бутонах и говорить нечего – бутоны и тем более цветы не появлялись никогда.
А в цветнике госпожи Мореус пели птицы и порхали бабочки, цветы своими чарующими ароматами слали любовные послания висящим над ними пчелам. Но мамзель Мария никогда не заходила в цветник.
В один прекрасный день церковная община решила приобрести для церкви орган. Дело было летом, как раз в тот год, когда в Экебю правили кавалеры. Приехал молодой органных дел мастер – собрать орган дело непростое. Он тоже поселился у фру Мореус – в той же мансарде, что и мамзель Мария, но с другой стороны.
Когда орган был собран, выяснилось, что в регистре фагота он издает такой грозный рык, что мирно поющие псалмы дети начинали плакать горькими слезами.
Конечно, у прихожан появились сомнения – того ли они мастера пригласили? Но парень был настолько веселый и приветливый, с солнечным огоньком в глазах, что профессиональные промахи ему охотно простили. Для каждого находил доброе слово, для бедных и богатых, для стариков и детей. Он мгновенно подружился с семьей хозяйки… скажем так: даже больше, чем подружился.
Когда по вечерам он приходил с работы, он помогал фру Мореус мотать шерсть, с удовольствием работал вместе с девушками в розарии, декламировал «Акселя» и пел «Фритьофа»[20]. А сколько раз поднимал он вечно скатывающиеся с колен мамзель Марии клубки! Мало того, даже починил ей замершие много лет назад настенные часы!
Никогда он не уходил с бала, не потанцевав со всеми дамами, от почтенных матрон до юных дебютанток, а если что-то его огорчало, он присаживался к оказавшейся рядом женщине и поверял свои горести. Одним словом, мужчина, которого можно разве что намечтать. И хотя он никому не раздавал любовных авансов, через три недели после того, как он поселился в мансарде у фру Мореус, все три ее дочки в него влюбились. И даже мамзель Мария, бедная мамзель Мария вдруг осознала, что молитвы ее не были услышаны.
Это были недели веселья и грусти. Слезы капали на растянутые на пяльцах покрывала и смывали намеченный мелом узор. По вечерам какая-нибудь из мечтательниц уединялась в сиреневой беседке, а мамзель Мария у себя в комнатушке трогала струны гитары, вспоминая томные любовные песни, которые она слышала от матери.
А молодой органных дел мастер, казалось, ничего не замечал. Веселый и беззаботный, он рассыпал направо и налево улыбки и мелкие услуги, а девушки, едва он уходил возиться со своим органом, тут же начинали спорить, кому он улыбнулся.
И настал день – орган более или менее налажен, басовая труба перестала рычать. Время прощаться.
Повозка стоит у дверей, большой саквояж приторочен на запятках. Настало время прощаться. Органист поцеловал руку госпоже Мореус, обнял по очереди и расцеловал в щечки плачущих девушек. Даже и сам всплакнул – уж больно солнечное и радостное выдалось лето, когда он жил, окруженный всеобщей любовью, в сером маленьком доме у дороги. Со всеми попрощался и огляделся – а где же мамзель Мария?
И тогда она спустилась по старой чердачной лестнице. На ней было ее лучшее платье, на шее на широкой шелковой ленте изумрудного тона висела гитара, а в руке – маленький букетик роз. Да-да, в то лето произошло чудо: куст роз, оставленных ей матерью, внезапно зацвел!
Она остановилась перед молодым человеком, вставила букетик в петлю его сюртука, взяла нежный, гармоничный аккорд и спела вот что:
Ты уезжаешь… что же, уезжай,
Но уезжаешь ты не навсегда,
Запомни: ты вернешься в этот край:
Моя любовь вернет тебя сюда!
После этого она подошла поближе и, встав на цыпочки, поцеловала своего избранника в губы.
После чего мамзель Мария, старая дева, поднялась по лестнице на чердак и растворилась в темноте за дверью.
Любовь отомстила ей. Конечно же все посмеялись от души. Но она никогда не жалела о том, что сделала. И никогда больше не проклинала любовь, и никогда не прятала гитару на чердак. И никогда не забывала поливать и обрезать розовый куст. Откроем секрет – она начала поливать его еще весной, когда приехал ее избранник. Иначе розы ни за что бы не зацвели к его отъезду.
И самое главное – она научилась любить любовь со всеми ее муками, слезами и неутолимой тоской.
– Лучше горе, но с любовью, чем покой, но без любви, – произносила она нараспев и улыбалась чему-то.
* * *
Время шло. Майорша бродила по дорогам, у руля Экебю стояли кавалеры, и, как я недавно рассказывала, Йоста Берлинг прочитал свою поэму графине и был изгнан из ее дома.
Говорят, в тот самый миг, когда Йоста в сердцах хлопнул дверью графской усадьбы, во двор въехала вереница саней. Он заметил миниатюрную даму, сидевшую в первых санях, и настроение, и без того скверное, испортилось окончательно. Он попытался улизнуть, чтобы его не заметили. Неужели разговор там, в голубом кабинете, накликал приезд этой дамы? Вот уж воистину беда не приходит одна.
Но вот уже выскочил слуга расстегивать укрывающие ноги одеяла, отброшены меховые полости. Кто же приехал? Кто эта маленькая женщина, выходящая из саней? Конечно же знаменитая графиня Мэрта Дона!
Самая веселая, самая сумасбродная женщина в Вермланде. Все радости мира посадили ее на трон и сделали своей королевой, а подданными ее стали игры и развлечения. Когда раздавали лотерейные билеты жизни, на ее долю выпали забавы, музыка, танцы и приключения.
Ей уже под пятьдесят, но она не из тех, кто задумывается о возрасте.
– Кто не может пройтись в танце или растянуть губы в улыбке, тот и старик, – говорила она, – только тот и чувствует гнет прожитых лет. Ко мне это не относится.
Нельзя сказать, чтобы юность ее была так уж безоблачна и безмятежна, но любые, даже серьезные жизненные неурядицы только подзуживали ее к беспрерывным развлечениям.
Сегодня она, расправив яркие, как у бабочки, крылья, пьет кофе с придворными дамами в королевском замке в Стокгольме, завтра в мужском фраке и с тростью в руках танцует в Париже. Она не испугалась осмотреть полевой лагерь армии Наполеона, плавала с флотом адмирала Нельсона в Средиземном море, была на Венском конгрессе и даже решилась поехать на бал в Брюссель накануне известного сражения при Ватерлоо.
И где едва лишь проклевывались первые ростки Ее Величества Забавы, без участия графини не обходилось. Танцуя, с шутками и играми металась она по миру. Чего только она не видела, чему не была свидетельницей! Могла, сделав неловкое па, опрокинуть трон, играла в экарте, где ставкой было немецкое герцогство, а шутки ее иной раз служили причиной кровавых войн. Веселье и развлечения – вот из чего состоит ее жизнь, и, похоже, так будет продолжаться вечно. Тело графини Мэрты нисколько не утомилось от танцев, а сердце – от любовных приключений. И когда же устанет она от маскарадов и комедий, от веселых историй и сентиментальных романсов?
А когда ее богиня Развлечение внезапно оказывалась бездомной в обратившемся в сплошное поле битвы мире, а случалось и такое, тогда она приезжала в свое родовое поместье на длинном и узком озере Лёвен. Ей надоедали герцогские дворы, немыслимо скучные разговоры о Священном союзе[21] и прочей, с ее точки зрения, чепухе.
Во время одного из таких наездов она и пригласила Йосту Берлинга учителем к своему сыну. Впрочем, она и в Борге не скучала. Здесь Ее Величество Забава чувствовала себя превосходно. Песни, игры, мужчины, для которых романы и приключения составляли смысл жизни, прекрасные, веселые женщины. Балов и приглашений хватало, а что может быть лучше лодочных прогулок по ночному озеру? Или катания на санях в лесу? А бесконечные любовные драмы, трогательные и трагические?
Но после смерти дочери она ни разу не была в Борге. Только через пять лет решилась приехать – посмотреть, как ее невестка чувствует себя среди еловых лесов, медведей и огромных, как горы, сугробов. Она посчитала за долг приехать и убедиться, что этот болван Хенрик не довел хорошую девочку до сумасшествия своим занудством. Ей предстоит сыграть роль кроткого семейного ангела. Солнечное сияние и удача упакованы в сорок кожаных чемоданов, развлечения – ее верные камеристки, игры – ее компаньонки, а экипажем правит шутка.
Графиню встретили с распростертыми объятьями. Ее комната в первом этаже уже приготовлена. Ее служанка, ее компаньонка и ее камеристка, сорок чемоданов, тридцать шляпных коробок, несессеры, шали и шубы – все со временем с шумом и гамом перекочевало в дом. Хлопанье дверей, беготня по лестнице – никаких сомнений: приехала графиня Мэрта.
* * *
На дворе стоял весенний вечер, настоящий весенний вечер. Хотя апрель еще не кончился, даже лед не вскрылся, было тепло, в воздухе стояла легкая весенняя свежесть. Мамзель Мария открыла окно в своей мансарде, взяла гитару и попробовала вспомнить слышанные ею любовные песни.
Она так увлеклась, что даже не заметила, как во двор въехала коляска и остановилась у дома. В коляске сидела графиня Мэрта. Она с удовольствием понаблюдала за мамзель Марией, как та, с возведенными к небу очами, напевает старые, запетые до дыр песенки.
Полюбовавшись на одинокую влюбленную, графиня прошла в дом, где за пяльцами сидели все три дочери фру Мореус. Графиня никогда не отличалась надменностью; было бы странно, если бы она, надышавшись ветрами стольких революций, сохраняла глупую аристократическую высокомерность. К тому же она была очень восприимчива; ей нравился новый, демократический, как теперь его называли, стиль общения с простым народом.
– Я же не виновата, что родилась графиней, – обычно говорила она.
Ей было одинаково весело и на придворном балу, и на деревенской свадьбе. Разыгрывала парижские фарсы для служанок, когда не было под рукой других зрителей. Едва только появлялось в обществе ее миниатюрное личико, сразу всем становилось веселее – она словно сеяла вокруг себя незаметные, но чрезвычайно заразные микробы смеха и радости.
Она заказала покрывало, похвалила девушек, рассказала про свои путешествия, которые никогда не обходились без приключений, похвалила розарий и, наконец, решилась подняться по невероятно узкой и крутой лестнице в мансарду к мамзель Марии.
Мамзель Мария была очарована – она никогда даже думать не могла, что аристократка может быть такой обходительной: живые, улыбчивые глаза, чарующий мелодичный голос.
Графиня купила у нее гардины. Она не может жить в Борге без чешуйчатых рельефных гардин на всех окнах, просто не может. А на всех столах будут вышитые мамзель Марией скатерти.
Вслед за этим графиня попросила гитару и спела мамзель Марии пару романсов о радостях любви. А потом долго рассказывала ей всякие истории, и мамзель невольно перенеслась в чужой, но заманчивый, пузырящийся и искрящийся, как шампанское, мир. И голос у графини был такой музыкальный, что замерзшие птицы запели в розарии, и лицо… лицо ее зачаровало мамзель, хотя красивым его назвать было нельзя из-за обилия всяких пудр и притираний. У мамзель Марии мелькнула странная мысль: зеркало в ее комнатушке, поймав своей гладкой поверхностью такое великолепное отражение, уже ни за что его не отпустит.
Графиня на прощание поцеловала мамзель Марию и пригласила ее в Борг.
Бедная мамзель! Она почувствовала, как пусто ее сердце, пусто, как ласточкино гнездо под Рождество. До этого сердце было свободно, но оно тосковало по оковам, как в старое время иной раз тосковало по оковам сердце отпущенного на волю раба.
И опять для мамзель наступило время веселья и грусти, но на этот раз длилось оно недолго: всего восемь дней.
Графиня в эти дни постоянно привозила ее в Борг. Рассказывала о своих поклонниках, да так смешно и живо, что мамзель Мария хохотала, как не хохотала ни разу в жизни. Они стали лучшими подругами. Конечно же мамзель рассказала ей об органном мастере, о том, как она с ним попрощалась.
Как-то в сумерках графиня посадила ее на широкий подоконник в маленьком голубом кабинете, чуть не насильно повесила на шею гитару и попросила спеть несколько песен о любви. А сама села напротив, смотрела, как карикатурно на фоне роскошного темно-розового заката выглядит маленькая тощая фигурка с некрасивой головой на длинной шее, и мысленно потешалась, говоря ей, что она похожа на средневековую леди, ожидающую в замке своего прекрасного рыцаря. Мамзель писклявым голоском пела о нежных и преданных пастушках и о жестоких пастухах, и можно понять, как развлекала графиню вся эта комедия.
Вскоре после приезда графини Мэрты в Борге давали бал. Как всегда, очень веселый, хотя народу было немного – только соседи. Столовая была внизу, и после ужина гости не пошли, как обычно, наверх, а собрались тут же, рядом с залом, в комнате графини. Графиня взяла гитару и предложила спеть для общества. Она была способная дама, графиня, и в том числе у нее был талант имитатора. Она могла передразнить кого угодно. А сейчас ей пришла в голову мысль сымитировать мамзель Марию. Она завела глаза к небу и начала петь тонким, визгливым голосом.
– Прошу вас, не надо, графиня! – взмолилась мамзель.
Но графиня расшалилась, ей было весело, и всем было весело, хотя многие и чувствовали неловкость: им было жаль бедную мамзель.
А графиня тем временем подошла к вазону с сухими розами, сгребла горсть лепестков и трагической походкой, делая вид, что вот-вот упадет в обморок от охвативших ее чувств, подошла к мамзель Марии и, немилосердно утрируя, спела:
Ты уезжаешь… что же, уезжай,
Но уезжаешь ты не навсегда,
И знай, что ты вернешься в этот край:
Моя любовь вернет тебя сюда!
И высыпала сухие лепестки на голову мамзель.
Гости засмеялись. А мамзель Мария дрожала от ярости, похоже было, сейчас она выцарапает графине глаза.
Но она сдержалась. А сказала она вот что:
– Вы мерзкая женщина, графиня. На месте порядочных людей я бы воздержалась от общения с вами.
Графиня побледнела от гнева.
– Убирайся-ка отсюда! – крикнула она. – Хватит с меня придурков!
– Я уйду с большой охотой, графиня. Но сначала заплатите мне за гардины, которые вы здесь повесили.
– Эти старые тряпки мне не нужны! Она хочет, чтобы я заплатила ей за старые тряпки! Забирай их с собой, я больше не хочу их видеть!
Она сорвала с багетов гардины, смяла в комок и швырнула под ноги мамзель. Туда же полетела и пара скатертей. Графиня была вне себя от ярости.
На следующий день молодая графиня умоляла свекровь помириться с мамзель Марией, но та была непреклонна.
– Хватит с меня! – только и повторяла она. – С меня хватит!
И тогда молодая графиня Элизабет поехала к мамзель Марии, купила, не торгуясь, все гардины и повесила их на втором этаже в усадьбе. Так что справедливость восторжествовала.
А графиня Мэрта долго подтрунивала над любовью невестки к чешуйчатым гардинам. Она умела прятать свои чувства, особенно ненависть. Она была очень одаренная женщина.
Кузен Кристофер
Во флигеле у кавалеров жил орел. Старый и немощный, но все же орел. Он постоянно сидел в каминном углу и смотрел на огонь, словно опасался, что тот может погаснуть. Небольшая голова с крючковатым клювом и печальными полуприкрытыми глазами, шея укутана в пышный когда-то воротник. Орел не обращал внимания на смену сезонов – он носил свою шубу и зимой и летом.
Когда-то он принадлежал к стае великого императора, наводившей ужас на всю Европу, но имя его и титул никто не решался назвать. В Вермланде знали только, что он не пропустил ни одной великой битвы, что сражался отчаянно храбро, как и положено орлу, но после 1815 года вынужден был покинуть неблагодарное отечество. Он искал защиты у шведского кронпринца, и тот надоумил его скрыться в лесах Вермланда. Что ж, такие времена: он, чье имя наводило ужас на всю Европу, теперь должен радоваться, что, когда заходит речь об этом легендарном герое, никто и не подумает, что речь именно о нем.
Он дал кронпринцу слово не покидать Вермланд и никому не называть свое настоящее имя, и принц написал письмо майору из Экебю с самыми лестными рекомендациями. И флигель кавалеров принял еще одного жильца.
Поначалу многие дивились, что это за важная птица живет здесь под чужим именем, но постепенно, не сразу стал он истинным вермландцем и уж конечно истинным кавалером. Почему-то все называли его «кузен Кристофер», причем никто не знал, откуда, собственно, взялось это имя.
Но для такой могучей и свободолюбивой птицы жизнь в клетке тяжела. И это можно понять: орел привык совсем к другим поворотам жизни, для него кажется диким и унизительным прыгать с шестка на шесток и принимать корм из рук заботливых хозяев. Призраки кровавых битв и смертельных опасностей все еще горячили его остывающую кровь. Мирное время было ему отвратительно.
И хотя остальных кавалеров тоже не назвать ручными канарейками, ни в ком из них не полыхали такие страсти, как в кузене Кристофере. Единственное, что как-то возрождало в нем жизненные силы, – медвежья охота. И женщины.
Вернее, одна женщина.
К нему словно вернулась молодость, когда он десять лет назад увидел графиню Мэрту, которая к тому времени уже овдовела. Графиня Мэрта – изменчивая, как военное счастье, возбуждающая, как опасность, брызжущая радостью, соблазнительная, как победа.
Он полюбил ее.
А сейчас кузен Кристофер сидел у огня, постаревший и поседевший, и знал, что теперь уже никогда не сможет взять ее в жены. Он не видел ее уже пять лет. Он чах и медленно умирал, как, впрочем, всегда и бывает с орлами в неволе. С каждым годом словно усыхал, покрывался морщинами. В последнее время стал сильно зябнуть и почти все время проводил у камина, глядя на огонь из-под тяжелых полузакрытых век.
* * *
Утром того дня, когда вечером загремят пасхальные выстрелы, когда будут жечь чучело ведьмы, он сидел, вялый, замерзший, с всклокоченными седыми волосами. Сидел в одиночестве – все кавалеры разбежались по своим кавалерским делам. Все, кроме него, – он остался дома и мрачно смотрел на скупое пламя камина.
О, кузен Кристофер, кузен Кристофер! Разве ты не знаешь? Посмотри вокруг!
С улыбкой пришла она, соблазнительная и манящая весна.
Природа просыпается от тяжкого зимнего сна, в голубом небе порхают весенние ангелы с крыльями бабочек и затевают свои веселые игры. Как цветы на кусте дикорастущих роз, повсюду появляются их веселые мордашки меж легкими, едва намеченными белыми штрихами облаками.
Земля оживает. Сонная, как дитя, она поднимается из ванны разливающихся рек, выходит из-под душа весенних дождей, и даже камни рассыпают вокруг себя фонтаны солнечных искр. Каждая кварцевая песчинка шепчет: скорее, скорее, жизнь начинается снова! Скоро, скоро полетим мы с ветром в прозрачном воздухе, засверкаем на розовых щечках юных девушек!
Беззаботные ангелы весны проникают с водой и воздухом в душу, заползают, как угри, в кровь, заставляют сердце биться быстрее и сильнее. Сердца людей, сердца зверей, цветы – все, что может жить, двигаться и дышать, – все им мило, всюду хлопочут они своими бабочкиными крыльями и вызванивают, как колокольчики: «Желать и радоваться! Желать и радоваться! Для чего же еще нужна весна?»
Но кузен Кристофер не шевелится. Он не понимает языка ангелов весны.
Он прячет голову в окоченевшие руки и мечтает о дожде пуль, о битвах чести, о славе, растущей с каждым новым сражением. Ему видятся триумфальные лавры и венки из роз, которым, чтобы цвести вечно, вовсе не нужна бледнолицая северная весна.
Жаль, жаль его, старого воина. Сидит он во флигеле один, без соотечественников, без родного языка, и кончится все для него безымянной могилой на погосте в Бру. Разве виноват он в том, что родился орлом, что пожизненная участь его – преследовать и убивать?
О, кузен Кристофер, хватит уже сидеть в одиночестве у догорающего камина! Встань, тебя ждет пенистое вино в роскошных дворах! Неужели ты не знаешь, что не далее как сегодня пришло на имя майора письмо от короля? Письмо, скрепленное королевской печатью?
Адресовано оно, может быть, и майору, но речь в нем о тебе! О тебе, кузен Кристофер. Вот же оно, получи!
О, как радостно видеть – светлеет чело твое, старый орел, расправляются плечи, гордо поднимается голова, и глаза блестят давно забытым хищным огнем. Распахнулась наконец дверца железной клетки, и весь огромный мир открыт для твоих тоскующих крыльев.
* * *
Кузен Кристофер открывает свой сундучок, достает с самого дна шитый золотом мундир. Взбивает седые волосы в гордый кок, надевает шляпу, седлает своего белого скакуна и покидает Экебю.
Ну нет, это не то же самое, что сидеть и мерзнуть у огня. Теперь и он видит, что пришла весна.
Он выпрямляется в седле и пускает коня в галоп. Развевается подбитый мехом доломан, плюмаж трепещет на ветру… проснулся кузен Кристофер! Проснулся, как проснулась сама природа после долгой зимней спячки, помолодел, как помолодела и обновилась земля. Старое золото блестит не хуже нового. Дерзкий лик воина под треугольной шляпой – какое гордое, какое волнующее зрелище!
Удивительна и прекрасна эта скачка! Там, где оставляют след копыта его коня, начинают бить ручьи, сочиться вода, перелетные птицы приветствуют его многоголосым восторженным гамом, сама природа радуется его освобождению, а природа, уж поверьте мне, знает толк в свободе.
Он скачет, как триумфатор, а перед ним сама весна мчится на парящем в прозрачно-голубом весеннем небе облаке и указывает ему дорогу. Весна трубит в рог, млеет от удовольствия и рассыпается серебряными искрами в лужах и ручьях. Рядом с ним скачут боевые товарищи – счастье встало на цыпочки в стременах, честь покрикивает на своего коня, чтобы тот не уставал, а любовь, как всегда, мчится на огнедышащем арабском скакуне, то и дело сбиваясь с дороги.
Неописуемая скачка, неописуемый всадник.
– Куда-куда, кузен Кристофер? Куда ты скачешь, кузен Кристофер? – кричит ему недавно выучивший человеческий язык певчий дрозд.
– В Борг! – отвечает, ничуть не удивившись, кузен Кристофер. – Я еду в Борг делать предложение! Делать предложение!
– Не езжай в Борг! Холостяку лучше! Холостяк беды-горя не знает! – кричит ему вслед дрозд и хохочет.
Но не слушает дрозда кузен Кристофер. Дрозд ему не указ. С холма на холм скачет его белый конь, подъем – спуск, подъем – спуск, и он у цели.
Легко, как в молодости, спрыгнув с коня, бежит он к крыльцу имения. Он бежит к графине Мэрте.
И все хорошо, все замечательно. Графиня Мэрта милостива к нему, кузену Кристоферу кажется, что она вовсе не прочь носить его прославленное имя и жить в его замке. Он выжидает момент, он ждет, когда наступит миг торжества, когда вынет он из кармана королевское письмо и покажет его графине. Ему не терпится, но он откладывает этот момент. Ему приятно держать козырь в рукаве.
Она, как обычно, развлекает его, рассказывает историю за историей. Он смеется и восхищается ее рассказами.
Они сидят во втором этаже, в одной из комнат, где молодая графиня развесила купленные у мамзель Марии вязанные чешуйчатой вязкой гардины. И графиня Мэрта, пользуясь случаем, рассказывает кузену Кристоферу эпизод с этими гардинами. Она изо всех сил старается, чтобы история выглядела как можно смешнее.
– И видите, какая я злая, – заключает графиня. – А невестка развесила здесь эти ужасные гардины, чтобы я день и ночь помнила о своем прегрешении! Вот уж воистину искупление грехов – смотреть на эти ужасные тряпки!
Кузен Кристофер смотрит на нее обжигающим взглядом.
– Знаете, графиня, – медленно говорит он. – Я тоже беден и стар, и я тоже, как ваша вязальщица, десять лет сидел в углу у камина и ждал любимую. Это вам тоже покажется смешным?
– Ну нет, – пожимает плечами графиня. – Это совсем другое дело.
– Бог отнял у меня все – счастье, состояние, даже отечество. Заставил есть чужой хлеб, – очень серьезно произнес кузен Кристофер. – Я научился уважать бедность.
– Господи, и вы туда же, – всплеснула руками графиня. – Какие вы все скучные и добродетельные, просто ужас! Ах, какие добродетельные!
– Да, графиня. – Голос его стал совсем ледяным. – И заметьте вот что, графиня. Когда Господь вернет мне все, чем я обладал, и богатство, и власть, я постараюсь распорядиться всем этим получше, чем делить кров с бессердечной макакой, издевающейся над чужим несчастьем.
Графиня побледнела.
– И правильно сделаете, кузен Кристофер. – Она посмотрела на него, и он поразился, столько ненависти было в ее взгляде.
И кузен Кристофер строевым маршем вышел из комнаты, сел на белого коня и поскакал назад в Экебю. Но уже не ласкали слух божественной музыкой ангелы-хранители весны, промолчал говорящий дрозд. Он уже не замечал ласково улыбающейся ему весны.
В Экебю он приехал как раз в тот момент, когда кавалеры заряжали ружья для пасхального салюта и готовили к сожжению пасхальную ведьму – соломенную куклу в сарафане, какие носят вдовы из ротных деревень[22], с тряпичной головой, а на голове углем нарисованы глаза, нос и рот. Рядом стоит ухват с длинной ручкой и конечно же метла. Рожок с ведьминым маслом на шее, ничего не забыли. Готова к отлету на Блокуллу[23].
Майор Фукс начинает стрелять в воздух. Кавалеры поджигают кучу хвороста, чучело ведьмы бросают в костер, и оно вспыхивает мгновенно и ярко. Можно считать, что кавалеры сделали все от них зависящее, чтобы побороть власть нечистой силы.
Кузен Кристофер долго и мрачно смотрит на огонь. И вдруг достает из-за обшлага камзола тяжелое письмо с королевской печатью и швыряет его в костер. Бог знает, что он думает при этом. Может случится, вообразил, что это графиня Мэрта полыхает в огне. Эта женщина, которую он любил, оказывается, тоже состоит из соломы и тряпок, и жалеть нечего.
Ничего ценного не осталось. Земля опустела.
Кузен Кристофер возвращается во флигель, растапливает камин, садится в свое кресло в углу. Кузен Кристофер старится и седеет на глазах, и видно, что он скоро умрет, как все орлы умирают в неволе.
Впрочем, он уже не пленник, ну и что? Кузен Кристофер все равно не знает, как распорядиться свалившейся на него свободой. Все открыто для него – поле битвы, честь, слава, сама жизнь. Клетка открылась, но у него уже нет сил расправить крылья и улететь.
Тропы жизни
Тяжелы тропы детей человеческих.
Тяжелы тропы в пустынях, в болотах, горные тропы.
Почему только горю все дороги легки, почему не заблудится оно в пустыне, не утонет в болоте, не сорвется с горы? Где все эти крошечные создания, невинно собирающие цветы на лугу, где сказочные принцессы, из чьих следов эти цветы вырастают, не успеют они коснуться земли своими ножками? Где все они, которым положено усыпать розами тяжкие тропы человеческие?
Йоста Берлинг, поэт, надумал жениться. Теперь он ищет невесту, которая подошла бы спятившему пастору: бедную, убогую, отверженную.
Его любили и любят богатые и благородные, но напрасно они соперничают из-за его любви. Отверженный ищет отверженную.
Но кого же выбрать? Чтобы выбрать, надо, чтобы было из кого выбирать. Это значит, сначала придется найти такую невесту. А где искать?
Иногда в Экебю приходит девушка из уединенной деревушки в горах, продает веники. В этой бедной, голодной и несчастной деревне многие помешались от горя и нищеты, и эта девушка с вениками – одна из них.
Но она очень красива. Длинные темные волосы заплетены в косы, такие толстые, что еле умещаются на голове, безупречный овал лица, прямой нос и огромные голубые глаза. Печальный, задумчивый тип красоты, красота Богоматери, знающей, какая участь уготована ее ребенку. Такие девушки еще встречаются на берегах длинного озера Лёвен.
Вот и замечательно! Невеста Йосте Берлингу найдена! Придурковатая красавица, продавщица веников, будет замечательной женой лишенному сана священнику. Ничего лучше и не придумаешь.
Надо только съездить в Карлстад за кольцами. И пусть веселятся, пусть смеются над Йостой Берлингом, что он женится на полоумной метельщице, пусть умирают от хохота! Такую выходку они даже вообразить не могли.
Разве не должен отверженный выбрать дорогу отверженных, дорогу гнева, дорогу горя и лишений? Падать так падать, кому какое дело? Найдется ли хоть кто-то, кто попробует ему помешать? Найдется ли хоть кто-то, кто подаст руку помощи или хотя бы освежит его стаканом лимонада? Где крошки-эльфы, невинно рвущие цветы на лугу, где сказочные принцессы, из чьих следов эти цветы вырастают, не успеют они коснуться земли своими ножками? Где все они, которым положено усыпать розами тяжкие тропы человеческие?
Даже кроткая молодая графиня из Борга не помешает его планам. Ей надо думать о своей репутации. Незачем ей навлекать на себя гнев мужа и ненависть свекрови. Пальцем не шевельнет.
Разумеется, на воскресной службе в Свартшё она наклонит голову, сложит руки и помолится за него. Даже, может быть, всплакнет. Будет оплакивать его горькую участь, но пальцем не шевельнет. Она не из тех, кто усыпает розами дороги отверженных, не из тех, кто подает им, жаждущим, напиться. Она не протянет руки, чтобы удержать его на краю бездны.
Пальцем не шевельнет. Пальцем не шевельнет!
Йоста Берлинг не собирается обряжать свою избранницу в шелка и вешать на нее украшения. Пусть пока ходит со своими вениками из усадьбы в усадьбу, она так привыкла, не надо ее волновать. А придет время, он соберет гостей в Экебю и ошарашит их известием о своей помолвке. Всех соберет, самых богатых и знатных. И попросит позвать невесту из кухни, такой, как она пришла, с пылью исхоженных троп на лице и в грязной одежде, лучше всего нечесаной, с бессмысленным взглядом. Явится и понесет обычную невнятицу.
И тогда он спросит гостей – не правда ли, подходящую невесту я выбрал? Не правда ли, она как нельзя лучше подходит отверженному пастору? Смотрите, какие у нее кроткие голубые глаза, смотрите, какое лицо – истинная Мадонна! Быть может, она вернет изгнанного из храма Божия назад, к Богу?
Он все спланировал: никто и ничего не должен знать заранее. Но сохранить тайну не удалось, и одной из первых, кто узнал о его намерениях, была молодая графиня Дона.
Но что она могла сделать, чтобы помешать этому безумному плану? На сегодня назначена помолвка. И дело идет к вечеру, уже начало смеркаться.
Графиня сидит у окна в голубом кабинете и смотрит на север, в сторону Экебю. Ей даже кажется, она видит усадьбу, хотя на дворе густой туман и слезы застилают глаза. Она видит свет во всех окнах большого трехэтажного дома, представляет, как наливают в бокалы пенящееся шампанское, как говорят тосты, как Йоста Берлинг объявляет о своей помолвке с деревенской дурочкой.
А если бы она была рядом, если бы просто взяла за руку, посмотрела ласково? Отказался бы он от своего жуткого плана – идти до конца тропой отверженных? Если одно ее слово довело его до этого отчаянного решения, может быть, другое слово, не осуждающее, а ласковое, могло бы его остановить?
Ее бросает в дрожь при мысли, какой грех берет на душу Йоста Берлинг по отношению к этой несчастной, обделенной судьбой девочке. Ее бросает в дрожь при мысли, что та наверняка полюбит его от всей души, и все это ради нелепого, отчаянного жеста, который, скорее всего, покажется всем шуткой-однодневкой. Но нет, шутка слишком жестока, а Йоста Берлинг не жесток. Значит, самый страшный грех он совершает против себя самого, приковывает себя к этой непосильно тяжелой ноше и навсегда лишается возможности вновь приблизиться к Богу – на это у него не хватит сил.
А во всем виновата она, графиня. Она своими жестокими словами толкнула его на этот путь. Она, призванная нести добро, любовь, утешать и мирить, – зачем она ввинтила еще один шип в терновый венец грешника?
Теперь она знала, что делать. Сейчас прикажет запрячь черную пару, помчится в Экебю, найдет Йосту и скажет ему, что сама не знает, что на нее нашло, что она вовсе не презирает его, что у нее не было намерения отказать ему от дома…
Нет, ничего из этого не выйдет. Она не сможет выговорить ни слова от смущения. И если даже сможет, что будет с ней? Она замужем, ей надо быть осторожной. Если она сделает что-то подобное, тут же пойдут слухи. А если не сделает, что будет с ним?
Она должна ехать.
Но это невозможно! Никакие кони, если они не крылаты, не в силах пересечь Лёвен в это время года. Лед тает, кое-где уже отошел от берега. Вздутый, потемневший, потрескавшийся – на него даже смотреть страшно. Тут и там черные промоины, полыньи. Кое-где озеро еще покрыто белым, сверкающим покровом, но таких мест мало – почти везде лед серый, пористый, грязный от тающего снега. От удобных зимников остались только темные, плохо различимые полосы.
Как она может думать о такой поездке? Старая графиня Мэрта ни за что не позволит. Весь вечер она должна сидеть у свекрови и выслушивать старые придворные анекдоты.
С другой стороны, надвигается ночь, ее муж в отъезде, она свободна.
Запрячь сани… нет, об этом не может быть и речи. Она даже слуг позвать не решается, но страх непоправимого гонит ее из дома. По-иному она не может.
Тяжелы тропы детей человеческих.
Тропы в пустынях, в болотах, горные тропы…
Но с чем сравнить эту ночную тропу по тающему льду? Наверное, это и есть та тропа, по которой идут крошечные феи, собирательницы цветов. Ненадежная, скользкая, залитая ледяной водой тропа, это она и есть; это их тропа, тропа тех, кто залечивает раны, тропа безгрешных правдолюбцев, тропа легких ног, быстрых приметливых глаз и мужественных, полных любви сердец.
Она добралась до Экебю только после полуночи. Несколько раз упала по дороге, прыгала через промоины, бежала по залитому водой льду, ботики ее насквозь промокли, она скользила, а местами ползла, потому что очень велик был риск провалиться.
Это была неимоверно трудная дорога. Она шла, и слезы катились по щекам, она промокла, устала, к тому же там, на льду, беззвездная тьма и бесконечная пустота вокруг наводили на самые жуткие мысли.
А под конец, уже у самого Экебю, пришлось идти по колено в воде – лед уже отошел, но у берега, к счастью, было мелко. И когда молодая графиня добралась до берега, она села на первый попавшийся камень и заплакала – от усталости, беспомощности, от холода и одиночества.
Тяжелы тропы детей человеческих, и эльфы, собирательницы цветов, падают, изнемогая под тяжестью своих корзин, так и не успев достигнуть цели и рассыпать лепестки благодеяний там, где они нужны более всего.
Но эта юная, знатная и красивая дама! Подумайте, она оказалась истинной героиней! Никогда не видела она таких троп на своей солнечной родине. И вот она сидит на мокром берегу этого жуткого, наполненного страхом озера, промокшая, усталая, несчастная, и думает, наверное, о тонущих в ласковой сизой дымке тропинках своей далекой родины, где по обе стороны благоухают кусты олеандров.
Ну нет, она думает вовсе не об этом. Она не сравнивает север и юг. Она стоит на развилке жизни. И плачет она вовсе не от тоски по далекому дому. Она плачет, эта маленькая фея, эта героиня, оттого, что понимает: она слишком устала. Она не успеет рассыпать лепестки на гибельной тропе. Она плачет, потому что уверена, что опоздала.
Вдоль берега бегут двое. Они ее не замечают, но разговор их она слышит от слова до слова.
– Прорвет плотину, кузницу на дне озера будем искать. Да ладно бы только кузницу, и мельницу, и мастерские, дома рядом – все снесет!
И бедная графиня из последних сил встает и идет следом за случайными прохожими.
* * *
Мельница и кузница в Экебю построены на узком мысу, вдающемся в бурлящие воды реки Бьоркшёэльвен. А бурлят они оттого, эти воды, что немного выше по течению есть большой водопад, и чтобы защитить постройки, перед мысом построили волнолом. Но волнолом дряхлел, а кавалеры, правившие Экебю, и в ус не дули. Танцы и пиры важнее, никто даже не озаботился посмотреть, в каком состоянии старая дамба, отводящая грозные потоки бурлящей воды.
И вот пришло время весеннего паводка, и стало ясно – волнолом не выдержит.
Водопад в Экебю – огромный каменный каскад, с которого низвергаются воды Бьоркшёэльвен. От скорости у волн кружится голова, они набегают друг на друга, сталкиваются, гневаются, плюются белой пеной, натыкаются на камни и поваленные стволы, отскакивают, бешено хохочут и мчатся дальше.
И эти дикие, возбужденные дыханием весны, опьяненные внезапной свободой волны набрасываются на источенные временем и расшатавшиеся камни дамбы. С каждым разом, яростно шипя, все выше взвиваются они по ее стенам. Так в старину штурмовали крепости. Волны наваливают на дамбу многотонные, крошащиеся с чудовищным грохотом пласты весеннего льда, швыряют в нее бревна-топляки, потом вдруг затихают как по команде «смирно» и откатываются назад, таща с собой оторвавшийся от дамбы камень. Ненадолго замирают, будто радуются маленькой победе, и держат совет: что делать дальше?
Ответ один: штурм начинается с новой силой. Опять огромные, вставшие торчком льдины, опять тяжелые мокрые бревна таранят и таранят изнемогающую под ударами каменную стену. А волны не устают – непослушные, безжалостные, дикие, обезумевшие от жажды разрушения волны.
– Свалить дамбу, – перекрикиваются волны между собой. – Свалить дамбу, только бы свалить дамбу, а кузница и мельница сами поплывут!
Настал час свободы… долой людей, долой все, что они тут понастроили. Они жгут уголь, а мы дышим сажей. Они мелют муку, а мы глотаем пыль, они преградили нам путь, надели ярмо, как на волов, загоняют в запруды, заставляют крутить тяжелые колеса, таскать неподъемные бревна! Оставили какие-то лазейки, и мы должны по ним ползать, как ужи!
Настал час свободы! Слушайте, слушайте нас! Слушайте, наши братья и сестры в болотах и трясинах, в горных ручьях и лесных родниках! Настал час свободы! Теките к нам, спускайтесь к нам, спешите к нам! Вливайтесь в Бьоркшёэльвен, ревите, шипите, час настал! Настал час сбросить столетнее иго, бастионы тирании уже зашатались и скоро падут! Смерть Экебю!
А час и вправду настал. Белые лохматые головы, не жалея себя, бьются в стену дамбы, каждая вносит свою лепту в давно задуманный мятеж.
Очумевшие от вновь обретенной свободы, с каждым мигом набирающие силу и решимость, волны отрывают от стены камень за камнем и уносят их с бурлящим потоком.
Но почему люди не сопротивляются, почему позволяют реке своевольничать?
Нет, люди тоже здесь. Растерянные, беспомощные, отчаявшиеся люди. Темная безлунная ночь, они не видят друг друга, не видят даже тропу, по которой идут. Грозно ревет водопад, но еще страшнее пушечный грохот ломающихся льдин и глухие удары бревен в плотину. Люди не слышат своих голосов из-за непрерывного, выматывающего душу грохота, они оглушены, бессильны, и самое странное – им тоже передается безумие, охватившее природу.
Внезапно в оглушительную симфонию распада врывается надтреснутый удар заводского колокола.
– Слушайте, слушайте, у кого есть уши. Мы погибаем. Здесь, рядом с кузницей Экебю, с минуты на минуты прорвет плотину. Кузница в опасности, мельница в опасности, наши маленькие, но дорогие сердцу дома в опасности!
Волны довольно переглядываются: вокруг ни души, зато заторопились ручьи и родники – надо помогать, хватит уже, пожили с этими людишками. Наверняка этот колокол зовет их помочь взбесившимся волнам.
– На помощь, на помощь! – надрывается колокол.
– Идем, идем, – успокаивают его волны. – Мы уже здесь.
Ревущий поток и мерные удары колокола сливаются в похоронный марш. Хоронят честь и славу Экебю.
Все время шлют гонцов в усадьбу: может, кавалеры что-то придумают? Но какое там, их даже на порог не пускают.
Станут кавалеры думать о каких-то кузницах и мельницах! В Экебю гости, не меньше ста человек. Торговка вениками ждет в кухне. Волнующий момент с каждой минутой все ближе. Шампанское пузырится в бокалах, патрон Юлиус готовится произнести речь, уже встал, вытер губы салфеткой. Старые авантюристы с удовольствием предвкушают, как онемеют от изумления ничего не ведающие гости.
Там, на берегу озера Лёвен, молодая графиня, рискуя жизнью, спешит в Экебю, чтобы словами, шепотом, криком умолить Йосту Берлинга не губить свою жизнь. Там, у водопада, свирепые волны грозят смыть с лица земли честь, славу и богатство Экебю. А тут, в просторных залах, царит веселье и радостное ожидание, сияют свечи, вино льется рекой. Здесь, в тепле, никто и не думает о том, что творится за стенами усадьбы этой безлунной, грозной ночью.
И вот наступает торжественный момент. Йоста медленно встает – пора идти за невестой. Ему надо пройти через прихожую. Дверь широко открыта. Он не сразу идет в кухню – открывает входную дверь, останавливается на пороге, глубоко вздыхает и всматривается в бурную, непроглядную ночь.
И он слышит! Он слышит!
Он слышит надрывный звон колокола, слышит удары тяжелых бревен в спину дамбы, слышит рев ополоумевшей от сознания своей непобедимости реки, эту песню сбросившего оковы титана.
И он, Йоста Берлинг, забыв все, бросается в эту мрачную, пугающую ночь. Пусть они там стоят с поднятыми бокалами хоть до скончания века. Ему уже нет до них дела. Пусть подождет невеста, пусть торжественная речь патрона Юлиуса тихо скончается у него на устах. Обмен кольцами не состоится. Не в такую ночь. И блестящее общество подождет другого случая, чтобы онеметь от изумления.
А теперь берегитесь, взбунтовавшиеся волны! Теперь вам всерьез придется побороться за свою независимость. Люди приободрились – Йоста Берлинг с ними, у них появился предводитель, они уже не похожи на стадо испуганных, мечущихся в смертельном мраке овец. Сердца запылали надеждой, войска осажденной крепости полезли на дамбу – предстоит великая битва.
Как он командует! Откуда взялись эти забытые колокольные, проповеднические нотки в его голосе?
– Света, больше света! Пусть мельник спрячет свой рожковый фонарь, здесь не место для игрушек. Хворост! Видите кучи хвороста? Это работа для детей и женщин! Собирайте хворост, как можно больше хвороста, тащите на откос и поджигайте! И нам будет светлее, и люди увидят и прибегут! Быстро, быстро, и не давайте костру погаснуть. Солома, хворост – все, что горит! Пусть будет пламя до небес!
Мужчины, беритесь за пилы и топоры! Бревна, доски, все что под рукой, – делаем щит, надо сколотить щит и опустить его перед дамбой! Ищите камни, мешки с песком – любые грузы, чтобы щит не всплыл! Пусть грохочут топоры и молотки, пусть сверла и пилы вгрызаются в дерево, да так, чтоб искры летели!
Мальчишки! Где вы попрятались? Все сюда, дикари-разбойники! В бой! Берите багры, спускайтесь к воде, не пугайтесь пены, отталкивайте бревна, льдины, спасайте дамбу. Не давайте камням вываливаться, прыгайте в воду, если надо, держите их руками, зубами, чем хотите! Сражайтесь ребята, сражайтесь, бездельники! Все на дамбу! Будем биться за каждый дюйм!
Йоста занял место на дамбе, среди ревущих волн, в лицо ему летят клочья пены, плотина дрожит, волны грохочут и с яростью набрасываются на него. Кажется, его вот-вот смоет, такой риск и в самом деле есть, но его отчаянное сердце жаждет опасности, жаждет боя. Он хохочет и кричит, теперь что-то уж вовсе нечленораздельное, но отвага и решимость заразительны. Никогда в жизни он даже не мечтал пережить такую волнующую, такую роскошную, такую вдохновенную ночь.
Работа быстро наладилась, полыхают огромные, до неба, костры, ночь оглашает дробный стук молотков. Дамба держится.
Гости и кавалеры, не дождавшись героя дня, тоже пришли на берег, и не только они – отовсюду, завидев костры на берегу, бегут люди с топорами, лопатами, кто с чем, и сразу подключаются к работе – кто помогает у костра, кто подтаскивает доски и бревна для щита, кто набивает мешки песком на шаткой каменной дамбе.
Но вот щит готов, теперь его надо опустить перед разваливающимся волноломом. Готовы и мешки с песком, и обвязанные канатом камни – всё, чтобы щит не унесло ревущим потоком. Победа останется за людьми, взбесившаяся река должна не бунтовать, а служить, как верный раб.
И вдруг в самый решающий момент Йоста Берлинг замечает, что у самой воды на камне сидит женщина. Освещенная неровным багровым светом полыхающих костров, она уставилась на воду и не шевелится. Рассмотреть ее как следует невозможно из-за стоящего в воздухе водяного тумана, но он не может отвести от нее глаз. Он продолжает командовать, но то и дело поворачивается в ее сторону.
Странная история: работают сотни людей, работают из последних сил, а она сидит неподвижно, и он все время косится на нее – как можно усидеть на месте в такие минуты?
Сидит совсем близко к воде, брызги окатывают ее с головы до ног, наверняка промокла насквозь. В темной одежде, черный платок на голове, сидит, сжавшись в комочек, подперла подбородок руками и смотрит, смотрит… на воду или на него? Он чувствует, как этот взгляд манит его и притягивает к себе, хотя он не только глаз, он даже лица не может различить. Взгляд словно зовет его, и он не может ни о чем думать, кроме этой женщины, сидящей у самой воды.
Это русалка. Лёвенская русалка, думает он. Ее послали, чтобы погубить меня. Смотрит и смотрит, манит и манит. У людей нет такой силы. Надо ее прогнать.
И вдруг он понимает, что волны, черные пенящиеся волны, на самом деле никакие не волны. Это ее войско, и она командует ими, подзуживает их, она ведет их в атаку на него, на Йосту Берлинга.
Надо ее прогнать, иначе толку не будет.
Он хватает багор и сбегает с дамбы на берег.
Оставляет свое командное место на рушащейся дамбе и бежит к ней. Вот кого силы тьмы послали, чтобы его уничтожить и унизить! Русалку! Он точно даже не знает, кто это, русалка или, может быть, лесовичка, но знает точно, что ее послал дьявол.
Ах, Йоста, Йоста, как же ты мог оставить свой пост в решающий миг! Крепкие, закаленные работники уже подтащили щит, выстроились по краю волнолома и готовы опускать этот щит, их единственную надежду. Все готово – и камни, и канаты, и мешки с песком. Нужна команда, потому что без команды щит просто рухнет, нужен кто-то, кто направлял бы их действия.
Они ждут, прислушиваются, оглядываются. Где же командир! Где этот колокольный, притягивающий голос, где эти команды, которым хочется следовать?
А командир гоняется за русалкой. Йоста Берлинг посчитал, что важнее прогнать русалку. Его голоса не слышно, не слышно команд. Что ж, времени нет, надо опускать щит, иначе будет поздно. И они опускают щит, но опускают медленно и неровно, и волны с усиливающейся яростью бросаются на хлипкую деревянную конструкцию, открывают мешки с песком, поднимают щит на свои могучие плечи и швыряют на каменный волнолом. Это еще что за жалкие попытки? Утопите это чудище в Лёвене, ревут волны.
И снова набрасываются на беззащитную дамбу.
А Йоста Берлинг, организатор и командир, гоняется за русалкой. Она его заметила, испугалась и побежала. Но не в воду, как он ожидал, а в сторону суши.
– Ах ты, нечисть! – кричит Йоста Берлинг и преследует ее с занесенным багром.
Она запуталась в кустах ольшаника и остановилась.
И Йоста словно прозрел – отбросил багор и положил ей руку на плечо.
– Не поздно ли для ночных прогулок, графиня Элизабет?
– Оставьте меня в покое, господин Берлинг, оставьте меня! Мне надо домой.
Он пожал плечами, отвернулся и пошел к дамбе.
Молодая графиня, разумеется, настоящая светская дама, в этом сомнений нет. Но не забывайте, что она еще и женщина необыкновенной доброты, которой невыносима сама мысль, что она стала причиной чьего-то несчастья. Не забывайте, что она из тех фей, что неутомимо собирают цветы, из тех, чьи корзины всегда полны роз, из тех, кто посыпает их лепестками самые трудные, самые пустынные, самые невыносимые тропы.
И она тут же пожалела о своей неприветливости, догнала Йосту и схватила его за руку.
– Я пришла… я пришла сюда, – говорит она, запинаясь на каждом слове, – я пришла… о, господин Берлинг, вы же этого не сделали? Скажите, скажите, умоляю вас, скажите, что вы этого не сделали!.. Я очень испугалась, когда вы прибежали с этой палкой, но это ведь именно вас я и хотела увидеть. Я очень прошу вас, господин Берлинг, не обращайте внимания на все, что я наговорила, я… я очень прошу вас снова бывать у меня в доме.
– А как графиня сюда попала?
Она нервно засмеялась:
– Я боялась… я даже знала, что опоздаю, но все равно… не хотела никому говорить… и вы же знаете, что в это время года через озеро не проедешь.
– И вы перешли озеро пешком?!
– Да, да… но это неважно, скажите мне, скорее скажите, господин Берлинг: вы ведь не успели обручиться? Молю, скажите, что нет! Это так несправедливо, так несправедливо… и во всем моя вина! Не надо было придавать моим словам такое значение. Я приезжая, я не знаю обычаев вашей страны… А в Борге… – Она посмотрела ему прямо в глаза. – В Борге стало так пусто после того, как вы перестали там бывать!
И Йосте Берлингу кажется, что мокрый ольшаник исчез, исчез рев водопада и тяжелый туман водяной пыли, ему кажется, что кто-то высыпал на него целую охапку роз. Он по колено в розах, они загадочно светятся в темноте, и у него кружится голова от их волшебного аромата.
– Вы перешли озеро? – переспрашивает он. – Пешком?
Надо бы скорее успокоить ее, положить конец измучившим ее угрызениям совести, но у него и в самом деле кружится голова – от аромата роз, от волнения, от радости, от жалости. Бедная девочка, по какой тяжкой тропе пришлось ей идти, как она замерзла, как ей страшно, каким раскаянием, какими горькими слезами полон ее голос.
– Нет-нет, – говорит он наконец. – Я не обручен.
Она вновь хватает его руку и гладит.
– Какое счастье, – повторяет она, всхлипывая, – какое счастье!
Ах, как мало нужно поэту! Лепесток розы на дороге – и вся ненависть, вся злость, все темные страсти исчезают из его души.
– Какая вы замечательная, какая добрая… какая вы замечательная! – повторяет он.
А стихия тем временем начинает последний штурм крепости Экебю, ее красы и чести. Без вожака люди растерялись, некому вдохнуть мужество и надежду в их сердца. И волнолом не выдержал. Огромные камни, наращивая скорость в прыжках, посыпались в реку, и вода хлынула к мысу, к кузнице и старой водяной мельнице. Уже больше никто не решался сопротивляться стихии, люди спасали свое добро.
Йоста Берлинг конечно же взялся проводить ее в обратный путь. Что может быть естественнее? Даже представить невозможно, чтобы он оставил ее в этом бушующем мраке, чтобы позволил ей пуститься в обратный путь по тающему льду одной, без сопровождения. Ни он, ни она даже не задумываются, что творится на мысу, что Йоста, возможно, очень нужен там – успокоить людей, унять панику. Всем известно, что от паники гибнет больше людей, чем от самого стихийного бедствия. Ни он, ни она про это не забыли, они про это просто не думают – так они счастливы друг с другом.
Очень легко подумать, что эти двое без памяти влюблены друг в друга, но кто знает? До меня дошли только обрывки их жизнеописания, и то главным образом об их приключениях. И неудивительно: кто и когда может с уверенностью знать, что творится в чужой душе? Что двигало их поступками, какие чувства? Знаю только, что в ту памятную ночь молодая прекрасная женщина рискнула своей честью, репутацией, здоровьем, даже жизнью, и все ради того, чтобы не дать авантюристу и грешнику искалечить свою судьбу. Знаю только, что авантюрист и грешник в ту ночь пренебрег славой и благополучием своей любимой усадьбы и последовал за той, которая ради него превозмогла страх смерти, страх позора и наказания.
Часто следовала я мысленно за ними по льду в ту кошмарную ночь, которая, несмотря ни на что, закончилась благополучно, если не считать смытых водой строений. Не думаю, что в душах молодых людей бушевали какие-то запретные страсти, которых надо было бы стыдиться. Они шли по опасному льду и весело болтали обо всем, что случилось после их ссоры.
И опять Йоста Берлинг с восторгом принял ярмо ее раба, роль пажа у ее ног, а она с восторгом взяла на себя роль его госпожи.
Они счастливы и рады, как дети, но ни один из них не произнес слов любви и даже не намекнул на зарождающуюся любовь.
Смеясь, бредут они по промоинам у берега. Смеясь, ищут они безопасные тропы и теряют их, тоже смеясь. Смеясь, скользят, падают и поднимаются. Они все время смеются!
И опять жизнь, благословенная человеческая жизнь, представляется им забавой, игрой, как у поссорившихся и помирившихся детей. Что может быть лучше, чем помириться и продолжать играть вместе?
Но слухи, слухи… разумеется, пошли слухи. И в свое время рассказы о ночном приключении дошли до ушей Анны Шернхёк.
– Теперь я вижу, – сказала она. – Теперь я ясно вижу: не одна лишь тетива в луке у Господа. Я должна успокоиться и остаться там, где я действительно нужна. Бог сделает из Йосты Берлинга человека и без моей помощи.
Искупление
Друзья мои, если придется вам когда-нибудь столкнуться на дороге с несчастным, кто бредет по камням босиком, кто держит башмаки под мышкой, кто не надевает шляпу и подставляет голову лучам палящего солнца, знайте: слабый и беззащитный, он сам призвал все тяготы на свою голову. И тихо пройдите мимо. Не мешайте ему и не спрашивайте ни о чем. Это пилигрим, раскаявшийся грешник, идет поклониться святым могилам, дабы искупить грехи.
Грешник, надумавший искупить грехи, должен одеться в рубище, пить воду из ручья и есть черствый хлеб, будь он нищий или король. Он должен идти, а не ехать. Спать на репьях. Ползти на коленях по камням святых могил, пока они не заблестят. Истязать себя плетьми. И не искать сладости, кроме страдания, не искать блаженства, кроме горя.
Молодая графиня Элизабет тоже была одной из таких страдалиц. В рубище и власянице вступила она на каменистую тропу искупления, потому что душа ее не находила себе места. Она искала страданий, как усталый путник ищет родник в пустыне, чтобы омыть сбитые до крови ноги.
Храбро пустившись в опасное ночное путешествие, она навлекла на себя беду.
Муж ее, граф Хенрик, молодой человек с головой старика, в ту ночь вернулся в Борг лишь наутро, когда мельница и кузница в Экебю уже были снесены бурлящим потоком. Не успел он приехать, графиня Мэрта велела позвать его к себе и ошеломила странным рассказом:
– Твоя жена исчезала нынче ночью, Хенрик. Ее очень долго не было, много часов, а вернулась она в обществе мужчины. Я сама слышала, как он пожелал ей спокойной ночи. И даже знаю, кто это был. Я знаю, когда она ушла, и знаю, когда вернулась, хотя вовсе не собиралась за ней подглядывать. Она обманывает тебя, Хенрик. Она тебя обманывает. Притворяется невинным созданием, а сама вешает отвратительные, похожие на рыбью чешую гардины, только чтобы досадить мне. Она и не любила тебя никогда, бедный мальчик. Ее отец просто-напросто хотел побыстрее от нее избавиться, а за тебя она вышла, чтобы было кому ее содержать.
Она била в самые больные точки, и Хенрик рассвирепел. Развод, развод и только развод! Брак должен быть расторгнут, и неверная немедленно отправлена к своему отцу.
– Ну нет, дорогой, развестись – значит осудить ее на погибель. Она избалована и дурно воспитана. Позволь мне заняться ее воспитанием, вернуть ее на путь долга.
И граф послал за молодой графиней, чтобы объявить ей о своем решении: отныне она во всем будет следовать воле свекрови.
Ах, какая сцена последовала! Никогда и ничего более драматического не слышали стены этого обреченного на вечные страдания дома.
Граф Хенрик обрушил на жену потоки обвинений. Он воздевал руки к потолку – ты, бесстыжая женщина, вываляла мое благородное имя в грязи! Он тряс кулаком у нее перед лицом и спрашивал, какое наказание она сама считает достойным совершенного ей преступления.
Молодая графиня совершенно не боялась мужа. Тем более, она была уверена, что поступила правильно, и серьезно ответила, что ужасный насморк, который она схватила той ночью, более чем достойное наказание.
– Элизабет, – строго сказал Мэрта. – Шутки здесь неуместны.
– Мы с вами, графиня, всегда расходились во мнении, какие шутки уместны, а какие нет.
– Возможно, возможно… но ты ведь понимаешь, Элизабет, что порядочная женщина не убегает ночью из дому на свидание с известным авантюристом.
Тут Элизабет Дона поняла, что свекровь хочет ее уничтожить. И надо бороться до последнего, чтобы не навлечь на свою голову большого несчастья.
– Хенрик, – взмолилась она. – Почему ты позволяешь твоей матери становиться между нами? Позволь мне рассказать, как все было. Ты справедливый человек, ты не осудишь меня, не выслушав. Узнай же, что я действовала так, как ты меня учил.
Граф важно кивнул. И Элизабет рассказала, как она обидела Йосту Берлинга – обидела так, что он от отчаяния чуть не погубил свою жизнь. Она рассказала все, что произошло в голубом кабинете, и совесть повелела ей исправить ошибку.
– У меня нет права судить его, – закончила она. – И ты, муж мой, много раз говорил, что нет никакой жертвы, которую не стоило бы принести во имя исправления несправедливости.
Граф повернулся к матери и нахмурился:
– И что скажет на это матушка?
Его хилое тело буквально распирало сознание собственного величия, величия мудрого и непогрешимого судии.
– Что я скажу? Скажу, что Анна Шернхёк девушка неглупая, и наверняка она знала, что делала, когда рассказала всю эту историю Элизабет.
– Матушка не изволила меня понять, – сказал граф. – Я спросил, что матушка думает не об Анне Шернхёк, а об этой истории. Неужели графиня Мэрта Дона пыталась уговорить свою дочь выйти за лишенного сана священника?
Графиня на секунду потеряла дар речи. До чего же глуп ее сын – взял не тот след! Ее охотничий пес забыл про зайца и погнался за хозяином! Но она быстро взяла себя в руки.
– Дорогой друг, – она пожала плечами, – у меня есть причина не вытаскивать на свет божий старую историю об этом несчастном… та же причина, по которой я умоляю тебя сделать все, чтобы избежать публичного скандала, вновь связанного с его именем. Дело в том, что он, по всей вероятности, погиб сегодня ночью.
Она говорила кротко, с ноткой глубокого сожаления, но во всей ее речи не было ни слова правды.
– Элизабет долго спала нынче, она, должно быть, не слышала – уже послали людей искать господина Берлинга. Он не вернулся в Экебю, опасаются, что утонул. Нынче ночью вскрылся лед. Посмотрите сами.
Молодая графиня резко повернулась к окну. Озеро почти свободно ото льда.
И ее охватил ужас. Она хотела помешать Господу вершить Его суд! Она лгала и притворялась, прикрывшись белым плащом невинности…
Элизабет Дона в отчаянии упала на колени перед своим мужем:
– Суди, презирай, делай что хочешь, я любила его! Даже не сомневайся – я его любила! Я рву на себе волосы, рву одежды от горя. Теперь, когда его нет, мне все равно. Я не хочу защищаться. Ты узнаешь всю правду. Не мужа любила я, как велят законы божеские и человеческие, не мужа, а другого. Я – одна из тех презираемых, кто поддался на соблазн запретной страсти!
Что ж, валяйся в ногах у своих судей, скажи им все, все без утайки. Добро пожаловать, добровольное мученичество, давно тебя ждали. Добро пожаловать, заслуженный позор! Если бы ты могла призвать все испепеляющие небесные молнии на свою голову, ты бы это сделала, не задумываясь.
Скажи, скажи своему мужу, скажи без утайки, как страсть охватила тебя мучительно-сладкими объятьями, огромная и непреодолимая, как горевала ты о слабости и грешности своего сердечка. Расскажи, что охотнее повстречалась бы со всеми могильными призраками, какие только есть в округе, чем с демонами, овладевшими твоей душой. Скажи, что как только поняла, что Господь отвернулся от тебя, ты чувствуешь себя недостойной ступать по этой земле. В слезах и молитвах боролась ты с искушением…
– Боже, спаси меня! – отчаянно молила ты. – Боже, изгони демонов-искусителей из моей бедной души!
Скажи им, что посчитала за лучшее молчать, никто не должен знать, какая ты грешница, ни один человек на земле. Ты думала, Бог на твоей стороне. Ты думала, что идешь по Его стопам, когда хотела спасти человека, которого тайно любила. Скажи им, что он, твой избранник, даже не догадывался о твоей любви. Как же получилось, что жертвой стал он, а не ты? Как ты могла знать, что правильно, а что неправильно? Это знает только Бог, и Он наказал тебя, уничтожил идола, которому ты поклонялась. И только Бог, а никто иной, указал тебе путь искупления.
Скажи им, что в скрытности нет спасения, скажи, что теперь поняла: мрак тайны по душе только демонам. Любое наказание будет бальзамом для твоей души, твое сердце жаждет страдания.
Скажи им все это, пока ты выламываешь руки в отчаянии, распростершись на полу, пока выкрикиваешь бессвязно все, что уже давно мучит твою душу. Выскажи им все, пусть они поймут, что тебе не страшно никакое наказание, кнут, плеть, дыба, скажи, что с радостью сердечной встретишь ты любую муку!
Скажи, скорее же, скорее, надо успеть высказать все, пока твой муж рывком не поднимет тебя с колен.
– Веди себя достойно твоему положению! Иначе мне придется наказать тебя, как малого ребенка!
– Делай со мной все что хочешь!
А что же хочет граф Хенрик Дона?
Его приговор звучит так:
– Матушка заступилась за тебя, поэтому я разрешаю тебе остаться в моем доме. Но с этого момента ты будешь делать все, что она скажет. Запомни: приказы отдает она, а ты их выполняешь.
* * *
Вот он, путь искупления! Смотрите и запоминайте: молодая графиня – самая жалкая, самая забитая из служанок в усадьбе графа Дона. И сколько же так может продолжаться, о господи, сколько же так может продолжаться?
Сколько еще может выдержать ее маленькое, гордое сердце? Как долго смогут хранить молчание ее уста? Сколько поклонов сможет выдержать ее гордая головка?
Что ж, в унижении есть своя сладость. Пока ноет спина от тяжкого труда, сердце молчит. К тем, кто спит несколько коротких часов на едва прикрытых соломой досках, сон приходит незваным. Они не страдают от бессонницы.
И превратившаяся в злого духа старая женщина старается как можно сильнее ущемить молодую. Напрасно! Если бы она знала, что невестка только благодарна ей, она придумала бы что-то другое. Но она старается изо всех сил! Поднять в четыре утра, дать непривычной к труду девочке задание соткать что-то, что не под силу и опытной ткачихе, а ей все нипочем. Даже в радость. У нее самой не хватило бы сил хлестать себя кнутом с вплетенными в него гвоздями.
Когда приходит время генеральной весенней стирки, Элизабет в прачечной, у корыта, и графиня Мэрта, разумеется, приходит посмотреть, как она работает, и пробует воду.
– Вода у тебя холодновата, – говорит она и льет кипяток на ее голые руки.
Холодный ли, теплый ли день, белье надо полоскать в озере. Дует ли сильный ветер, идет ли дождь со снегом, белье надо полоскать. Юбки прачек промокли насквозь и тяжелы как свинец. А каково колотить мокрое, ледяное белье тяжелой колотушкой так, что кровь брызжет из-под когда-то ухоженных ногтей!
Но графиня Элизабет не жалуется. Где же еще и найти грешнице утешение, как не в страдании? Удары кнута кажутся ей мягкими, как лепестки роз.
Скоро она узнает, что Йоста Берлинг жив. Старая графиня всего лишь хотела выманить из нее признание. И что с того? Значит, Господу было так угодно. Значит, Он выбрал такой путь, чтобы вернуть раскаявшуюся грешницу в лоно веры и примирения.
Только одно непонятно ей и оттого страшно. Что случилось с ее свекровью? Неужели Господь выбрал именно Элизабет, чтобы ожесточить сердце графини Мэрты? Или так и было задумано и Бог ее не осудит? А как иначе? Наверное, она и должна быть такой, озлобленной и жестокой, чтобы помочь грешнице вернуть любовь Создателя.
Она и подумать не могла, что так устроены люди. Человек, вкусивший все возможные наслаждения, охладевает. Ласки, украшения, вихрь танца и азарт игры уже не привлекают его, не горячат кровь; он погружается в темные бездны своей нетерпеливой души в поисках других развлечений – и что же находит он там? Жестокость! Одну жестокость, желание мучить себе подобных. Страдания животных и людей ненадолго возбуждают его притупившиеся чувства.
Но старая графиня не понимает, насколько она жестока. Она думает, что наказывает неверную жену. Не спит ночами, придумывает все новые и новые муки. Как-то вечером она приказала Элизабет идти впереди со свечой и освещать ей дорогу.
– Свеча почти догорела, – говорит молодая графиня и показывает крошечный огарок в голой руке.
– Когда свеча догорает, горит подсвечник, – пожимает плечами графиня Мэрта.
И они идут дальше, пока огарок не гаснет в обожженной руке.
Что за детские игры… и разве это страдания по сравнению с невыносимой мукой, когда графиня Мэрта приглашает гостей и заставляет Элизабет прислуживать за столом!
Тяжки пути искупления, куда тяжелее путей греха. Чужие люди увидят ее унижение, они поймут, что она не достойна сидеть с ними за одним столом. С каким холодным, брезгливым презрением они будут смотреть на нее!
Но все оказалось еще хуже. Гости на нее просто не смотрят. Молчаливые и подавленные сидят они за столом, не поднимая глаз, – и мужчины, и женщины.
Зачем? Неужели они не понимают, что собирают на голову ее горящие угли[24]? Неужели ее грех так непростителен? Неужели она не заслужила хоть один сострадающий взгляд? Неужели позорно даже находиться с ней в одном зале?
Но и это могла бы она снести. Искушение еще страшнее. Смотрите, Анна Шернхёк, бывшая ее подруга, и ее сосед по столу, судья из Мункерюда, дожидаются, когда она подходит к ним, забирают у нее блюдо с жарким и подвигают стул.
– Садись, дитя мое, ты ничего плохого не сделала, незачем все это, – мягко говорит судья.
И гости, перебивая один другого, восклицают: если она сейчас же не сядет с ними за стол, они уйдут. Они не подмастерья у палача. Они не мальчики на побегушках у Мэрты Дона. Их не обвести вокруг пальца, как графиня обвела своего барана-сына.
– Господа, дамы, милые мои! – восклицает Элизабет. – Любимые мои друзья! Не будьте так милосердны. Вы собираете горящие угли на мою голову. Не заставляйте меня публично каяться в страшном грехе – я, замужняя женщина, полюбила другого. Это страшный грех!
– Дитя, ты даже представления не имеешь, что есть грех! – зашумели гости. – Ты не понимаешь, что невинна, как ангел! Йоста Берлинг знать не знает, что он тебе нравится. Ты должна занять подобающее тебе место в имении! Ты ничего плохого не сделала.
И ей и в самом деле на какую-то минуту кажется, что она безгрешна, она улыбается, гости шумят, шутки сыплются, как из рога изобилия.
Эти замечательные, сострадательные люди, они так добры, но они посланы искусителем. Они пытаются внушить Элизабет, что она жертва, они проклинают эту ведьму – графиню Мэрту. Но они ничего не понимают. Они не понимают, как стремится к очищению душа ее, они не понимают, почему ищущий искупления добровольно бредет босиком по острым камням и подставляет голову лучам палящего солнца.
Иногда графиня Мэрта усаживает ее за пяльцы, садится рядом и заставляет часами выслушивать истории о Йосте Берлинге, лишенном сана пасторе и авантюристе, половину из которых выдумывает сама. Но старая интриганка старается, чтобы имя Йосты непрерывно, целыми днями, звучало в ушах молодой графини.
Женским безошибочным чутьем догадалась она, что для грешницы нет ничего мучительнее. В такие дни молодая графиня думает, что ей никогда не удастся искупить свой грех. Любовь не хочет умирать. Иной раз кажется ей, что сама она умрет, а любовь будет жить. Она слабеет, силы начинают ей изменять. Она часто болеет.
– Но где же твой герой? – дразнит ее графиня. – Я ведь со дня на день жду его во главе всей оравы кавалеров. Почему они не берут приступом Борг, почему не сажают тебя на трон? Почему не швыряют меня и моего сына, а твоего мужа в темницу? Неужто он забыл тебя, твой герой?
Молодая графиня с трудом удерживается, чтобы не проговориться, что она сама запретила ему чем-то ей помогать. Но нет, молчание, молчание и еще раз молчание. Молчание и страдание.
День за днем ей все хуже и хуже, она возбуждена и мрачна, у нее началась постоянная лихорадка. Иной раз она с трудом заставляет себя встать со своего убогого ложа. Больше всего ей хочется умереть. Жизненные силы быстро покидают ее. Она уже не замечает страданий.
* * *
Похоже, муж ее и знать не желает, что она все еще существует на этом свете. Он целыми днями сидит в своем кабинете, изучает старинные выцветшие рукописи и трактаты.
В отдельном, резного дуба ларце дворянские грамоты на пергаменте, скрепленные в незапамятные времена красной восковой печатью свейского королевства. Он рассматривает старые гербовые печати: лилии на белом поле и грифон на голубом. В геральдике ему нет равных – он может легко объяснить каждый значок, каждый символ. И он читает и читает старые жизнеописания и некрологи всех ветвей старинного дворянского рода Дона, чьи подвиги можно сравнить разве что с подвигами патриархов Древнего Израиля или олимпийских богов в Элладе.
И знаете, эти старинные многозначительные предметы всегда приводят его в хорошее настроение. А о своей молодой жене он даже не думает.
Графиня Мэрта сказала фразу, которая убила всю его любовь:
– Она вышла за тебя из-за денег.
И какой мужчина может снести такое равнодушно? Как ушат воды на тлеющий костерок любви. Теперь ему безразлично, что с ней будет. Если матери удастся вернуть ее на путь истинный, тогда посмотрим. Граф Хенрик безгранично доверяет своей матери. Мало того, он ей восхищается.
Это продолжается уже больше месяца. Разумеется, события развивались не с такой быстротой, как это может показаться, когда стараешься поведать о них на двух-трех страницах. Графиня Элизабет внешне совершенно спокойна. Один-единственный раз она потеряла самообладание – когда услышала, что Йоста Берлинг утонул. Но она настолько мучилась, что не смогла сохранить любовь к мужу, что, возможно, позволила бы графине Мэрте довести ее до могилы, если бы однажды старая экономка не попыталась ее образумить:
– Графине надо поговорить с мужем. Господи боже мой, вы же еще совсем ребенок. Все это плохо кончится.
Но беда в том, что ей нечего было сказать мужу, тем более что он подозревал ее не в выдуманной, а в настоящей измене. И к тому же мать заронила в него мысль, что Элизабет вышла за него из корысти.
В эту же ночь она тихо оделась и выскользнула из дома. На ней было обычное крестьянское платье, а в руке узелок.
Она решила бежать и никогда больше не возвращаться в этот дом.
Но не для того, чтобы избежать испытаний, которым с дьявольской изобретательностью подвергала ее свекровь. Ей привиделось, что Господь дал ей знак. Господь повелел ей сохранить силы и здоровье для самой высокой цели, какая только может быть у женщины.
Она не пошла на запад – там жил тот, к которому она испытывала грешную страсть. И на север не лежал ее путь – там жили ее друзья. И на юг не направила она стопы, туда, где далеко-далеко жили ее родители, где был ее отчий дом. Она побрела на восток, где не было ничего – ни любимого, ни друзей, ни отчего дома.
Она шла тяжело и мучительно, потому что не было мира в ее душе. Но ее успокаивала сама мысль, что отныне искупление ее грехов будет происходить среди чужих людей. Она надеялась, что равнодушные взгляды послужат ей исцелением, как облегчает боль от ушиба и снимает отек приложенная стальная ложка.
Молодая графиня решила найти самый бедный надел, самый бедный хутор, где ее никто не знает.
– Меня выгнали из дома, – скажет она им. – Дайте мне самую простую еду и крышу над головой, я отработаю. И деньги у меня есть.
Так она шла в светлой июньской ночи. Май прошел в нестерпимых страданиях в доме свекрови. Ах, май, май, чудный месяц, когда светлая зелень берез оживляет мрачную темноту еловых лесов, когда дует с юга суннан, теплый, ласковый ветер!
– Ах, май! Милый май, не подумай, что я неблагодарна, ведь я ни словом не похвалила твои дары, не упомянула щедрость и красоту.
Но вот что хочу я спросить тебя, май: обращал ли ты когда-нибудь внимание на ребенка, когда он сидит на коленях матери и слушает сказку? Пока ему рассказывают про страшных великанов и ужасных страданиях заколдованных принцесс, он даже не думает спать; но как только мать напоминает ему, как светит солнце, как прекрасна жизнь, у малыша тут же слипаются глаза, и он сладко засыпает, прильнув головой к груди матери.
Да, мой милый, ласковый май, я тоже из таких детей. Пусть другие слушают сладостные рассказы, как распускаются майские цветы на зеленой, освещенной солнцем лужайке. Мне по вкусу темные ночи, полные призраков и приключений. Тяжелые судьбы, страдания, переполненные горем сердца, – это для меня.
Железо из Экебю
Весна, пришло время отправлять выплавленное в Вермланде железо в Гётеборг.
Но из Экебю отправлять нечего. Осенью была засуха, уровень воды понизился, к тому же всем распоряжались кавалеры.
Как же они распоряжались? А вот как: по широкой лестнице порогов в Бьоркшё текло горькое, пенное, крепкое пиво, а длинное озеро Лёвен вместо воды было заполнено водкой и самогоном. А как же кузнечные горны? Кузнечные горны работали вовсю: кузнецы в деревянных башмаках и рубахах с закатанными рукавами жарили мясо, поворачивая шомпола над седыми раскаленными углями. А по вечерам танцы до упаду. Железо? Что вы! Ни о каком железе и речи не было. На наковальнях играли в карты, а утомившись, спали на верстаках. Никто и не думал о железе.
Но пришла весна, и в оптовой конторе в Гётеборге уже ждали ежегодных поставок железа из Экебю. В который раз листали контракт, подписанный майоршей и майором, – да, все правильно: они обязались ежегодно поставлять несколько сотен шеппундов[25] железного прута.
Но что кавалерам до майоршиных контрактов? К власти пришли радость, скрипка и вино.
Везли железо из Стомме, из Сэлье и Кимсберги, из Уддехольма и Мункфорса – со всех многочисленных металлургических предприятий железо свозили к Венерну. Но не из Экебю.
Разве Экебю не главный поставщик железных заготовок в Вермланде? Неужели никому нет дела до чести и репутации старинного поместья? Похоже, что нет. Правят кавалеры, а доверить кавалерам управление заводами – все равно что доверить ветру управление золой от костра. Танцы главнее. На что еще способны их беспутные головы?
Удивляются пороги и реки, удивляются баржи и паромы, гавани и шлюзы:
– А где же железо из Экебю?
Перешептываются леса и озера, горы и дали:
– А где же железо из Экебю? Неужели у них кончилось железо?
Еле слышно хихикают углежогные ямы в лесу, в кузницах пересмеиваются огромные водяные молоты, шахты хохочут в голос, распахнув свои бездонные пасти, ехидно ухмыляется конторка в Гётеборге, та, где лежит контракт:
– Вы слышали что-нибудь подобное? В Экебю нет железа! На лучших в Вермланде заводах нет железа!
Что с вами, кавалеры? Неужели вы допустите позор и бесчестье, неужели вы предадите Экебю? Ваше Экебю, ваше самое любимое, самое прекрасное место на этой зеленой земле, Экебю, по которому вы так тосковали в своих странствиях, чье название не могли произнести, чтобы не навернулась слеза? Поднимайтесь же, кавалеры, спасайте честь Экебю!
Ну, хорошо, в самом Экебю замолкли молоты, наводнением смыло кузницу, но есть же еще шесть заводов! Там-то железа хватит, а может, и с избытком?
И Йоста Берлинг пускается в путь – поговорить с управляющими шести заводов.
На завод в Хёгфорсе он решил не заезжать – нет смысла. Слишком уж близко от Экебю, и мудрое правление кавалеров наверняка коснулось и его.
Он проехал двадцать километров на север, в Лётафорс. Красивое место, никто не станет возражать. На берегу Лёвена, у подножия горы Гурита с круто поднимающимися к вершине склонами, дикая, нетронутая природа, такая, какую и полагается иметь у своего подножия старой, заслуженной горе. Но с кузницей беда – водяное колесо сломалось еще в прошлом году, и никто его не ремонтировал.
– Почему?
– Плотник… у нас, дорогой друг, только один плотник, который может такое починить, а он занят на другой работе. А без колеса мы и подкову не можем сковать.
– А почему за ним не послали?
– Послали? Сто раз посылали, только проку мало. Не может приехать. Занят. Строит кегельбан и беседку в Экебю.
Только сейчас до Йосты Берлинга дошло, во что выльется его инспекция.
Он поехал дальше на север, в Бьорнидет. Тоже красивое, величественное место, хоть замок строй. Завод окружен с трех сторон долиной, а с четвертой стороны – озеро Лёвен. Это самая северная его оконечность, здесь оно и кончается. Вернее, начинается. Нет лучше, нет романтичнее места для ночных прогулок и изысканного флирта, чем берег реки, где неумолчно бурлят прозрачные пороги. Уж кому и знать, как не Йосте Берлингу. Вдоль реки можно пройти и к кузнице, которую разместили во взорванной скале. Но есть ли у них железо на продажу?
Нет. Конечно нет. Надо платить углежогам и возчикам, а где взять деньги? Они не получили из Экебю ни единого риксдалера. Всю зиму кузница простояла, ни разу огонь не развели.
Отсюда Йоста поехал в Хон, на восточном берегу Лёвена, потом в спрятавшийся в лесах Лёвстадфорс, но и там дела обстояли не лучше. Железа нигде не было, и как Йоста ни пытался найти оправдание, все сводилось к одному: производство встало по вине кавалеров.
И он вернулся в Экебю. Кавалеры мрачно осмотрели склады – там лежало пятьдесят шеппундов кованого прута, не больше. Осмотрели и пригорюнились. Им показалось, что природа насмехается над их никчемностью – земля всхлипывает, деревья яростно машут ветвями.
– Всё, кончилась былая слава Экебю, – ядовито прошелестела трава.
* * *
Но зачем все эти упреки? Что за нелепые насмешки? Вот же оно, железо из Экебю!
Вот же оно, уже погружено на сплавную баржу на берегу Кларэльвен, готово к переправе в Карлстад, где его взвесят и отправят на лайбе в Гётеборг. Честь Экебю спасена.
Но как это может быть? В Экебю же было всего пятьдесят шеппундов, а на остальных заводах вообще ничего не было! Пусто! Откуда взялось все это?
Спросите кавалеров.
Тем более что они тоже здесь. На борту огромной уродливой баржи. Видно, сами собираются доставить груз в Карлстад, а может быть, и дальше, в Гётеборг. Как они могут доверить свое драгоценное железо случайному человеку? Ни опытному паромщику, никому из смертных. Только сами. Они взяли с собой все необходимое: бутылки, корзины с едой, рожки и скрипки, ружья, удочки и сачки, два десятка карточных колод. Они все сделают для своего железа, они никогда не предадут его, не доверят чужим рукам, пока не разгрузят на пирсе в Гётеборге. Сами будут разгружать, сами управятся с парусами. Кто лучше них управится? Есть ли хоть одна отмель в Кларэльвен, хоть один риф в Венерне, который был бы им не знаком? Румпель подчиняется им не хуже, чем вожжи или смычок.
Ничто так не дорого им на земле, как это железо. Они обращаются с ним, как с хрустальными бокалами, все укрыто брезентом. От недоброго глаза. Это железо спасет честь Экебю. О, Экебю, наше Экебю, да не померкнет твоя слава!
Ни один из кавалеров не остался дома, все до одного пустились в путь. Дядюшка Эберхард оставил свою конторку, кузен Кристофер вылез из своего угла у камина. Кроткий Лёвенборг тоже здесь. Когда речь идет о чести любимого поместья, у кого хватит совести остаться дома!
Труднее всего Лёвенборгу. Он не видел Кларэльвен тридцать семь лет, и ровно столько же нога его не ступала на палубу. Он ненавидит зеркальные озера и серые бурные реки. Озера и реки напоминают ему трагедию его жизни, поэтому он избегает их любой ценой.
Но не сегодня. Не сегодня, когда на карту поставлена честь Экебю.
Тридцать семь лет назад невеста Лёвенборга утонула на его глазах в Кларэльвене. После этого Лёвенборг немного помешался.
Он стоит и смотрит на реку, на ее отливающие серебром чешуйки, и ему кажется, что это и не река вовсе, а огромная змея, притаившаяся в засаде. Высокие песчаные холмы – стены грота смерти, где змея поджидает свою жертву, а широкая проселочная дорога, пробившая в этих холмах дорогу к паромной переправе, она и есть врата в этот грот. Грот вечного небытия.
Он стоит, вперив во что-то свои маленькие, уже водянистые от возраста голубые глаза, и если проследить его взгляд, невозможно понять, на что именно он смотрит. Его щеки, обычно цветущие здоровым старческим румянцем, побелели от страха. Он точно знает, будто кто-то ему сказал: сейчас на этой дороге появится человек и бросится в уже открытую змеиную пасть.
Кавалеры уже отдали чалки и взялись за шесты, чтобы вывести баржу на середину реки, где ее должно подхватить течение. Сейчас уберут сходни – и в путь! Но тут раздался отчаянный крик Лёвенборга:
– Подождите! Ради бога, подождите!
Все знали, что старик немного не в себе, но невольно опустили шесты.
А он, уверенный, что гигантская змея поджидает очередную жертву, показал на пустую дорогу, точно увидел на ней кого-то.
Каждый знает, что жизнь иногда подстраивает невероятные совпадения. Тем, кто не верит в такие совпадения, скажу, что кавалеры снарядили свою баржу как раз наутро после той ночи, когда молодая графиня бежала из Борга. Конечно, это удивительно, но еще удивительнее было бы, если бы никто не протянул руку помощи молодой женщине в беде.
Она шла всю ночь и – вот вам еще одно совпадение! – выбрала дорогу, ведущую к паромному причалу. И появилась графиня на берегу как раз в ту минуту, когда кавалеры уже были готовы к отплытию. Подошла к паромщику и стала о чем-то с ним говорить. Одета в простое крестьянское платье, никто ее поначалу не узнал, но кавалеры не могли отвести от нее глаз, настолько знакомой показалась им ее повадка.
Не прошло и несколько минут, как на дороге в клубах пыли показалась большая желтая коляска. Графиня оглянулась и тут же поняла: ее ищут. Эта коляска из Борга. Спрятаться на пароме не удастся – паром зачален, и преследователи тут же ее найдут. Единственный выход – готовящаяся к отплытию тяжело груженная баржа. Она, не думая, взлетела по трапу с криком: «Спрячьте меня, спрячьте, умоляю!», споткнулась и упала. Даже не поглядела, что за люди на борту. И слава богу – если бы увидела, скорее бросилась бы под копыта коней.
Кавалеры попросили ее сохранять спокойствие, убрали сходни и, отталкиваясь шестами, вывели баржу на середину реки, где ее подхватило течением.
И как раз в эту минуту коляска подкатила к причалу. В ней сидели граф Хенрик и графиня Мэрта. Граф побежал к паромщику – не видел ли он графиню? Но поскольку ему было неловко признаваться посторонним, что от него сбежала жена, он решил поставить вопрос более хитроумно.
– Кое-что пропало! – сообщил он.
– Вот как, – сказал паромщик.
– Я же говорю – кое-что пропало. Спрашиваю, не видел ли кто-то кое-что.
– О чем спрашивает господин? Что у него пропало?
– Неважно. Важно, что пропало. Я спрашиваю, не перевозил ли паромщик кое-что через реку сегодня утром.
Ясно, что паромщик никак не мог взять в толк, о чем идет речь, поэтому к разговору подключилась графиня Мэрта. Через минуту она уже знала, где находится то, что пропало у графа Хенрика.
– А что за люди на этих баржах?
– Кавалеры… мы их так называем – кавалеры.
– О! – только и молвила графиня и повернулась к Хенрику: – Что ж, твоя жена в хороших руках. Лучше и желать нельзя. Поворачивай лошадей. Едем домой.
* * *
Конечно, графиня Мэрта решила, что на барже уже начался пир горой. Но она ошибалась. Пока желтый экипаж не скрылся из виду, молодая графиня сидела, сжавшись в комочек, на груде укрытых брезентом железных прутьев и не произнесла ни слова – смотрела, как зачарованная, на удаляющуюся коляску с ее мужем и свекровью.
Конечно, точно сказать нельзя, но, скорее всего, Элизабет впервые заметила, в чье общество угодила, только когда коляска исчезла за песчаным холмом. Она вскочила и стала лихорадочно оглядываться, словно опять собиралась куда-то бежать. Кто-то, кто стоял поближе, схватил ее за руку, и она, бессильно застонав, опустилась на место.
Кавалеры молча смотрели. Они не решались с ней заговорить – молодая женщина была на пороге безумия.
Эти бесшабашные головы никогда ни о чем не думали всерьез, и слово «ответственность» им было почти незнакомо. С них хватило бы и железа, тяжким грузом легшего на их непривычные плечи, а тут еще как с неба свалилась эта юная аристократка, удравшая от своего мужа.
Когда они встречались на зимних пирах, кавалеры смотрели на молодую графиню как на сестренку. Почти у всех у них когда-то были младшие сестры, которых они очень любили.
С младшими сестрами следует обращаться нежно и осторожно, не употреблять грубых слов, не затевать дикие мальчишечьи игры. И если кто-то посторонний посмеет оскорбить или обидеть младшую сестренку, следует броситься на него и отколотить как следует, чтобы неповадно было. Младшая сестра – это святое, она не должна изведать зла, коварства и ненависти.
И графиня Элизабет была для них младшей сестрой, веселой и нежной. Когда она вкладывала свои нежные пальчики в их загрубевшие ладони, им казалось, что она хочет сказать: «Смотри, какая я хрупкая! Но ты мой старший брат, и ты обязан защищать меня и от других, и от себя самого». И, завидев молодую графиню, они сразу становились истинными рыцарями.
А сейчас они с ужасом, едва узнавая, смотрели на нее – похудевшая, изможденная, тонкая жилистая шея, бледное до прозрачности лицо. Наверное, ушиблась где-то – на виске ссадина, а светлые волнистые волосы слиплись от крови. Одежда грязная и мокрая от утренней росы – бедняжка шла всю ночь, – башмаки рваные. У кавалеров зародилось страшное чувство – это не она. Это не графиня Элизабет. У той графини, которую они знали, никогда не было таких дико блуждающих, горячечных глаз.
Их младшую сестренку довели до помешательства. Словно бы неизвестно откуда, из вечного мрака явившаяся чужая душа заняла в этом измученном теле место подлинной – доброй, веселой и ласковой.
Но им не надо утруждать себя размышлениями, как ей помочь, потому что она уверена: это очередной соблазн. Бог испытывает ее. Я среди друзей? И что это значит? Покинуть путь покаяния и искупления? Ну нет.
Она вскакивает и отчаянно кричит, что ей надо немедленно покинуть баржу.
Кавалеры пытаются ее успокоить – ну что вы, графиня, здесь вы в безопасности, успокойтесь. Никто вас не посмеет преследовать.
Нет-нет, не в этом дело. Позвольте мне взять вон ту маленькую лодочку, я догребу до берега и продолжу свои странствия.
Но разве могут они позволить себе ее отпустить – одну, больную и измученную? Что с ней будет? Нет, лучше оставайтесь с нами. Мы, конечно, всего-навсего нищие старики, но обязательно что-нибудь придумаем.
Она заламывает руки и умоляет отпустить ее в таком состоянии. Чтобы вы умерли где-нибудь на дороге? Нет, графиня, такую просьбу мы не можем выполнить.
Йоста Берлинг стоит поодаль и смотрит на воду. Наверное, она не хочет его видеть, думает он. Но вдруг это не так? А если не так, то почему бы… Ему приходит в голову мысль, он поворачивает ее так и эдак, но никаких изъянов не замечает. Если это не так, то почему бы нам не увезти ее с собой в Экебю? Никто же не знает, где она находится. Мы увезем ее с собой, мы, кавалеры, спрячем ее, я уверен, что никто из нас не проговорится. Мы будем заботиться о ней, поклоняться ей, она будет нашей владычицей. Она будет владычицей и дочерью для нас, стариков.
Он никогда не задумывался – а может быть, он просто-напросто влюблен в нее? Впрочем, может быть, и задумывался, но строго-настрого запретил себе эту мысль – это был бы страшный грех. Он не может обладать ею, он точно знает, что ни за что не захочет вовлечь ее в пучину греха. Но в том, чтобы спрятать ее в Экебю, никакого греха нет. Окружим ее теплом, братской любовью, особенно после того, что ей довелось пережить. Пусть живет и радуется жизни… ах, какие мечты, какие счастливые, несбыточные мечты!
Его словно пробудил отчаянный крик молодой графини, она упала на колени и уже не просила, не требовала – умоляла ее отпустить.
– Бог меня еще не простил! – повторяла она. – Бог меня не простил! Отпустите меня!
Йоста понял, что никто не решится выполнить ее волю. Значит, это должен сделать он. Он, который любит ее, должен сделать то, о чем просит его повелительница и богиня.
Он двинулся к ней, но вдруг почувствовал, что ему трудно идти. Ноги словно налились свинцом, они не желали подчиняться намерениям своего хозяина. Кое-как он дотащился до графини и пролепетал, что готов отвезти ее на сушу.
Она тут же вскочила с колен. Он помог ей спуститься в лодку, собственно, даже не помог – перенес на руках, потому что боялся, что она в ее состоянии может оступиться и упасть в воду. На восточном берегу, там, где узкая тропинка спускается прямо к воде, лодка уткнулась в песок. Йоста помог графине выйти из лодки.
– И что с вами будет, графиня?
Она подняла руку и серьезно указала пальцем на небо:
– Если вам что-то…
Он осекся – перехватило горло. Но она его поняла.
– Я пошлю за вами, Йоста, если что-то…
– Как мне хотелось бы защищать вас от всех невзгод…
Она протянула на прощание руку. Он не смог выдавить больше ни слова. Даже не решился пожать ее холодную, безжизненную ладошку.
Графиня мало что соображала, она прислушивалась только к внутреннему голосу, властно приказывавшему ей отмаливать свой грех среди чужих людей; рискну даже предположить, что она не понимала, что этот человек – тот самый Йоста Берлинг, кого она так страстно любила.
Йоста проводил ее взглядом и сел за весла. Еле вскарабкался на борт – его трясло от горя, он чувствовал себя несчастным и беспомощным. Ничего труднее делать ему не приходилось. За всю его жизнь.
Но он старался не подавать виду. Не показывать, насколько ему тошно и скверно. Еще несколько дней он делал вид, что ничего не произошло, отвез заготовки на весы в Каникенесете, и тут силы его иссякли.
Пока они плыли на барже, кавалеры ничего не замечали. Йоста изо всех сил старался выглядеть бодрым и беззаботным, потому что только это и может спасти честь Экебю: бодрость и беззаботность. Иначе как бы им удалась вся эта затея?
Если верить слухам, что кавалеры тщательно укрывали брезентом никакое не железо, а на весы возили несколько раз одни и те же пятьдесят шеппундов, что весовщика и его помощников напоили и угостили так, что они совсем ничего не соображали, – если верить этим слухам, вполне понятны два труднообъяснимых факта: зачем кавалеры взяли с собой такое немыслимое количество еды и вина и почему они были так веселы на обратном пути.
Кто знает, может, так и было. Но если это даже так, то Йосту Берлинга эта авантюра не воодушевила. Пока у него не было времени на грусть, он сохранял два главных достоинства кавалеров – бодрость и беззаботность, – но, сделав последний рейс с пятьюдесятью шеппундами железа, он сразу сник.
– О, Экебю, любовь моя, пусть вечно сияет твоя звезда! – восклицал он вместе со всеми, пытаясь вернуть бодрость духа, но из этого ничего не получалось.
Получив от весовщика квитанцию, они погрузили свой груз на венернскую лайбу. Обычно по Венерну баржи водили местные шкиперы, вермландским поставщикам не о чем было беспокоиться: на руках у них была квитанция, удостоверяющая, что договоренную норму поставки они выполнили. Но кавалеры решили довести дело до конца и сами повезли железо в Гётеборг.
А ночью произошло несчастье. Разразился шторм, лайба потеряла управление, натолкнулась на риф и пошла ко дну вместе со своим грузом. Ко дну пошли и рожки, и карточные колоды, и, говорят, даже полные бутыли вина, но в это верится слабо. Никто не погиб. Беда, конечно, но, даже если железо не дошло до заказчика, честь Экебю была спасена. Железо тщательно взвешено, договор выполнен. Майору пришлось взяться за перо и уведомить оптовиков в огромном городе Гётеборге, что в договорные условия вмешалась стихия, и единственное, что он может сделать, – отказаться от оплаты за недоставленный груз.
Экебю – богатое поместье, главное было не навредить репутации и поддержать его честь и славу.
И что из того, что гавани и шлюзы, шахты и угольные ямы, лайбы и баржи начнут перешептываться между собой и рассказывать странные и непонятные истории? Что из того, что кроны деревьев будут непрерывно шелестеть, а в этом шелесте легко различить слово «мошенничество»? Что из того, что вся провинция Вермланд будет утверждать, что никакого железа и не было, если не считать жалких пятидесяти шеппундов? И что кораблекрушение было подстроено? Дерзкая авантюра, вполне в кавалерском духе, удалась на славу. От сплетен честь не страдает.
К тому же так давно это было… Вполне возможно, что кавалеры и в самом деле где-то купили необходимое железо или попросту нашли на каких-то доселе неизвестных складах. Правду мы никогда не узнаем. Весовщик утверждал, что с его опытом он бы пресек любую попытку мошенничества.
Кавалеры вернулись домой, и их обрадовали хорошей новостью. Граф Дона послал дворецкого в Италию раздобыть доказательства, что его брак недействителен. И тот вернулся с положительным ответом. Что это означает, я точно сказать не могу. Со старыми историями надо обращаться осторожно, они – как сухие розы: стоит только притронуться, лепестки тут же начинают осыпаться. Поговаривают, что венчал какой-то неправильный священник. Больше ничего мне не известно, но несомненно одно: суд в Бру признал не имеющим законной силы брак между графом Хенриком Дона и Элизабет фон Турн.
Но молодая графиня ничего про это не знала. Жила где-то среди крестьян в отдаленной деревне. Если вообще была жива.
Дом Лильекруны
Среди кавалеров был один замечательный музыкант, я его уже упоминала. Высокий, крепко сложенный человек с большой головой и густой черной шевелюрой. Вряд ли ему в то время было больше сорока, но некрасивое, грубо вылепленное лицо и медлительная повадка прибавляли ему лет, и многие считали его стариком. Это был добрый, но очень грустный человек.
Как-то после обеда взял он под мышку свою скрипку и ушел из Экебю. Ни с кем даже не попрощался, хотя у него и не было намерения возвращаться. Его тяготила жизнь во флигеле, особенно после того, как он увидел, какое несчастье случилось с графиней Элизабет.
Он шел без отдыха. Весь вечер, всю ночь шел он, пока на рассвете не добрался до маленькой усадьбы у подножия лесистого холма. Усадьба эта называлась Лёвдала и принадлежала не кому-нибудь, а ему, Лильекруне.
Было так рано, что все еще спали. Лильекруна присел на зеленую доску качелей и посмотрел на свои владения. Господи, разве найдешь место красивее этого? Пологий склон перед домом порос нежно-зеленой газонной травой – ни у кого не видел он такого газона. На нем паслись овцы, играли дети, а трава оставалась густой и сочной. Никто и никогда траву не стриг и не косил. Разве что экономка раз в неделю приказывала вымести ветки, сухие стебли и листья. Он посмотрел на песчаную дорожку перед домом и невольно подобрал ноги: детям, должно быть, велели разрыхлить песок граблями, а они нарисовали на дорожке замысловатый узор. И он его затоптал своими ножищами. Даже крякнул от досады.
И как здесь все растет! Шесть рябин по краям лужайки разрослись так, что высотой стали, как буки, и раскидисты, как дубы. Таких и не видывал никто. Как они прекрасны со своими толстенными стволами, покрытыми желто-зеленым мехом лишайника! А темно-зеленая резная листва, подмигивающая глазками белоснежных соцветий! Наводит на мысль на звезды в ночном небе… Можно только удивляться, как такие деревья могли вырасти на хуторе. А вон там старая ива, и она тоже потолстела неимоверно – два мужских обхвата, не меньше. Она, конечно, уже не та, вся изрыта дуплами, сердцевина начинает гнить, а верхушка срезана молнией. Но умирать не собирается. Каждую весну из искалеченного ствола выстреливает свежая, молодая зелень, словно хочет сказать: погодите, погодите, рано меня хоронить!
Черемуха у торца тоже выросла так, что чуть не весь дом умещается в ее тени. Торфяная крыша вся белая от лепестков – значит, уже отцвела. А для березок на лугу здесь просто рай. Они собрались группками на лугу и передразнивают другие деревья: одна похожа на липу с широкой пушистой кроной, другая вырядилась тополем и тянется к небу высокой пирамидой, а третья с притворной скорбью показывает поникшие ветки – ну чем я не плакучая ива? Ни одна не похожа на другую, и все красоты необыкновенной.
Он встал, не торопясь обошел дом и оказался в саду. Сад за домом был так красив, что у него захватило дух. Яблони, все до одной, стояли в цвету. Собственно, чему тут удивляться – он видел по дороге цветущие яблони и у других, но нигде они не цвели так роскошно, с таким захватывающим вдохновением, как в этом саду. Его всегда зачаровывали цветущие яблони. Каждую весну, с тех пор как он женился, он с нетерпением дожидался поры цветения.
Лильекруна, молитвенно сцепив пальцы, шел по песчаным дорожкам. Земля побелела от лепестков, и яблони стояли совершенно белые, даже листьев не видно. А некоторые, должно быть, захотели выделиться и добавили в девственную белизну воздушный нежно-розовый оттенок. Для него в мире не было ничего красивее цветущих яблонь. Он знал каждое дерево, как знают своих братьев и сестер, как знают товарищей по детским играм. Вот астраханские, цветы белые, как у всех зимних сортов, а райские яблочки цветут веселыми красными огоньками. А самая красивая яблоня вон та, одичавшая. Яблоки кисло-горькие, есть их невозможно, поэтому дерево перестали обрезать. Яблоня разрослась, и сейчас похожа на огромный, только что нанесенный сугроб, искрящийся в лучах восходящего солнца.
Не забывайте, что еще очень рано! Роса за ночь хорошо потрудилась, отмыла сад до глянца и отдыхает, скопившись матовой пыльцой на листьях и траве. Уже светло, но солнце еще не взошло. И только сейчас внезапно загорелись верхушки елей на вершине холма, и из-за них веером брызнули первые лучи солнца. На клеверном поле, над посадками ржи и ячменя бродят последние легчайшие завитки предутреннего тумана и лежат четкие, как в полнолуние, тени.
Он постоял и посмотрел на огородные грядки. Хозяйка и служанки поработали на славу. Вскапывали, рыхлили, удобряли, выдирали вездесущий пырей, следили, чтобы почва была рыхлой и легкой. А чтобы грядки были ровными и красивыми, вбивали колышки, натягивали между ними вожжи и намечали ровный ряд лунок для посадок, да так, чтобы они были на одинаковом расстоянии. И друг другу не мешают, и смотреть приятно. Потом утаптывали дорожки между грядками – мелкими, смешными шажками, будто танцевали какой-то детский танец. А потом сажали, сажали и сажали, пока не заполнят каждую грядочку, пока не останется ни одной свободной лунки. И дети помогали, копали и сажали, хотя для них работа нелегкая – полдня, согнувшись, дотягиваться до каждой лунки на широкой грядке. Но пользы от них было немало: дети работали с удовольствием, потому что потом видели результаты своего труда.
А сейчас уже появились первые всходы. Господи, благослови их – и горох, и фасоль, благослови эти ростки, эти первые пухлые листочки, эти маленькие сердечки. Благослови морковь и репу, они тоже дружно пошли, ни одна лунка не пуста. А забавнее всех ростки петрушки – они приподнимают комочек земли и выглядывают оттуда, словно играют в прятки. С кем? С самой жизнью?
А вот еще грядка, не такая ровная, как остальные. Здесь на маленьких клочках посажено все, что может расти, точно на пробу. Это детский огород, тут хозяйничают дети.
И Лильекруна взял свою скрипку, прижал ее подбородком и начал играть. Тут же в кустах, прикрывающих сад от северных ветров, запели птицы, точно ждали его сигнала. Ни одна тварь Божья, во всяком случае из тех, у кого есть голосовые связки, не может хранить молчание в такое утро.
Лильекруне казалось даже, что он и рукой не шевелит, смычок сам порхает по струнам, как бабочка.
Он ходил по тропинкам сада и продолжал играть.
Нет на земле места прекраснее. Что там Экебю рядом с Лёвдалой? Правда, крыша его дома торфяная, и всего один этаж, но зато стоит он у самого подножия холма, на опушке леса, и перед ним расстилается долина. И вроде бы ничего примечательного – ни озера, ни водопада, ни парка с подстриженными кустами, – но красиво до слез. Красиво, потому что это место дышит миром и покоем, потому что жить здесь легко и радостно. Горечь и ненависть, злоба и зависть не могут прижиться в таком месте. Так и должно быть в настоящем Доме.
А тем временем в этом самом настоящем доме просыпается хозяйка в своей спальне. Она открывает глаза и слушает, но не встает. Лежит, улыбается и слушает. А музыка все ближе, все звучнее, и, наконец, неведомый скрипач остановился, не прерывая игры, совсем рядом.
Не впервые, ох, не впервые слышит она скрипку под своим окном. Он всегда так и появляется, ее муж, когда они там, в Экебю, чересчур уж набедокурят, эти кавалеры. Приходит, достает скрипку, исповедуется и просит прощения. В ней все, в этой музыке, – темные силы, неодолимая тяга прочь, влекущая его от жены и детей. И любовь, конечно, потому что любит он их больше жизни.
Конечно же любит. А как же!
Она улыбается и начинает одеваться, не особенно понимая, что надевает, настолько тронута и взволнована она музыкой.
Не роскошь и не красивая жизнь уводят меня из дома, поет скрипка, не любовь к другой женщине, вовсе нет. Соблазн окунуться в кипящий водоворот жизни, узнать ее прелесть, ее горечь и богатство. Но теперь с меня хватит, я устал и видел все, что хотел увидеть. Я вернулся насовсем. Прости меня, не гневайся и прости!
Она отдергивает штору. Открывает окно, и он видит ее доброе, красивое, улыбающееся лицо.
Она не только добра и красива, его жена. Она мудра. Куда ни упадет ее взгляд, он, как солнечный луч, приносит жизнь и радость, все начинает цвести и плодоносить. Она хозяйка и работница, царица и служанка. Она дарительница счастья.
Он перемахивает через подоконник и счастлив, как юный любовник. Он выносит ее на руках в сад, сажает под яблоней и объясняется в любви. Он говорит, как она красива, как красив ее сад, как красивы детские грядки и как забавен выглядывающий из-под комочка земли листик петрушки.
И дети проснулись – какой восторг! Окружили отца, потащили показывать новости – детский кузнечный молоточек, птичье гнездо на иве, двух новорожденных жеребят, мальков карасей в запруде.
А потом все – отец, мать и дети – идут на поля. Он должен видеть, как дружно взошла рожь, как буйно растут клевер и вика, как картошка понемногу раскрывает первые сморщенные листочки.
Отец во что бы то ни стало должен посмотреть, как возвращаются с пастбища коровы, погладить телят и ягнят, в курятнике поискать снесенные яйца, угостить лошадей хлебом.
Дети не слезают с отца весь день. Какие там уроки, какая работа – отец приехал!
Вечером он играет для них польки и галопы. Нет лучшего товарища для игр, чем отец! И они засыпают с кроткой молитвой – Господи, сделай так, чтобы папа остался с нами…
Он и остается. На восемь дней. Все восемь дней он веселится, играет с детьми и дурачится как мальчишка. Он обожает свой дом, обожает свою жену и детей и даже не вспоминает Экебю.
Но на девятый день исчезает. Слишком много. Он не выдерживает такого наплыва счастья. Экебю в сто раз хуже, но… Экебю в центре водоворота событий, там есть о чем мечтать, есть о чем тосковать его скрипке. Как можно жить без вечных дурачеств кавалеров, вдали от продолговатого озера Лёвен, где никогда не кончается дикая пляска приключений?
А в его имении продолжается размеренная, тихая жизнь. Под спокойным и ласковым присмотром его жены созревают овощи и фрукты, подрастают телята, ягнята и жеребята. Все, что в другом месте вызвало бы гнев и раздражение, не находит здесь почвы, хиреет и растворяется в повседневном счастье. Все, как и должно быть. Хозяин тоскует по своим друзьям-кавалерам – и что из того? Мы же не жалуемся на наше светило, что оно каждый вечер исчезает на западе и оставляет землю дрожать в холоде и темноте.
Покорность судьбе и терпение победить нельзя. Покорность судьбе и терпение всегда выходят победителями.
Довресская ведьма
Опять бродит по берегам Лёвена довресская[26] ведьма. Ее уже многие видели: маленькая, горбатая, в грубой кожаной юбке, подпоясанной кушаком с серебряной чеканкой. Зачем она выбралась из своего волчьего логова, зачем, что ей надо? Что она, обитательница горных пещер, ищет в зеленеющих долинах?
Она просит милостыню. Подумайте, она просит милостыню! До чего же она жадна! Ей мало несметных богатств, спрятанных в ущельях и гротах, ей мало серебряных слитков, спрятанных в гротах и ущельях. Бесчисленные стада черных коров с золотыми рогами пасутся на горных пастбищах, а ей все мало – бродит по дорогам в берестяных лаптях и кожаной юбке, до того грязной и засаленной, что и узор не разглядишь. Зато пояс у нее с затейливой серебряной чеканкой. Курит трубку, набитую мхом, и клянчит милостыню у последних бедняков. Как не совестно, ведь даже спасибо не скажет. Все ей мало!
Стара она, довресская ведьма, очень стара. Представить невозможно, что когда-то и она была молодой, что на лоснящейся жиром широкоскулой темной физиономии когда-то играл свежий румянец юности, что когда-то забиралась она на забор у своей избушки и заманивала молоденьких пастухов, отвечая на любовные призывы их дудочек? Много сотен лет живет она на свете, много сотен лет бродит по берегам Лёвена. Самым древним старожилам еще их родители рассказывали: сколько они себя помнят, никогда молодой ее не видели. Она и сейчас жива – я, пишущая эти строки, сама ее встречала. Ужасная старуха. И какая могущественная!
Поговаривают, что она дочь финских колдунов, а финские колдуны, как известно, ни перед кем не склоняют головы. То, что она колдунья, понятно сразу – ее широкие ступни не оставляют следов. Не оставляют следов! Она может накликать град, грозу, завести стадо в такую глухомань, что не выбраться, послать волков в овчарню. Все знают, что лучше с ней не ссориться. Отдайте ей все, что она просит: козу, фунт шерсти, все, на что упадет ее недобрый глаз. Отдайте, если не хотите, чтобы пала лошадь, сгорела хижина, чтобы корова перестала доиться, чтобы умер ребенок, а хозяйка, на которой все держится, потеряла рассудок. Отдайте!
Никто и никогда не приглашает ее в гости, но уж если она появится, встретьте ее с приветливой улыбкой. Кто знает, что у нее на уме? Если вы думаете, что она бродит по дорогам ради того, чтобы наполнить подаяниями свою нищенскую суму, будьте уверены: это не так. Никогда не проходит бесследным ее появление. Личинки плодовых комариков сотнями тысяч собираются вместе и длинными змеями ползут по земле – верный признак беды; хрипло лают лисы, и филин ухает так, что кровь застывает в жилах, и гусеницы бабочек с подходящим названием «мертвая голова» ползут караванами к порогу вашего дома. Любой вермландец знает – это не к добру.
Горда, очень горда и обидчива довресская ведьма. Тысячелетняя мудрость предков и злая, гордая душа – какое опасное сочетание! На ее посохе искусно вырезаны загадочные руны, но ни за какие деньги не согласится она его продать, этот посох. Она помнит все заговоры и проклятия, умеет варить любое зелье, знает все волшебные травы и корни. Может развязывать морские узлы и выпускать на волю штормы и ураганы. И будьте уверены, все, что нашепчет она над зеркальной гладью озера, непременно сбудется.
Ах, если бы я умела читать мысли, родившиеся в ее тысячелетнем мозгу! Что думает она о нас, живущих в долине? Она, привыкшая к сумраку лесов и холодному величию горных вершин? Она, сохранившая веру в кровожадного Тура и неизвестных, но могущественных финских богов[27], наверняка смотрит на нас, христиан, как волк смотрит на дворовую собачонку. Дикая, как февральская вьюга, неукротимая, как бурлящий речной порог, как она может любить нас, беспечных детей цветущих равнин?
Нет, любить она нас не может, но любопытство иногда тревожит даже ее древнюю душу – интересно, как там эти жалкие карлики? Мы, люди, дрожим, когда видим ее, а ей страх неведом – чего ей бояться, когда мы сами, завидев ее, трепещем от ужаса? Не забыты ее проклятия, не забыты навлеченные ею и ее предками бедствия. Как кошка, завидевшая мышь, не сомневается в крепости своих когтей, так и она верит в свою вековую мудрость, в непреодолимую силу тайных заклятий древних скандинавских богов. Она уверена в своей власти в мире страхов, как ни один король не уверен в своем королевстве.
Много сел и усадеб прошла довресская ведьма. Наконец добралась она и до Борга и без всякого стеснения решительно пошла к парадному подъезду. Черный ход не для нее. Уверенно, как в своих горных владениях, прошла по усыпанной розовым гравием, усаженной с обеих сторон цветами дорожке, и кто хотел, заметил, что обутые в берестяные лапти широкие ступни ее не оставляют следов.
И так случилось, что как раз в эту минуту вышла на крыльцо графиня Мэрта. Ей захотелось подышать теплым июньским воздухом.
Две служанки несли из бани свежекопченые окорока[28] и, увидев хозяйку, остановились.
– Попробуйте, госпожа, – сказала одна из них. – И понюхайте. Достаточно ли прокоптились?
Графиня Мэрта, хозяйка Борга, перегнулась через перила и увидела, как грязная старуха нищенка положила руку на один из окороков.
И я ее понимаю, эту ведьму! Посмотрели бы вы на эти огромные, отливающие старым золотом, пахнущие можжевеловым дымом окорока, на этот толстый слой розового сала! Пища исчезнувших богов…
Конечно же старуха положила на окорок руку!
Довресская ведьма, гордая дочь горных вершин и непроходимых лесов, не привыкла просить. Просить должны ее, ведь это по ее милости людям позволено жить в этих краях, деревьям расти, а цветам цвести. Она способна затеять вьюгу, послать мороз, устроить наводнение или засуху – все эти губительные выходки природы в ее власти. Поэтому довресская ведьма никогда не унижается до просьб.
Она кладет ладонь на то, что ей понравилось, – это мое.
Но графиня Мэрта никогда не слышала про довресскую ведьму. В светских салонах ничего про нее не рассказывали.
– Прочь отсюда, попрошайка! – прикрикнула она.
– Окорок мой, – спокойно отвечает старуха.
Сами подумайте, что ей волноваться – ей, волчьей наезднице?
– Да ты рехнулась! – удивилась графиня Мэрта. – Несите окорока в чулан.
– Я сказала – вот этот окорок, потемнее других, мой. Не отдашь – пеняй на себя.
– Да я скорее сорокам отдам, чем такой нахалке, как ты!
И тут старуха вышла из себя. Она подняла свой изрезанный рунами посох, глаза загорелись диким огнем, волосы поднялись дыбом и затрепетали, как на ветру, хотя было совершенно тихо. Она прошептала что-то непонятное, замерла на секунду и сразу, как по команде, успокоилась.
– Сорокам? – усмехнулась она и опустила посох. – Будут тебе сороки. Сороки тебя и склюют.
И ушла, шепча что-то себе под нос, показывая посохом то на юг, то на север.
Графиня Мэрта посмеялась над глупой нищенкой и ее бессильной яростью. Но скоро, очень скоро улыбка исчезла с ее лица.
Они появились!
Графиня сначала не поверила своим глазам. Она даже решила, что спит, ущипнула себя за руку. Нет, она не спала. В небе появились они – сороки. И этим сорокам безумная старуха повелела ее склевать.
Из парка, из сада, отовсюду летели они – десятки, может быть, сотни огромных черно-белых птиц с хищно выставленными клювами и растопыренными когтями. Они орали так, что, наверное, на всем Лёвене было слышно. У графини зарябило в глазах и закружилась голова, она уже не различала отдельных птиц в этом истерически хохочущем черно-белом урагане. В утреннем ярком свете оперение птиц отливало зловещим металлическим блеском, а шеи угрожающе нахохлены, как у орлов или коршунов. Эти необычные сороки стали нарезать круги вокруг графини, все ближе и ближе. Она закрыла лицо руками, вбежала в сени, захлопнула дверь и прижала ее спиной. Слушала, как там, во дворе, беснуются птицы, и изнемогала от ужаса.
И лето для графини закончилось. Все сладкое буйство ожившей природы прошло мимо нее. Она проводила все время в закрытой комнате, с опущенными шторами, в страхе, растерянности, отчаянии, граничащем с помешательством.
Конечно, этот рассказ кому-то покажется нелепой выдумкой, но, к сожалению, он правдив от первого до последнего слова. Сотни людей могут засвидетельствовать, что так оно и было.
Птицы были везде – на перилах лестниц, на крыше, на деревьях, даже на грядках. Они только и ждали, когда появится графиня, чтобы броситься на нее. Они поселились даже в парке! В парке, где сорок никогда не было. И выгнать их было невозможно. Ружья не помогали: вместо убитой сороки появлялось десять других. Иногда эта огромная стая улетала в поисках пищи, но всегда оставался десяток-другой дежурных. И стоило графине выглянуть в окно или даже просто отдернуть штору, я уж не говорю, о том, чтобы выйти на крыльцо, они тут же бросались на нее с яростным криком и так страшно хлопали крыльями, что она торопилась поскорее скрыться в своем убежище.
Она поселилась в маленькой спальне рядом с красной гостиной. Мне рассказывали, как выглядела ее комната во времена осады Борга сороками. Тяжелые занавеси на дверях и окнах, толстые ковры на полу, неслышно ступающие слуги и посетители.
Она ни на секунду не могла забыть о постигшем ее проклятии. В душе ее поселился ужас. Она поседела, на щеках появились морщины, которые, впрочем, давно уже выжидали удобный момент. За несколько недель графиня сделалась старухой. Мысли о проклятии довресской ведьмы не отпускали ее ни на минуту. Иногда она просыпалась по ночам с отчаянным криком, вся в холодном поту: ей постоянно снилось, что сороки рвут ее на части. Она часами рыдала над своей горькой судьбой, но избежать ее не могла. Она боялась людей, ей казалось, что с каждым входящим в комнату врывается стая разъяренных черно-белых птиц. И все чаще видели, как она, закрыв лицо руками, часами качается в кресле-качалке. Молча, вперед-назад, вперед-назад, и иногда только вскрикивает без всякого внешнего повода.
Трудно придумать более горькую судьбу для светской женщины. И как ее не пожалеть?
Разумеется, то, что я про нее рассказала, вряд ли ее украшает. Мне сейчас кажется, я вообще ничего хорошего про нее не написала, и думаю, зря. Ведь она в молодости была доброй, веселой, жизнерадостной девушкой, истории про ее молодые проказы до сих пор радуют мое сердце, хотя в рассказе для них места не нашлось.
Она и в самом деле была очень мила. Но беда ее в том, что она не знала и не хотела знать одного: душа человеческая вечно голодна, и если кормить ее только играми, развлечениями и путешествиями, она ищет чего-то другого, мечется и, как дикий зверь, терзает души других, а потом и себя саму.
В этом, пожалуй, главный смысл этой грустной истории.
День летнего солнцестояния
Стояла середина лета, как, впрочем, и сейчас, когда я пишу эти строки. Самое чудесное время в году.
Время, когда Синтраму, злобному и коварному заводчику из Форса, всегда было не по себе. Его бесило триумфальное шествие света, постепенно, но уверенно пересиливающего тьму. Его бесил роскошный зеленый наряд деревьев, бесил укрывший луга разноцветный ковер.
Вся природа купалась в красоте. Даже проселок, обычно серый и пыльный, постелил по обочинам желто-лиловые дорожки купыря и лядвенца.
И когда настал день летнего солнцестояния во всем его великолепии, когда поплыл над долиной перезвон церковных колоколов в Брубю, Синтрам не выдержал. Ему казалось, что не только Бог забыл его, но и люди набрались нахальства и даже не вспоминали о его существовании.
Он решил поехать в церковь. Только представьте себе – Синтрам решил поехать в церковь! Ничего, они вспомнят Синтрама. Синтрама, предпочитающего ночь без рассвета, смерть без воскресения, зиму без весны.
Надел волчью шубу, меховые варежки, запряг Рыжего не в двуколку, а в сани, велел привязать к сверкающей, изукрашенной медными застежками сбруе зимние бубенцы. Словом, собрался так, будто на улице было не лето, а тридцатиградусная стужа. Сел в сани и погнал в Бру. Он воображал, что полозья саней скрипят из-за мороза, а белая пена на спине Рыжего вовсе не пена, а иней. Он не чувствовал жары, потому что от него самого исходил холод, как от солнца исходит тепло.
Он катил по широкой степи, что лежит к северу от Бру. Ему попадались села, поля, засеянные рожью, над которыми, неподвижно повиснув в небе, заливались жаворонки. Никогда и нигде не видела я столько жаворонков, как в этих местах. И мне до сих пор кажется странным: неужели он не слышал, как поют сотни этих первоклассных певцов? Как можно остаться глухим к пению жаворонков?
Впрочем, не только жаворонки, многое вывело бы его из себя, если бы он внимательно посмотрел вокруг. Он бы увидел березки у дверей чуть не каждой хижины, березки, приветствующие хозяев легким поклоном. А если бы он, не дай бог, заглядывал в окна, везде увидел бы украшенные полевыми цветами и зелеными ветками стены и потолки. Любая девчонка-нищенка несла ветку сирени, а крестьянки, все до одной, шли в церковь с букетиками полевых цветов, завернутых в белые платочки.
Майские шесты[29] с гирляндами уже слегка увядших цветов стояли чуть не в каждом дворе, а трава вокруг была изрядно утоптана – веселье и танцы продолжались всю ночь.
На озере готовили плоты. Плотогоны тоже никуда не торопились, подняли маленькие белые паруса – больше для красоты, потому что ветра и в помине не было, а мачты украсили венками из цветов.
На зов колокола отовсюду шли прихожане. Особенно хороши были женщины в светлых домотканых платьях, специально сшитых к этому дню. Но и мужчины не отставали, все были одеты нарядно и празднично.
И люди не уставали радоваться теплу, покою, отдыху от постоянной тяжелой работы, обилию уже начинавшей краснеть земляники на обочинах. Они смотрели на безоблачное небо, прислушивались к пению жаворонков и говорили друг другу:
– Ясное дело, Бог позаботился. Такой денек от Бога, от кого же еще.
И тут появился Синтрам. Ругаясь черными словами, с нахмуренными бровями и гневно сморщенным под меховой шапкой лбом, нахлестывал он измученного коня. Мерзко, как нож по стеклу, скрипел под полозьями саней песок, а пронзительный звон бубенцов заглушал церковные колокола.
Вздрогнули прихожане, будто привиделось им само воплощенное зло. Даже в ясный день летнего праздника не дано им забыть про зимнюю стужу, даже в просветленные души вкрадывается ненависть и зависть. И нет от них спасения. Как же горька наша доля, доля странников, вечно бредущих по земле и не ведающих, что ждет нас за ближайшим поворотом…
Прихожане замерли в недобром предчувствии – и те, кто укрылся от солнца в тени церкви, и те, кто сидел на ограде погоста в ожидании службы. Только что сердца их были полны умилением и благодарностью Господу за то, что Он одарил их счастьем шагать по земным тропам и радоваться ласковому летнему празднику. Но сейчас, когда они увидели Синтрама, всем стало не по себе, в души закрались недобрые предчувствия.
Синтрам вошел в церковь, сел и швырнул свои рукавицы на стул так, что скребущий звук вшитых в них волчьих когтей услышали все, кто был в церкви. Этот скребущий звук, Синтрам в волчьей шубе в теплый летний день – все было так страшно и неожиданно, что несколько женщин в первых рядах упали в обморок, и их пришлось выносить на воздух и откачивать.
Но никто не решался выгнать Синтрама. Он нарушил теплую молитву, с которой люди обращались к Господу, он испортил миг духовного просветления и очищения, и все же никто не решался его выгнать, такой страх наводил на всех Синтрам.
Старый прост пытался говорить что-то о лете, о торжестве света и добра, но где там! Никто его не слушал, прихожане не могли отвести глаз от Синтрама и невольно вспоминали всё зло, что видели они в жизни, вспоминали морозы, в которые не согреешься. Вспоминали и повторяли про себя: не к добру он приехал. Не к добру.
А когда служба закончилась, злодей, опередив всех, взбежал на самую вершину холма над церковью. Посмотрел на пролив, на усадьбу пастора. Потом перевел взгляд на юг, где в синеватой дымке виднелись два мыса; отсюда казалось, что они сходятся и там озеро и кончается. И на север посмотрел он, далеко на север, туда, где высится мрачная гора Гурлита, туда, где озеро берет свое начало. Посмотрел, задыхаясь от ярости, на запад, на восток и погрозил кулаком. И все поняли, что если б он мог, если бы он, как древние асы, владел искусством метать молнии, то начал бы в дикой радости громить все вокруг, сея разрушение и смерть, плач и стоны по всей земле. Он так приучил свое сердце к злодейству, что ничто, кроме зла, его не радовало. Полюбив зло, Синтрам с годами полюбил все мерзкое и безобразное, все, что несет на землю распад духа и зависть. Он был помешан, зло свело его с ума, он был страшнее, чем самый отъявленный сумасшедший.
Но этого никто не понимал.
Потом рассказывали странные истории. Церковный сторож пришел закрыть церковь и сломал ключ – кто-то натолкал бумагу в скважину. На бумаге было что-то написано. Он расправил ее и отнес просту. Думаю, вы, мои читатели, сразу поняли – это было письмо из другого мира, мира тьмы и неслыханных злодейств.
Пастор никому не рассказывал о содержании письма. Он его сжег, но сторож видел, как в пламени, из черноты внезапно повалившего густого дыма, проступили кроваво-красные буквы. Сторож, конечно, не мог удержаться, чтобы не прочитать, что там написано. Злодей собирается опустошить эту землю, чтобы никто не мог не только приходить в церковь в Бру, но даже смотреть на нее, он хочет, чтобы церковь поглотили непроходимые леса, а в человеческих жилищах поселились лисы и медведи. Чтобы никто не обрабатывал землю, чтобы люди ушли отсюда, чтобы не было слышно собачьего лая и пения петухов. Злобный заводчик хочет выслужиться перед своим хозяином, духом тьмы, он хочет причинить людям как можно больше зла.
Вот что прочитал на пылающем дьявольском послании церковный сторож.
И люди ждали беды. Они молча ждали беды, потому что знали: велика власть злодея, ненавидит он все живое. Более всего желал бы он, чтобы край поразил голод, или чума, или на худой конец война, и тогда ему наконец удастся избавиться от каждого, кто любит полезную, приносящую радость работу.
Госпожа Музыка
Йоста Берлинг помог молодой графине бежать и впал после этого в уныние. Ничто не могло вывести его из тоскливого оцепенения, и кавалеры решили прибегнуть к помощи всесильной феи – госпожи Музыки. На свете немало фей, но поверьте, ни одна из них не утешила столько несчастных, как эта удивительная дама, госпожа Музыка.
В этот июльский вечер в большом зале в Экебю открыты все двери и отодвинуты оконные шпингалеты. Огромное красное солнце залило штофные обои закатным румянцем, и в зал, куда после зимних балов никто, кроме слуг, не заходил, властно ворвался напоенный степными ароматами воздух.
Убраны полосатые чехлы с мебели и с клавикордов, сняты тюлевые коконы с венецианских люстр, засияли позолотой ножки мраморных столов – признаюсь, никогда не могла понять, почему эти ножки делают в виде грифонов. На черной доске над зеркалом пустились в пляс белые нимфы. Затейливый узор шелковых тканей заиграл драгоценным отливом. И розы, розы… каких только роз тут не было! Их тонкий аромат вплетался в степные запахи, как вплетается в оркестр солирующая скрипка. Невозможно даже перечислить все сорта роз, свезенных в Экебю из дальних стран, о которых никто и не слыхивал. Палевые с алыми, похожими на кровеносные сосуды прожилками, махровые сливочно-белые, нежно-розовые, с лепестками, почти прозрачными по краям, и, конечно, темно-красные, с прячущимися в них загадочными тенями. Одним словом, все розы, которые Альтрингер когда-то свез со всего света в Экебю ради того, чтобы загорелись радостью глаза любимой женщины.
Притащили пюпитры и ноты, и валторну, и флейту, гобой и фагот, и, конечно, струнные – три скрипки, альт и две виолончели. А как же еще, если в этот вечер почетное место займет не кто иной, как всеми любимая добрая фея, госпожа Музыка, и попробует своими чарами возродить к жизни Йосту Берлинга.
Госпожа Музыка выбрала Оксфордскую симфонию добродушного папаши Гайдна и долго репетировала с кавалерами. Патрон Юлиус взял дирижерскую палочку. Все кавалеры владели, самое меньшее, одним инструментом, и нечему тут удивляться, иначе они не были бы кавалерами. Но им бы ни за что не освоить сложную пьесу, если бы замечательный музыкант Лильекруна не приспособил партитуру к их возможностям – не забывайте, что кавалеров было всего двенадцать, а без Йосты Берлинга – одиннадцать.
И только когда Лильекруна провел смычком по струнам и все загудели вразнобой, настраивая инструменты на заданную ноту «ля», только когда все было готово, послали за Йостой.
Йоста, как и все последнее время, уныл и подавлен, но и его тронули торжественные лица музыкантов и убранство зала. Кто же не знает, что для тех, чья душа страдает, нет лучшего лекарства, чем бальзам, который может предложить госпожа Музыка. Трудно даже представить, сколько… несчитаное число душевных ран залечено с ее помощью! Она весела и игрива, как дитя, горяча и порывиста, как юная девушка, мудра и печальна, как состарившаяся женщина, с грустной улыбкой вспоминающая дни своей молодости.
И вот зазвучали первые вздохи скрипок, задумчивая мелодия виолончели, нежное соло гобоя.
Гобой сегодня поручен маленькому Рустеру, и он отнесся к этому делу чрезвычайно серьезно. Нацепил очки, чтобы лучше видеть ноты, и осторожно нажимает клапаны непривычными пальцами. Дядюшка Эберхард поглощен виолончелью: парик сполз набок, губы все время шевелятся, словно он не уверен в своей игре и в случае чего готов бросить виолончель и сам спеть свою партию. Капитан Кристиан Берг гордо держит перед собой высокий, несказанной красоты фагот и чуть не в каждом вступлении, забыв про указания госпожи Музыки, дует в него во всю силу своих могучих легких. Патрон Юлиус в таких случаях делает шаг к неистовому фаготисту и щелкает его по глупой голове дирижерской палочкой.
Ах, как замечательно получается у кавалеров! В мертвых нотных линейках словно по волшебству оживает и улыбается сама госпожа Музыка, теперь и она здесь, ее приход нельзя не заметить. Распахни свою волшебную мантию, госпожа Музыка, заверни в нее Йосту Берлинга и унеси в край веселья и радости, в тот край, где он чувствует себя как дома!
Смотри, это же он, Йоста Берлинг, сидит в углу, бледный и несчастный. Это его, как малого ребенка, хотят развлечь старики кавалеры. Радость покинула Вермланд.
Я очень хорошо понимаю, почему так любили его старики кавалеры. Я очень хорошо понимаю, какими долгими, какими бесконечно долгими могут быть зимние вечера, как тоскуют жители запрятанных в лесной глуши усадеб, и я очень хорошо понимаю, как обрадовались кавалеры, когда во флигеле появился Йоста Берлинг.
Представьте воскресный вечер, когда все дела переделаны, когда нечем заняться, когда в голову заползают мрачные мысли. Кажется, что переделаны не только сегодняшние дела, а что все хорошее уже позади и уже не ждет их последняя улыбка судьбы. Представьте не стихающий неделями северный ветер, выстуженный флигель, который невозможно натопить, даже если жечь дрова сутками. Представьте единственную сальную свечу, с которой надо постоянно снимать отвратительный нагар, представьте монотонное пение псалмов в кухне!
И тут звенят задорные бубенцы, весело скрипит снег под полозьями саней, кто-то топчется у порога, стряхивает снег с сапог, и появляется неунывающий Йоста Берлинг. Он хохочет и сыплет шутками, он открывает пыльные клавикорды и играет так, что удивляешься, как выдерживают старые струны. Он знает все песни, может сыграть любую мелодию. Он заражает всех своей молодостью и весельем, достаточно поглядеть на него, и рот расползается в улыбке. Никогда не мерзнет Йоста Берлинг, всегда весел и неутомим. Глядя на него, кавалеры забывают про горести и болезни. А какое сердце у Йосты Берлинга, какое доброе сердце! Как сострадает он бедным и несчастным! А какой умница!
Вы бы только послушали, как нахваливали его старые кавалеры!..
А сейчас… не успело задумчивое вступление перейти в оживленное аллегро, он разрыдался. Сжал лицо ладонями и разрыдался. Вся его жизнь кажется ему сплошным кошмаром. И это не кроткие, очищающие слезы, которые обычно старается вызвать госпожа Музыка, нет, это слезы отчаяния.
И патрон Юлиус останавливает оркестр. Он не знает, что делать. И даже госпожа Музыка, всесильная муза и любимица Йосты Берлинга, замирает в растерянности… но ненадолго. Она вспоминает, что у нее в резерве есть еще один боец.
Кроткий Лёвенборг. Старый Лёвенберг, потерявший невесту в мутных волнах Кларэльвена. Он предан Йосте Берлингу еще сильнее, чем остальные. Неуверенно подходит к клавикордам и гладит их полированную, с красивой древесной текстурой крышку.
Там, наверху, во флигеле, Лёвенборг намалевал клавиатуру на деревянном столе и поставил на него пюпитр. Белые и черные клавиши. Он сидел часами, разучивая гаммы и этюды, пока не достиг необходимой беглости, чтобы взяться за сонаты Бетховена. Госпожа Музыка, очевидно, одобряла это беззвучное музицирование, иначе откуда бы взяться терпению переписать и выучить все тридцать две сонаты?
Но старик Лёвенборг никогда не решался подойти к клавикордам. Они внушали ему почтительный ужас. Они конечно же привлекали, его конечно же тянуло попробовать свое искусство. Привлекали – да, но пугали еще сильнее. Этот разбитый инструмент, на котором год за годом выколачивали польки и галопы, был для него святыней. Он даже дотронуться до него не решался. Изумительное создание мастера, невероятной сложности инструмент с бесчисленным количеством струн, способный вдохнуть жизнь в творения великого Беховена! Лёвенборгу достаточно было приложить к нему ухо, чтобы услышать нервный диалог семнадцатой, драму восьмой, бунтарскую ярость двадцать третьей и светлую печаль четырнадцатой. По мнению старика, клавикорды и были тем самым алтарем, куда следует приносить дары и молитвы великой соблазнительнице и утешительнице – госпоже Музыке.
Но сам он никогда не играл на клавикордах. Лёвенборг был недостаточно богат, чтобы купить такой дорогой инструмент, а к этому он не решался подойти, да и майорша не особенно охотно давала ключ.
Он, конечно, слышал, как на клавикордах барабанили разухабистые польки, шумные вальсы, слышал, как под их аккомпанемент пели Бельмана. И он корчился от сострадания. Господи, как стонал и жаловался благородный инструмент! Ну нет, когда дело дойдет до Бетховена, наверняка мы услышим настоящий, божественный голос старинных, изысканных клавикордов.
И вот сейчас, решил старик Лёвенборг, именно сейчас настал такой момент. Надо набраться смелости, подойти к святыне и дать страдающему другу возможность насладиться божественными звуками.
Он, ни на кого не глядя, открывает крышку и неуверенно трогает клавиатуру. Он надеется услышать звуки, которые мнились ему, пока он перебирал свои нарисованные на столешнице клавиши. Но что это? Он морщит лоб, берет еще аккорд, другой, закрывает лицо и… плачет.
Да, дорогая госпожа Музыка, вы нанесли старому чудаку чувствительный удар, не знаю, зачем вам это было нужно. Святыня на поверку оказалась никакой не святыней. В инструменте нет тех тонких, таинственных обертонов, которые надеялся услышать старый мечтатель. И может быть, никогда не было. Все, что есть у Бетховена – глухие удары далекого грома, короткие, непрерывно развивающиеся мелодии, шум урагана и сияние полуденного солнца, – не для этого ящика. Это всего лишь старая, скрипучая, расстроенная развалина, пригодная разве что отбивать ритм польки или вальса.
Но не надо обижаться на госпожу Музыку. Ей жалко убитого горем старика. У нее добрая душа – вы, надеюсь, не забыли, что она не просто фея. Она добрая фея. Госпожа Музыка подмигивает Рустеру, они с Беренкройцем бегут в кавалерский флигель и приносят с собой стол Лёвенборга, на котором нарисованы масляной краской белые и черные клавиши.
– Посмотри-ка, Лёвенборг, – бурчит Беренкройц. – Вот твой рояль! Сыграй для Йосты!
И представьте, Лёвенборг вытер слезы, сел за свой стол, вытер кружевным платком руки и начал играть. Он играл своего любимого Бетховена для своего любимого, но страдающего друга в надежде, что великий немец сможет вылечить любую душевную рану.
В его голове звучат божественные гармонии, секвенции и неожиданные разрешения. Он совершенно уверен, что и Йоста слышит эту музыку. Как ее можно не слышать? Ему не мешают дребезжащие звуки разбитых клавикордов, пальцы бегают по клавишам свободно и непринужденно, ему удаются сложнейшие пассажи, изящные мелизмы и образцово ровные трели. Ах, как бы ему хотелось, чтобы и сам великий маэстро его послушал, он бы наверняка остался доволен. Но маэстро в Германии, больной и оглохший, и знать не знает, что творения его здесь, в Богом забытом уголке северной страны, творят чудеса.
Чем дальше, тем увлеченнее играет Лёвенборг. Божественные, надмирные звуки заполнили его душу.
«О, печаль, – поет его беззвучный инструмент. – Как мне не любить тебя? Твои губы холодны, как лед, твои щеки бледнее мела, твои объятия нестерпимы, а взор твой превращает душу в камень.
О, печаль… ты одна из тех гордых, прекрасных женщин, чью любовь трудно завоевать, но свет любви твоей ярок и прекрасен. Ты, отвергаемая всеми, я прижимаю тебя к груди, я полюбил тебя. Я ласкаю и нежу тебя, о печаль, я изгнал ледяной холод из твоей любви, и она наполнила меня блаженством.
О, как я страдал! Как тосковал я, потеряв ту, кому отдано было мое сердце! Какой мрак окружал меня, какой мрак царил в моей душе! Я молился, но никто не слышал моих молитв. Небеса замкнули для меня свои чертоги, ни один ангел не спустился с усыпанных звездами небес, чтобы принести мне утешение.
Но тоска моя разорвала в клочья черную плащаницу ночи, и ты, моя любимая, спустилась ко мне по мостику из лунных лучей, вся в неземном сиянии, с улыбкой на устах, в венке из роз и в окружении ласковых гениев, с лирой и флейтой. Какое счастье было увидеть тебя!
Но ты исчезла, ты исчезла! И я так хотел последовать за тобой, но я не нашел тот лунный мост, по которому ты пришла. И я, поверженный, лежал в прахе, бескрылый и связанный по рукам и ногам. Мои стенания подобны были рычанию дикого зверя, оглушительному небесному грому. Я мечтал послать к тебе гонцом молнию, я проклинал зеленую землю, мечтал, чтобы беспощадный огонь испепелил все живущее, чтобы пришла чума и доделала то, что не доделало пламя. Я взывал к смерти, взывал к бездне, мне казалось, что вечные муки в геенне огненной легче, чем мои страдания.
О, печаль, печаль! Именно тогда стала ты моей подругой, моей спутницей и любовницей. Как я могу не любить тебя, если ты одна из тех гордых, прекрасных женщин, чью любовь трудно завоевать, но свет их любви ярок и прекрасен!»
Он перешел на репризу, повторил первую тему и был твердо уверен, что в его душе она звучала именно так, как задумал гениальный Бетховен.
Так он играл, бедный фантазер, играл на нарисованных клавишах, играл и светился вдохновением, играл и слышал чудесные звуки, рожденные его воображением, уверенный, что и Йоста слышит звуки бессмертной сонаты.
А Йоста неотрывно смотрел на старого Лёвенборга. Поначалу его раздражало это нелепое шутовство, но постепенно он смягчился – старик, наслаждающийся музыкой, уверенный, что Бетховен написал ее для него и посвятил ему, был неотразим.
И вдруг ему пришло в голову, что Лёвенборг, такой кроткий, такой трогательный, прошел через тот же ад, что и он. Он потерял любимую, он невыносимо страдал, а сейчас был совершенно счастлив, сидя за своей дурацкой клавиатурой. Неужели и в самом деле можно утешиться этим призрачным музицированием?
Он почувствовал укол совести.
Ты, Йоста, сказал он себе, неужели ты разучился быть снисходительным к чужим слабостям? Неужели ты забыл, что высшие доблести, завещанные Богом, – терпимость, снисходительность и умение прощать? Ты, который всю жизнь прожил в нищете. Ты, который знаешь, что каждое дерево в лесу, каждая кочка на лугу шепчет одно и то же: будь снисходителен к чужим слабостям и умей прощать. Ты, выросший в северном краю, где зима сурова, а лето коротко, как мог ты забыть искусство сжимать зубы и терпеть?
Ах, Йоста, мужчине должно перенести все испытания жизни с мужеством в сердце и улыбкой на устах, мужчина должен перетерпеть жизнь, иначе он не мужчина. Ты можешь сколько угодно тосковать по своей любимой, ты можешь мучиться и страдать в душе, но не имеешь права забывать, что ты мужчина и вермландец. Пусть взор твой будет весел, найди для своих друзей слова, которые согрели бы их душу.
Сурова жизнь, сурова природа. И чтобы выстоять, нужны мужество и улыбка.
Мужество и улыбка. Похоже, это и есть главные обязанности человека. Ты почти никогда не изменял им, так не изменяй и сейчас, в тяжелый для тебя миг.
Неужели ты слабее, чем Лёвенборг, сидящий за воображаемым роялем и сияющий от счастья? Неужели ты слабее, чем другие кавалеры, мужественные, беззаботные, вечно молодые? Ты же знаешь, какие страдания выпали на их долю, неужели ты слабее их?
И Йоста Берлинг обвел взглядом своих друзей. Ну и спектакль! Сидят и с серьезным видом слушают музыку, как будто слышат то, что никто слышать не может.
Лёвенборг очнулся от чар – кто-то засмеялся. Он оторвал руки от клавиш и прислушался – конечно же он узнал этот смех. Смеялся Йоста Берлинг. Это его смех – веселый, добродушный, заразительный смех. Смех этот показался старику музыкой, и он подумал, что в жизни своей не слышал музыки прекрасней.
– Я же знал, Бетховен тебе поможет! – воскликнул он, и теперь засмеялись все.
Вот так добрая фея, госпожа Музыка, вылечила Йосту Берлинга от меланхолии.
Пастор в Брубю
О, всесильный Эрос, ты же и сам знаешь: иногда кажется, что кому-то удалось вырваться из-под твоей власти. Все теплые чувства остывают в сердце несчастного и постепенно хиреют. Безумие вот-вот вонзит в него свои неумолимые когти, и тогда являешься ты, всесильный Эрос, ты, спаситель и защитник человеческих душ, и вдруг вновь расцветает высохшее сердце, как расцвел посох святого странника.
А пастор в Брубю почти сошел с ума от жадности. Он готов на все ради денег, слово «милосердие» для него пустой звук, никто не хочет иметь с ним дела. Скупость его не знает границ. Зимой он из экономии сидит в нетопленых комнатах, на некрашеной скамье – как же, краска тоже стоит денег. Ест черствый хлеб, сам одевается в обноски – и выходит из себя, завидев нищего попрошайку. У лошади в стойле пустая кормушка, потому что он продает весь овес, коровы жуют сухую траву по обочинам и обгладывают мох со стен дома, а блеяние голодных овец слышно с тракта. Крестьяне отдают ему еду, от которой отказываются собаки, одежду, которую постеснялся бы надеть самый последний бедняк.
Рука его протянута за милостыней, и, как только в эту руку что-то попадает, спина сгибается в благодарном поклоне. Он выпрашивает у богатых и ссужает под проценты бедных. Если видит медную монету, не может успокоиться, пока она не окажется у него в кармане. И горе тому, кто просрочит долг!
Поздно женился он, но лучше бы вообще не женился. Жена умерла, измученная нищетой и тяжелой работой. Дочь ушла и служит у чужих людей. Он состарился, но с возрастом ничего не изменилось, разве что стало хуже. Безумие скупости и жадности не отпускало его ни на секунду.
Но вот в один прекрасный день на холмах Брубю появилась тяжелая карета, запряженная четверкой лошадей. А в карете сидела знатная пожилая дама со всей свитой: кучер, слуга и камеристка. Впрочем, назвать ее дамой было бы неправильно: она никогда не выходила замуж. И приехала она, только чтобы повидаться с пастором из Брубю. Потому что именно его она без памяти любила в дни своей молодости.
И он ее любил. Он был домашним учителем в их поместье, но гордые родственники сочли, что он ей не пара, и разлучили влюбленных. И теперь карета поднимается по холму Брубю – ей пришла в голову мысль, что она не может умереть, не повидав любимого.
Крошечная старушка сидит в уютной тесноте кареты и мечтает. Ей кажется, что она едет не в бедное пасторское жилище в далекой шведской деревне. Нет, ей видится, что она бежит в маленькую прохладную беседку в их семейном парке, где ждет ее избранник. И вот он перед ней – молодой, красивый, влюбленный. Он целует ее, он повторяет слова любви. Теперь, когда она знает, что скоро увидит его, он представляется ей таким, каким был тогда, в те далекие годы. Как он прекрасен! Влюбленный, пылкий юноша… она вдруг подумала, что жар его любви согревал ее всю долгую жизнь.
Но с ней-то самой что сделалось за эти годы! Она увяла, стала старухой, цветущий румянец сменила восковая бледность. Он может просто-напросто ее не узнать, ей же уже за шестьдесят. Но она едет не для того, чтобы показать себя. Она едет посмотреть на него, своего возлюбленного, а над ним-то время наверняка не властно – он остался таким же юным, мечтательным и романтичным.
Она жила в другом конце страны и никогда и ничего не слышала о скряге-пасторе из Брубю.
Карета, поскрипывая рессорами, поднялась еще выше, и она увидела пасторскую усадьбу.
Неизвестно откуда взявшийся нищий побежал за каретой и заскулил:
– Вспомните о милосердии Господнем, подайте монету убогому!
Знатная гостья подает ему серебряную монетку.
– Скажи, эта усадьба вон там – там живет ваш пастор?
Хитро и подозрительно блеснули из-под косматых бровей маленькие глаза.
– Да… пастор там и живет. Только сейчас его нет. – Он подумал и добавил: – И никого там нет. Пусто.
Дама побледнела еще больше, отчего стала заметнее сеть покрывших лицо мелких морщинок. Тихая беседка в парке растворилась в воздухе и исчезла. Ее любимого там нет. И как только она могла надеяться? Прошло больше сорока лет.
– А что милостивой госпоже угодно?
Милостивой госпоже угодно повидаться с пастором. Милостивая госпожа была хорошо знакома с ним когда-то.
Сорок долгих лет и сорок миль[30] разделяли их. И с каждой милей этого долгого путешествия она сбрасывала с себя год жизни, каждый год, отравленный и осчастливленный неисчезающей памятью. И когда она добралась до цели, почувствовала себя двадцатилетней девушкой, не обремененной горькими воспоминаниями о несостоявшейся любви.
Нищий с изумлением смотрит на превращения: ему подала милостыню двадцатилетняя девушка, потом ей на глазах стало шестьдесят, а теперь опять двадцать.
– Он приедет к вечеру. Пастор, я имею в виду. Милостивой госпоже лучше всего поехать на постоялый двор в Брубю и там подождать. К вечеру он точно будет.
Кони облегченно фыркнули, переглянулись, и карета покатила под горку, к постоялому двору.
А нищий не сдвинулся с места. Он смотрел вслед богатой карете, и ему захотелось упасть на колени и поцеловать след колес.
Через пару часов, тщательно выбритый, надушенный, в башмаках с блестящими пряжками, он стоял перед женой проста в Бру. Ничто не забыто – ни шелковые чулки, ни жабо, ни накрахмаленные манжеты.
– Знатная дама, графского рода. Как я могу допустить, чтобы она переступила порог моего дома? Полы почернели, мебели никакой, деревянный потолок в горнице зеленый от плесени. У меня даже нет постели, чтобы предложить ей отдохнуть, не говоря уж о слугах.
– Так пусть едет своей дорогой!
– Сохрани Господь! Неужели госпожа простинна не поняла, что я готов отдать все, что имею! Все нажитое долгими трудами, все до последнего, только чтобы принять ее у себя в доме. Ей было двадцать, когда я видел ее в последний раз, сорок лет тому назад! Помогите мне, умоляю… вот деньги, если деньги что-то могут сделать, но дело не только в деньгах.
О, Эрос! Как мил ты женщинам, как любят они тебя! Если другие боги прикажут им идти на край света, они, может быть, и подчинятся приказу, но если прикажешь ты, они наверняка сделают на сто шагов больше.
В усадьбе проста начинается беготня. Опустошают комнаты, грузят мебель на подводы, отвозят в дом пастора и возвращаются за следующей партией. И когда прост вернется домой, он застанет более чем странную картину: пустые комнаты, дверь в кухню открыта, но и там пусто, и некого попросить подать обед. Ни обеда, ни жены, ни служанки. И с кого спросить?
Ах, уважаемый прост, спросить не с кого. Так повелел Эрос, и этим все сказано. Так повелел Эрос, уважаемый господин прост!
И вот ближе к вечеру карета сворачивает в усадьбу пастора, но застревает в воротах – слишком они узки для такой большой кареты. Кучер щелкает кнутом, слуга кричит на лошадей, лошади упираются, но не могут сдвинуть карету с места – задние колеса уперлись в стойки. Дочь знаменитого графа не может въехать во двор своего возлюбленного. Но вот кто-то спешит на помощь. Боже мой, это же он спешит на помощь, смотрите, это он!
Он осторожно помогает ей выйти из кареты и поднимает на руки. Руки так же сильны и объятия так же горячи, как и тогда, сорок лет назад. И глаза его сияют точно так, как сияли тогда, в двадцать пятую весну его жизни.
Какой ураган чувств охватил старую графиню! Она тут же вспомнила, как он нес ее по ступенькам на веранду. Она ни секунды не сомневалась, что любовь никуда не ушла за эти годы. Но она забыла, как это прекрасно, когда тебя держат в теплых, сильных объятиях и на тебя устремлен взор молодых, сияющих любовью и восторгом глаз.
Подумать только, она не замечает, что и он, ее любимый, далеко не молод. Она видит только его глаза, глаза, глаза…
Она много чего не замечает. Не замечает почерневших полов, не замечает зеленую плесень на потолке. Она видит только его глаза. И что удивительно: пастор тоже красив в эту минуту. Он мог не надевать камзол, шелковые чулки и башмаки с пряжками – чтобы стать красивым, ему достаточно посмотреть на нее. Так сияет огромный бриллиант, он завораживает, приковывает взоры – и кому какое дело до потемневшей, источенной временем оправы?
И голос. Она слышит его голос, его красивый, сильный голос, ласковый голос, он говорит таким голосом только с ней. И зачем ей взятая напрокат мебель, зачем угощение, зачем слуги? Этого ей и так хватает. Ей нужно только одно: видеть его глаза и слышать его голос.
Никогда, никогда в жизни она не была так счастлива!
Как изящно он кланяется! Грациозно и с достоинством, как кланяется королеве приближенный фаворит. А как он говорит! Как изысканна его речь! Так теперь не говорят, этот секрет утрачен навеки.
Она молчит, улыбается и наслаждается охватившим ее счастьем.
А под вечер он предлагает ей руку, они идут на прогулку в его старый запущенный сад, и заросшие кусты кажутся ей образцово подстриженными, трава, полузадушенная мхом, представляется густым и сочным английским газоном, а в тенистых таинственных зарослях то и дело мелькают белые парковые скульптуры – воплощенные в мраморе юность, верность, надежда и любовь.
Она знает, что он был женат, но как это может быть, если ей двадцать, а ему двадцать пять? Конечно же двадцать пять, его распирают молодые силы. И пусть ей не говорят, что этот молодой человек станет скрягой-пастором в Богом забытом приходе. Он? Этот улыбчивый юноша? Кто знает, может быть, и посещают его иной раз недобрые предчувствия, но пока-то он молод! Ему незнакомы вопли голодных, обездоленных им бедняков, проклятия обманутых, всеобщее презрение, насмешки и прозвища. Его сердцу пока знакомо только одно: всепоглощающая, невинная, чистая любовь. Кто бы мог подумать, что этот гордый юноша будет настолько ослеплен золотом, что ради него будет готов копаться в самой отвратительной грязи, выпрашивать милостыню у проезжих, что ради золота будет готов перенести всё – унижения, оскорбления, холод и голод? Кто бы мог подумать, что он будет морить детей своих голодом, мучить жену, и все ради денег?
Нет, это невозможно. Он не зверь, он нормальный, хороший человек, такой же, как и все.
Разве решилась бы девушка, его юношеская любовь, идти рядом с презренным скрягой, потерявшим человеческое лицо, недостойным духовного сана? Ни за что.
О, Эрос, всесильный бог, только не в этот вечер! В этот вечер он не презренный пастор из Брубю. И не только в этот вечер – и завтра, и послезавтра.
Настает время прощаться. Карета катится по холму так быстро, как только могут бежать отдохнувшие, хорошо накормленные лошади.
О, мечты, о сладкие мечты! Даже высшие силы позаботились о вас: за три дня в небе не промелькнуло ни облачка.
Она с улыбкой на губах возвращается в свой замок, полная любви и воспоминаний. Никогда больше она не слышала его имени и никого не спрашивала. Мечта должна оставаться мечтой, и она будет вспоминать эту встречу до конца своих дней.
А пастор сидел в опустевшем доме и отчаянно, безутешно рыдал. Она вернула ему молодость, пусть ненадолго. И что же, теперь он опять должен стать жалким, всеми презираемым стариком?
Патрон Юлиус
Патрон Юлиус спустился во двор и принес с собой красный сундучок. Достал старый зеленый бочонок и налил его до краев душистой померанцевой водкой. Заглянул, не осталось ли места, и заткнул пробкой. В деревянном ящике с затейливой резьбой разместились масло, хлеб, голова темно-желтого, отдающего зеленью выдержанного сыра, ломоть жирной ветчины и миска с оладьями, плавающими в густом малиновом варенье.
Он со слезами на глазах обошел ставшее ему родным Экебю. Погладил шершавые кегельные шары, приласкал розовощеких детишек, посидел в каждой беседке, в каждом павильоне. И в стойло зашел, потрепал коней по холке, дернул за рог свирепого быка и – в кои-то веки! – удостоился ласкового взгляда в ответ. Дал телятам полизать руки.
И с заплаканными глазами побрел в усадьбу, где был накрыт прощальный завтрак.
Горе, горе тебе, жизнь… Почему в тебе столько мрака? В вине яд, в еде – желчь. И у кавалеров тоже перехватило горло, они ели молча. Никто не знал, что сказать, чем утешить старого Юлиуса. Слезы застилали глаза. Прощальные тосты то и дело прерывались всхлипываниями. И что за судьба ждет его впереди? Тоска, печаль непрерывная, как осенний дождь. Губы его никогда не сложатся в улыбку, слова песен медленно умрут в памяти, как умирают цветы с наступлением осенних холодов. Вот такая судьба его ждет – поблекнуть, увять и умереть, как умирают розы.
Никогда больше кавалеры не увидятся с бедным Юлиусом. Тяжкие предчувствия бродят в душе его, как бродят тени грозовых облаков по полю, где только начинают пробиваться первые ростки надежды.
Он едет домой умирать.
И кто бы мог подумать? Цветущий, как всегда, стоит он перед ними, но никогда более таким они его не увидят. Никогда не будут спрашивать разрешения использовать его круглую голову как шар для кегельбана. Никогда не поинтересуются, как ему удается видеть кончики пальцев на ногах – наверняка живот мешает. А теперь… Наверняка в печени и легких поселилась неизлечимая болезнь. Она его доконает.
Дни его сочтены.
Теперь самое важное, чтобы кавалеры помнили о нем, когда он умрет. Чтобы они его не забыли.
Долг зовет. Уже семнадцать лет мать ждет не дождется, когда же он вернется из Экебю. А теперь прислала настоящий вызов, да такой настойчивый, что Юлиус обязан ехать. Он знает, что ничего хорошего из этого не получится, но сыновний долг превыше всего.
Ах, какие пиры тут закатывали! А какие луга вдоль берегов Лёвена, какие гордые, величественные пороги на реках! А бесконечные проделки, а натертый, сияющий горячей янтарной желтизной танцевальный пол! А наш флигель! Скрипки, валторны… жизнь сочится счастьем! Оказаться отлученным от всего этого – верная смерть.
Он пошел в кухню проститься с прислугой, всех переобнимал, всех перецеловал, и экономку, и приживалку. Всем сообщил, что едет умирать. Они тоже расплакались над его судьбой – какая беда! Такой веселый, такой ласковый кавалер – и вдруг умирать! Неужели мы вас больше не увидим, патрон Юлиус?
Наконец он приказывает выкатить из каретного сарая свою коляску и запрячь лошадь.
И тут ему изменяет голос. Значит, коляске не суждено окончательно сгнить в Экебю, значит, верная Кайса разлучается со своей кормушкой… Мать – это, разумеется, святое, но если уж она не думает о нем, могла бы по крайней мере подумать о лошади и коляске. Как они вынесут такое долгое путешествие?
Но самым душещипательным, разумеется, было прощание с кавалерами.
Ах, маленький, кругленький патрон Юлиус, созданный скорее не чтобы ходить, а чтобы кататься по этой земле! Он чувствовал отчаяние всем телом – от корней волос до кончиков пальцев на ногах, тех самых, которые ему, по мнению кавалеров, не дано было видеть. Ему казалось, он похож на великого афинянина, бесстрашно осушившего бокал цикуты в кругу рыдающих учеников. Или на старого короля Йосту[31], предсказавшего шведскому народу, что придет время, и они захотят вызволить его из праха и вновь посадить на трон.
Под конец он спел им свою любимую песню, а из головы не выходила мысль об умирающем гордом лебеде. Он хотел, чтобы друзья запомнили его таким – высокий, королевский дух, не унижающийся до жалоб, уходящий в небытие с песней на устах, под аккомпанемент божественных гармоний.
Последний кувшин, последняя песня, последние объятия. Ему помогли надеть плащ, сунули в руки хлыст. Глаза у кавалеров полны слез, да и сам он почти ничего не видит – взор его застлан все сгущающимся туманом неподдельного горя.
Кавалеры подняли его на руки, куда-то посадили – он даже не видел куда. Щелкнул кнут, экипаж тряхнуло. Когда патрон Юлиус открыл глаза, он уже ехал по уездному тракту.
Конечно, кавалеры были растроганы, но даже высокий настрой прощания с другом не сумел заглушить их пристрастия к веселым шуткам и розыгрышам. Кто-то из них, кто именно, до сих пор неизвестно – Йоста ли Берлинг, поэт, или старый воин, любитель игры в шилле Беренкройц, или уставший от жизни кузен Кристофер, – кто-то из них распорядился не трогать старую Кайсу и оставить в покое полусгнившую коляску патрона Юлиуса. Шоколадного, в замысловатых белых пятнах вола запрягли в большую телегу для сена. Туда же погрузили красный сундучок, бочонок с померанцевой водкой и резной ящик с провизией. А под конец посадили слепого от слез патрона Юлиуса, но не в телегу, а верхом на вола.
Таков человек! Слишком слаб он, чтобы встретить беду во всей ее горечи и безысходности. Конечно же кавалеры огорчились потерей друга, этого увядшего пиона, уезжающего на верную гибель. Они были глубоко тронуты песней этого смертельно раненного лебедя. Но им все равно стало легче, когда они увидели, как их толстый друг, сотрясаясь от рыданий, покидает Экебю на спине огромного вола, как его руки, только что воздетые для последнего объятия, бессильно повисли, а невидящие глаза устремлены в равнодушное, суровое небо.
На дороге туман слез начал постепенно рассеиваться, и он удивился, что сидит не в своей коляске, а на спине большого животного. И говорят, патрон Юлиус тут же погрузился в философские размышления о неумолимости времени. Подумать только, как изменилась его Кайса! Неужели отборный овес и клевер могли совершить такое чудо?
И он воскликнул – не знаю, слышали ли этот крик придорожные камни или притаившиеся в кустах птицы, наверное, слышали, иначе откуда бы знать, что именно он воскликнул? Так или иначе, все в один голос утверждают, что кроткий патрон Юлиус воскликнул вот что:
– Черт меня подери с моими потрохами! Уж не обзавелась ли ты рогами, Кайса?!
Он осторожно соскользнул со спины вола в телегу, сел на резной ларец с провизией и погрузился в нелегкие размышления.
Уже подъезжая к Брубю, он, вначале издалека и неразборчиво, а потом все яснее и яснее, услышал строевую песню:
Раз-два, раз-два,
Три, четыре, пять!
Охотники из Вермланда
Охотятся опять!
И вскоре различил на дороге группу, но это были никакие не охотники. Это были расшалившиеся барышни из Берги, а с ними две хорошенькие дочери судьи из Мункерюда. Узелки с едой они привязали к палкам, устроили их на плече наподобие ружей и пели, отбивая ногами такт:
– Раз-два, раз-два, три, четыре, пять!
– Куда собрались, патрон Юлиус? – весело приветствовали они, не обращая внимания на его омраченное скорбью чело.
– Покидаю гнездо греха и тщеславия, – поведал патрон Юлиус. – Покидаю легкомысленных проказников и безбожников. Еду домой к матери.
– Не может быть! – наперебой закричали девушки. – Не может быть, чтобы патрон Юлиус решился оставить Экебю!
– И тем не менее это так! – воскликнул Юлиус и в подтверждение своих слов грохнул кулаком по крышке сундука с одеждой. – Как Лот бежал из Содома и Гоморры, так я бегу из Экебю, где нет ни одной праведной души. Но когда грянет последний суд, когда разверзнется земля, когда кипящая сера обрушится с небес на головы грешников, о, тогда я возблагодарю мудрость и справедливость Создателя нашего! Прощайте, девушки, и держитесь подальше от Экебю!
И хотел ехать дальше, но это вовсе не входило в намерения девушек. Они, оказывается, собрались залезть на вершину горы Громовой, но идти туда далеко, и как бы они были рады, если бы дядюшка Юлиус был настолько добр и подвез их к подножию.
Счастлив тот, кто наслаждается солнечным сиянием жизни, кто следует ее властному зову и не старается прикрыть макушку! И трех минут не понадобилось на уговоры. Патрон Юлиус развернул повозку. Понаблюдал с улыбкой, сидя на сундучке, как девушки перелезают через решетчатые борта телеги, дернул вожжи и покатил в сторону горы Громовой. Обочины дороги пестрели ромашками, медуницей и мышиным горошком. Вол время от времени окидывал пассажиров печальным оком и останавливался передохнуть. Девушки дружно спрыгивали с телеги и бежали собирать цветы. Вскоре пестрые венки украшали не только их головы, но и лысину патрона Юлиуса, и даже воловьи рога.
Дальше дорога шла через молодой березняк и темные кусты ольхи. Спутницы патрона Юлиуса и тут не растерялись – нарезали веток и украсили ими телегу, так что она стала похожа на медленно катящуюся по пыльной дороге рощицу.
Ехали долго, но запаса развлечений и игр хватало.
Чем дальше, тем веселее и беззаботнее становился патрон Юлиус. Он поделился своими запасами с барышнями, спел им несколько песен и даже забрался с ними на вершину Громовой.
И когда они посмотрели на открывшийся им вид, у многих появились слезы на глазах от этой гордой, несказанной красоты. Сердце патрона Юлиуса забилось, как у юноши. Когда речь заходила о его любимых краях, патрону Юлиусу не надо было искать слова.
– Ах, Вермланд, – сказал он, – прекрасный, удивительный, благословенный край! Никакая карта не может объяснить, на что ты похож, край мой, но теперь я это ясно вижу. Ты, древний, как отшельник, и кроткий, как отшельник, сидишь неподвижно, скрестив под собой ноги и положив руки на чрево. Остроконечная шапочка надвинута на полузакрытые очи. Мечтательный и задумчивый, как ты прекрасен, святой мой край! Твой плащ из девственных лесов окантован сверкающими лентами рек и синими грядами холмов. Ты так прост и непритязателен, что пришелец может и не разглядеть твою красоту. Ты беден, как и любой отшельник. Ты сидишь неподвижно, а воды Венерна омывают твои стопы и скрещенные ноги. Налево – рудники и шахты. Это твое ровно и мощно бьющееся сердце. А на севере – глухие, темные, загадочные леса, полные тайн, – это твоя голова, отуманенная смутными мечтами.
Когда я вижу тебя, мой огромный, суровый край, глаза мои застилают слезы. Ты суров и строг в своей красоте, но я вижу, как сквозь твою бедность, сквозь твои лишения, сквозь твою созерцательность проступают черты нежности, доброты и ласки. Я смотрю на тебя и молюсь тебе. Один взгляд на твои дремучие леса, одно прикосновение к краю твоих одежд исцеляют мою душу. Час за часом, год за годом смотрю я в твое святое лицо. Какие загадки таятся за твоими полуопущенными веками? Решил ли ты уже загадку жизни и смерти или все еще размышляешь над нею, ты, мой огромный, мой суровый край? Ты – единственный достойный страж великих замыслов. Но я вижу, как ползают по тебе люди, создания, которым никогда не суждено разглядеть черты величия в твоем богоподобном лике, которым не суждено понять, что ты замыслил. Они видят тебя, видят красоту твоих холмов и рек, они восхищаются и забывают про все.
Горе мне, горе всем нам, детям Вермланда! Все, что мы хотим от жизни, – красота. Мы, дети лишений, нищеты и печали, воздымаем руки в единой молитве, мы ничего не желаем, кроме красоты. Да будет жизнь наша, как розовый куст, цвести в любви, вине и удовольствиях, и пусть никогда не отцветают эти розы. Вот чего мы хотим, а между тем край наш – вечный символ размышлений о смысле. О смысле нищеты, о смысле лишений, о смысле жизни и смерти.
Но у нас, жалких и простодушных, никаких мыслей нет. Мы ни о чем не думаем. О, мой прекрасный Вермланд!
Так говорил патрон Юлиус со слезами на глазах, и голос его дрожал от вдохновения. Растроганные девушки смотрели на него с изумлением. Они никогда не догадывались, какие глубокие мысли и чувства скрываются под забавной внешностью патрона Юлиуса, за его шутками и розыгрышами.
Дело шло к вечеру. Пора возвращаться. Девушки понятия не имели, куда везет их патрон Юлиус, пока телега не остановилась у ворот Экебю.
– А теперь, дорогие барышни, приглашаю всех попеть и поплясать.
Вот что сказал патрон Юлиус. А что сказали кавалеры, увидев патрона Юлиуса, прибывшего с полной телегой девушек и с венком на голове?
– Думаем, вы ему очень понравились, девушки, иначе он вернулся бы намного раньше.
Конечно же кавалеры помнили, что сцена с уходом Лота из Содома повторилась в семнадцатый раз. Каждый год патрон Юлиус уезжает с твердым намерением оставить Экебю навсегда.
А теперь он забыл и эту попытку, и все предыдущие. Его совесть и смирение вновь погрузились в сон – ровно на год.
Какой замечательный человек, патрон Юлиус! Он прекрасно танцует, великолепно играет в шилле. Перо, кисть и смычок одинаково близки его сердцу. У него доброе и чувствительное сердце, он говорит как поэт, а на устах сотни песен и баллад. Но может быть, все эти достоинства объясняются тем, что у него есть совесть? Пусть она просыпается только раз в году, как бабочка освобождается от своих оков, чтобы пожить хоть несколько часов в солнечном свете.
Но совесть у него есть.
Глиняные святые
Церковь в Свартшё белая. И снаружи, и внутри – белые стены, белая кафедра, белые скамьи для прихожан, белые хоры, белые оконные своды, белая плащаница на алтаре. Одним словом, все белое. Никаких украшений нет в церкви в Свартшё – ни икон, ни фамильных гербов. Все белое. На алтаре, на белой плащанице, простой деревянный крест, завернутый в белую льняную ткань.
А когда-то все было не так. Потолок в Господнем доме был покрыт росписями, свободного места не было, а в каждой нише стояли пестро раскрашенные глиняные и каменные фигуры.
В те времена – а было это очень давно – жил в Свартшё художник. И вот стоял он как-то, смотрел на летнее небо и обратил внимание на плывущие к солнцу сияющие облака. Он их приметил еще с утра – тогда они легкими штрихами висели над горизонтом, а сейчас громоздились, наползали друг на друга, дыбились, образуя колоссальные, непередаваемо сложной лепки башни, поднимающиеся все выше и выше, словно собирались взять штурмом небесный купол. Художник смотрел как завороженный: облака поднимали паруса, размахивали, как воины, боевыми знаменами, меняли очертания и форму. Облака заняли почти все небо, но ближе к солнцу, владыке мира, робко останавливались, теснились друг к другу и старались принять как можно более невинный облик. Рычащий лев, изогнувшись, стал похож на напудренную красавицу. А вон тот гигант с огромными ручищами, готовый удушить все, что ни попадется на его пути, постепенно превратился в мирно спящего сфинкса. Другие, словно застеснявшись, старались прикрыть свою снежно-белую наготу окаймленными золотом мантиями, а некоторые спешно румянили щеки. Художник видел на небе бескрайные степи, леса, обнесенные стенами огромные крепости. Но эти превращения всего лишь для отвода глаз. Медленно, но верно громады облаков подобрались к солнцу и в конце концов закрыли его. Теперь они безраздельно владычествовали на еще недавно васильково-голубом летнем небе.
– Боже, какая красота! – воскликнул глубоко верующий художник. – Подумать только, все тоскующие души могут забраться на эти волшебные корабли, и они будут нести их все выше и выше!
И, произнеся вслух эти слова, он внезапно сообразил, что так оно и есть: никакие это не облака. Это и в самом деле корабли, уносящие спасенные души.
Теперь он их ясно видел, эти души. Они, в золотых коронах, стояли на плывущих, колышущихся сугробах с лилиями в руках и лавровыми венками на голове, и пение их наполняло все небо, как огромный собор. Он ясно видел, как навстречу им летели ангелы на широких, могучих и бесшумных крыльях. И сколько их было, спасенных душ! Одна за другой раздвигались облачные кулисы, за ними появлялись новые и новые, а спасенные души отдыхали на сияющих белых перинах, как кувшинки отдыхают в озере. Они украшали эти облака, как лилии украшают весенний луг. Ангелы скрывались за каждой складкой этого гигантского занавеса. Небесная рать в серебряных доспехах, бессмертные трубадуры в отороченных пурпуром туниках.
После этого видения художник загорелся расписать потолок в церкви. Изобразить поднимающиеся к солнцу облачные громады, уносящие спасенные души в благословенные небеса. Но твердой, уверенной его руке не хватало гибкости, а возможно, и умения, так что облачные замки получились похожими на напудренный парик композитора Баха. Да и сами воздушные создания, как они представились его взору в тот памятный день – полупрозрачные, меняющие очертания, с золотыми коронами, – никак не давались мастеру. Пришлось придать им более земной облик. Художник одел кое-кого в длинные, красные плащи и епископские митры, другие щеголяли в черных кафтанах с туго накрахмаленными складчатыми воротничками. У всех почему-то оказались очень большие головы и маленькие тела. Он снабдил всех без исключения носовыми платками и молитвенниками. Изо рта у каждого вылетали латинские изречения, а тех, кто показался ему наиболее важным в этом обществе, он посадил на солидные деревянные стулья, установленные на спинах облаков, так что счастливые обладатели сидений могли путешествовать со всеми удобствами хоть целую вечность.
Но прихожане даже не догадывались, что бедный художник и в самом деле видел улетающие на облаках души праведников, поэтому никто не удивлялся, что ему не удалось придать им неземную красоту. Роспись кроткого мастера показалась большинству прекрасной, и, глядя на нее, они наверняка испытывали если не экстаз, то, во всяком случае, глубоко религиозные чувства. Думаю, стоило бы посмотреть на эту роспись и сегодня – есть кое-что и поважнее мастерства.
Но как раз в год правления кавалеров в Экебю граф Хенрик Дона повелел, чтобы церковь была белой. И потолочную роспись закрасили. Мало того, убрали глиняные фигуры из ниш.
О, эти глиняные святые!
Признаюсь, даже много раз виденная мною нужда, даже страдания, даже непостижимая человеческая жестокость не причиняли мне такого горького потрясения, как гибель этих фигурок.
Подумайте сами! Там был святой Улоф в королевской короне, надетой прямо на воинский шлем, и с топором в руке, а у ног его – поверженный великан на коленях. Рядом с кафедрой стояла Юдифь. Было не так легко догадаться, что это именно Юдифь, потому что одета она была в красную вермландскую кофту и синюю юбку, а в руке вместо отрубленной головы ассирийского владыки держала песочные часы. А на загадочной царице Савской кофта была, наоборот, синяя, а юбка красная. Одна ступня у нее была в виде гусиной лапки, а в руке стопка книг с пророчествами Сибиллы. Меньше других повезло святому Йорану. Он лежал на скамейке на хорах, потому что и конь его, и дракон давно разбились. Святой Кристофер держал в руке расцветший лиловыми цветами посох, а святой Эрик красовался в длинной, до пят, расшитой золотыми лилиями мантии, с сильно напоминающей плотницкий топор секирой в правой руке[32].
Сколько раз я ни приходила в церковь в Свартшё, каждый раз подступали слезы – так не хватало мне росписи на потолке и раскрашенных глиняных фигур. Что за беда, что у многих поотломались носы и ноги, что позолота поблекла, что краска шелушится и понемногу отваливается? Все равно я ясно чувствовала, как от них исходит незримое сияние вечных легенд.
Должно быть, именно это обветшание и было причиной: община просто-напросто устала с ними возиться. У глиняных истуканов то и дело отваливались носы, уши, мечи и скипетры, их надо было чинить, подкрашивать, платить мастерам. Все уже давно хотели от них избавиться. Но никто и никогда не решился бы поднять на них руку, если бы не граф Дона. Это он, граф Дона, распорядился убрать всех святых из церкви.
И как же я его ненавидела за это! Только дети могут так ненавидеть. Я ненавидела его, как изголодавшийся нищий ненавидит жадную хозяйку, отказавшую ему в куске хлеба. Я ненавидела его, как бедный рыбак ненавидит безмозглого мальчишку, по глупости порвавшего сети или пробившего дыру в борту его баркаса. Дух мой страдал от жажды и голода, а граф лишил его хлеба насущного. Дух мой стремился ввысь, он жаждал постичь и принять бесконечность Небесного Царства, а граф разрушил мой воздушный корабль, он порвал сети, время от времени приносившие мне святые видения.
В мире взрослых нет места для истинной ненависти. Сейчас мне кажется странным – как я могла так ненавидеть жалкого и глупого графа Дону? Или безумца Синтрама? Или доведенную до бешенства собственным угасанием графиню Мэрту? Нет, конечно же нет, сейчас я не смогла бы их так ненавидеть, но когда я была ребенком!.. Им очень повезло, что все они умерли задолго до моего рождения.
Пастор стоял за кафедрой, говорил что-то о всеобщем примирении, но с наших мест в церкви не было слышно ни слова. Ах, если бы они были на месте, мои глиняные фигуры! Их проповедь я понимала без слов…
И я все время думала: как же могло так получиться, что их унесли и уничтожили?
Когда граф Дона добился, чтобы его брак признали недействительным, он пальцем о палец не ударил, чтобы разыскать молодую графиню и обеспечить ей юридическую свободу. Всеобщему возмущению не было границ. Все знали, что молодая графиня ушла из дому только потому, что ее едва не замучили до смерти. И тогда граф решил вернуть уважение соседей и отремонтировать на свои деньги церковь. Велел закрасить неумелую роспись на потолке, стены, скамейки, и всё в белый цвет. А глиняных святых работники Борга под его руководством погрузили в лодки и утопили в Лёвене.
Как он посмел? Как он решился поднять руку на избранников Божьих?
И как они сами дозволили свершиться такому святотатству? Неужели ослабела рука, поднявшая меч, чтобы отрубить голову Олоферну? А царица Савская? Неужели забыла она тайные заклинания, поражающие врагов не хуже отравленных стрел? О, святой Улоф, старый викинг, о, святой Йоран, победитель дракона, неужели иссякла разящая ваша сила, неужели отгремели навсегда фанфары, прославившие ваши подвиги?
Не думаю… скорее всего, святые просто не хотели наказывать невольных варваров за их неразумие. Что ж, если жители Свартшё не хотят более тратиться на краску для их мантий и позолоту для их нимбов, пусть так и будет. Они безропотно позволили графу Доне и его подручным вынести их из церкви и утопить в бездонных водах Лёвена. Скорее всего, они и сами посчитали – хватит здесь стоять на посмешище, не в том они виде, чтобы украшать дом Господен.
И вот еще о чем я думаю: об этой лодке с грузом глиняных фигур. Как она скользит в вечерний час по зеркальной глади Лёвена… гребец то и дело опасливо оглядывается на свой необычный груз, сваленный и на носу, и на корме. А граф Дона, он ведь тоже не удержался и поехал топить святых, – граф Дона просто образец свободомыслия и бесстрашия. Недрогнувшими руками берет он фигуры и одну за другой бросает в воду. Он чувствует себя борцом за чистоту веры. Сказано ведь, не сотвори себе кумира.
Гребец, наверное, ждал чуда, но чуда не случилось. Глиняные святые медленно и безропотно пошли на дно, дожидаться распада и исчезновения.
А в следующее же воскресенье церковь в Свартшё предстала прихожанам ослепительно-белой. Никакие картинки и фигурки не смущали покой верующих, не внушали им еретические мысли. Истинный христианин должен видеть Царство Небесное внутренним оком, неуклюжие картины и скульптуры деревенского художника ему не нужны. У настоящей молитвы крылья достаточно сильны, чтобы донести ее к Господу, нечего цепляться за края одежд глиняных истуканов.
Но ведь как прекрасны зеленые одеяния земли, любимой нашей обители, как лазурно небо над ней – вечная цель стремлений наших и упований! Данный нам Господом мир сияет всеми цветами радуги, так почему же церковь должна быть белой? Белой, как зима, обнаженной, как нищета, блеклой, как призрак? Она не поблескивает морозными иглами инея, как зимний лес, в ней не переливаются кружева и жемчужины, как в белом подвенечном наряде невесты. Церковь выкрашена холодной, бездушной клеевой краской. Ни одной картины, ни одной фрески, не на чем остановить глаз.
Такой ее увидели прихожане в то воскресенье. А в церкви, на хорах, на украшенном цветами стуле, сидел сам граф Дона и ждал благодарностей и восхвалений за свою работу. А как же, сломанные скамейки починены, мазня деревенского живописца не оскорбляет глаз, вставлены новые стекла вместо разбитых. Низкий поклон графу Дона! Конечно, сделать в церкви ремонт – дело непростое, заслуживающее благодарности, но не надо забывать, что у графа была нечиста совесть и он затеял ремонт, чтобы избежать Господнего гнева. И почему все должны быть ему благодарны?
И ведь Господь не этого от вас ожидал, граф. Он ожидал, что вы встанете к позорному столбу и будете просить братьев ваших и сестер молиться за вас. Господа не проведешь так, как вы провели кротких прихожан, не решающихся сказать вам слово осуждения. И не забудьте, граф, Господу под силу заставить заговорить камни, если люди молчат.
Допели последний псалом, но никто не уходил – пастор должен был произнести слово благодарности графу Дона.
Но до этого дело не дошло.
Двери широко распахнулись, и в церковь медленно, тяжелым шагом вошли старые глиняные святые. С них ручьями текла вода, с перепачканных илом мантий свисали темно-зеленые космы водорослей. Должно быть, они догадались, что именно сегодня в церкви, в их родной церкви, будут чествовать их погубителя, того, кто вынес их из ставшего родным Божьего дома и бросил в холодную пучину. Такого они допустить не могли.
Нет, им не по душе монотонное чмоканье волн в Лёвене. Они приучены к другому: к псалмам и молитвам. Но они терпели. Они были уверены, что на все воля Божья, они понимали, насколько стары и немощны. Но они ошибались! На почетном месте в церкви сидит граф Дона, и это ему должны возносить хвалы и петь осанну! Ему, а не Господу!
Ну нет, такое они допустить не могли.
И старые, поломанные, с кое-где облупившейся, а местами уже смытой водой Лёвена краской поднялись они из пучины и двинулись в церковь.
Прихожане обомлели. Они конечно же сразу узнали своих святых. Вот святой Улоф с короной на шлеме, вот святой Эрик с золотыми лилиями на мантии, святой Йоран и святой Кристофер.
Царица Савская и Юдифь не явились.
Но как только прошло первое удивление, послышался шепот, слышный во всех углах обновленной белой церкви.
– Кавалеры!
Конечно же кавалеры. Молча подошли они к графу, подняли его вместе с увитым венками стулом, вынесли из церкви и поставили на лужайке.
Они не произнесли ни слова, не смотрели по сторонам – мерно печатая шаг, прошли по церкви, вынесли графа и направились назад к озеру. Никто не решился к ним подойти – все было ясно без слов.
Мы, кавалеры Экебю, считаем, что граф Дона не заслужил чествований в церкви, в приюте Божьем. Если есть желающие, можете внести его обратно.
Но желающих не нашлось. Заготовленная речь пастора так и осталась не произнесенной.
Прихожане потянулись к выходу. И среди них не было ни одного – заметьте, ни одного! – кто посчитал бы, что кавалеры поступили неправильно.
Потому что все вспомнили молодую, добрую и кроткую графиню, которую так мучили в Борге. Они вспомнили ее, у которой находилось доброе слово для каждого, да и не надо было слов – от одного вида ее становилось теплее на душе.
Конечно, явиться в церковь в таком виде – грех, но и пастор, и община в глубине души понимали, что сами они чуть не совершили грех еще более тяжкий.
И никто не сказал ни слова осуждения старым проказникам. Стояли, пристыженные, и смотрели, как они, раскачиваясь из стороны в сторону и стараясь не сгибать ноги, уходят к озеру.
– Когда люди молчат, за них говорят камни, – изрек пастор.
Но с того дня пребывание в Борге стало для графа Хенрика невыносимым. Темной августовской ночью к парадной лестнице подкатила крытая карета. Слуги встали по обеим сторонам вдоль перил, и появилась графиня Мэрта, закутанная в шаль, с темной густой вуалью на лице. Граф держал ее под руку, но она все время вздрагивала и оглядывалась. С огромным трудом удалось уговорить ее выйти из дома.
Ее усадили в карету, за ней вскочил граф, захлопнулись остекленные дверцы, и лошади взяли с места в карьер. Когда сороки на следующее утро проснулись, графини уже не было.
Граф поселился где-то на юге, Борг продали. Много раз после этих событий меняло имение хозяина. Каждый новый владелец приходил в восторг от покупки, но я так и не знаю, нашел ли кто-нибудь счастье в этом проклятом доме.
Божий странник
Странник божий, капитан Леннарт, появился на постоялом дворе в Брубю в один из теплых августовских дней и сразу прошел в кухню. Он направлялся домой, в свою усадьбу Хельесетер, совсем недалеко, в четверти мили на северо-запад, на опушке леса.
Капитан Леннарт еще не знал, что ему предстоит сделаться странником божьим. Сердце его радостно билось в предвкушении встречи с родным домом. Много чего пришлось ему пережить, cудьба не баловала его. Но теперь он дома, и все будет замечательно. Не знал, не знал капитан Леннарт, что вскоре станет одним из тех, кому не суждено проводить дни свои под отеческим кровом, кому не суждено греться у родного очага.
Настроение у божьего странника было превосходное. В кухне никого не было, и он расшалился, как мальчишка. Перепутал пряжу, поменял местами колеса прялки, бросил подвернувшегося кота на голову пса и от души хохотал, когда старые друзья затеяли ссору: пес грозно рявкнул, волосы на загривке встали дыбом, а кот зашипел, выгнул спину и выпустил когти.
На шум прибежала хозяйка постоялого двора, остановилась на пороге и некоторое время смотрела на хохочущего капитана. Она прекрасно знала, кто это, – еще бы ей не знать! Последний раз она видела его на тюремной повозке в наручниках. Пять с половиной лет назад на зимней ярмарке в Карлстаде случилась кража – украли украшения у жены наместника. Несколько колец, браслет и пряжки. Для нее это была большая утрата: подарки, семейные драгоценности – словом, такие вещи, на которые достаточно поглядеть, а иной раз даже и не поглядеть, просто потрогать – и сразу вспомнишь какую-нибудь романтическую историю. Их так и не нашли, но в провинции упорно ходили слухи, что драгоценности украл капитан Леннарт из Хельесетера.
Хозяйка постоялого двора и тогда была в недоумении, не понимала, откуда ветер дует: капитан Леннарт – вор? Честнейший, порядочнейший человек? Два года назад привез жену, и жили они, судя по всему, счастливо. Женился, конечно, поздновато, но раньше у него просто-напросто не было денег на женитьбу. Но после свадьбы все складывалось неплохо – он получал хорошее жалованье, да и усадьба приносила кое-какой доход. Что могло заставить его украсть старый браслет и кольца? Непостижимо! А еще более непостижимо, что слухам поверили. Капитана Леннарта разжаловали, лишили ордена Меча и приговорили к пяти годам каторги.
Он пытался объяснить, что и в самом деле был на ярмарке, но уехал еще до того, как услышал о краже. А уже потом на дороге в пыли заметил что-то блестящее и поднял. Это была старая, довольно уродливая пряжка. Он захватил ее домой и отдал детям. Но оказалось, что пряжка из чистого золота. Она и послужила главной уликой.
Вся эта история была делом рук Синтрама. Злобный заводчик донес на капитана Леннарта и сочинил доказательства. Говорили, дело даже не столько в общеизвестной злобности и завистливости Синтрама, а в том, что он хотел избавиться от опасного свидетеля. Недавно выяснилось, что во время кампании 1814 года он контрабандой продавал норвежцам порох, и Синтрам был под следствием. Но единственным, кто мог представить доказательства, был именно капитан Леннарт. Что ж, можно считать, интрига удалась – капитан Леннарт исчез, и дело Синтрама закрыли за отсутствием улик.
Хозяйка постоялого двора смотрела и не могла наглядеться. Поседел, спина немного согнулась – видно, нелегко ему пришлось. Но лицо по-прежнему доброе и веселое. Это же тот самый капитан Леннарт, который вел ее к алтарю, когда она выходила замуж, тот самый капитан Леннарт, который всех переплясал на ее свадьбе. Тот самый капитан Леннарт, который с удовольствием разговаривал с каждым встречным, от которого ни один мальчишка не уходил без медной монетки. Тот самый капитан Леннарт, который совершенно искренне убеждал морщинистую старушку, что она прекрасно выглядит, молодеет день за днем. Тот самый капитан Леннарт, который мог залезть на бочку и играть полдня для танцующих у майского шеста.
– Да ты что, Карин, взглянуть на меня боишься?
И тут же разъяснил, зачем явился. Хотел разузнать, все ли в порядке у него дома, ждут ли его по-прежнему. Если ждут, то наверняка считают дни и месяцы. Знают, что срок его кончился.
Ничего, кроме хорошего, хозяйка сказать не могла. Жена и без тебя справлялась с делами ничуть не хуже любого мужчины. Дети здоровы и конечно же ждут не дождутся отца. Жена у тебя женщина немногословная, клещами слова не вытянешь, но ложку твою она никому не давала. И стул твой как стоял, так и стоит, никого она на него не сажает. А этой весной чуть не каждый день ходит на вершину нашего холма, смотрит, не идешь ли ты. Новую одежду соткала, скроила, сшила, все сама. Тут и так все понятно, хоть она и помалкивает.
– А они думают, это я украл? – робко спросил капитан.
– Никто так не думает, капитан Леннарт. У нас здесь – никто.
И капитан Леннарт не стал задерживаться. Он торопился домой.
И так случилось, что не успел он выйти из ворот постоялого двора, тут же наткнулся на старых друзей. Кавалеры из Экебю. Синтрам пригласил их в трактир отпраздновать свой день рождения. Кавалеры обрадовались и встали в очередь пожать руку бывшему каторжнику. Никто, конечно, не верил, что капитан Леннарт украл эти побрякушки. Синтрам последовал их примеру – уж он-то точно знал, что капитан ни в чем не виновен.
– Ах ты, мерзавец! – гаркнул капитан Леннарт. – Господь Бог не стал бы спасать тебя от эшафота. А кто спас, ты и сам знаешь.
Кавалеры захохотали. А Синтрам даже не подумал обижаться – он не возражал, когда ему намекали на его союз с нечистым.
Кавалеры и слышать не хотели, чтобы сразу отпустить капитана Леннарта, – как же не выпить за такое дело? По стаканчику – и в путь.
Но все пошло не так, как задумано. Он не прикасался к коварному зелью целых пять лет, к тому же весь день ничего не ел и порядком устал после долгой дороги. И уже после пары рюмок у него зашумело в голове.
А кавалерам только того и надо. Они заметили, что капитан Леннарт уже мало что соображает, и стали вливать в него рюмку за рюмкой. Никакого злого умысла у них не было – одно сочувствие: надо же, пять лет человек был лишен такого счастья!
А ведь капитан Леннарт и до каторги не увлекался спиртным. Он был одним из немногих трезвенников в округе. И на этот раз вовсе не собирался напиваться – ну, хорошо, решил он, уступлю просьбам старых друзей, выпью с ними рюмочку и пойду домой.
Но вышло по-другому. Вместо того чтобы спешить домой, капитан Леннарт лег на лавку и уснул.
Ах, как соблазнителен для приятелей пьяный сон друга! Йоста нашел кусок угля, банку брусничного сока и раскрасил несчастного капитана так, что тот стал и вправду похож на только что вышедшего на волю закоренелого преступника. Намалевал синяк под глазом, полыхающую ссадину на носу, взлохматил волосы, а физиономию потер углем, будто злодей не мылся все пять лет, что был на каторге.
Йоста дал приятелям отсмеяться и собрался стереть свою, как он ее назвал, живопись («Он же живой? Значит, живопись»). Но его остановили.
– Оставь пока, – сказал Синтрам. – Пусть посмотрит на себя, когда проспится!
Капитан мирно храпел на лавке, и про него быстро забыли. Пили всю ночь, к рассвету в головах у кавалеров было куда больше винных паров, чем соображения.
Но один вопрос надо было решить – что делать с капитаном Леннартом?
– Везти домой, – уверенно сказал Синтрам. – Мы сами его отвезем. Жена-то как будет рада! И нам приятно посмотреть. У меня прямо слезы наворачиваются, как представлю эту картину. Поехали!
Тут слезы навернулись на глаза не только у Синтрама, но и у всех закаленных в пирушках кавалеров – так тронула их предстоящая сцена воссоединения семьи. Подумать только, как же будет рада суровая хозяйка Хельесетера!
Они кое-как растолкали капитана Леннарта и погрузили его в повозку, которую полусонные кучера давно уже подогнали к постоялому двору, и вся компания двинулась в Хельесетер. Чтобы не заснуть и ненароком не вывалиться из повозки, кавалеры горланили песни. Вид у них был, как у бродяг, – опухшие, небритые, перекошенные похмельем физиономии.
Не прошло и десяти минут, как они добрались до Хельесетера. Оставили повозку на заднем дворе и, безуспешно стараясь принять торжественный вид, двинулись к крыльцу. Беренкройц и патрон Юлиус вели капитана Леннарта под руки.
– Леннарт, очнись! Приехали! Ты уже дома, – пытались они урезонить все еще не протрезвевшего капитана.
Он открыл глаза и внезапно взбодрился. Его очень тронула преданность друзей, отложивших все дела, чтобы доставить его в родное гнездо. Он остановился и оттолкнул поддерживающие его руки.
– Друзья мои! – воскликнул он с выражением. – Я много думал, за что Господь послал мне такие испытания. Я так и спросил: Господь, спросил я Господа, за что Ты послал мне такие испытания?
– Кончай проповедь, Леннарт! – буркнул Беренкройц.
– Пусть! – возразил Синтрам. – Красиво излагает.
– Я не понимал Его промысла, друзья мои, а теперь понял! Слушайте внимательно: Господь послал мне такие испытания, чтобы я узнал, какие замечательные у меня друзья. Вот для чего Он послал мне такие испытания! Друзья, которые, отложив все дела, поехали ко мне домой, чтобы разделить со мной радость встречи с любимой женой. Радость моей встречи с ней и радость ее встречи с ним… то есть со мной. И что по сравнению с этой радостью каких-то пять лет?
Он собрался было продолжать, но кавалеры уже не слушали. Они грохотали кулаками в дверь.
Внутри послышалось какое-то движение. Служанки проснулись, выглянули в окно и пришли в ужас. Оделись на всякий случай, но дверь пьяной компании отворить не решились. Наконец раздался скрежет отодвигаемого засова, и на пороге появилась капитанша:
– Что вам угодно?
Беренкройц выступил вперед.
– Мы привезли тебе мужа, – сообщил он, еле ворочая языком.
И они вытолкнули вперед бедного капитана Леннарта. Он двинулся к ней, покачиваясь, и только тут кавалеры обнаружили, что забыли стереть Йостину «живопись» – вид у капитана был как у закоренелого преступника. А за ним колебалась вся компания.
Он распростер объятия, но жена его сделала шаг назад:
– Ты пошел на каторгу как вор, а вернулся бродягой и пропойцей!
И повернулась спиной.
Капитан Леннарт ничего не понял. Он попытался следовать за ней, но его остановил внушительный пинок в грудь.
– Неужели ты думаешь, я позволю такому, как ты, командовать домом и детьми?
Дверь захлопнулась, и вновь загремел засов.
Капитан Леннарт бросился к двери и начал ее трясти.
Кавалеры разразились хохотом. Капитан думал, что жена встретит его с распростертыми объятиями, а вышло вон оно что. Потеха, да и только.
Смех подействовал на капитана, как красная тряпка на быка. Он бросился на кавалеров с кулаками. Те, продолжая смеяться, побежали к повозке, он попытался их догнать, но споткнулся и растянулся во весь рост.
Кавалеры уехали. Капитан медленно поднялся с земли. До его затуманенного сознания дошла поразившая его мысль.
Ничто в этом мире не происходит без Божьей воли, подумал он. Что ты хочешь от меня, Боже? Я перышко в Твоих руках, куда дунешь – туда меня и понесет. Я – как мячик: Ты, забавляясь, кидаешь меня, куда захочешь. Почему же Ты закрыл от меня двери моего дома?
И он пошел прочь в глубокой уверенности, что все произошло по воле Бога.
Восход застал его на самой вершине холма в Брубю. Он остановился и посмотрел на открывшуюся перед ним долину. Ах, нищие обитатели этого богатого края, не знали вы, не знали, что он уже близко, ваш спаситель! Никто из вас не сплел венок из брусничных стеблей, не повесил его на дверь своей лачуги. Никто не положил душистую лаванду и полевые цветы у входа, а ведь скоро взойдет на ваш порог стопа его. И матери не поднимали младенцев повыше, чтобы те увидели своего спасителя. Никто не вымыл полы в хижине, никто не прикрыл можжевельником прокопченные очаги. Никто не поторопился работать поусерднее, чтобы усладить взор его зрелищем возделанной, аккуратно размежеванной земли.
Вместо всего этого увидел он бурые, выжженные засухой посевы, потрескавшуюся землю и понял, что отчаявшиеся люди даже не спешили готовить ее к новому урожаю. Увидел голубые горы, где в ярких лучах восходящего солнца бурели пятна лесных пожарищ. Увидел поникшие, наполовину пожелтевшие придорожные березы. Проходя мимо одного из наделов, он учуял знакомый запах браги, увидел поваленный забор, прохудившуюся крышу, полупустые поленницы; все это значило только одно: у крестьян опустились руки из-за засухи, ими овладело губительное равнодушие, они потеряли надежду и ищут забвения в самогоне. Даже не озаботились заготовить дров на зиму.
Но, может быть, и на то воля Божья. Ему не суждено увидеть первые зеленые ростки на своем поле, ему не суждено сидеть у камина, наблюдая, как подергиваются пеплом и темно розовеют угли в очаге, ему не суждено греть в своих ладонях маленькие ручонки детей, он лишен даже богобоязненной и праведной жены, его поддержки и опоры. Может быть, и на то воля Божья, может быть, он, раздавленный и убитый горем, сумеет утешить других в их беспросветной нищете? Ведь те, кому повезло выстоять в неравной борьбе с суровой стихией, не служат им примером и утешением, а лишь усугубляют их страдания.
Вот так стоял капитан Леннарт на вершине холма и размышлял – неужели это и есть его призвание? неужели именно для этого он нужен Создателю?
Любопытно узнать, что кавалеры так и не поняли, что за роковую роль они сыграли в судьбе капитана Леннарта, так и не сообразили, чем было вызвано непонятное, с их точки зрения, поведение капитанши. А Синтрам помалкивал.
В уезде все в один голос осуждали возомнившую о себе жену, отказавшуюся принять после каторги такого достойного человека. Мало того, она обрывала любой разговор на эту тему. Даже имени его слышать не хотела. И капитан Леннарт ничего не предпринимал, не оправдывался и не просил прощения.
А на следующий день случилось вот что.
В Хёгбергсбю умирал старый фермер. Он уже причастился, и силы покидали его с каждой минутой. Все понимали, что конец близок.
Как и любой, кому предстоит долгая дорога, он не находил себе места. То просил перенести кровать из кухни в комнаты, то назад в кухню. И эти просьбы, даже больше, чем неровное угасающее дыхание и помутневший взор, убеждали родных – за стариком пришла смерть.
Вокруг него собрались родные и слуги. Всю жизнь он был удачлив и богат, и никак не скажешь, что его бросили в смертный час. Может быть, именно потому, что он был удачлив и богат, у смертного одра собрались не только его родственники. Пришли и соседи, и знакомые, и совсем чужие люди. А он, борясь с одышкой, рассказывал про свою жизнь, рассказывал так, словно уже видел перед собою лик Божий. А окружающие, вздыхая и переглядываясь, кивали головой: все так, истинная правда.
– Я работал усердно, был хорошим хозяином… Я любил свою жену, как себя самого, даже больше, воспитал детей достойными людьми. Не пьянствовал, не переносил потихоньку колышки на меже, не понукал лошадей, когда им было и без того тяжко, и коров даже в тяжелые зимы кормил досыта. Вырубал заросли, овец стриг вовремя, чтобы не мучились в своих шубах на жаре.
И плачущие работники повторяли за ним, как эхо:
– Правда, правда! Лучше хозяина не найти! И лошадей не загонял, и овец стриг вовремя.
А в дверях, никем не замеченный, стоял нищий – пришел попросить подаяния, да так и остался слушать исповедь умирающего.
– Вырубал заросли, корчевал пни, осушал луга, – продолжал перечислять свои заслуги умирающий. – И плуг мой вел борозду, как надо, и амбар построил втрое больше, чем при отце был. Три кубка заказал из серебряных норвежских далеров, а отец мой – только один.
Нищий у дверей слышал каждое слово, и ему тоже показалось, что исповедь умирающего звучит так, словно уже виден ему лик Божий. И родня, и слуги повторяли за стариком:
– Да, ничего не скажешь, плуг его вел борозду – загляденье.
– Бог позаботится, чтобы мне хорошо было на небесах, – прошептал старик.
– Еще бы! – откликнулись слуги. – Конечно, Господь примет его, как надо.
Человек у дверей услышал последние слова. Сам-то он был перышком, носимым по свету дуновением Всевышнего, мячиком в Его руках, и его охватил ужас.
Он подошел к умирающему и взял его руку.
– Друг мой, друг мой, – сказал он дрожащим от страха голосом. – Думал ли ты, как Он велик, Господь наш, пред ликом которого готовишься ты предстать? Велик и всесилен Господь наш, земля – лужайка Его, а штормы, сотрясающие наш мир, – Его ездовые кони. Небеса бледнеют и прогибаются под тяжестью стопы Его. И ты лепечешь что-то про борозды и норвежские далеры! Про стриженых овец! Хочешь ли ты похвалиться перед Богом, какой ты хороший хозяин? Ты хочешь сравниться с Ним, с истинным Хозяином? Да знаешь ли ты, как велика власть Его, Того, в Чье царство лежит твой путь?
Глаза старика, уже почти погасшие, открылись, бескровный рот искривился от ужаса. Он хрипло дышал и перебирал рукой складки рубахи на груди.
– Не слова неси Господу, а смирение! – продолжил странник. – Все земное величие – солома в Его овине. Он создает солнца и звезды, моря и горы. Он одел землю травами и лесами. Вот это, я понимаю, труд, а ты хотел сравняться с Ним своими сытыми коровами и стрижеными овцами! Склонись перед Ним, ты, уходящая в вечное царство душа человеческая! Пади к ногам Его, твоего Бога, и ураган Господнего гнева минует тебя, он пронесется над тобой, лежащим во прахе, он минует тебя, как молния минует равнины и долы. Смирись! Схватись, как дитя, за край Его мантии и проси защиты. Лежи во прахе и проси тебя помиловать! Склонись перед Господом, душа человеческая!
Глаза умирающего открывались все шире, он перестал перебирать рубаху на груди и сложил руки, как для молитвы. Странно, но он даже перестал хрипеть и вдохнул ровно и глубоко.
– Душа человеческая, покидающая нас душа человеческая, – сказал странник тихо. – В последний момент распростерлась ты в святом смирении перед Господом, и пусть возьмет Он тебя на руки, как неразумное дитя, и унесет с Собой в свое Царство радости и покоя.
Умирающий глубоко и спокойно вдохнул и закрыл глаза. Все было кончено. Капитан Леннарт склонил голову и начал молиться про себя. Остальные последовали его примеру. Время от времени кто-то скорбно вздыхал, но слез и причитаний не было.
Лицо старца было спокойным и умиротворенным, на губах застыла кроткая улыбка, а в еще не закрытых глазах сиял небесный свет, увиденный им в последние секунды жизни.
Он видел Бога.
Люди молча молились, но видно было, что на уме у них одна и та же мысль.
Велика и непостижима душа человеческая! Вот и разорвала ты земные оковы, в последние секунды смирилась и вернулась к своему Создателю. И поднял Он тебя, как безгрешное дитя, и понес в Свои чертоги.
– Он видел Бога. – Сын произнес слова, которые мог бы произнести любой из присутствующих, и ладонью закрыл глаза умершего.
– Он видел врата рая, – всхлипывали дети и слуги.
А вдова протянула капитану Леннарту дрожащую руку.
– Вы помогли ему в самую трудную минуту, – сказала она.
А капитан стоял как истукан, не в силах ни сказать что-то, ни даже пошевелиться. Он никогда не знал, что Господь наградил его даром проникающего в душу слова. Он даже не знал, почему он так поступил. Стоял и дрожал, как только что вылупившаяся бабочка, когда крылья ее наливаются радужным светом, отражающим свет всемогущего солнца.
Именно это событие и заставило капитана Леннарта продолжать свои странствия. Если бы он случайно не забрел в усадьбу умирающего фермера, наверняка вернулся бы домой, объяснился с женой, доказал, что он не какой-то пропойца и разбойник, а все тот же Леннарт. Но теперь он решил, что ему дан знак – он нужен Богу. Он избранник Божий, странник, помогающий бедным. Нужда в тот год была ужасающей, и слово истины, мудрость и доброта могли сделать то, что не под силу ни деньгам, ни власти.
Как-то раз пришел он к крестьянам на хуторе у подножия Гурлиты. Дела были совсем плохи – запасы картошки кончились, надо было сеять рожь на паленинах, но и семян не было.
Капитан попросил лодку, догреб до Форса и попросил Синтрама помочь людям – дать картофеля и ржи для посева. Синтрам принял его как родного, показал большие, хорошо оборудованные амбары, забитые зерном, потом проводил в погреб, где хранился прошлогодний картофель.
– Набивай свои мешки, – сказал Синтрам. – Для доброго дела не жалко. Только лодчонка у тебя маловата для такого груза.
У Синтрама был работник по имени Монс, отличавшийся необыкновенной силой. Его так и прозвали: Бык Монс. Синтрам приказал Быку Монсу отнести мешки в один из своих баркасов и переправить на тот берег. Леннарт сел в свою утлую посудину.
Догнать Быка Монса ему было не под силу – тот, помимо немереной силы, был еще и отличным гребцом. Поэтому капитан Леннарт греб не торопясь, любуясь на красоты озера и размышляя об удивительной судьбе зерен. Вот сейчас их покидают в выжженную землю между камней и несгоревших пней, но они прорастут в этой дикой, еще не приспособленной для хозяйства земле. Он представил появляющиеся из черной земли ярко-зеленые ростки, представил, как он наклоняется и гладит эти шелковые стрелки. А потом наступит осень, а за осенью – зима, она навалится всеми своими ветрами и морозами на эти слабенькие побеги, но они все равно оживут к весне и тогда уже всерьез примутся за дело. И его сердце солдата теплело при мысли об этих стройных, высоких колосках с пушистыми метелочками. Он представлял, как они, качаясь под ветром, поднимают облачко невидимой глазу пыльцы до самых верхушек деревьев, как на глазах наливаются силой мягкие и сладкие зерна. А когда по ним пройдет серп, они упадут, а потом начнется обмолот, зерно свезут на мельницу, перемелют, хозяйки испекут душистый хлеб, и голод отступит от деревни, и все благодаря зерну в той лодке, что скользит впереди.
Работник Синтрама привязал лодку у мостков. Встречать его собрались почти все – и взрослые, и дети.
– Хозяин шлет вам солод и зерно, – сказал Бык Монс, как научил его Синтрам. – И солод, и зерно, а то он прослышал, что у вас самогон кончился.
Люди точно с ума сошли. Прыжками помчались к мосткам, начали чуть не драться из-за мешков. Капитан Леннарт остолбенел. Разве такого он хотел, когда просил у Синтрама картофель и посевное зерно? Он ни слова не сказал про солод!
Он в несколько лихорадочных гребков подогнал лодку к мосткам и выскочил.
– Оставьте мешки! – крикнул он, но никто его не слушал. Он был вне себя от гнева. – Не хотите? Так пусть рожь превратится в песок у вас во рту, а картофель оборотится камнями!
И в ту же секунду выяснилось, что капитан Леннарт сотворил чудо. Две женщины, подравшиеся из-за ветхого рогожного мешка, разорвали его пополам, и оттуда посыпался серый речной песок. Мужчины вдруг сообразили, что картофель не может быть таким тяжелым. В больших мешках вместо картофеля оказались камни.
Песок и камни. И ничего больше – только песок и камни.
Люди замерли в немом ужасе – на их глазах произошло чудо. Этот странник божий – чудотворец!
Капитан Леннарт тоже застыл на месте – не мог прийти в себя от удивления. И только Бык Монс, работник Синтрама, хохотал от души.
– Поезжай домой, – скомандовал ему Леннарт. – Поезжай, пока они не поняли, что за шутку сыграл с ними твой негодяй-хозяин. Когда до них дойдет, они утопят твой баркас, да и тебя заодно.
– Ты думаешь, я их боюсь? – заносчиво сказал Бык Монс, но Леннарт так на него посмотрел, что тот взялся за весла.
Леннарт честно объяснил крестьянам, что никакого чуда не совершал, что все это злой розыгрыш Синтрама. Но ему никто не хотел верить. Слухи о страннике-чудотворце пошли по всей округе – охотнее всего люди верят небылицам. Никто даже не усомнился, что капитан Леннарт совершил чудо. И среди крестьян он пользовался большим почтением.
С тех пор его иначе, как странник Божий, никто и не называл.
Кладбище
В этот прекрасный августовский вечер на зеркальной поверхности Лёвена не было ни малейшей ряби, а холмы подернулись сизой закатной дымкой. Становилось прохладно. Беренкройц, коренастый, с фигурой борца полковник с белоснежными усами, спустился к берегу и уселся в старую деревянную плоскодонку. В заднем кармане брюк у него лежала колода карт. С ним был его старый соратник, майор Андерс Фукс, и маленький Рустер, замечательный флейтист, барабанщик Вермландского корпуса егерей. Он много лет не расставался с полковником, был его адъютантом и другом.
На том берегу – старое, неухоженное кладбище прихода Свартшё с разбросанными кое-где покосившимися и ржавыми железными крестами, с кочками и ямами, как на невспаханном поле. Оно заросло осокой и полосатым канареечником, то ли диким, то ли когда-то нарочно посаженным для напоминания, что ни одна человеческая жизнь не похожа на другую. Жизни людей такие же разные, как листья этой травы, – двух одинаковых не найти, хотя все похожи. Дорожек, усыпанных гравием, нет и в помине, нет и деревьев, в тени которых можно укрыться от солнца, если, правда, не считать старую липу на заброшенной могиле дьякона. Кладбище обнесено высокой замшелой каменной оградой. Безутешное зрелище – кладбище убого и безобразно, как лицо старого ростовщика, посеревшее от стонов и проклятий тех, кого он лишил надежды на достойную жизнь. Некоторые могилы вынесены за ограду. Например, могила Аквилона, того самого, что умер в прошлом году в Экебю. Гордый и благородный человек, бесстрашный воин, удачливый охотник и игрок. Ему всегда улыбалась удача, но кончил он тем, что проиграл все свое состояние, оставил жену и детей без наследства. Впрочем, он давно уже променял семейную жизнь на общество кавалеров в Экебю. А прошлым летом проиграл и свое поместье, единственное, на что могла как-то существовать его семья. И чтобы освободиться от этого долга, он застрелился. Ничего удивительного, что его похоронили за оградой, – самоубийц не хоронят в освященной земле.
После его смерти их осталось двенадцать. Никто не занял место Аквилона, если не считать нечистого духа, появившегося из кузнечного горна в ночь под Рождество.
Что ж, кавалеры прекрасно знали, что каждый год один из них должен умереть, но смерть Аквилона выбила всех из колеи. Умереть – что ж дурного? Кавалеры не должны стариться и дряхлеть. Если полуослепшие глаза уже не отличают пику от червы, если дрожащая рука не в состоянии поднять бокал с пуншем, зачем тогда жить? Но сама мысль быть похороненным, как собака, за оградой кладбища, где овцы топчут укрывшую тебя землю, где лопата или плуг будут постоянно тревожить твой покой, где прохожий даже не подумает умерить шаг и задуматься, где дети будут хохотать во весь голос и гоняться друг за другом и никто их не остановит? За стеной, за которой наверняка не будет слышно, как протрубит рог архангела, созывающий мертвых на последний суд? Найти здесь свое последнее прибежище? Какой ужас!
А сейчас Беренкройц плывет на плоскодонке через Лёвен. Тихим августовским вечером плывет он по озеру моей мечты.
О, это озеро! На берегах его видела я, как прогуливаются за неторопливой беседой боги, как из вод вырастают и вновь скрываются волшебные замки. О, это озеро!
Он плывет мимо залива Лагэ, где на полукруглой песчаной косе прямо из воды растут полные тайн ели, где на крутом откосе до сих пор видны развалины крепости, построенной когда-то морскими пиратами. Он плывет мимо елового парка на мысе Борг, где над обрывом чудом держится вцепившаяся в камень толстыми корнями сосна, он плывет как раз там, где застрелили огромного медведя, где с незапамятных времен видны уже еле различимый курган и осыпающиеся каменные могильники.
Он огибает мыс, привязывает лодку и поднимается к могиле Аквилона по вспаханному полю, принадлежащему графу из Борга.
Присаживается у могильного холмика и легонько похлопывает землю. Так, полусожалеюще-полуободряюще, похлопывают одеяло, укрывающее тяжелобольного друга. Потом он достает из заднего кармана брюк колоду карт и присаживается у могилы:
– Одиноко ему там, Юхану Фредрику. Наверняка с удовольствием сыграет партию.
– Стыд и позор, что такой парень должен валяться здесь, за оградой, – кивает знаменитый охотник на медведей Андерс Фукс и садится рядом.
А у маленького Рустера, флейтиста и барабанщика, покраснели маленькие глазки и выступили слезы.
– Если не считать вас, полковник, он был самым лучшим человеком из тех, кого мне довелось знать.
Трое садятся в кружок вокруг холмика. Беренкройц серьезно и тщательно сдает карты.
Смотрю я на этот мир и не устаю удивляться. Я видела несметное множество могил. Вон там, под огромной мраморной глыбой, покоится кто-то из великих мира сего. Над его могилой гремели похоронные марши, приспускали флаги. А вот здесь могилы тех, кого при жизни наверняка очень любили, – на зеленой травке лежат цветы, мокрые от слез и поцелуев. Видела я и забытые могилы, а есть и другие, с претенциозными и лживыми надгробьями, воистину памятники не столько покойному, сколько тщеславию близких. Есть и совсем анонимные могилы – заброшенные, без надписи, можно только гадать, кто здесь похоронен. Но никогда я не видела, чтобы на могилу приносили валета с черно-белой клетчатой рубашкой и джокера в колпачке с колокольчиком.
– Юхан Фредрик выиграл, – гордо заявляет полковник. – А как же иначе! Это ведь он у меня учился играть. Мы все трое полегли в битве. Он один остался в живых.
Он собирает карты в колоду и поднимается. Друзья тоже встают – пора в Экебю.
Они уверены, что теперь покойник знает, что не забыт, что не забыта его жалкая могила за оградой кладбища. Странный, мягко сказать, знак внимания со стороны этих шалопаев, но тот, кого они любили, тот, кто лежит в этой заросшей могиле за стеной, тот, кому не дано найти успокоения в освященной земле, – тот наверняка рад, что не все отвернулись от него.
Друзья мои, люди, дети рода человеческого, когда я умру, меня наверняка похоронят в самом центре кладбища, в могиле моего отца. Я не разоряла своих близких, никогда не покушалась на собственную жизнь, но совершенно уверена, что никто не одарит меня такой памятью и такой любовью, какой одарили кавалеры этого самоубийцу и грешника. Никто не придет под вечер, когда заходит солнце и в мире становится темно и одиноко, никто не вложит пестрый джокер в мои мертвые пальцы.
И ладно бы карты, я никогда особенно ими не интересовалась, но как бы мне хотелось, чтобы кто-то пришел на мою могилу со скрипкой, и дух мой, витающий над разлагающейся плотью, поплывет, качаясь, на волне мелодии, как лебедь в искрящихся водах Лёвена.
Старые напевы
Тихим вечером в конце августа Марианна Синклер приводила в порядок свои письма и другие бумаги.
В комнате страшный беспорядок. Сюда внесли кожаные чемоданы, сундуки с железной оковкой, на всех стульях, креслах и диванах разбросана одежда. С чердаков, из шкафов, из ящиков комодов мореного дерева вытащили шелковое и льняное белье, украшения выложены на столе – их надо разобрать и почистить.
Она готовится к далекому путешествию. Неизвестно, вернется ли когда-нибудь домой. Жизнь круто повернулась, и надо уничтожить целую кипу старых писем и дневников. Она не хочет нагружать себя памятью о прошлом.
В руках у нее перевязанная стопка бумаг. Это старые народные песни, которые пела ей мать, когда она была маленькой. Марианна развязала бечевку и начала читать.
Просмотрела несколько страниц и печально улыбнулась. Какая-то сомнительная мудрость в этих древних напевах.
Счастью не верь, приметам не верь, не верь распустившимся розам.
И дальше:
Смеху не верь! Смотри, в золоченой карете юная девушка Вальборг[33], на губах играет улыбка, на сердце ее печаль, знает девушка Вальберг, что счастье ее непрочно.
Танцам не верь! Порхаешь легко по полам навощенным, а грудь тяжела, как свинец. Как веселилась Черстин[34] – и проплясала жизнь.
Шуткам не верь! – наставляет песня. Многие шутят, чтобы скрыть сердечную боль. Юной Адели[35] подали сердце убитого Фрейденберга, она засмеялась – затем лишь, чтоб набраться сил умереть.
Ничего себе! Чему же верить? Слезам и страданью? Научите меня, чему верить, старые напевы!
Легко заставить улыбнуться губы, сведенные горем, но гораздо труднее заплакать, если тебе весело. Эти старые песни учат верить только слезам и вздохам, только вздохам и слезам. Скорбь – основа всего, вечная и неподвижная скала под сыпучим песком жизни. Верить можно только в скорбь и в ее тайные знаки – кому они не известны, эти тайные знаки скорби!
И радость, и счастье – это тоже скорбь, они просто притворяются радостью и счастьем. Собственно, если посмотреть внимательно, ничего, кроме скорби, на земле и нет.
– Откуда такая безутешность в этих причитаниях, – сказала Марианна вслух. – Вся их мудрость – ничто, жизнь куда разнообразней.
Она подошла к окну и увидела родителей – они неторопливо гуляли по широкой аллее и говорили, наверное, обо всем, что попадалось на глаза. О травах земных и птицах небесных, о чем же еще.
– И что ж, мое сердце тоже переполнено скорбью, хотя никогда я не была так счастлива, как сейчас.
И вдруг ей пришло в голову, как все относительно – скорбь и радость, горе и счастье, уныние и веселье. Все зависит от того, как ты смотришь на жизнь.
Все произошедшее со мной этой зимой – что это было? Счастье или беда? – спросила она себя.
И не смогла ответить.
Это было тяжелое время. Душа ее изнывала. Ее оскорбили, унизили, пригнули к земле. Когда она вернулась домой, сказала себе – не хочу таить зла на отца. А сердце говорило другое. Он убил мою душу, говорило сердце. Он разлучил меня с любимым, он избил мою мать. Это непереносимо. Я не желаю ему зла, но я боюсь его.
Она заметила, что ей трудно усидеть рядом с отцом за столом – тут же хочется убежать и спрятаться. Она пыталась преодолеть себя, разговаривала с ним, как будто ничего не произошло. Это ей удавалось, но страдала она несказанно. И, как и следовало ожидать, страдание от насилия над собой постепенно перешло в ненависть. Все было ненавистно ей в нем: грубый зычный голос, тяжелая походка, огромные руки, весь его угрожающий облик. Нет, зла она ему не желала и навредить ему не хотела, но дошло до того, что не могла подойти к нему без чувства страха и омерзения. Ее сердце не выдержало насилия. Она словно слышала его, сердца, тихий, надломленный голос: «Ты не позволила мне любить, но от меня не убежишь. Тебе остается только одно: ненавидеть».
Она всегда прислушивалась к своему внутреннему голосу, и с ужасом стала замечать, что ненависть к отцу становилась все глубже, она росла с каждым днем. И в то же время все шло к тому, что она теперь привязана к этому дому навсегда. Умом она понимала, что лучшим выходом было бы уехать, побывать среди других людей, но не могла себя заставить. Марианна была обречена на продолжающиеся мучения и прекрасно понимала, что в один прекрасный день ее самообладание не выдержит, что в конце концов она сорвется, выскажет отцу все, что о нем думает, и ни чему хорошему это не приведет.
Так прошли весна и начало лета. А в июле она обручилась с бароном Адрианом – только для того, чтобы уехать от отца.
Как-то утром барон въехал в усадьбу на статном, породистом коне. Его гусарский ментик сиял золотым шитьем, шпоры и сабля, как только на них падал луч солнца, вспыхивали горячим серебром. Не говоря о том, что барон был хорош собой – мальчишеское лицо его дышало здоровьем, а в глазах пряталась смешливая искорка.
Мельхиор Синклер вышел встречать гостя. Марианна сидела у окна с шитьем и слышала весь разговор.
– О! Солнечный рыцарь! – гаркнул заводчик. – Что это ты так принарядился? Не свататься ли приехал?
– Именно так, дядюшка! От тебя ничего не скроешь! – засмеялся барон.
– Постыдился бы, мальчуган! Чем жену кормить будешь? Что у тебя есть за душой?
– Ничего, дядюшка! Разве стал бы я жениться, если бы у меня хоть что-то было за душой?
– Так уж и ничего? Скромничаешь! А ментик твой на что куплен?
– В кредит. Само собой, в кредит.
– А конь? Такой конь, скажу я тебе, баловень судьбы, стоит целое состояние.
– И конь не мой, дядюшка.
Заводчик расхохотался:
– Значит, собрался жениться на приданом? Ну что ж… бери Марианну, если она согласна.
На том и порешили. Барону Адриану даже не потребовалось спешиться. Но Мельхиор Синклер вовсе не хотел унизить Марианну: барон Адриан – славный парень.
А что было дальше?
А дальше было вот что. Барон Адриан ворвался в комнату Марианны и без всяких предисловий произнес:
– О, Марианна, дорогая Марианна! Будь моей женой! Отец твой согласен, скажи, что и ты согласна!
Ей не составило труда узнать, почему такая спешка. Оказывается, старый барон, отец Адриана, опять пустился в авантюру – купил несколько шахт, и его, как всегда, провели за нос: шахты оказались пустыми. Впрочем, удивляться нечему – старик покупал шахты всю жизнь, и ни разу они ничего ему не принесли. Мать в отчаянии, отец наделал долгов, и он, Адриан, делает ей предложение, чтобы спасти честь семьи и своего гусарского мундира.
Имение барона, Хедебю, было на другой стороне озера, почти напротив Бьорне. Мало того, Адриан был знаком Марианне с детства.
– Пожалуйста, Марианна, не отказывайся. Моя жизнь, конечно, не образец для подражания. Езжу на заемных лошадях, еще и портному задолжал. Но так же не может продолжаться! Мне придется уйти в отставку, и тогда ничего не остается, только застрелиться.
– Но Адриан, дорогой, подумай, что это будет за супружество! Мы же даже хотя бы чуть-чуть не влюблены друг в друга.
– Какая там любовь! Меня эта чушь совершенно не волнует, – в простоте душевной ответил барон. – Я люблю, чтобы подо мной был хороший конь, люблю охоту. Но я не из кавалеров. Я могу работать. И если бы у меня были деньги, я бы взял на себя управление усадьбой, чтобы мать хоть в конце жизни немного порадовалась. Я люблю работать, могу и пахать и сеять.
Он смотрел на нее своими добрыми глазами, и она знала, что он не врет. Она знала, что этому забавному гусару можно доверять. И она дала согласие на обручение, и не только потому, что ей хотелось поскорее оставить родительский дом. Ей просто был симпатичен этот веселый и честный юноша.
Но она никогда не забудет последовавший за этим месяц.
Барон Адриан с каждым днем становился все сумрачней – она это ясно видела. Он не то чтобы избегал ее, наоборот, приезжал в Бьорне каждый день, а то и два раза на дню, но Марианна не могла не замечать, как он подавлен. В компании оживлялся, мог даже пошутить, но, как только они оставались вдвоем, замолкал и скучнел на глазах. Что ж, она его понимала. Не так-то легко жениться на обезображенной болезнью женщине. В нем наверняка росло отвращение. Конечно же никто лучше нее не знал, насколько она уродлива. И она даже несколько раз подчеркнула, что не ждет от него никаких проявлений любви, никаких ласк, никаких признаний. Не помогло. Он, наверное, все равно представлял ее в роли жены, и это доводило его до отчаяния.
Так зачем мучиться? Взял бы и расторгнул помолвку, никто же ему руки не выкручивает. Она уже несколько раз ему намекала. Сама Марианна сделать ничего не могла – отец сказал, что после очередных приключений с помолвками на ее репутации можно будет ставить крест. В результате она от всей души презирала и того, и другого и мечтала только, как бы избавиться от своих повелителей.
* * *
Прямо перед парадной лестницей в Бьорне из песка торчала макушка большого камня, который всем изрядно надоел. На нем переворачивались повозки, служанки с тяжелыми молочными бидонами спотыкались и разливали молоко. Но камень никто не трогал – он был там уже много лет, и все к нему привыкли. Мельхиор Синклер помнил этот камень с детства и не видел причин, чтобы его выкапывать.
Но в самом конце августа две служанки несли тяжеленный ушат, одна из них споткнулась и сильно разбилась.
Случилось это ранним утром. Хозяин ушел на прогулку, и поскольку как раз в это время дня почти все работники были еще в поместье, госпожа Густава распорядилась выкопать камень.
Пришли шесть человек с ломами и лопатами. Работали довольно долго – надо было обкопать со всех сторон, обрубить корни, расшатать камень, который оказался намного больше, чем думали. В конце концов камень выкорчевали и откатили.
Заводчик вернулся, когда все уже было кончено. Легко представить, в какую ярость он пришел. Это уже не мое поместье! – кричал он. Кто посмел тронуть камень? Ага, значит, госпожа Густава распорядилась! Понятно, женщины вообще ничего не соображают. Она что, не знала, как дорог мне этот камень?
И он двинулся к камню, обхватил его своими медвежьими ручищами, поднял и положил в еще не закопанную яму. Валун, который еле подняли шесть человек! Долго еще этот подвиг обсуждали во всем Вермланде.
Марианна стояла у окна, смотрела, как ее отец тащит этот многопудовый камень, и думала, что еще никогда в жизни этот человек не казался ей таким страшным. Он был ее господином, повелителем – капризный самодур, не желающий знать никого и ничего, кроме своих прихотей.
Они как раз собирались завтракать, и Марианна стояла со столовым ножом в руке. Она инстинктивно подняла нож, точно собиралась замахнуться на отца.
– Марианна! – Вошедшая госпожа Густава перехватила ее запястье.
– Что случилось, мама?
– О, девочка моя, у тебя был такой странный вид…
Марианна посмотрела на мать долгим взглядом. Маленькая, сухонькая, рано поседевшая и вся в морщинах. А ведь ей всего пятьдесят! Она любит мужа, как любит хозяина собака, сносит от него тычки и побои. Странно, мать почти всегда в хорошем настроении, но впечатление производит самое жалкое. Похожа на дерево на морском берегу. Все его силы уходят на то, чтобы выстоять против штормовых ветров, чтобы вырасти, сил уже не хватает. Мать научилась выискивать обходные пути, привирала, если была необходимость, и, чтобы избежать упреков, притворялась глупее, чем на самом деле была. Вся она, от седых волос до кончиков пальцев, была творением своего мужа.
– А скажи мне, мама, – нарушила наконец молчание Марианна. – Ты будешь сильно горевать, если отец умрет?
– Марианна! Ты злишься на отца, я тебя понимаю. Ты всегда на него злишься. Почему мы не можем опять жить спокойно? Теперь-то, когда у тебя есть жених?
– О, мама! Что я могу с собой сделать, если меня бросает в дрожь, как только я вижу отца? Или ты ослепла? Неужели ты не видишь, что это за человек? Он неуемен, груб, невоспитан, настоящий самодур. Посмотри на себя, он сделал тебя старухой, а ведь ты еще вовсе не стара. Он же ненормальный! С какой стати я должна его любить? С какой стати я должна его уважать? Где его доброта, милосердие, жалость, наконец? Он кого-нибудь в своей жизни пожалел, кроме себя? Ну, да, силен, как зверь… да он и есть зверь! Он может в любую минуту убить нас, искалечить, выкинуть из дома. И за это я должна его любить?
И тут с госпожой Густавой что-то произошло. Откуда она только набралась мужества?
– Берегись, Марианна, – сказала она. – Мне начинает казаться, что твой отец был прав, когда выставил тебя из дому зимой. Тебя Бог накажет за такие слова! Тебе надо научиться терпеть без ненависти, страдать, но не мстить!
– Ах, мама… я так несчастна!
И тут до них донесся звук падения.
Они так никогда и не узнали, что послужила причиной удара – надорвался ли Мельхиор Синклер, перетаскивая этот проклятый камень, а может быть, он уже вошел в дом, стоял у дверей и слышал яростный монолог дочери. Когда они выбежали в прихожую, он был без сознания. Потом они никогда его не спрашивали, а он, даже если что-то и слышал, не подавал виду. И Марианна даже думать не решалась, что она, хоть и невольно, отомстила отцу. Но при виде распростертого тела на лестнице, на той самой лестнице, где она впервые осознала свою ненависть к отцу, обида, горечь и жажда мщения разом улетучились из ее сердца.
Он довольно скоро пришел в сознание. Несколько дней в постели, и отец стал тем же могучим Мельхиором Синклером.
Тем же, но не совсем. Вернее, совсем не тем.
И вот сейчас Марианна рассеянно наблюдала, как родители гуляют по саду. Теперь это стало традицией. Они почти не расставались. Он был недоволен, когда кто-то приходил, когда она исчезала куда-то хотя бы ненадолго, – не хотел разлучаться с женой. Он сразу очень постарел, не мог даже заставить себя написать письмо, просил Густаву. Ничего не решал сам, всегда спрашивал жену, и вдруг оказалось, что теперь ее, а не его слово стало в доме законом. И откуда только взялись в нем кротость и добродушие? Он и сам замечал, как изменился и как счастлива его жена.
– Теперь-то ей хорошо, – сказал он как-то Марианне и показал на жену.
– Ах, Мельхиор, дорогой, ты же знаешь, что для меня самое важное, чтобы ты поправился!
Густава говорила правду. Лишь бы поправился. Самым большим удовольствием для Густавы было рассказывать, каким был ее муж в расцвете сил. Как он мог перепить любого кавалера из Экебю, как пускался в рискованные предприятия, и когда она уже думала, что они разорены, прощай и дом, и поместье, вдруг оказывалось, что Мельхиор зарабатывал на этих авантюрах кучу денег.
И Марианна вдруг поняла, что мать счастлива. Счастлива! Теперь она для этого человека опора и поддержка. Он не может без нее обойтись, и этого для Густавы достаточно.
Марианне казалось, что она легко может представить жизнь, что их ждет. Удары наверняка будут повторяться, и с каждым разом отец будет становиться слабее и беспомощнее, а мать будет преданно ухаживать за ним, пока смерть не разлучит их. Но это еще не скоро. Госпожа Густава обязательно получит свою долю счастья в жизни. Так и должно быть – жизнь в неоплатном долгу у этой тихой, незаметной и преданной женщины.
И у самой Марианны настроение улучшилось. Теперь уже никто не заставлял ее выходить замуж за первого попавшегося жениха. Ее раненое сердце успокоилось. Ненависть испарилась. Испарилась любовь, но она уже не страдала о потерянном счастье. Она стала умнее, добрее, великодушнее – разве это не достаточная плата за погибшую любовь? И понемногу исчезло нелепое желание вычеркнуть из жизни все, что случилось этой зимой, вернуться на год назад. Разве страдание не пошло ей на пользу? Все, что происходит в жизни, идет на пользу, решила она, но, к сожалению, не всегда оборачивается счастьем. И это даже хорошо, потому что пережитое затронуло в ее душе новые, неизвестные ей доселе возвышенные струны.
А эти старые напевы – нет, все не так. Все обстоит совсем не так. Страдание не единственное, что есть на этой земле, и страдание не вечно.
Она собралась путешествовать. Не для того, чтобы посмотреть мир, а чтобы постараться найти на земле место, где она по-настоящему нужна. Если бы отец так не переменился после болезни, он ни за что не позволил бы ей разорвать помолвку. А теперь с помощью матери его удалось уговорить. Он даже разрешил Марианне передать Адриану деньги, чтобы погасить долги.
Странно, но и об этом она думала без привычной горечи. Ей даже было приятно, что она сможет порадовать неудачливого жениха. Жизнелюбие и мальчишеская удаль Адриана напоминали ей Йосту. Что ж, теперь она сможет вернуть ему радость жизни. Он снова станет Солнечным рыцарем, таким, каким предстал во всем блеске своих нарядов в тот день, когда приехал делать предложение. И ее радовало, что она может помочь ему деньгами – Адриан наконец купит землю, будет пахать и косить, сколько душе угодно, и когда-нибудь она увидит, как он ведет к алтарю свою красивую юную избранницу.
И теперь она сидит и пишет ему письмо. Она возвращает ему свободу. Старается писать мягко и убедительно, местами шутливо, но не настолько, чтобы он не понял, что она с полным сознанием освобождает его от данного слова.
За окном послышался дробный стук копыт.
Вот и он, мой дорогой Солнечный рыцарь, подумала она. Сегодня мы видимся в последний раз.
Через несколько минут барон Адриан появился на пороге ее комнаты.
– Адриан! Здесь не прибрано! – Она смущенно посмотрела на разбросанные повсюду чемоданы, сундуки, платья и даже нижнее белье.
Он сразу помрачнел и начал лепетать слова извинения.
– Я как раз пишу тебе письмо. Собственно, уже написала. Можешь прочитать.
Он берет письмо, а она смотрит на него, дожидаясь, когда его хмурая полудетская физиономия просияет от радости.
Но он, прочитав несколько строк, побагровел, швырнул его на пол, растоптал, как ядовитое насекомое, и разразился проклятиями, каких не услышать и от пьяного конюха.
Марианна вздрогнула. Она не новичок в науке любви, но, оказывается, совершенно не понимала этого неопытного юношу, почти ребенка.
– Адриан, что с тобой? Что это за комедия? Выкладывай, что у тебя на душе.
Он бросился к ней и чуть не задушил. Бедный мальчик, его томила вовсе не тоска и не скука…
Она освободилась от его объятий и снова выглянула в окно. По аллее шли родители, и госпожа Густава рассказывала огромному заводчику о цветах, о птицах, а он оглядывался по сторонам, будто видел все это впервые в жизни. А она, Марианна, сидит здесь и лепечет что-то романтическое…
«Жизнь дала нам обеим понять, и мне и матери, насколько она сурова, – подумала Марианна и печально улыбнулась. – А теперь она словно извиняется перед нами, хочет утешить. Теперь у нас, и у меня, и у нее, по большому ребенку. По крайней мере, есть с кем поиграть».
Все слова, слова… а все же как приятно быть любимой! Как приятно слышать слова про исходящую от нее колдовскую силу! Приятно слышать, что ему стыдно за легкомысленные слова о любви, вырвавшиеся у него в тот день! Оказывается, она и сама не знает, какая власть над мужчинами ей дана. Ни один человек не может устоять перед ее чарами! Если бы она знала, как он ее боится!
И как это назвать? Счастье или несчастье? Ни то, ни другое.
И она решилась связать свою судьбу с этим юношей.
Наверное, она начала постепенно понимать саму себя. В какой-то из старых песен были слова о горлице, птице любовной тоски. Никогда не пьет она чистую воду, всегда старается слегка замутить ее лапкой. Так и она – ей не суждено пить родниковую воду чистого счастья. Ее удел – счастье, замутненное скорбью.
Смерть-избавительница
Моя бледная подруга, Смерть-избавительница! Она пришла в дом капитана Угглы августовской ночью, когда притихший мир залила холодным сиянием луна.
У бледной моей подруги, Смерти-избавительницы, храброе сердце. Она не страшится лететь на пушечном ядре, она вешает на шею шипящую гранату и хохочет, когда та взрывается, – ей нравится, как во все стороны летят осколки. Она качается в призрачном танце на кладбищах, не брезгует и чумными палатами в лазарете, но каждый раз нерешительно останавливается на пороге праведника. Потому что она не любит слез, она хочет, чтобы наградой ей была тихая радость, ведь она освобождает души человеческие от тяжести плоти, она отпускает их на волю – для новой, свободной и благочестивой жизни в бесконечном и непостижимом человеческим умом пространстве.
Ты тихо прокралась в рощу за господским домом. Туда, где тонкие белоствольные березы отталкивают друг друга, дерутся из-за света для своих негустых, ажурных крон. Тогда роща была юна и изящна, полна свежей зелени, и в этой самой роще пряталась моя бледная подруга, дожидаясь ночи.
А когда зашло солнце и в небе засияли первые, еще робкие звезды, она уже стояла на опушке, бледная, в черном одеянии, с косой, мертво поблескивающей в равнодушном лунном свете.
О, Эрос! Ты, и никто иной, хозяйничал в этой роще. Старики помнят, как влюбленные пары искали здесь уединения. И даже сегодня, когда я проезжаю Бергу, досадуя на ухабы, крутые холмы и никогда не оседающую пыль, мне все равно радостно глядеть на эту поредевшую белоствольную рощицу и думать о вечно юной, сметающей все на своем пути любви.
Но в ту ночь влюбленных в роще не было. Там ждала Смерть. Все ночные звери видели ее. Они знали ее в лицо. Уже несколько дней подряд в лесу лаяла лиса, предвещая ее приход, а уж подполз по песчаной дорожке почти к самому дому. Ужи говорить не умеют, они даже лаять не умеют, но все и без того поняли, что явился он не сам по себе, а как предвестник Великой и Неизбежной. На яблоне перед окном капитаншиной спальни свила гнездо сова и леденила душу своими короткими стонами. Удивляться нечему – в природе так устроено. Все звери, кроме людей, чувствуют приближение Смерти и не находят себе места от страха.
Все, кроме людей.
А было еще вот что: исправник Шарлинг возвращался с вечеринки в пасторской усадьбе в Бру. Проезжал он мимо Берги часа в два ночи и видел, как в окне гостевой комнаты горит свеча. Дорога проходит совсем близко от дома, и он ясно видел желто-оранжевый язычок пламени и белую свечу.
Когда исправник рассказал историю о странной свече, зачем-то горевшей в полуночный час, веселые девушки из Берги подняли его на смех. Наверное, господину исправнику привиделось, хихикали они, у нас сальные свечи кончились еще в марте. Капитан поклялся, что в гостевой комнате уже несколько недель никого не было, а капитанша ничего не сказала, но заметно побледнела, потому что белая свеча с ярким пламенем может означать только одно – за кем-то из ее семьи скоро придет Смерть. Смерть-избавительница.
Вскоре, в один из самых солнечных дней августа, Фердинанд вернулся домой – работал землемером в северных лесах. Бледный и больной, он жаловался на сильную и постоянную боль в груди. И как только капитанша его увидела, сразу поняла, что ее сыну осталось недолго.
Значит, вот как… ее любимый сын, который никогда и никому не причинил зла, который ни разу за всю свою жизнь не огорчил родителей, должен умереть. Все радости жизни уже не для него. Он должен оставить дожидающуюся его красивую, нежно любимую невесту, богатые хутора, забыть тяжелые, стонущие удары кузнечных молотов – все это должно было принадлежать ему.
Моя бледная подруга! Ей так не хотелось идти в этот дом, она ждала почти целый месяц, до нового полнолуния, и наконец решилась. Она знала, что в этом доме все горести, все испытания, нужду и лишения встречали с кротостью, и у нее была слабая надежда – может, они и ее, избавительницу, тоже встретят терпеливой улыбкой?
Она медленно прошла по посыпанной песком дорожке, а длинная тень ее падала на траву, где то и дело вспыхивали в лунном свете алмазные капли росы. Она вовсе не напоминала удачливого жнеца с цветами на шляпе под руку со своей подругой. Она шла, как больная старуха, прятала свою устрашающую косу в складках черной мантии, а вокруг нее вились совы и летучие мыши.
В эту ночь капитанша лежала без сна и услышала, как кто-то стучит по откосу окна. Она села в постели:
– Кто стучит?
И если верить старикам, Смерть ей ответила, тихо и робко:
– Это я стучу. Смерть.
И тогда капитанша вскочила с постели и распахнула окно. Она увидела светлые тени сов, увидела черные стремительные стрелы летучих мышей, почувствовала знобкую ночную прохладу, но Смерть она не увидела.
– Входи же, – сказала она негромко. – Входи, подруга и избавительница! Почему ты так долго не приходила? Входи же и освободи душу моего сына. Я звала тебя, ждала, что ты придешь и избавишь его от мучений.
И тогда Смерть проскользнула в дом. Она обрадовалась, как может обрадоваться свергнутый король внезапно возвращенной ему на старости лет короне, как может обрадоваться ребенок в предвкушении новой игры. Подумать только, ее приглашают в дом!
На следующий день капитанша сидела у постели умирающего сына и рассказывала ему, как радуется душа освобождению от телесной оболочки, какое блаженство ждет ее там, в небесах.
– Не думай, что они там бездельничают, – сказал она, – они работают. И еще как! Какие там художники, сынок! Какие художники! Когда ты окажешься среди них, кем ты станешь? Как ты думаешь? Одним из скульпторов, которые без долота и резца создают розы и лилии? Или художником, подбирающим краски для закатного неба? Наверное… и каждый раз, когда солнце будет садиться, я буду смотреть и думать – это же мой Фердинанд! Кто же еще может нарисовать такую несказанную красоту?
Подумай, дорогой мой мальчик, как много надо увидеть, как много надо сделать! Подумай обо всех семенах, которые надо пробуждать к жизни каждую весну, подумай об осенних штормах, которыми надо управлять, иначе они разнесут все на куски. Подумай о снах, о миллионах снов, которые надо навеять людям! И, наконец, подумай, как они летают, наши души! Как они летают, свободные и счастливые, среди бесчисленных миров, созданных Господом…
И вспомни меня, мой мальчик, когда ты увидишь всю эту красоту. Ведь твоя бедная мать никогда и ничего не видела, кроме нашего Вермланда.
Но настанет миг, и ты предстанешь перед Господом нашим и попросишь, чтобы Он подарил тебе один из тех миров, что кружатся во вселенной. И Он, конечно, тебе не откажет. Когда ты полетишь туда, увидишь, что там темно и холодно. Скалы и пропасти, и больше ничего. Ни цветов, ни зверей. Скалы и пропасти. Но ты же попросил Бога, чтобы Он подарил тебе этот мир! И ты начнешь работать. Ты принесешь туда свет и тепло, посадишь траву и деревья, расселишь соловьев и ясноглазых газелей, ты возведешь холмы, устроишь красивые водопады и посадишь на равнинах ярко-красные, краснее не бывает, розы. А когда и я умру, Фердинанд, когда моя душа замрет в ужасе перед дальней дорогой, перед разлукой со знакомым краем, ты уже будешь ждать меня за окном, Фердинанд, в сверкающей золотой карете, запряженной райскими птицами.
И моей бедной, измученной душе будет оказана честь: ее пригласят сесть в эту карету, рядом с тобой. И когда мы подлетим к далеким мирам, которые с каждой минутой будут становиться все прекраснее и прекраснее, я спрошу тебя: не пора ли остановиться, мой Фердинанд? Вот здесь или вон там, правее?
А ты тихо засмеешься и натянешь невесомые птичьи вожжи. И наконец, окажемся мы с тобой в самом маленьком, но самом лучшем из миров, который человек в земной оболочке даже не может представить, и ты остановишь карету перед сверкающим замком и пригласишь меня в прибежище вечного счастья. Там кладовые битком набиты, и в комнатах за книжными шкафами не видно стен. И еловые леса не заслоняют мир – из своего окна я вижу лазурное море и залитую солнцем степь. И тысяча лет проходят там, как один день…
И Фердинанд умер, окруженный светлыми видениями, с улыбкой на устах, предвкушая вечное блаженство.
И даже моя бледная подруга, Смерть-избавительница, призналась себе, что никогда не встречала ничего подобного. Конечно, кое-кто плакал, но сам-то покойный светло улыбался! Кому? Старухе с косой, присевшей на край его постели!
Мать приняла его последние вздохи как сладчайшую, неземную музыку. Она боялась, что Смерть не решится завершить свою работу, но когда все было кончено, в уголках глаз ее выступили слезы счастья, и горячие капли упали на медленно коченеющее лицо ее любимого сына.
Ах, как чествовали мою бледную подругу на похоронах! Если бы она решилась показаться людям, шла бы в медленном танце впереди всех, щеголяя беретом со страусовыми перьями и золототканой мантией. Но нет, не решилась она форсить – сидела на кладбищенской стене в своей старой черной накидке, старая и сгорбленная, и смотрела на прощальную процессию.
И процессия была необычной. День выдался замечательный, сияло солнце, голубое, с легкими облачками небо никак не наводило на грустные мысли. Собранные снопы на полях терялись за горизонтом, астраханские яблоки в саду налились прозрачным жемчужным сиянием, а в цветнике у звонаря пышно цвели георгины и зорьки.
Необычной, очень необычной была процессия, медленно движущаяся в липовой аллее. Перед гробом шли дети и рассыпали цветы. Цветы были и на крышке гроба, в таком количестве, что самой крышки даже видно не было. Никто не пришел в черных одеяниях, никаких траурных лент, никаких белых накрахмаленных воротничков. Такова была воля капитанши: она не хотела, чтобы того, кто умер в радости, провожали в счастливый путь с мрачной торжественностью. И процессия больше была похожа на свадебную.
Рядом с гробом шла Анна Шернхёк, ослепительно прекрасная невеста покойного.
Она надела свадебный венок, фату и длинное белое, отливающее серебром шелковое подвенечное платье со шлейфом. Она шла венчаться с умершим Фердинандом.
За ней шли парами старые дамы и статные мужчины. Все женщины надели блестящие броши, жемчужные ожерелья и золотые браслеты. Прически со свисающими локонами, на головах – шелковые кружевные тюрбаны с эгретками[36], а на плечи наброшены тончайшие шифоновые платки, не закрывающие пестрые шелковые платья. А стоило посмотреть на мужчин! Белые жабо, цветные фраки с блестящими пуговицами, атласными лацканами и высокими воротниками! А чего стоили расшитые жилеты из армуазена[37] и бархата! Нет, нет и нет, говорю вам еще раз, это была самая необычная процессия, таких никто и не видывал. Потому что это были не проводы умершего юноши, а свадебное шествие.
Так захотела капитанша, и она не слушала никаких возражений.
Сама она шла сразу за Анной Шернхёк под руку с мужем, капитаном Угглой. Если бы у нее было платье с искусной вышивкой, она бы его надела. Если бы у нее были сверкающие украшения и замысловатый тюрбан с перьями, она бы надела и его. Она сделала бы все, чтобы отдать последнюю честь любимому сыну в торжественный день. Но у нее ничего этого не было. Поэтому капитанша шла в платье из черной тафты с пожелтевшими от времени, но настоящими брюссельскими кружевами. Это платье она позволяла себе носить только в праздники.
И все же, когда под медленный и негромкий звон колоколов роскошная процессия приближалась к могиле, ни один человек не смог сдержать слез. Плакали женщины, плакали мужчины, но не столько над печальной судьбой почившего юноши, сколько над своей собственной. Вот идет невеста, вот несут жениха, вот идут они, разодетые, как для праздника, и все же, все же… кто из тех, что топчет зеленые тропы земли, не знает, как беззащитен он против горя и несчастья, кто не знает, что его ждет смерть?
Плакали все, потому что думали об одном – ничто земное не будет им опорой и защитой.
Только капитанша не плакала. Единственный человек, у кого глаза оставались сухими, – капитанша Уггла.
Когда прочитали молитвы, когда могилу забросали землей, все двинулись к своим экипажам. Только капитанша и Анна Шернхёк задержались у холмика – им хотелось еще раз попрощаться с покойным. Мать опустилась на могильный холмик сына, Анна присела рядом.
– Послушай, что я сказала Богу, – тихо промолвила капитанша. – Я сказала ему вот что: «Пусть Смерть-избавительница придет и заберет моего сына, моего любимого сына к себе в вечные сады. Обещаю, Боже: если Ты увидишь, что я плачу, знай – это слезы радости. Со свадебным ожиданием счастья хочу проводить я сына. Тот куст роз – Ты знаешь, у меня под окном, Ты же все знаешь, Боже, – я пересажу сюда, на его могилу». И вот все сбылось. Мой сын умер. Я обрадовалась Смерти, как другу, я называла ее ласковыми именами, и слезы мои падали на его коченеющее лицо, но это были слезы радости. И поверь, я так и сделаю – осенью, когда пройдет листопад, я посажу здесь мои красные розы. А теперь скажи мне, ты, что сидишь рядом со мной на его могиле, знаешь ли ты, почему я обратилась к Господу с такой молитвой?
Она внимательно посмотрела на Анну Шернхёк. Девушка сидела молча, бледная и напряженная. Может быть, старалась заставить замолчать внутренний голос, который уже начал нашептывать ей – вот она, твоя желанная свобода.
– Из-за тебя, – коротко сказала капитанша.
Анна съежилась, словно ее ударили дубинкой, и не сказала ни слова.
– Анна Шернхёк, ты когда-то была гордой, самолюбивой и капризной девицей. Ты играла с моим сыном, ты приближала его и отталкивала… Он был согласен и на такую роль. Должна признаться – может быть, и потому, что он, как и мы все, любил твои деньги не меньше, чем тебя. Но ты вошла в наш дом, ты смирилась, ты стала сильной и доброй, ты окружила нас любовью… что там говорить, ты принесла нам счастье. И мы, люди небогатые, поклонялись тебе. И все же должна признаться тебе, что иногда мне хотелось, чтобы ты вовсе не приходила. Тогда не просила бы я Бога взять жизнь моего сына. Тогда, в Рождество, он уже почти смирился с тем, что потерял тебя, и он бы пережил потерю, если бы не узнал тебя поближе. Но он узнал тебя поближе, и у него ни за что не хватило бы сил от тебя отказаться.
Ты, Анна Шернхёк, надела на проводы моего сына подвенечный наряд. А ведь ты не хуже меня знаешь, что никогда не надела бы его, чтобы последовать за ним в церковь. Не на похороны, а в церковь.
Потому что ты его не любила.
Я это ясно видела. Ты пришла к нам из милосердия, у тебя доброе сердце, тебе очень хотелось облегчить нашу участь. Но ты его не любила. Неужели ты думаешь, я не в силах распознать любовь? Понять, есть она или нет? Если бы он не умер, мне пришлось бы сказать ему всю правду – ты его не любишь, ты выходишь за него только из милосердия. Мне пришлось бы заставить его отпустить тебя, не пользоваться твоей добротой. И он всю жизнь был бы несчастен. Теперь ты понимаешь, почему я просила Господа, чтобы Он дал ему умереть. Потому что иначе мне предстояло бы своими руками навсегда разбить его сердце. Я смотрела на его осунувшееся лицо, вслушивалась в его прерывистое дыхание и радовалась. Я радовалась приближению смерти и боялась, что она недоделает свою работу…
Она замолчала в ожидании ответа. Но Анна Шернхёк молчала, пытаясь понять, что говорят ей, перебивая друг друга, голоса в глубине ее души.
– Как же они счастливы! – с внезапным отчаянием воскликнула капитанша. – Как счастливы те, кто может оплакивать своих мертвых! А мне суждено стоять с сухими глазами у могилы сына и радоваться его смерти… Боже, как я несчастна!
Анна прижала руки к груди. Она помнила ту зимнюю ночь, когда поклялась своей юной любовью помочь этим бедным людям, быть им опорой и утешением, и вдруг ей стало страшно. Неужели все было напрасно? Неужели жертва ее неугодна Господу? Неужели благодеяние обернулась проклятием?
А если она принесет еще одну жертву? Может быть, тогда Бог благословит ее самоотречение? Может быть, Он позволит ей стать поддержкой и опорой для этих людей?
– Что я могу сделать, чтобы ты могла оплакать своего сына? – спросила она.
– Что ты можешь сделать? Научи меня, если можешь, не верить моим старым глазам. Если бы я могла поверить, что ты любила Фердинанда, я смогла бы выплакать свое горе, смогла бы дать выход скорби, смогла бы пережить все, что должна пережить мать, потерявшая любимого сына.
Девушка резко поднялась. Глаза ее горели сухим огнем.
– Тогда смотри! – выкрикнула она, сорвала с себя венок и фату и положила на могилу. – Смотри, как я его люблю! Я венчаюсь с ним и никогда не буду принадлежать другому.
Капитанша тоже встала. Она несколько секунд молчала, дрожа всем телом, и наконец из глаз ее полились слезы, слезы скорби и тоски по невозвратимой потере.
А моя бледная подруга, Смерть-избавительница, очень огорчилась, увидев эти слезы. Все ее надежды пошли прахом – она-то надеялась, что хоть здесь ей рады.
Оказывается, нет. Не рады. Она в который раз поняла, что ей не дано постичь душу человеческую. Соскользнула с забора и, опустив на мертвое лицо капюшон, ушла, скрылась за длинными рядами сжатых снопов.
Засуха
Если неодушевленные предметы могут любить, если земля и море умеют отличать друзей от врагов, как хотелось бы мне, чтобы они меня полюбили! Чтобы знали: я им не враг! Я мечтаю, чтобы зеленая земля не стонала под тяжестью моих шагов, чтобы она простила мне все плуги и бороны, которые ранят ее исстрадавшееся тело. И самое главное, когда я умру, пусть земля примет меня в свои объятия без отвращения. Как бы мне хотелось, чтобы зеркальная гладь озера, взломанная моими веслами, была так же снисходительна, как снисходительна мать к своему ребенку, когда он, не обращая внимания на свежевыглаженную шелковую юбку, забирается к ней на колени. Мне хотелось бы подружиться с прозрачным воздухом, дрожащим, как мираж, над синими горами, с ослепительным солнцем, с загадочно-прекрасными звездами. Мне и в самом деле кажется иной раз, притом довольно часто, что неодушевленные вещи на самом деле не такие уж неодушевленные. Думаю, они чувствуют и страдают точно так же, как и мы, люди. Как и мы, люди, по молчаливому уговору считающие себя живыми. И разница между нами не так велика, как мы привыкли считать. Найдите хотя бы частицу неодушевленной, как мы ее называем, материи, которая не принимала бы участие в великом и вечном кругообороте? Пыль под колесами вашего экипажа – возможно, она была когда-то волосами, которые гладила ласковая рука любимого, а может быть, этой самой ласковой рукой. Вода в колее – кто скажет с уверенностью, что она не пульсировала когда-то в бьющемся сердце?
И пока есть жизнь на земле, дух ее обитает не только в нас, но и во всем, что нас окружает, в предметах, которые мы называем неодушевленными. О чем догадываются они в долгом, без сновидений сне? Они слышат глас Божий – в этом я не сомневаюсь. Но слышат ли они глас человеческий?
О, дети нынешних времен, разве вы не замечали? Когда кровавые битвы и ненависть сотрясают землю, страдают не только люди. Моря дичают, они становятся кровожадными, а поля делаются скупыми, как ростовщик. Но горе тем, из-за кого плачут горы и печально вздыхает лес!
Странным был год правления кавалеров. Суета человеческая смутила и покой неживой природы. Как мне описать эту заразу, распространившуюся в наших краях, как черная смерть пятьсот лет назад? Неужели и вправду кавалеры приобрели какую-то власть над Вермландом, неужели они, как языческие боги, распространили дух беспечности, безделья и жажды все новых и новых приключений на всю округу?
Если описать все, что творилось в тот год на берегах Лёвена, мир бы открыл рот от изумления. В самом воздухе словно растворен был сладкий яд. Возрождались старые влюбленности, возникали новые. Разгоралась почти забытая ненависть, затаенная месть находила свою жертву. Время пролетало в танцах и играх, карточной игре и пьянстве. Всех охватила жажда наслаждений, и все желания, спрятанные глубоко в душе, оказались выставленными напоказ.
Конечно же зараза шла из Экебю. На заводах, в усадьбах люди словно с ума посходили, совершали поступки, о которых раньше даже и подумать не могли без дрожи. Мы знаем все эти истории, потому что старики еще помнят, что происходило на заводах и в больших поместьях, но нам почти ничего не известно, что происходило на бедных хуторах и среди арендаторов, но можно не сомневаться, что беспокойное время отразилось и на них. Люди, словно одержимые, вдруг захотели исполнения самых порочных желаний, неловкое слово, сказанное в семье, маленькая ссора, которая в нормальные времена была бы тут же забыта, приводила к разрывам. Все тайное становилось явным, но не только дурное – скрытые добродетели людей, о которых никто и догадываться не мог, тоже проявлялись во всей своей красоте. Нельзя сказать, чтобы все было скверно, но поверьте, странное было время – даже добрые поступки не хуже дурных приводили к самым печальным последствиям. Все это напоминало бурелом в лесу: дерево падает на дерево, одна сосна увлекает за собой другую, и даже подлеску приходится несладко – падающие гиганты сминают его, как траву.
А что касается простого народа, крестьян, слуг, работников, хоть мы и мало о них знаем, но можно не сомневаться: всеобщее помешательство отразилось и на них. Сердца ожесточились, рассудок помутился. Никогда не было таких диких плясок на перекрестках, никогда бочки с пивом не опустошались с такой скоростью, никогда столько зерна не шло на брагу, никогда перегонные кубы не ведали такой нагрузки. Никогда не было так неспокойно на пирушках – в ответ на неловко сказанное слово тут же появлялись ножи.
Словно отравленный ветер носился по Вермланду.
И не только людьми овладело необъяснимое беспокойство. Волки и медведи словно с цепи сорвались, лисы беззастенчиво забирались в курятники, и никогда раньше на хуторах не слышали их предвещающий беду хриплый, с подвыванием лай. Заблудившиеся овцы пропадали в лесу, а эпидемии скота шли одна за другой. Приходилось то и дело закапывать мясо, а ведь оно могло бы спасти от зимнего голода целые семьи.
Конечно, из города всего этого не увидеть. Надо пожить на отдаленном хуторе где-нибудь на опушке нескончаемого елового леса. Или следить сутками напролет за углежогной ямой, или жить на берегу озера в наскоро сколоченной хибаре и белыми ночами следить за неторопливым и капризным движением плотов в Венерн. Только так можно научиться распознавать тайные знаки и сообразить: что-то не так. В природе тоже царит тревога и ожидание беды.
И этот год выдался именно таким. Даже старики не помнили подобного паводка. Мы уже рассказали, как весенним наводнением снесло мельницу и кузницу в Экебю, но вода похозяйничала и в других местах. Даже маленькие речки, ободренные невиданным количеством весенних дождей, разгулялись не на шутку, начали нападать на хутора и поселки. Унесенных амбаров и сараев было не сосчитать. А сколько бед наделали грозы! Сколько сожженных овинов и деревьев!
Но все это продолжалось только до Иванова дня.
Потом пришла засуха.
С середины июня до начала сентября не выпало ни капли дождя. Природа словно замерла, стояли долгие, жаркие, безветренные дни. Лёвен тоже замер, а пропитанная солнцем вода стала почти горячей.
Дождь отказывался падать, ветры отказывались дуть, земля отказывалась родить. Никто не хотел заниматься своим делом. Только солнце щедро лило свой свет и тепло на иссыхающую землю. Ах, солнце, солнце, животворящее солнце, ты, оказывается, способно быть беспощадным. Солнечный свет и человеческая любовь очень похожи; все знают про совершаемые ими злодеяния, и все охотно прощают. Солнечный свет похож на Йосту Берлинга: старается принести радость всем и каждому, поэтому все прощают невольно приносимое им зло.
После дня солнцестояния в других провинциях тоже началась засуха, но Вермланд пострадал сильнее других. Сюда весна пришла поздно, побеги не успели как следует окрепнуть. И рожь осталась без полива как раз в решающий момент, когда в колосках начинают наливаться зерна. На яровую рожь, из которой в те времена пекли почти весь хлеб, было жалко смотреть: тоненькие желтоватые стебельки высотой с ладонь и редкими, пожухлыми кисточками на конце. Поздно посеянная репа не проросла, и даже неприхотливый картофель не сумел высосать из иссушенной земли ни капли воды.
В такие годы первыми бьют тревогу обитатели лесных наделов и летних горных пастбищ, но тревога постепенно распространяется и в долины.
– Перст Божий, – говорили люди. – Кто-то из нас грешен.
И били себя в грудь, и каждый спрашивал себя – а может, это я согрешил? А может, это из-за меня милость природы, кормилицы нашей, обходит нас стороной? Неужели это на меня гневается Господь, иссушает землю и губит посевы? И это солнце в безоблачном небе: неужели именно мне на голову сыплет оно раскаленные угли? А если это не я, то кто же? Кого ищет на грешной земле перст Божий?
И пока зерна съеживаются и сохнут в колосках, пока картофель не может найти влагу, пока изнывающая от жары скотина толчется у иссыхающих с каждым днем родников, в округе начинают ходить странные слухи.
– Такого без причины быть не может. Должна быть причина. Кто-то из нас провинился перед Господом.
* * *
Воскресенье в августе. Богослужение закончилось, люди начали разбредаться по домам, плелись по раскаленным дорогам, с грустью поглядывая на сгоревший лес и высохший на корню урожай. Рожь кое-как сжали, но хватило лишь на несколько небольших копенок. У тех, кто подрядился жечь валежник, работы особой не было, но и тут людей преследовали неудачи – несколько раз подожгли лес. А то, что недоделал пожар, завершили вредители. Сосновый лес выглядел как лиственный глубокой осенью: без иголок, с голыми сучьями. А березы горестно опустили ветви с поеденными листами, от которых остались одни прожилки.
Люди шли в мрачном молчании. Еще было кому вспомнить нужду тысяча восемьсот восьмого и девятого[38], свирепую зиму восемьсот двенадцатого, когда воробьи мерзли на лету. Они прекрасно знали, как выглядит голод, изможденное лицо его было хорошо им знакомо. Они прекрасно знали, как печь хлеб из коры и с каким отвращением коровы жуют мох.
Одна женщина попробовала испечь хлеб из ячменной муки и брусники. Получилось неплохо – она давала всем попробовать и заметно гордилась своим изобретением.
Но у ни кого из головы не выходила одна и та же мысль, она читалась в глазах, то и дело срывалась с губ.
– Кто он, Господи? Кто навлек на нас такое несчастье? Кто посмел прогневить Тебя настолько, что Ты отнимаешь у нищих последний хлеб?
Люди свернули на запад, перешли мост через пролив и стали подниматься на холм в Брубю. И вдруг один из толпы остановился у дороги в усадьбу скупердяя-пастора. Поднял сухую палку и бросил ее в сторону дома.
– Вот так он и молился, – сказал с угрозой. – Точно бросал Господу сухие щепки.
Стоявший рядом крестьянин последовал его примеру. Палки не нашлось, он поднял высохшую, ломкую ветку и тоже кинул в сторону усадьбы.
– Самая подходящая жертва для такого пастора.
И третий сделал то же самое.
– Он сам, как засуха. Палки до солома – вот и все, что он нам вымолил.
– Возвращаем все, что он нам дал, – сказал четвертый.
А пятый тоже бросил ветку и произнес вот что:
– Пусть он высохнет и сломается, как эта ветка. Позор такому слуге Божьему!
– Сухой корм – сухому пастору, – добавил шестой и швырнул очередной сучок.
Люди, шедшие за ними, видели, что они делают, и слышали, что они говорят. И им показалось, что они нашли ответ на так долго мучивший их вопрос.
– Пусть получит, о чем просил! – раздались голоса. – Это он навлек на нас засуху!
И чуть не каждый остановился, бросил камень, сучок или ветку. Вскоре на перекрестке лежала целая куча хвороста и соломы – холм позора пастора из Брубю.
Вот и вся месть. Никто не поднял на пастора руку, никто не сказал ему в лицо все, что о нем думает. Душу облегчили – и ладно. И не только. Они не хотели мстить сами. Хотели лишь указать справедливому и суровому Господу на виновного, на того, кто обрек их на такие несчастья.
– Если мы недостаточно поклонялись тебе, Господи, то не по своей вине. Это он вел нас не тем путем. Так почему же мы все должны страдать? Пусть он и страдает. Мы отметили его для Тебя, отметили позором и презрением. Мы ни в чем не виноваты, это все он.
Очень быстро стало обычаем: все, кто проходил мимо этого перекрестка, оставляли сухую ветку или клок соломы. «Пусть и Господь, и люди видят, кто виновник наших бед! – думали они. – Пусть и Господь, и люди видят, как мы ненавидим его, того, кто навлек на нас гнев Создателя».
Старый скряга заметил наконец кучу мусора на обочине и велел ее убрать. Поговаривали, что он настолько скуп, что топит этим мусором печь на кухне. На следующий день появился новый ворох веток, а когда пастор приказал убрать и этот, нанесли еще.
Сухие ветви и щепки лежали и взывали к небу: позор, позор пастору из Брубю!
Стоял знойный, душный август, месяц гниения, как называют его в народе, – существует поверье, что в эти дни продукты очень быстро портятся. Пропитанный гарью лесных пожаров воздух давил на людей, и они дышали растворенными в этом воздухе отчаянием и безнадежностью. И с каждым днем пастор в глазах людей превращался в настоящего демона, сидящего у небесных родников и не дающего им открыться и пролиться на землю благословенным дождем.
Вскоре и сам пастор понял, что думает о нем народ. Они возложили ответственность за засуху на него. Оказывается, он, и именно он, навлек на край Божье наказание. Так моряки, чей корабль потерял управление и дрейфует в океане, когда провизия кончается, кидают жребий, кому предстоит быть выброшенным за борт.
Жребий пал на него. Он пытался превратить все в шутку, говорил, что на сухих ветках готовить даже лучше, но дни шли за днями, и он уже не смеялся. Что за ребячество! Неужели они и в самом деле считают, что этот мусор может навредить ему? Он прекрасно понимал, что в этой нелепой выходке проявилась копившаяся годами ненависть. Ну что ж, к этому он привык. Он не избалован любовью.
Добрее он не стал. Может, ему бы и хотелось, особенно после того, как его навестила его первая и единственная любовь. Но уступить всеобщей ненависти? Разве может ненависть породить душевное тепло и раскаяние?
Но куча хвороста не давала ему покоя. Постепенно закралась в голову мысль: а может быть, они правы? Ему уже казалось, что из этой кучи выглядывают изможденные лица и осыпают его страшными обвинениями. Он постоянно подходил к этой куче, считал ветки – и сколько же набросали за сегодня? Вскоре он ни о чем уже не мог думать. Ворох сухих веток на перекрестке, этот немой укор, медленно, но верно разъедал его душу.
С каждым днем ему все более начинало казаться – люди правы. Он сильно сдал. Пастор и так был не молод, но за каких-то две недели превратился в совершенного старика. Его мучили судороги, боли в спине, но самое главное, угрызения совести. Весь мир сосредоточился для него в куче хвороста на развилке дорог. Он был уверен, что и угрызения совести пройдут, и преждевременная старость сбавит шаг, лишь бы эта куча в один прекрасный день исчезла с лица земли.
В конце концов он стал караулить эту кучу. Целыми днями сидел и караулил. Но и это не помогло – позорная куча росла по ночам.
* * *
Как-то мимо его усадьбы проезжал Йоста Берлинг. Он увидел пастора сидящим у дороги и поразился – тот постарел самое меньшее на десять лет. Разбирал сухие ветки и то раскладывал их рядами, то собирал в кучки. Он играл с этими палочками, строил домики и шалашики, будто опять стал ребенком. Йосте стало его жалко.
– Чем занимается господин пастор? – спросил он вежливо и соскочил с коляски.
– Да ничем. Сижу вот, разбираю… ничем не занимаюсь.
– Зачем же вам здесь сидеть, в дорожной пыли? Шли бы домой, там не так жарко.
– Нет-нет… лучше я здесь посижу.
Йоста пожал плечами и сел рядом.
– Не так-то легко быть пастором, – сказал он, помолчав.
– Здесь-то ничего, терпимо. Здесь, по крайней мере, люди есть. А там, на севере…
Йоста очень хорошо понял, что хотел сказать пастор.
Он знал эти приходы на севере Вермланда, где сплошь и рядом священнику и жить-то негде – кругом леса, там только финны живут в своих курных избах. Бедный край, где можно целый день бродить и не встретить ни души, а пастор – единственный человек с образованием. Пастор знал, о чем говорит, – он прослужил в таком приходе больше двадцати лет.
– Нас в такие места и посылают, пока мы молоды, – согласился Йоста. – А там выжить невозможно. Человек ломается, у него уже нет будущего. Многие там и кончили.
– Ваша правда, – кивнул пастор. – Одиночество разрушает человека. Приезжает пастор, молодой, только что из семинарии, огонь и пламя, уверен, что все будет хорошо, что его проповеди приведут людей ближе к Богу…
– Вот именно!
– Но скоро замечаешь, что слова не помогают. Нищета делает людей глухими к слову Божьему. Нищета! – повторил пастор решительно. – Нищета – вот что сгубило мою жизнь. Приезжает новоиспеченный пастор, такой же нищий, как и все там, и говорит пьянчуге: брось пить самогон! А тот ему отвечает: а у тебя есть что-нибудь лучше самогона? Самогон – шуба зимой и прохлада летом. Самогон – теплая хижина и мягкая постель. Дай мне все это, и я не прикоснусь к бутылке!
– Потом он говорит вору, – подхватил Йоста, – не воруй, злобному мужику – не бей жену, а суеверной бабе – верь в Бога, великого и единственного, а не в каких-то там троллей и ведьм. А вор отвечает: если ты дашь мне хлеб, зачем я буду воровать? А муж-зверюга говорит – сделай нас богатыми, и мы заживем в мире и согласии; а суеверная баба отвечает – так научи меня, я же ничего не знаю! И кому из них можно помочь без денег?
– Готов подписаться под каждым вашим словом! – Пастор оживился, глаза его загорелись. – В Бога-то они верят, но еще больше в дьявола, а больше всего в троллей и гномов в амбаре. Зерно чуть не все переводят на брагу. И конца тому не видно. У всех этих серых покосившихся хибар один хозяин – нищета. Женщины от горя похожи на ведьм… да всем им так скверно, что остается только напиваться до полусмерти. Поля обрабатывать и ухаживать за скотиной они не умеют, боятся разве что хозяина, а пастор у них вроде шута горохового. Что с этим сделаешь? Они не понимают ни слова из того, что им говоришь с кафедры. Они не верят тому, чему их пытаешься научить. И ведь посоветоваться не с кем, нет никого, кто поддержал бы, помог не упасть духом…
– Есть и такие, кто выдержал, – сказал Йоста. – Некоторые, милостью Божьей, выдержали. Не сломались. Всё выдержали – нищету, одиночество, безнадежность. Делали, что могли, и не отчаивались. Такие были всегда. Мало, но были. Были и будут. Я преклоняюсь перед ними и буду преклоняться, пока жив. Они истинные герои. Я, например, не выдержал.
– И я не выдержал, – как эхо, повторил пастор.
– А кто-то, – задумчиво сказал Йоста, – кто-то вбивает себе в голову, что только богатство может победить нищету. И решает разбогатеть. Начинает копить. Думает, что с деньгами он сможет помочь этим несчастным.
– Если не копить, он запьет, – сказал старик. – Иначе как выдержать все, что видит он вокруг?
– Или запьет, или обленится, опустится, потеряет данную ему Богом силу убеждения. Очень трудно выжить в тех краях тому, кто там не родился.
– Чтобы копить, надо закалить душу. Надо забыть жалость. Стать жестоким. Сначала это как игра, а потом человек привыкает.
– Стать жестоким к себе и к другим, – добавил Йоста. – Нелегкое это дело – копить деньги. Надо приучить себя не замечать ненависть и презрение, мерзнуть, голодать и, главное, приучить сердце стать жестоким. И в конце концов человек забывает, зачем он начал собирать деньги.
Пастор посмотрел на него исподлобья – ему показалось, что Йоста над ним издевается. Но тот был совершенно серьезен и говорил горячо и убедительно, как будто про самого себя.
– Так со мной и произошло, – тихо сказал старик.
– Но Бог не забыл его! – воскликнул Йоста. Прекрасное лицо его просияло. – Бог его не забыл! Бог разбудит в нем юношеские мечты, Он даст ему знак – помни, ты нужен людям!
– А если он не поймет знак Божий?
– Как можно не понять знак Божий? – весело рассмеялся Йоста. – Он вспомнит, как мечтал о теплых хижинах для бедняков, и поможет их построить. Обязательно поймет.
Пастор посмотрел на шалашик из сухих палочек в дорожной пыли. Ему все больше и больше хотелось верить, что Йоста прав. Он прав! Тогда, когда он сжал зубы и решил копить деньги, у него была именно эта цель – сделать что-то хорошее. Пастор ухватился за эту мысль, как за спасительную соломинку. Конечно же он всегда об этом думал, всегда хотел сделать благое дело, только руки не доходили.
– А почему он не построил эти хижины, как только накопил достаточно? – несмело спросил пастор.
– Постеснялся, – не полез за словом в карман Йоста. – И боялся, что его неправильно поймут. Боялся, что подумают: он строит дома из страха перед людской ненавистью. А на самом деле он всегда собирался построить для них теплые жилища.
– Кому понравится, когда заставляют, – буркнул пастор.
– Но он же никому не скажет, что это он строит дома! А сейчас такой год – людям позарез нужна помощь. Он построит их инкогнито! Найдет кого-то, кто распорядится его дарами. Я увидел! – воскликнул Йоста, и глаза его загорелись. – Я увидел смысл! Я увидел смысл и руку Провидения: в этом году тысячи обездоленных получат хлеб свой насущный от того, кого они проклинают и ненавидят!
– Так и будет, Йоста!
Они посмотрели друг на друга, и обоих начала бить дрожь вдохновения. Оба поняли, что не все еще потеряно, что они, так мало сделавшие, чтобы следовать своему истинному призванию, служению Богу, еще могут что-то исправить. Что в них тлеет еще юношеский порыв сделать жизнь людей лучше и чище. Они начали лихорадочно перебирать возможности. Йоста тут же вызвался помогать пастору во всем.
– Первым делом надо накормить людей, – сказал пастор. – Закупить хлеб.
– Пригласим школьных учителей. Агронома – пусть научит, как правильно обрабатывать землю и ухаживать за скотом.
– Дороги приведем в порядок.
– В Берге надо построить шлюзы, тогда будет водный путь из Лёвена в Венерн.
– Лес можно будет доставлять к морю! На одном этом можно разбогатеть!
– Вас будут благословлять и поминать в молитвах, – подвел итог Йоста.
Пастор посмотрел на Йосту. Он словно помолодел на несколько десятков лет. Но взгляд его тут же погас. Он посмотрел на позорную кучу хвороста.
– Йоста, – тихо сказал он. – Для всех этих планов нужны молодые силы, а я скоро умру. Ты же понимаешь… ты сам видишь, она меня доконала. – Он кивнул на кучу и отвернулся.
– Так уберите ее!
– Как я могу ее убрать, Йоста Берлинг, если она все время растет?
Йоста подошел к пастору вплотную и посмотрел ему в глаза. Юношеский восторг исчез, в глазах была решимость и сострадание.
– Молите Господа о дожде! – сказал он с силой. – В воскресенье у вас служба. Молите Бога о дожде!
Пастор съежился и глянул на Йосту с нескрываемым ужасом.
– Я говорю серьезно, господин пастор! Если это и в самом деле не вы навлекли засуху на наш край, если всей вашей жизнью, всей вашей суровостью и скупостью вы добивались только одного – сделать жизнь людей лучше, молитесь о дожде. И это будет тем знаком, о котором я говорил. Мы сразу поймем, одобрены ли наши планы Господом.
Йоста спускался с холма и сам удивлялся, что на него нашло. Господи, как прекрасна жизнь, когда человек может всей душой служить Господу! Но для него этот путь закрыт. Его услуги Господу не нужны.
* * *
Проповедь в церкви в Брубю закончилась, положенные молитвы прочитаны. Пастор уже собрался спускаться с кафедры, но что-то его остановило. Он затуманенным взором окинул прихожан, упал на колени и начал горячо молиться. Молиться о дожде.
– Господи, если это мой грех вызвал гнев Твой, накажи только меня! Я знаю милость твою, Господи, ты же Бог надежды и благодеяний, так пошли нам дождь! Избавь меня от позора. Ответь на мою молитву, не губи этих бедных людей! Если ты считаешь, что я виноват, накажи меня, но они-то ни в чем не виноваты! Дай людям хлеб!
День стоял нестерпимо душный. Прихожане сидели в полусне, разморенные невиданной в Вермланде жарой, но хриплый, надломленный голос пастора заставил их в недоумении поднять головы.
– Если Ты считаешь, что для меня еще есть дорога к спасению, пошли дождь! Пошли нам дождь! – Последние слова пастор выкрикнул, требовательно и отчаянно, словно забыв, что к Богу нужно обращаться с подобающим смирением.
И замолчал. Двери были открыты настежь, и вдруг в церковь с шелестящим выдохом ворвался ветер. Он нес собой пыль и целый вихрь щепок, соломинок и другого мусора.
Пастор, еле передвигая ноги, сошел с кафедры. Он был не в силах продолжать.
Прихожане вздрогнули. Неужели Господь ответил на призыв ненавидимого ими человека?
Но ветром дело не закончилось. Не успели допеть псалом, как церковь внезапно осветилась, за вспышкой последовали шипящий треск молнии и оглушительный, раскатистый удар грома. Началась гроза. Никогда еще в этих краях не видывали такой быстрой перемены погоды.
Когда звонарь возвестил окончание службы, по зеленым стеклам уже заскользили первые капли дождя. Все, отталкивая друг друга, выбежали наружу, чтобы посмотреть на дождь. Кто-то плакал, другие хохотали, кто-то поднимал голову и, смеясь и жмурясь, подставлял лицо под струи щедрого, обильного ливня. Ах, какая безнадежная нужда ждала их! Как они были несчастны! Но слава милосердному Господу! Он благословил их дождем. Какое счастье, какое счастье!
– Лучше поздно, чем никогда, – сказал кто-то, но на него замахали руками: не греши!
Только один человек не вышел из церкви порадоваться дождю. Пастор из Брубю. Он лежал, поджав колени, рядом с алтарем и не шевелился. Радость была слишком велика для него. Он умер.
Умер от счастья.
Мать и дитя
Ребенок родился в крестьянской хижине к востоку от Кларэльвена. Еще в начале июня будущая мать пришла искать работу. Я в беде, сказала она хозяину, со мной так жестоко обращались, что я вынуждена была бежать из дому. Назвалась она Элизабет Карлсдоттер, но ни за что не хотела говорить, откуда пришла, – вы еще скажете родителям, и они замучают меня до смерти, уж я-то знаю. Даже жалованья не просила – только еда и крыша над головой. Пасти коров, ткать, прясти – все, что хотите. Согласна даже приплачивать.
У нее хватило соображения прийти на хутор босиком, с башмаками под мышкой. Загрубевшие рабочие руки, говорит на местном диалекте, одета как крестьянка – ей поверили.
Правда, хозяин решил, что работница из нее так себе – чересчур уж хрупка. Но где-то ведь надо бедняжке жить, и ей разрешили остаться.
Что-то было в ней такое, что все сразу прониклись сочувствием. Да и ей повезло – попала в хорошее место. Люди неразговорчивы и серьезны. Хозяйке она пришлась по душе, особенно после того, как выяснилось, что девушка умеет ткать дамаст. Попросили у проста ткацкий станок, и она просидела за ним все лето.
Никто даже не задумывался, что ее стоит поберечь. Она безропотно работала, как и все остальные, с утра до ночи, и ей, похоже, нравилось – она заметно повеселела. Ей была по душе крестьянская жизнь, она научилась не обращать внимания на отсутствие простейших удобств. Здесь все было понятно и спокойно. Все мысли крутились вокруг работы, и дни были настолько похожи один на другой, что иной раз люди путали – думали, что нынче четверг, а оказывается, уже воскресенье.
В конце августа наступили горячие дни. Пришла пора убирать урожай овса, и она пошла вместе со всеми вязать снопы. Перенапряглась, наверное, и родила прямо в поле, до срока. Она ждала ребенка в начале октября.
Хозяйка взяла ребенка в дом – младенец мерз, хотя август выдался жарким. А мать лежала рядом, в спальне, и прислушивалась, что говорят про ее дитя. Представляла, как работники и служанки рассматривают новорожденного и молча качают головой.
– Маленький-то какой! – наверняка сочувствуют они. И обязательно добавляют: – Бедняжка, у него и отца-то нет.
И никто не жаловался на крик младенца. Все почему-то были убеждены, что это хорошо: младенец и должен постоянно кричать, иначе что за младенец? Вполне нормальный малыш, даром что недоношенный. Все с ним хорошо, если бы еще и отец был…
А мать слушала и мысленно соглашалась. Вдруг ей тоже показалось очень важным, чтобы у ребенка был отец. Как же у него сложится жизнь без отца?
Конечно, она и раньше об этом думала. План был вот какой: первый год она останется на хуторе. Потом снимет где-нибудь комнату и будет зарабатывать на хлеб за ткацким станком. Вполне хватит, чтобы прокормить и одеть ребенка. И пусть ее муж продолжает считать ее недостойной женой. Может, и к лучшему. Она лучше воспитает ребенка, чем глупый, надменный и самовлюбленный отец.
Но теперь уверенности поубавилось, и она уже обвиняла себя в эгоизме.
У ребенка должен быть отец.
Если бы ребеночек был покрепче, если бы он ел и спал, как другие дети, если бы не судорожные припадки, во время которых она обмирала от страха за его жизнь… Если бы не все это, вопрос, возможно, и не стоял так остро.
Трудно что-то придумать. Но придумать необходимо. Ребенку три дня, а крестьяне в Вермланде стараются крестить детей как можно раньше. А вдруг помрет некрещеным?
И под каким именем его запишут в церковную книгу? А если пастор захочет побольше узнать о матери? Это было бы несправедливо по отношению к малышу – поставить прочерк в графе «отец». А если он вырастет слабым и больным, какое право она имеет лишать его преимуществ происхождения и богатства?
Мать ребенка знала, какая это радость – приход в мир нового человека. А теперь ей казалось, что она обрекла ребенка на тяжелую и беспросветную жизнь. Она сама – другое дело, но он-то при чем? И со стыдом призналась себе, что хотела бы, чтобы малыш спал на шелковых простынях и в кружевах, как и подобает юному графу. Она хотела, чтобы его окружали почет и счастье.
Ей даже казалось, что она была несправедлива к отцу. Это же не только ее ребенок. Это маленькое создание, чью ценность определить не может ни она, ни отец, ни вообще никто из людей, – какое она имеет право распоряжаться его судьбой? Это несправедливо.
Она ни за что не хотела возвращаться к мужу. Для нее это было равносильно смерти. Но малыш был в еще большей опасности, чем она. Он мог умереть в любой день, его необходимо было крестить.
Ее уже не мучило чувство неискупленного греха, долго жившее в ее сердце. И она не находила в своей душе любви ни к кому, кроме этого беспомощного младенца.
В конце концов она решилась: позвала хозяев и рассказала им все начистоту. Фермер, ни слова не говоря, запряг лошадь и поехал в Борг – надо было сказать графу Дона, что его жена жива и что у них родился ребенок.
Вернулся он уже к вечеру. Графа он не застал, но поговорил с дьяконом в Свартшё.
Так молодая графиня узнала, что ее брак признан недействительным и у нее теперь нет никакого мужа.
Дьякон написал ей очень ласковое письмо. Он сожалеет о случившемся, и если графиня пожелает, он готов предоставить ей жилье в своем доме.
Ей переслали также письмо ее отца графу Хенрику, пришедшее через пару дней после ее побега. Ирония судьбы заключалась в том, что отец просил графа поторопиться с легализацией брака, и благодаря этому у графа оказались все необходимые козыри для расторжения брачного договора: если договор не легализован, он не имеет юридической силы.
Легко понять, что мать ребенка, выслушав рассказ, не столько огорчилась известием, сколько растерялась.
Всю ночь графиня пролежала без сна. «У ребенка должен быть отец», – поминутно шептала она.
На следующее утро хозяин вновь пустился в путь. На этот раз в Экебю. Она попросила его привезти Йосту Берлинга.
Йоста задал немногословному крестьянину, наверное, сто вопросов, но ничего толком не выведал. Да, графиня все лето жила в его доме. Была здорова и работала так же, как и все. Теперь родила ребенка. Ребенок слабенький. А мать? Мать почти пришла в себя.
Слава богу… а знает ли графиня, что ее брак расторгнут? Теперь знает. Со вчерашнего дня.
Пока они ехали, Йосту кидало то в жар, то в холод.
Что она хочет? Зачем послала за ним?
Он вспоминал, чем же он занимался этим летом, пока она страдала, тяжело работала и доработалась до преждевременных родов. Чем он занимался? Тем же, чем и всегда. Игры, развлечения, розыгрыши, попойки – лишь бы убить время.
Он даже не мечтал, что они когда-нибудь встретятся. Ах, если бы он мог надеяться! Тогда бы он предстал перед ней совсем другим человеком. А поскольку надежды не было, он махнул на все рукой и вернулся к привычным дурачествам.
В восемь часов вечера они были на месте, и его тут же провели к молодой матери. В комнате был полумрак, он с трудом разглядел ее. Она лежала в постели. Хозяин с хозяйкой переминались с ноги на ногу у него за спиной.
Вспомните: та, чье лицо сейчас смутно белело в полумраке комнаты, была для него почти святой. Чистейшая, прекраснейшая душа, по какому-то совпадению случайностей принявшая земной облик. Он опять, как всегда в ее присутствии, почувствовал неодолимое желание упасть на колени и благодарить, благодарить – за то, что она вновь появилась в его жизни. Но он не мог шевельнуться, не мог вымолвить ни слова. Он был почти парализован душевным волнением.
– Дорогая графиня Элизабет… – только и смог пролепетать отважный Йоста Берлинг.
– Добрый вечер, Йоста! – Графиня протянула ему руку, успевшую за эти несколько дней стать почти прозрачной.
Она почти ничего не почувствовала, увидев Йосту. Ее, правда, удивило, что Йоста так обомлел, увидев ее. Он же должен понимать, что речь не о ней, а о ребенке.
– Йоста, – мягко сказала она. – Я очень прошу вас помочь мне. Вы ведь когда-то обещали, что в любой момент… вы ведь знаете, что меня бросил муж. И теперь у моего ребенка нет отца.
– Знаю, графиня. Но это поправимо. Теперь у вас есть все основания потребовать легализации брака. И будьте уверены, я вам помогу. Помогу добиться справедливости.
Графиня слабо улыбнулась:
– Неужели вы думаете, я собираюсь навязываться графу?
Кровь бросилась Йосте в голову. Что же она тогда хочет?
И что она хочет от него?
– Подойдите поближе, Йоста. – Она опять протянула к нему руку. – Не сердитесь на меня, пожалуйста, я, может быть, не совсем ясно выражаю свои мысли. Но я думала, что вы…
– …отлученный пастор, пьяница, кавалер, убийца Эббы Дона… я прекрасно знаю свой послужной список, графиня.
– Значит, вы уже рассердились. Я только хотела сказать…
– Пожалуйста, не надо. Мне бы очень хотелось, чтобы графиня вообще больше ничего не говорила.
Но она продолжила:
– Очень многие, Йоста, хотели бы быть вашей женой, потому что влюблены в вас… но у меня совсем другие причины. Если бы я любила вас, я бы не решилась сказать то, что собираюсь. Мало того, я не решилась бы произнести эти слова, если бы речь шла обо мне. Но речь не обо мне, Йоста. Речь о ребенке. Вы, должно быть, уже догадались, о чем я хочу вас попросить. Я прекрасно понимаю, что для вас это унизительно… но я прошу вас стать его отцом. Жениться на мне. Я ведь незамужняя женщина с ребенком. Вряд ли вы решитесь на это… если быть честной, я думала и о вашем послужном списке, как вы его назвали. Но больше всего я думала о том, что вы замечательный человек, Йоста. Вы герой, к тому же способны на самопожертвование. Но я понимаю, что слишком многого хочу. Это, наверное, очень трудно для мужчины, если вообще возможно. Если вы презираете меня, если для вас отвратительна сама мысль назваться отцом чужого ребенка, просто скажите мне: да, мне отвратительна эта мысль. Я не рассержусь и не обижусь. Конечно, я прошу от вас жертвы, и большой жертвы… но ребенок очень болен, Йоста. Очень жестоко по отношении к нему при крещении оставить его без отцовства.
Йоста слушал ее и вспоминал тот день, когда он отвез ее на берег и предоставил судьбе. А теперь еще того чище – он должен своими руками помочь ей зачеркнуть ее будущее. И он должен сделать это, хотя любит ее больше жизни.
– Я сделаю все, что пожелает графиня, – сказал он, стараясь казаться спокойным.
* * *
На следующий день он поговорил с простом в Бру, поскольку церковь в Свартшё, где должно было состояться оглашение, входила в его приход.
Старый добродушный священник очень растрогался, когда Йоста рассказал ему все без утайки.
– Ты поступаешь правильно, Йоста. – сказал он. – Конечно же помочь ей – твой христианский долг. Иначе она может лишиться рассудка. Она уже вне себя от горя, потому что уверена, что лишила ребенка прав, которые положены ему по рождению. У этой женщины очень тонкая и очень чувствительная душа.
– Но я же уверен, что сделаю ее несчастной! – воскликнул Йоста.
– А вот так говорить не следует, Йоста. Ты наверняка образумишься, когда у тебя на попечении будут жена и ребенок.
Просту пришлось съездить в Свартшё, переговорить с дьяконом и управой. В результате всех переговоров в следующее воскресенье, первого сентября, в церкви Свартшё состоялась помолвка Йосты Берлинга и Элизабет фон Турн. Потом молодую мать перевезли в Экебю, где младенца крестили.
После крещения прост поговорил с ней – она еще может изменить свое решение выйти замуж за человека с такой репутацией. Может быть, ей стоит написать отцу и посоветоваться?
– Я не изменю свое решение, – твердо сказала молодая мать. – Подумайте: если мой ребенок умрет, и у него так и не будет отца.
Ко дню третьего оглашения она уже была совсем здорова. И в тот же день вечером прост приехал в Экебю и обвенчал ее с Йостой Берлингом. Но никто не посчитал это настоящей свадьбой. Никаких гостей, никакого застолья. Раздобыли ребенку отца, и слава Богу.
Мать сияла от счастья, как будто достигла главную цель в своей жизни. А молодой муж грустил. Ему казалось, что она погубила свое будущее этим браком. К тому же он с грустью замечал, что не значит для нее почти ничего. Все ее мысли были о ребенке.
А еще через два дня ребенок умер – не пережил очередного припадка судорог.
Многие удивлялись, что молодая женщина как будто бы и не особенно горюет. Наоборот, на лице ее лежал отпечаток удовлетворения, если не триумфа. Словно бы она радовалась, что ради ребенка отрезала себе все надежды на достойную ее происхождения жизнь. И теперь, когда младенец улетел к ангелам, он наверняка будет помнить, что на земле у него была мать, любившая его больше жизни.
* * *
Все прошло тихо и незаметно.
Когда в церкви Свартшё обвенчали Йосту Берлинга и Элизабет фон Турн, многие даже не знали, кто это такая. Те немногие, кто знал, старались помалкивать. Скорее всего, боялись, что кто-то, утративший веру в человеческую совесть и порядочность, неправильно истолкует мотивы молодой женщины. Боялись, что пойдут слухи вроде: «Ну вот, так и случилось. Она не смогла преодолеть свою грешную любовь к Йосте! И вышла за него замуж под каким-то смехотворным предлогом». А посвященные очень не хотели, чтобы графине перемывали косточки. Они вообще не считали, что она хоть в чем-то согрешила, и не хотели, чтобы кто-то запачкал эту чистую душу, которой зло человеческое доставило так много страданий.
К тому же произошло и еще одно событие, на фоне которого о свадьбе говорили мало.
Майор Самселиус стал жертвой несчастного случая.
Со временем он вел себя все более и более странно. Избегал людей, никого не принимал и часами мог наблюдать за своими медведями.
В таком состоянии он и для людей был небезопасен, поскольку не расставался с ружьем и то и дело заряжал его, не особенно заботясь, куда именно стреляет. И в один прекрасный день он нечаянно выстрелил в одного из своих ручных медведей. Раненый зверь рассвирепел, бросился на майора, чуть не откусил ему руку и убежал в лес.
Рана оказалась смертельной: за пару дней до Рождества майора не стало. Если бы майорша знала, она вернулась бы в Экебю, но кавалеры ее не известили: их год еще не кончился.
Amor vincit omnia
В церкви в Свартшё под лестницей, ведущей на хоры, был большой чулан для всякой ненужной утвари. Тут могильщики, работающие на погосте, хранили свои лопаты, сюда же складывали сломанные церковные скамейки, ржавые кровельные листы и вообще все, что отслужило свой век.
Пыль лежала толстым слоем, никто не заботился ее вытирать и никто не замечал сундучок в углу. А если бы с этого сундучка стерли пыль, увидели бы, что он сверкает перламутровой инкрустацией, как волшебная гора в сказках. Сундучок заперт, ключ спрятан в надежном месте, но никто из смертных не смеет в него заглянуть. Никто не знает, что в нем лежит. И только в конце девятнадцатого века ключ вставили в замок и посмотрели, что же за сокровища в нем спрятаны.
Такова был воля владельца этого сундучка.
На привинченной к крышке латунной табличке было написано: Labor vincit omnia. Но теперь, когда я знаю его историю, мне кажется, что больше подошла бы другая надпись: Amor vincit omnia. Потому что даже этот старый сундучок в чулане под лестницей был не чем иным, как очередным свидетельством всемогущества любви.
О, Эрос, всесильный и всемогущий бог!
Если и есть что-то вечное и непреходящее в этом мире, то это любовь. Давно, очень давно люди населили землю, но ты, любовь, властвовала над ними с самой колыбели.
Где они все, восточные боги, могучие герои, вооруженные молниями и штормами, милостиво принимающие от людей мед и молоко на берегах священных рек? Где Бел, великий воин Вавилона, где египетский Тот с головой ибиса? Где прекрасные боги, возлежащие на облаках, услужливо приплывших к вершине Олимпа? Где герои, пирующие за неприступными стенами Вальхаллы? Все мертвы. Все, кроме Эроса, всесильного и всемогущего Эроса.
Все, что мы видим перед собой, его работа. Он следит, чтобы не прерывался род человеческий. Во всем, что мы видим, заметны следы его босых младенческих ног. Во всем, что мы слышим, вечным контрапунктом звучит музыкальный трепет его крылышек. Он везде – и в человеческом сердце, и в спящих, ждущих своего часа семенах. Приглядись еще раз – и с волнением и страхом найдешь ты его следы и в неживой природе.
Где тот, кто не желает его соблазнов? Где тот, кто их избежал? Все боги страха и мести падут, все цивилизации и империи, все короли и тираны. Но любовь, по-видимому, вечна.
* * *
Старый дядюшка Эберхард сидит у своего замечательного секретера. Отличный у него секретер. Просто великолепный – с сотней, никак не меньше, ящичков, с латунной оковкой и мраморной столешницей. Приятно сидеть за таким секретером, вот он и сидит. Сидит и увлеченно работает, пользуется, наверное, тем, что никого, кроме него, во флигеле нет.
О, Эберхард, что с тобой? Почему не гуляешь с кавалерами по лесам и полям, почему не наслаждаешься последними днями уходящего лета? Ты же прекрасно знаешь, что поклонение богине мудрости никому не сходит с рук безнаказанным. Согбенная спина, тебе уже за шестьдесят, и многие знают, что твоя шевелюра вовсе и не твоя. Глубокие складки избороздили твой лоб над запавшими глазами, сеть морщин у беззубого рта неумолимо свидетельствует о дряхлении твоего когда-то могучего тела.
Почему не бродишь ты с кавалерами? Наверное, только смерть оторвет тебя от твоего любимого секретера, ты равнодушен к уловкам и приманкам жизни.
Дядюшка Эберхард подводит жирную черту под последней строчкой. Из бесчисленных ящичков своего секретера достает он пожелтевшие листы – заметки и мысли, маленькие кирпичики в огромном здании труда его жизни, труда, который сделает имя Эберхарда Берггрена бессмертным. Он просматривает записи, тихо восторгается собственной мудростью, и как раз в этот момент открывается дверь и во флигеле появляется молодая графиня.
Это она, молодая властительница старых сердец! Она, которую они обожают и стараются поддержать, как старики обожают и поддерживают первого внука. Она, которую они нашли больной и нищей и теперь наперебой старались чем-то ее обрадовать, как король из сказки, нашедший в лесу бедную и голодную красавицу и окруживший ее королевскими почестями. В ее честь играют валторны и флейты. В ее честь обитатели огромного поместья Экебю делают все, что, как им кажется, может ее развеселить.
Графиня выздоровела, хотя еще очень слаба. Она слонялась по поместью и соскучилась – кавалеры уехали на прогулку. И решила тайно посетить флигель кавалеров, посмотреть, как они живут, – столько слухов ходит по округе!
Она вошла, обвела взглядом беленые стены. Посмотрела на желтые полосатые занавески, закрывающие спальные ниши, и так смутилась, что покраснела до корней волос. Она ошиблась – флигель не был пуст.
Дядюшка Эберхард торжественно подошел к ней, предложил руку и провел к секретеру, где лежала кипа исписанной бумаги.
– Я окончил свой труд, – сказал он торжественно. – Теперь мир должен узнать о нем. Предстоят великие события.
– А что именно предстоит, дядюшка Эберхард?
– О, графиня! Это будет как молния, а молния, как вы знаете, не только освещает мир, но иногда и убивает. С тех самых пор, как Моисей в сверкании молний и под раскаты грома получил из рук Иеговы заповеди и поместил их в дорожный ковчег, с тех пор, как старый Иегова решил, что дело сделано, – с тех самых пор никто не ставил под сомнение его могущество. Но теперь люди увидят, кто он есть на самом деле, этот воображаемый Иегова. Ничто, пустота, пар от чайника, мертворожденное дитя нашего воображения. С ним покончено! – кровожадно воскликнул старый Эберхард и положил ладонь на свою рукопись. – Когда люди это прочтут, они осознают свою глупость. Они распилят кресты на дрова, в церквах устроят амбары, а пасторы будут пахать землю, как и все остальные.
Графиня вздрогнула:
– Что вы такое говорите, дядюшка Эберхард? Неужели вы такой страшный человек? И обо всех этих ужасах написано в вашем труде… в вашей рукописи?
– Ужасы? – повторил Эберхард. – Что ж, если правда для людей ужасна, пусть будут ужасы. Но правда от этого не перестанет быть правдой. Мы похожи на младенцев. Те, завидев незнакомца, прячут лицо в юбки матери. Правда – вечный незнакомец, мы привыкли играть с правдой в прятки, но от правды не спрячешься. Настал час – она откроется всем людям на земле, станет частью нашей жизни.
– Всем людям?
– Конечно всем! Не только философам, а всем! Понимаете, графиня, всем и каждому!
– И значит, Иегове конец?
– И Иегове! – с энтузиазмом подтвердил дядюшка Эберхард. – И ангелам, и святым, и дьяволам, и всей лжи – конец!
– А кто же будет управлять миром?
– Уж не верит ли графиня, что миром кто-то управляет? Неужели графиня верит, что кто-то там определяет, как прыгать воробью и кому когда облысеть? Никто миром не управляет и не будет управлять.
– А что же будет с нами, с людьми?
– С нами будет то же самое, что и было со всеми до нас. Превратимся в прах. Наша жизнь – горение. Мы сгораем, а то, что уже сгорело, гореть не может. Это и есть смерть. Мы – сухие щепки, мы сгораем в пламени жизни. А искра проскакивает от одного к другому. Человек воспламеняется, горит – и гаснет. Это закон жизни.
– О, дядюшка Эберхард! А как же духовная жизнь?
– Нет такой.
– И даже по ту сторону могилы?
– И по ту. Тоже нет.
– Значит, нет добра, нет зла, нет цели, нет надежды?
– Нет, – дядюшка Эберхард был неумолим, – ничего этого нет.
Молодая графиня подошла к окну и посмотрела на желтые осенние листья, кружащиеся над поздними георгинами и астрами, понурившимися на сломанных осенними ветрами стеблях. Стальная вода, тяжелые тучи над головой..
А может, он и прав, подумала она. Может, и в самом деле ничего этого нет.
– Осень, дядюшка Эберхард, – тихо сказала она. – Даже природа сера и некрасива. Наверное, вы правы – жизнь бессмысленна. Хочется лечь и умереть.
Сказав эти слова, графиня вздрогнула. Все ее существо, все молодые и нерастраченные чувства противились этой мысли. Жизнь – это счастье.
– Ну, хорошо, – воскликнула она. – Вы отняли у меня Бога, у души моей отняли бессмертие. А что же придает жизни смысл?
– Работа, – коротко ответил старик. – Труд.
Она вновь посмотрела в окно, и в ней шевельнулось почти незнакомое ей чувство – презрение. Презрение к этой незамысловатой, бескрылой, бедной мудрости. Как же так? Все в мире одушевлено, дух живет во всем! Если бы это было не так, разве имела бы такую власть в мире неживая материя – волны, ветер, скалы? Нужно быть совсем бесчувственным, чтобы не понять этого. Дух может принять тысячи, нет, наверное, миллионы обликов. Но как назвать это, как обобщить эту, может быть, и не для всех, но для нее совершенно очевидную духовность жизни? Как назвать ее, каким именем?
– Труд, – повторила она. – Работа… разве работа – это Бог, дядюшка Эберхард? Разве в самой по себе работе заключена какая-то цель?
– Не знаю ничего другого.
А у нее уже вертелось на языке имя, банальное, часто, хотя и не всегда чисто употребляемое слово.
– А почему бы не любовь? Почему вы не назвали любовь в ваших рассуждениях?
Дядюшка Эберхард улыбнулся беззубым ртом, и сотни морщинок, как лучи, сошлись у его слезящихся глаз. Он медленно опустил сжатый кулак на рукопись.
– Вот здесь, – сказал философ, – здесь я вершу суд над всеми богами и уничтожаю их. Всех. В том числе и Эроса. Я его не забыл. Что ж такое любовь, по-вашему? Вожделение! Томление плоти, и ничего больше. Почему надо ставить любовь выше других телесных нужд? Почему не создать бога из голода? Почему не создать бога из… ну, скажем, из усталости? Все человеческие потребности в одном ряду, ни одна не выше другой. Пора кончать с этими глупостями. Да здравствует истина!
Графиня опустила голову. Нет, все это не так. Он не прав, но найти ошибку в рассуждениях, которым человек посвятил полжизни, не так-то просто. К тому же у нее просто-напросто не было сил спорить с философом из флигеля кавалеров.
– Ваши слова ранят мою душу, – тихо сказала она. – И все же я вам не верю. Пожалуйста, вы можете уничтожить богов мести и насилия, а остальных не трогайте.
Старик схватил ее руку и силой заставил положить на стопку бумаг:
– Когда прочтете, поверите.
– Надеюсь, ваша книга никогда не попадется мне на глаза. Если я поверю в ваши доказательства, мне незачем жить.
Она грустно посмотрела на философа, высвободила руку и ушла. А дядюшка Эберхард долго сидел, поглядывал на рукопись, время от времени клал на нее ладонь и размышлял.
Эти старые листки, исписанные сверху донизу еретическими выкладками, пока еще никто не читал. Заслуженная слава так и не пришла к дядюшке Эберхарду.
Труд его жизни лежит в старом сундучке под лестницей в церкви в Свартшё. Он завещал не трогать его до конца столетия.
Но почему? Что заставило его это сделать? Может быть, он посчитал свои доказательства недостаточно убедительными? Боялся преследований?
Очень мало мы знали о дядюшке Эберхарде.
А теперь знаем. Его интересовала истина, а не собственная слава. И он пожертвовал почестями ради той, кого любил как собственную дочь. Он пожертвовал всем, чтобы она не разочаровалось в своей вере в то, что ей дорого, чтобы ей, по ее же выражению, не попалась на глаза эта дерзкая рукопись.
О, Любовь! Имя тебе Вечность!
Девушка из Нюгорда
Такие места, как это, обычно даже названия не имеют, потому что сюда никто не ходит, да и ходить незачем. Ели растут теснее, чем везде, земля покрыта толстым пружинящим мхом. Ни по какой тропинке туда не дойти. Со всех сторон громоздятся скалы, подходы охраняют цепляющиеся друг за друга колючие кусты можжевельника и бурелом. Пастухи сюда не заглядывают, даже лисы чураются. Одним словом, самое дикое место в этих краях, а сегодня сюда идут люди. И сколько!
Бесконечные ряды. Сотни людей. Если бы собрать их вместе, наверняка заполнили бы до отказа церковь в Бру. Да и не только в Бру – и в Лёввике, и Свартшё, да что там говорить, все большие церкви в округе.
Господских детей не пустили идти со всеми, они стоят у дороги, висят на воротах и смотрят на проходящую молчаливую толпу. Малыши даже знать не знали, что на свете живет столько народу. Потом они вырастут, но все равно не забудут эту длинную, колышущуюся процессию. И на глазах у них выступят слезы при одном воспоминании об этом невероятном событии – увидеть столько людей там, где никого не бывает месяцами. Разве что пройдет одинокий путник или попрошайка или проскрипит заблудившийся крестьянин на своей развалюхе телеге.
Многие подбегали к идущим и спрашивали:
– Что случилось? Война? На Вермланд напал враг? Куда вы идете?
– Мы ищем, – следовал ответ. – Мы ищем уже два дня. И сегодня будем искать. Прочешем и лес в Бьорне, и поросшие сосняком холмы к западу от Экебю.
А началось все в Нюгорде, бедном поселке, затерявшемся в холмах. Пропала девушка. Красивая девушка с густой черной косой и розовыми щеками. Она продавала веники. Та самая девушка, на которой собрался жениться Йоста Берлинг. Должно быть, заблудилась в лесу. Ее никто не видел уже восемь дней.
И односельчане пошли ее искать. Все, кого они ни встречали, присоединялись к поискам. С каждого хутора.
Случалось, их спрашивали:
– Вы, люди из Нюгорда, как это могло случиться? Как вы могли позволить красивой девочке бродить в одиночку по этим диким местам? К тому же Господь обделил ее разумом!
– Никто ее не обидит, – отвечали односельчане. – И она никого не обидит. Она как дитя. Кто поднимет руку на того, кого охраняет Господь? Вернется рано или поздно.
И они пошли на восток, в лес, который отгораживает Нюгорд от долины. Потом двинулись мимо Бру в леса к западу от Экебю.
Тут-то и началось. То и дело кого-то из цепочки останавливали и спрашивали:
– Что вы ищете?
– Ищем голубоглазую, темноволосую девушку. Наверняка решила умереть в лесу. Ее нет уже восемь дней.
– С чего бы она решила умереть в лесу? Голодна была? Или горе какое у нее?
– Нет, голодна она не была. Нужда обошла ее, а вот горе… Она увидела как-то этого ненормального пастора, Йосту Берлинга, и влюбилась. Надо же, нашла в кого! Да что удивляться – разумом-то ее Господь обидел.
– Похоже, и вправду обидел.
– А этой весной беда случилась. Раньше-то он на нее и не глядел, а тут ни с того ни с сего брякнул, что возьмет ее замуж. Он-то пошутил, а она… решила, наверное, что он всерьез. Так ее и не отвадить было от Экебю. Куда он, туда и она за ним. Чуть не по следам ходила. Надоела она им там, кавалерам-то. В последний раз кто-то пригрозил, что собак на нее спустит. С тех пор ее и не видели.
Все на поиски! Все на поиски! Это же не шутка, жизнь человеческая! Как это так – решила умереть в лесу? А может быть, уже умерла? Или заблудилась и бродит в этих лесах одна, голодная и замерзшая. Лес велик, а разум ее у Господа.
Все на поиски! Пусть овес стоит в скирдах, пока зерно само не выпадет из колосьев, пусть картошка сгниет в земле, отпустите лошадей, чтобы они не сдохли от жажды в стойлах, не закрывайте двери коровников, пусть скотина сама вернется с пастбищ. Возьмите с собой и детей – сам Бог направляет их. Там, где разум встает в тупик, поможет Бог. Пусть невинные дети подскажут вам, где искать пропавшую девушку.
Все на поиски! Мужчины, женщины и дети! Кто решится в такую минуту остаться дома? Кто знает, не выбрал ли Господь именно его, чтобы найти несчастную дурочку?
И кто найдет это место, где ели растут так тесно, где нет ни троп, ни полян, где толстый слой мха укрывает землю? Смотрите, что это там, у подножия скалы? Что там темнеет? Нет, это всего лишь рыжие жгучие муравьи построили свой муравейник. Там ее нет, Господь милостив к юродивым.
Но что за процессия! Может быть, это триумфальное шествие, когда народ приветствует победителя, бросает цветы к его ногам и услаждает его слух восторженными криками? Или, может быть, пилигримы идут на поклон к святым местам, поют псалмы и хлещут себя свистящими бичами? Или это толпа эмигрантов, выгнанных из дому нуждой, прорывается в ветхие теплушки грузового поезда? Или армия движется в поход под барабанный бой и свист флейты? Нет, это всего лишь крестьяне в домотканых заношенных платьях, ремесленники в кожаных передниках, их жены с недовязанными чулками в руках и детьми, цепляющимися за их юбки или сидящими в торбе за спиной.
Как это величественно – видеть людей, объединенных высокой целью! Кто-то приветствует благодетеля, поклоняется своему Богу, открывает новые земли, защищает свою страну. Это прекрасно. Но этих выгнал из дому не голод, не страх перед высшими силами, не вражеское нашествие. И они не ждут никакого вознаграждения за свои усилия. Они бросили дающую им хлеб насущный работу только для того, чтобы найти несчастную деревенскую дурочку. Так много пота, так много тревоги, так много молитв, такая тяжелая дорога, но для них важна и возвышенна цель: найти ее, найти эту девушку, которую обделил Господь, лишив ее разума.
И как не любить такой народ? Как может тот, кто видел эту сумрачную, тревожную процессию, кто вглядывался в эти грубоватые лица, в эти натруженные тяжкой работой руки, в рано состарившихся женщин с морщинами на лбу и опухшими ногами, в усталых, полусонных детей, – как может он не смахнуть набежавшую слезу даже при одном воспоминании? Как можно не растрогаться, вспомнив их непоколебимую уверенность, что Господь приведет их в нужное место?
О, это шествие, заполнившее, как вышедшая из берегов река, все дороги и тропинки! Люди идут и идут, вглядываются в лесные заросли. Они мрачны и сосредоточенны, потому что теперь уже знают почти наверняка – вряд ли они найдут девушку в живых.
А вон там, на изломе скалы, тоже муравейник? Или поваленное дерево? Слава Богу, всего лишь поваленное дерево. В такой чаще толком и не разглядишь.
И сколько их, этих людей! Те, кто впереди, крепкие молодые мужчины, уже в лесу за Бьорне, а кто послабее, инвалиды, истощенные тяжкой работой старики, женщины с детьми на шее, еще не успели миновать церковь в Брубю.
Постепенно шествие исчезает в темном лесу, лес точно засасывает людей одного за другим. Сейчас-то лучи утреннего солнце проникают дымным веером до самого подлеска, а когда они выйдут из леса, солнце уже коснется горизонта.
Они ищут третий день, уже появились кое-какие навыки. Ищут под крутыми скалами, с их скользких стен легко свалиться, если оступишься. Ищут в буреломе, где запросто можно сломать ногу или руку, под сросшимися разлапистыми ветвями столетних елей, где мягкий мох словно приглашает прилечь и отдохнуть.
Медвежьи берлоги, лисьи и барсучьи норы, черные пасти заброшенных углежогных ям, алые от спелой брусники пригорки, редкостные ели с белыми, словно выцветшими иглами, гора, где всего-то месяц назад бушевал лесной пожар, огромный валун, лежащий здесь с незапамятных времен, наверняка какой-нибудь великан в гневе швырнул его в соперника, – они осмотрели все.
А вот что там чернеет у подножия крутой, изрезанной уступами скалы? Не посмотрели. Не проверили, человек это или очередной муравейник. Это же человек, человек – ах, почему они не подошли поближе!
Вечер застал их по другую сторону леса. Но бедняжку, лишенную Господом разума, так и не нашли. И что теперь делать? Возобновить поиски? Но солнце уже почти село, а ночью лес опасен. Бездонные болота, крутые обрывы. И что они найдут ночью, если ничего не смогли найти днем, когда солнце освещало лес?
– Пошли в Экебю! – крикнул кто-то в толпе.
– В Экебю! – послышались тут и там голоса. – Пошли в Экебю.
– Спросим у этих чертовых кавалеров, как у них совести хватило спустить собак на несчастную, у которой Господь и так разум отнял! Как у них совести хватило довести до такого отчаяния бедное дитя! Наши голодные дети плачут, одежда порвана, овес осыпается в скирдах, картошка гниет в земле, лошади и скотина без присмотра, сами чуть не падаем от усталости, и все из-за них! В Экебю, разберемся с ними, с этими кавалерами!
Необъяснимый закон жизни – достаточно кому-то одному возбудить толпу, как разом выплывают все старые обиды. Господь на нас гневается, зима будет голодной. Так кто же тот, на кого направлен перст его? Думали, на пастора из Брубю – так нет, зря травили человека, Господь услышал его молитву и послал нам дождь. И на кого же тогда, если не на кавалеров? Кто еще мог рассердить Господа? Конечно кавалеры. Больше некому. Все в Экебю!
Они, эти проклятые кавалеры, разорили поместья, они выжили из дому майоршу, мать родную, отправили ее просить подаяние на дорогах. Это они виноваты, что нет работы.
Это они виноваты, что мы голодаем. Беспросветная нужда – это тоже их вина. Все в Экебю!
И толпа озлобленных, усталых мужчин двинулась к поместью Экебю. За ними плелись женщины с детьми, а замыкали шествие старики и инвалиды.
Раздражение растет с каждой минутой, оно волной накатывает на ряды идущих, от стариков к женщинам, от женщин к крепким мужикам во главе.
Осенний паводок. Помните весенний паводок, кавалеры? Настал час осеннего. Честь и слава знаменитого поместья опять под угрозой.
Арендатор на опушке бросил плуг, отвязал коня и помчался в Экебю.
– Беда! Беда! – кричал он и закатывал глаза, как в припадке. – Беда! Медведи идут, волки идут! Тролли идут в Экебю!
Он обогнал толпу и проскакал галопом вокруг всей усадьбы, совершенно обезумев от страха.
– Все лесные тролли на свободе! Тролли идут в Экебю, спасайся кто может! Они подожгут усадьбу и растерзают кавалеров!
А позади его слышался глухой гул разъяренной толпы.
Воистину мало было весеннего наводнения, теперь пришло осеннее.
Разъяренная толпа, где умерли все чувства, кроме жажды крови и разорения, – что она хочет? Огня? Крови? Грабежей?
Это уже не люди. Это и в самом деле тролли, дикие звери, химеры непроходимых лесов и отвесных скал. Темные силы, прячущиеся в земных недрах, настал ваш час. Час отмщения.
Конечно, это они – разгневанные духи гор, у которых воруют руду, духи леса, многие годы с гневом наблюдавшие, как валят их деревья и жгут в ямах, духи полей, скованные заклятием, веками копившие ярость на крестьян, обезобразивших своими плугами и мотыгами их владения. Настал их час. Смерть Экебю, смерть кавалерам!
Это там реками льются дьявольские напитки. Это там под сводами подвалов наверняка лежат груды золота. Это там амбары полны зерна, а в чуланах со льдом висят туши быков и баранов. Почему праведники должны голодать, а грешники и развратники купаться в изобилии?
Кончилось ваше время, господа кавалеры! Вы, цветы зла, не ведающие, что такое прялка, вы, птички небесные, захватившие чужое гнездо, знайте: чаша терпения переполнена. Та, что лежит в лесу, вынесла вам приговор, мы лишь исполняем ее волю. Не надейтесь – ни суд, ни исправник не обжалуют приговор, который вынесла та, что лежит в лесу, та, у которой Господь отнял разум, но оставил право судить.
Кавалеры видели, как к усадьбе приближается грозная толпа. И они знали, в чем их обвиняют. Но на этот раз, в виде исключения, они ни в чем не виноваты. Бедная девочка ушла в лес умирать вовсе не потому, что кто-то в шутку пригрозил спустить собак, а потому, что ровно восемь дней назад Йоста Берлинг обвенчался с графиней Элизабет.
Но что за смысл объяснять все это обезумевшей толпе? Люди устали и голодны. Они одержимы жаждой мести и разрушения. Они ворвались в усадьбу с диким ревом, а впереди всех гарцевал, выкрикивая что-то нечленораздельное, обезумевший от страха арендатор.
– Медведи пришли! – вопил он. – Волки пришли! Тролли пришли в Экебю! – И опять начинал все сначала: – Медведи пришли!
Кавалеры спрятали графиню в одной из дальних комнат и посадили охранять ее Лёвенборга и дядюшку Эберхарда.
Остальные вышли на крыльцо. Они стояли перед толпой – безоружные, улыбающиеся.
И мрачное шествие внезапно, будто натолкнувшись на стену, остановилось перед кучкой спокойных и приветливых людей. Кое-кто в толпе хотел бы в ярости швырнуть их на землю и затоптать подкованными сапогами, как случилось пятьдесят лет назад с управляющим и инспектором в Сунде. Но такого они не ожидали. Они думали, что увидят запертый на все замки дом, нацеленные на них ружья, ждали сопротивления, битвы – все что угодно, только не это.
– Друзья, – сказал один из кавалеров. – Вы устали и проголодались. Прежде чем обсуждать что-то, поешьте как следует! И выпейте по стаканчику нашего знаменитого, дважды очищенного, сладчайшего, крепчайшего самогона!
Но это не произвело ни малейшего впечатления. То и дело раздавались угрожающие выкрики, толпа начала окружать кавалеров.
– Да погодите же! Успеете нас убить. Поглядите сами, Экебю открыто. Все кладовые, погреба, амбары, молочный сарай – все открыто! Посмотрите на ваших женщин – какие же вы мужики! Они умирают с голоду, дети плачут. Накормите их сначала, а потом займетесь убийствами. Мы никуда не убежим. А чердак весь завален яблоками – неужели вы не накормите детей сладкими астраханскими яблоками?
* * *
Через час двор усадьбы напоминал преисподнюю. Пир был в разгаре. Даже Экебю никогда не видывало такого пира.
Повсюду горели костры, люди наслаждались теплом и отдыхом, на них сыпались все дары матушки-природы, какие только можно вообразить, а в черном осеннем небе, расчерченном снопами искр от костров, стояла огромная луна.
Самые решительные пошли в хлев. Зарезали несколько телят и овец, тут же разделали и жарили на любезно предоставленных хозяевами вертелах – кавалеры словно забыли, что их самих вполне могут насадить на эти вертела. Выводили овцу за овцой – работники поместья начали опасаться, что за эту ночь изголодавшиеся люди уничтожат всю живность.
А в Экебю как раз в эти дни шли заготовки. С тех пор как здесь поселилась Элизабет, дела пошли заметно лучше. Всем казалось странным, что молодая графиня даже случайно не вспоминала, что она жена Йосты Берлинга. Ни он, ни она виду не подавали, что в их жизни что-то изменилось, но вела она себя как настоящая хозяйка. Как и подобает настоящей хозяйке, она всеми силами пыталась пресечь бездумное расточительство, взяла на себя дела, которыми, чуть ли не бравируя, пренебрегали кавалеры. И ей с удовольствием подчинялись. Работники и арендаторы вздохнули с облегчением, потому что многие понимали – без майорши имение сползает к разорению.
И зачем? Зачем пекли хлеб, закладывали сыры, сбивали масло, варили варенье, сушили яблоки?
Выносите все! Все, что есть, лишь бы не сожгла эта озверевшая толпа Экебю, лишь бы не растерзали кавалеров. Катите бочки с пивом и бочонки с дважды очищенным, сладчайшим, крепчайшим самогоном! Тащите окорока из чуланов! Яблоки с чердаков!
Может быть, богатство и щедрость Экебю смягчит ярость плебса? Только бы они ушли, не наделав бед.
Это ее просьба. Кавалеры – люди отважные, они прекрасно владеют оружием, если бы им решать – никаких сомнений, они стали бы защищаться. Они наверняка сумели бы несколькими точными выстрелами разогнать взбесившуюся толпу. Пролилось бы много крови, но ради нее от такого плана отказались. Она своей кротостью, добротой, разумом и душевной чистотой навсегда покорила сердца кавалеров.
Постепенно толпа подобрела. Тепло и отдых сделали свое дело. То тут, то там вспыхивал смех. Люди справляли поминки по девушке из Нюгорда, той, кого Господь лишил разума. А поминки – дело радостное: чистая, безгрешная душа улетела к ангелам.
Дети бедных арендаторов набросились на фрукты – они таких и не видели. Почитавшие за роскошь бруснику и клюкву с окрестных болот, с горящими глазами грызли они налившиеся прозрачным соком астраханки, продолговатые, сладкие, как мед, райские яблочки, золотистые и кисловатые лимонные яблоки, розовощекие груши и сливы всех сортов: желтые, красные и синие.
Все довольны – показали свою власть. Значит, не пустые это слова – власть народа. Французы-то, говорят… ого-го!
Дело идет к полуночи. По-прежнему в черном, истыканном мелкими гвоздиками звезд небе сияет круглая восковая луна. Настроение совсем другое – похоже, опасность миновала. Кавалеры вздохнули с облегчением – им досталось немало непривычной работы: таскать еду, раскупоривать бочки, наливать пиво в сотни подставленных кружек.
Но тут в одном из окон усадьбы загорелся свет. По толпе пронесся продолжительный вздох:
– А-а-а-а…
Горит свеча, а свечу держит молодая женщина. Она появилась лишь на несколько секунд, но людям кажется, что они ее узнали. У нее густые темные волосы и румяные щеки.
– Она здесь! Они ее спрятали! – раздаются яростные возгласы. – Кавалеры ее спрятали в усадьбе, ее, нашу девочку, у которой Господь отнял разум! Безбожники! И вы спокойно смотрели, как мы уже три дня, не зная покоя, забросив все дела, ее ищем! К черту ваше угощение. Горе нам, что приняли подачку из ваших рук! Ведите ее сюда! А там посмотрим… берегитесь, безбожники!
Толпа – дикий зверь. Приручить его нельзя. Он может взять пищу из ваших рук и тут же покажет вам свой жуткий оскал, зарычит и изготовится к прыжку.
Самые смелые бросились к дому. Кавалеры их опередили – они успели задвинуть засовы на дверях. Но что для толпы засовы?
Двери снесены, безоружные кавалеры отброшены в сторону, их стиснули так, что они и пошевелиться не могут. Разъяренные спасатели уже в усадьбе – надо во чтобы то ни стало найти девушку из Нюгорда, ту, у которой Господь отнял разум.
И они ее находят – в самой дальней комнате, в полутьме. Они даже не смотрят, светлые у нее волосы или темные, поднимают на руки и выносят во двор. Тебе не надо бояться, утешают ее, мы тебе зла не причиним, а вот кавалеры! Кавалеры ответят за все.
А во дворе их ждет неожиданность.
Тело девушки, упавшей с обрыва. Самые упорные продолжали поиски, а девушку нашел ребенок. Ее подняли, укрыли и принесли в усадьбу.
Странно, мертвая, она была еще красивее, чем при жизни. Черты лица, при жизни искаженные безумием, теперь были спокойны и даже величественны. Она и в самом деле напоминала Мадонну.
Ее несут на плечах среди расступающейся онемевшей толпы. Головы склоняются перед величием смерти.
– Совсем недавно… – шепчут те, кто принес тело. – Бродила, должно быть, в лесу, услышала, что мы ее ищем, хотела спрятаться и сорвалась…
Но если это девушка из Нюгорда, кого же они нашли в усадьбе?
При свете костров загадка решилась мгновенно. Молодая графиня из Борга.
– А это еще что значит? Еще одно преступление? Что делает здесь графиня? Почему нам сказали, что она уехала или, хуже того, умерла? Они ее похитили! Смерть кавалерам!
И тут раздался звенящий от ярости голос. Йоста Берлинг вскочил на каменные перила лестницы.
– Слушайте, вы, животные, подонки, дьяволы! Вы что, дурачье, думаете, что в Экебю нет ружей и пороха? Вы думаете, что мы не могли перестрелять вас всех до единого, как бешеных собак? Но она просила за вас! Она, которую вы схватили, просила за вас! О, если бы я знал, что вы посмеете до нее дотронуться, вас бы уже не было в живых!
О чем вы думали, мерзавцы, когда ворвались сюда с криком и угрозами, как разбойники с большой дороги? Когда грозили нам расправой, когда собирались поджечь усадьбу? Какое мне дело до ваших обиженных Богом девиц? И разве я сторож им, чтобы следить, куда они бегают и откуда срываются? Не скрою, я был добр к ней, но лучше бы я и в самом деле приказал спустить на нее собак, было бы лучше и для меня, и для нее. Но я этого не сделал. И никогда не обещал на ней жениться, запомните – никогда!
А сейчас отпустите ту, кого вы, мерзавцы, выволокли из усадьбы, и пусть руки, коснувшиеся ее, горят в вечном огне! Тупицы, неужели вы не понимаете, что она настолько же выше вас, насколько небо выше земли? Она настолько же нежна, насколько вы грубы и неотесанны, настолько же добра, насколько вы озлобленны!
И я вам скажу, кого вы схватили! Во-первых, она ангел небесный. Во-вторых, она была замужем за графом из Борга. Свекровь мучила ее днем и ночью, заставляла работать тяжелее и грязнее, чем любая служанка, издевалась над ней так, как ни один из вас, надеюсь, не издевается над своими женщинами. Она уже готова была утопиться в Кларэльвене, настолько та высосала из нее все силы и всю радость жизни. И кто из вас, канальи, кто из вас, которые знали про все это, я спрашиваю, кто из вас пришел ей на помощь? Никто, потому что вы трусливы, как зайцы, пока не соберетесь в орущую толпу. Только мы, кавалеры, помогли ей бежать из этого ада.
И она родила ребеночка на крестьянском хуторе, а граф передал ей, что он знать не знает ни ее, ни ребенка – нашел какую-то зацепку. Дескать, мы венчались в чужой стране, все законы и предписания не соблюдены, поэтому брак наш признан недействительным. Ты мне не жена, я тебе не муж, и ребенок мне не сын. Но она, эта святая, во что бы то ни стало хотела, чтобы в книгах был записан отец, боялась сделать ребенка несчастным. И я бы посмотрел на вас, на ваши презрительные рожи, когда она попросила бы кого-то из вас: «Женись на мне! Ребенку нужен отец!» Вы бы отвернулись от нее, сволочи! Но она, слава богу, к вам и не обратилась. Знала, с кем имеет дело – с ханжами, со злобной завистливой толпой! Она обратилась к Йосте Берлингу, разжалованному пастору, которому никогда не суждено доносить до людей слово Божье. И я скажу вам, негодяи, что в жизни у меня не было больше испытания, чем это. Потому что я недостоин ее, потому что, связав свою жизнь со мной, она лишила себя будущего. Но она, этот ангел, была в таком отчаянии, что я не решился ей отказать.
Вы можете думать о нас, кавалерах, что хотите, можете злословить, сколько влезет, но для нее мы сделали все что могли. И это ее заслуга, что мы не перестреляли вас всех, как бешеных собак. А теперь говорю я вам: отпустите ее и идите по домам, иначе земля разверзнется и поглотит вас. И по пути молите Бога о прощении за то, что вы обидели и испугали невинную женщину, воплощение благочестия и доброты. Убирайтесь отсюда! Надоели.
Он не успел еще закончить свою пламенную речь, как графиню поставили на ступеньку каменной лестницы. Здоровенный хуторянин смущенно протянул ей огромную мозолистую руку.
– Спасибо за угощение, – сказал он просто. – И простите нас, графиня, мы вам зла не желаем.
За ним подошел другой:
– Спокойной вам ночи, не обижайтесь, пожалуйста.
Йоста спрыгнул с перил и встал рядом с молодой графиней. Крестьянин и ему пожал руку.
Потом потянулись и другие, притихшие и пристыженные, все хотели пожелать ей спокойной ночи и попросить прощения за невольную обиду. Ни следа недавней озлобленности – они стали такими же, как и утром, когда пошли на поиски. Они и были такими – смирными и доброжелательными, пока голод и усталость не превратили их в диких зверей.
Они заглядывали графине в лицо, и Йоста заметил, что у многих выступали слезы – такие волны невинности, доброты и благородства исходили от этой замечательной молодой женщины. Ему даже показалось, что они в душе молятся на нее. Наверное, их утешало и радовало, что, по крайней мере, кто-то продолжает верить в добро и поступать согласно его законам. Законам добра и сострадания.
Народу было столько, что, если бы она пожала руку всем, кто к ней подходил, у нее наверняка рука бы отвалилась. Она еще не пришла в себя от пережитого страха. Но все смогли посмотреть на нее поближе, и все смогли пожать руку Йосте Берлингу – уж его-то рука могла выдержать сколько угодно рукопожатий.
Он стоял, словно во сне. Прислушивался, как в сердце его зарождается новая любовь – любовь к своему народу.
– Мой народ! Я люблю тебя! – сказал он вслух и прислушался, как звучат эти слова.
Вдруг он понял – он и в самом деле любит эту толпу. Этих людей, бросивших все свои дела и отправившихся разыскивать бедную дурочку. Этих измученных работой крестьян в худых одежонках и вонючих сапогах, живущих в серых покосившихся хижинах на опушках бескрайних лесов, безграмотных, не знающих, как взяться за перо, никогда не изведавших полноту и радость жизни, у которых одна лишь забота – накормить голодную семью.
Оказывается, он любит их с болезненной, горячей нежностью, с восторгом, от которого у него выступили слезы на глазах. Он не знал, что для них сделать, не знал и не умел, но от этого любовь его не становилась меньше, любовь ко всем вместе и каждому по отдельности. Он любил их со всей их глупостью, грубостью и предрассудками. Неужели когда-то настанет день, что и они полюбят его…
Он очнулся от размышлений – его жена положила руку ему на плечо. Толпа рассеялась. Они стояли одни на парадной каменной лестнице усадьбы.
– О, Йоста, Йоста… как вы могли?
Она закрыла лицо ладонями и заплакала.
– Я сказал им всю правду! – воскликнул он. – Я никогда не обещал этой девочке на ней жениться. Я только сказал – приходи в пятницу, будет весело. Я же не волен над ее чувствами!
– Я совсем не про то. Как вы могли сказать людям, что я чиста и безгрешна? Неужели вы не знаете, как я грешна? Ведь я любила вас, еще когда была замужем, когда не имела на это права. Мне стыдно перед людьми, Йоста. Стыдно так, что я готова умереть.
И заплакала еще сильней, совсем по-детски, всхлипывая и шумно переводя дыхание.
Он долго смотрел на нее с восхищением.
– Любимая моя, – сказал он тихо. – Как вы добры и невинны… Какое счастье – иметь такую душу, как у вас.
Кевенхюллер
В семидесятые годы восемнадцатого века в Германии родился некий Кевенхюллер, впоследствии прославившийся ученостью, острым умом и редкостной изобретательностью. Он был сыном бургграфа, мог бы жить в замке и ездить на охоту с самим королем, если бы захотел.
Но он не хотел.
А что он хотел? Хотел, к примеру, укрепить на самой высокой башне замка ветряную мельницу. Переделать рыцарский зал в кузницу, а девичью – в часовую мастерскую. Дай ему волю, он заполнил бы весь замок вращающимися колесами и рычагами. Но поскольку воплотить в жизнь такие обширные проекты никто ему не разрешил, он надумал учиться на часовых дел мастера и покинул замок. Он узнал все, что можно узнать, о зубчатых колесиках, пружинах, анкерах и маятниках. Он научился делать солнечные и звездные часы, которыми пользуются астрономы, маятники с попискивающими канарейками и дующими в рожки пастушками. Он построил машину, с помощью которой можно было играть на колоколах разные мелодии, такую огромную, что еле уместилась в звоннице. Но мог смастерить и часики, умещающиеся в крошечном медальоне.
Получив диплом часового мастера, он взял посох, котомку с инструментами и пошел бродить из края в край, изучал, что делают в разных странах с шариками, роликами, колесами и шестеренками. Еще раз заметим, что Кевенхюллер был не обычным часовщиком – он был великим изобретателем, и, как у каждого великого человека, у него была великая цель: с помощью машин улучшить жизнь людей.
Много стран он обошел, пока добрался до Вермланда, где, как он слышал, достигли высокого искусства в изготовлении мельничных колес, а в шахтах используют подъемники.
И как-то ясным солнечным утром произошло знаменательное событие.
Он переходил городскую площадь в Карлстаде. Надо же было такому случиться, что лесная фея, дриада, или, как их называют в Вермланде, лесовичка, тоже решила прогуляться по городу. Ей стало скучно в лесу, к тому же одолевало любопытство: что это за штука такая – город, как там живут люди и чем занимаются? Она тоже переходила площадь, как раз навстречу Кевенхюллеру.
Вот это была встреча для дипломированного часовых дел мастера! У нее были яркие зеленые глаза, прямые светлые волосы чуть не до земли и платье из переливающегося муарового шелка, тоже зеленое, зеленее некуда. Троллица, язычница, можете называть ее как угодно, но среди девушек Карлстада, поголовно христианок, Кевенхюллер никогда не встречал такой несказанной красоты. Он, ошеломленный, замер на месте, а она шла ему навстречу.
Откуда она явилась? Из непроходимых лесов, где растут огромные, как деревья, папоротники, где высоченные сосны закрывают небо, где до оранжевой хвои, толстым слоем укрывшей землю, долетают лишь скупые брызги солнечного дождя? Где линнея карабкается по заросшим лишайником валунам?
До чего же мне хотелось бы оказаться на месте Кевенхюллера! Как я мечтала увидеть эту красавицу, посмотреть на листья папоротника и еловый лапник, вплетенные в прямые, неправдоподобно длинные волосы! Опасливо дотронуться до маленькой гадюки на шее, которую она носит вместо ожерелья! Представьте только ее гибкую рысью походку, представьте ореол ароматов сосновой смолы и земляники, линнеи и мха!
И представьте себя на месте тех, кто глазел на нее, когда она решила прогуляться по центральной площади Карлстада. Испуганные лошади бросались в галоп при виде ее развевающихся волос, уличные мальчишки бежали за ней любопытной стайкой, мясники побросали безмены и топоры и разинули рот от удивления. Женщины визжали, кто-то побежал за епископом – кто еще сможет выдворить нечистую силу из города? Не случилось бы беды…
А она шла, не замедляя и не ускоряя шаг, спокойно и величественно, а когда улыбнулась, Кевенхюллер заметил маленькие, острые, как у хищника, зубы.
Поверх платья она надела накидку – должно быть, посчитала, что в накидке люди не распознают, кто она такая. Но как вы думаете, что она забыла? Она забыла прикрыть хвост! И он волочился за ней по мостовой, и кисточка на конце забавно перепрыгивала с булыжника на булыжник.
Кевенхюллер заметил непорядок, и ему стало обидно, что такая красавица может сделаться предметом насмешек и издевательств. Он подошел к ней и с поклоном произнес заранее придуманную светскую фразу:
– Не соблаговолит ли ваша светлость подобрать шлейф?
Лесовичка была заметно тронута его заботой. А еще больше изысканной вежливостью, с какой он указал ей на ее оплошность. Она остановилась, посмотрела на него, и ему показалось, что искры ее взгляда зажгли ему голову.
– Знай, Кевенхюллер, что отныне ты своими волшебными руками можешь сотворить все что угодно, любое чудо, но при одном условии: повторить это чудо тебе не удастся.
Так она сказала, а ведь всем известно, что эти зеленоглазые красавицы из чащи всегда держат свое слово. И что они могут одарить человека, заслужившего их приязнь, любым талантом и любыми возможностями.
Кевенхюллер остался в Карлстаде, снял там мастерскую и работал день и ночь. И через восемь дней он и в самом деле сотворил чудо: самоходный экипаж. Он мог подниматься в гору и спускаться с горы, ехать по желанию хозяина быстрее или медленнее. Им можно было управлять, он поворачивал и разворачивался, его можно было остановить и снова привести в действие. Это было чудо, а не экипаж, и главное, не надо никаких лошадей! Он ехал сам по себе.
Кевенхюллер за одну ночь стал знаменитостью, самые уважаемые люди города искали с ним знакомства. Он был так горд своим самоходным экипажем, что поехал в Стокгольм – показать чудо техники королю. Своим ходом – ни перекладных, ни дилижансов, ни жестких деревянных лавок на постоялых дворах. Через несколько часов он въехал в королевский дворец.
Король и придворные вышли посмотреть новинку и рассыпались в комплиментах. В конце концов король сказал:
– Ты должен подарить мне этот экипаж, Кевенхюллер.
Кевенхюллер отрицательно покачал головой, но король продолжал настаивать. И тут Кевенхюллеру привиделась среди фрейлин улыбающаяся светловолосая красавица в зеленом муаровом платье. Конечно же это была лесовичка, и он тут же понял, что именно она и подбивает короля забрать у него экипаж. Как можно отказать королю? Но Кевенхюллер не мог смириться с мыслью, что кто-то другой, а не он, будет владеть его замечательной машиной. И он разогнался и въехал в стену дворца. Машина разбилась вдребезги, по королевскому двору покатились гайки, шестеренки, валики и прочая техническая ерунда.
Кевенхюллер вернулся в Карлстад и, проклиная себя за тщеславие, начал делать новый экипаж. Но у него ничего не получалось. И тогда он с ужасом вспомнил заклятие Зеленой: сотворить – да, повторить – нет. Повторить чудо ты не сможешь никогда. Кевенхюллер пришел в отчаяние. Подумайте сами: он оставил роскошную жизнь в отцовском дворце, чтобы приносить пользу, чтобы сделать жизнь людей легче и лучше, а не показывать фокусы, не творить чудеса, которые никогда и никому, кроме него самого, не могут послужить. И его вовсе не утешало, что он стал великим мастером. Даже не великим, а величайшим. Какой в этом толк, если он не может сделать свои изобретения доступными всем?
И так этот ученый человек, изобретатель и мастер на все руки затосковал по разумному, полезному делу, что подался в каменотесы и каменщики.
Именно в эти годы он построил большую башню у Западного моста в Карлстаде, по образцу центральной башни отцовского замка. Принято думать, что он собирался скопировать весь замок – жилые помещения, порталы, внутренние дворы, валы и висячие башенки, – ему казалось, что такой замысел изящен и полезен для жителей: рыцарский замок на берегу Кларэльвена.
Полезен, потому что он хотел осуществить свою детскую мечту. В залах замка должно было разместиться все, что касается промышленности и ремесла. Припудренные мукой, как клоуны, мельники, и кузнецы, и часовщики с зелеными козырьками над уставшими от мелкой работы глазами, и красильщики с темными от кислот руками, и токари, и слесари, и шлифовальщики – все должны были найти место в Замке Труда, как он мысленно величал свое детище.
И до поры до времени все шло хорошо. Начал он, как вы помните, с башни. Сам вытесал камни, сам изобрел раствор, сам сложил башню, укрепил крылья – там должна разместиться мельница. Теперь пора браться за кузницу.
В один прекрасный день он стоял и любовался на свое творение. И тут в голове у него зашумело. Его зазнобило, что было странно в такой жаркий день. Он сразу понял, в чем дело. Зеленая посмотрела на него своими сияющими глазами, и снова, как и в первый раз, в голове вспыхнул пожар.
Кевенхюллер заперся в мастерской, не ел и не спал, и через восемь дней было готово новое, невиданное изобретение.
Он вышел на крышу своей башни и начал укреплять на руках крылья.
Двое уличных мальчишек и один гимназист, удившие уклейку с моста, бросили удочки и помчались по городу с криками:
– Кевенхюллер сейчас полетит! Полетит по воздуху!
И пока наш изобретатель совершенно спокойно прилаживал крылья, собралась толпа, заполнившая все прилегавшие к мосту узкие улочки Старого города.
Служанки побросали кипящие кастрюли и подходящее тесто, старухи надели очки, отложили недовязанные чулки и засеменили к башне. Даже бургомистр с советниками перенесли важное совещание. А что говорить про школяров, если сам ректор отшвырнул учебник грамматики в угол и поспешил к реке!
Вскоре у Западного моста через Кларэльвен собрался весь город. И на самом мосту был черно от народа, и на Соляной площади, и на берегу – от моста аж до усадьбы епископа. Зевак было, пожалуй, даже больше, чем на Персидской ярмарке, когда через город проезжал король Густав III. До сих пор вспоминают, что карета короля мчалась с такой бешеной скоростью, что на поворотах наклонялась и вставала на два колеса.
В конце концов Кевенхюллер затянул последние ремни, взмахнул перепончатыми крыльями – и поднялся в воздух. Он парил в воздушном океане свободно и легко, вдыхал чистый, крепкий, как самогон, воздух и чувствовал, как в нем закипает древняя рыцарская кровь. Он начал пробовать свои крылья. Он переворачивался в воздухе, как голубь, парил, как коршун. Очень скоро он убедился, что крылья его быстры, как у ласточки, и управляется он с ними легко, как ястреб.
Далеко внизу он видел задранные головы толпы. А ведь он мог бы каждому из этих людей изготовить пару таких крыльев. И если все смогут парить, как он, в чистом прохладном воздухе, они забудут о вражде и ежедневных дрязгах. Ах, какие люди будут тогда жить на земле! В воздухе места хватит всем.
Но тут же он вспомнил о лесовичке. Так продолжаться не может. Он должен во что бы то ни стало найти Зеленую и снять проклятие.
Но искать ее не потребовалось. Он увидел почти ослепшими от яркого солнца глазами, как навстречу ему летит кто-то на таких же крыльях, как у него, только больше и наверняка сильнее. Потом он разглядел и летунью. Светлые волосы развеваются на ветру, полощется зеленое муаровое платье, зеленые, дикие, как у рыси, глаза пронзительно светятся. Это она, она! Лесовичка!
Он бросился к ней, сам не зная, что хочет: то ли сбить ее на землю, то ли поцеловать и признаться в любви, – все что угодно, лишь бы заставить снять заклятие. Здравый смысл изменил ему. Он видел перед собой только развевающиеся волосы и зеленые, искрящиеся диким блеском глаза. Он раскрыл свои руки-крылья, чтобы поймать ее в объятия, их крылья переплелись, но, как уже сказано, крылья у лесной волшебницы были куда больше и сильнее. Его крылья разлетелись в щепки, и он полетел вниз.
Очнулся он на крыше башни, рядом с уродливой кучей буковых реек, пергаментных перемычек и деревянных шестеренок – все, что осталось от его летательной машины. Оказывается, он принял построенную им же мельницу за воздушный корабль лесовички. Огромные лопасти подхватили его, прокрутили несколько раз и сбросили на крышу собственной башни.
На этом игра закончилась.
Кевенхюллером овладело отчаяние. Его больше не привлекала участь добросовестного ремесленника, честно исполняющего свою работу, ведь его умения и способности создавать чудесные машины никому, кроме него, не нужны. Он даже не решался приступить к одолевавшим его замыслам – если их постигнет та же участь, если он опять создаст чудесные машины и тут же их разрушит, сердце его разорвется от горя. А если не разрушит, сойдет с ума, потому что они никому, кроме него, не могут принести никакой пользы.
Он разыскал свою рабочую котомку и сучковатый посох, оставил мельницу так, как он ее построил, и отправился искать Зеленую.
Купил лошадь и повозку: он уже не был так легок на ногу – давал о себе знать возраст. Рассказывают, что, как только он подъезжал к лесу, тут же натягивал вожжи, спрыгивал с коляски и кричал:
– Лесовичка, лесовичка, это я, Кевенхюллер! Отзовись!
Но она не отзывалась.
Так, поплутав по лесам Вермланда, он приехал в Экебю. Это было за несколько лет до изгнания майорши. Его приняли весело и радушно, и он остался жить. Кавалерский флигель пополнился высоким, крепко сложенным рыцарем, незаменимым и на охоте, и у пивной бочки. К нему вернулись детские воспоминания. Он разрешал называть себя графом и со временем стал выглядеть как настоящий немецкий барон, который только и поглядывает на земли своих соседей и родственников – а не отхватить ли кусочек? Орлиный нос, густые брови, остроконечная бородка-эспаньолка и гордо закрученные усы.
Он стал одним из кавалеров, не лучше и не хуже тех, чьи души майорша, как поговаривали, запродала врагу рода человеческого. Его волосы поседели, а неугомонный ум погрузился в спячку. Он уже не помнил подвиги своей молодости. Стал другим человеком – во всяком случае, не тем, кто изобрел самоходный экипаж и летательную машину. Всё это пустые россказни, говорил он, ничего подобного не было.
Но времена изменились. Майоршу выгнали из Экебю, и в поместье стали хозяйничать кавалеры. И началась такая жизнь – хоть святых выноси. Словно ураган налетел на несчастное поместье. Возобновились юношеские проделки. Сделать что-то полезное почиталось чуть ли не смертным грехом. Люди безумствовали на земле, духи – на небесах. Из Дувера то и дело прибегали волки с ведьмами на спинах, природа вытворяла невесть что, и нечего удивляться, что в Экебю явилась лесовичка.
Кавалеры и знать не знали, кто она такая. Они по наивности решили, что к ним пришла молодая женщина в нужде и беде, женщина, которую довела до отчаяния жестокая свекровь. Они дали ей приют, почитали ее как королеву и любили, как собственного ребенка.
Только Кевенхюллер распознал ее. Поначалу он был так же слеп, как остальные. Но как-то раз она по неосторожности надела зеленое платье из переливающегося муарового шелка, и он сразу все понял.
Она сидит на лучшем диване в Экебю, обитом китайским штофом, а эти старые шуты не знают, чем ей услужить. Один готовит ей еду, другой изображает камергера, третий – придворного музыканта, четвертый чинит ее сапожки. Ловкачка всех прибрала к рукам. Злодейка изображает больную – Кевенхюллер прекрасно знает, что это за болезнь. Да она просто издевается над этими простаками, как издевалась над ним! Подумать только, такое жестокое заклятие в благодарность за искреннюю, пусть и мелкую, услугу.
Он предупреждал. Никто не скажет, что он не предупреждал.
Вы только посмотрите на эти маленькие острые зубки, на эти дикие, светящиеся глаза. Это дриада, лесная троллица, лесовичка! В эти неспокойные времена чему удивляться? Вся нечисть словно с цепи сорвалась. Она уничтожит нас, поверьте мне, я уже имел с ней дело.
Но странное дело, как только Кевенхюллер распознал свою супостатку, к нему вернулась жажда деятельности. Как всегда, началось с невыносимого жжения в голове, и он знал, что тому причиной – искры из ее глаз проникли ему прямо в душу. Пальцы болели от желания взяться за молоток и напильник. Он пытался сопротивляться, но куда там! С горечью в сердце надел он рабочий халат и уединился в старой слесарной мастерской.
И из Экебю по всему Вермланду пронесся слух: Кевенхюллер опять взялся за работу!
И кавалеры, затаив дыхание, прислушивались к стуку молотка, скрежету напильников и тяжелым вздохам кузнечных мехов.
Похоже, вскоре увидит свет новое чудо. И что это будет? Может, он научит нас ходить по воде, как посуху? А может, его посетило вдохновение, когда он смотрел на небо, и теперь собирается построить лестницу к Плеядам? Захотел повидаться с семью дочерями Атланта?
Для такого человека нет ничего невозможного. Все видели собственными глазами, как он летает по воздуху. Все видели, как его самоходный экипаж мчался по улицам Карлстада. Лесная фея одарила его необычайным даром. Ничего невозможного – люди переглядывались и покачивали головами.
И в ночь не то на первое, не то на второе октября новое чудо было готово. Кевенхюллер вышел из мастерской, держа в руках свое изобретение – непрерывно вращающееся колесо. Оно крутилось так быстро, что не различить спиц, но они сияли, как солнце, и каждый мог ощутить исходящий от колеса жар. Кевенхюллер сотворил маленькое солнце! Была глубокая ночь, но когда он появился на пороге мастерской, стало светло как днем. Воробьи удивились и начали возбужденно чирикать. Небо оставалось черным, но невидимые до того облака загорелись розоватым утренним золотом.
Ничего подобного даже и вообразить нельзя! Теперь на земле не будет ни мрака, ни стужи. У Кевенхюллера даже голова закружилась от такой мысли. Конечно, солнце пусть продолжает всходить и заходить как ему заблагорассудится, но когда оно зайдет за горизонт, тысячи и тысячи колес Кевенхюллера – он уже дал им название: «Колеса Кевенхюллера» – засияют по всей земле, и воздух будет дрожать, как в самый жаркий июльский день! Можно будет собирать урожай под звездным январским небом, земляника и брусника будут плодоносить круглый год, и лед никогда больше не скует прозрачную родниковую воду.
Это будет совсем другая планета. Его колеса заменят шубы для бедных, полуденное солнце для заточенных под землей шахтеров. Они обеспечат фабрики энергией, оживят природу, дадут людям новую, счастливую жизнь…
Но Кевенхюллер прекрасно понимал – все это только мечты. Лесовичка никогда не допустит массовое производство его волшебных колес. И его охватила жажда мести. Он должен ее убить! Убить во что бы то ни стало… от ярости он уже мало соображал, что делает.
Кевенхюллер побежал в усадьбу и поставил свое колесо под лестницей в передней. Он рассчитал, что деревянная лестница вскоре загорится и злая волшебница погибнет в огне.
Он вернулся в мастерскую и сел у двери, прислушиваясь.
Вскоре послышались испуганные крики. Похоже, ему удался очередной подвиг.
Бегайте, вопите, таскайте воду! Ей никуда не деться, троллице. Не валяться ей больше на штофных диванчиках!
Пусть она покрутится там, пусть мечется из комнаты в комнату, ища спасения! Ах, как красиво, наверное, горит зеленый муар, как волшебно играют языки пламени в ее колдовских волосах! Смелее, смелее, огонь! Ей ли играть с тобой в прятки? Лови ее! Против огня даже ведьмы бессильны, так что не бойся ее колдовства. Она тебя не укротит. Пусть горит, подлая колдунья! Этого еще мало, другие по ее милости горят всю жизнь!
Звон пожарных колоколов, скрип подъезжающих повозок, хлюпанье насосов, качающих воду с озера, беготня с ведрами – все напрасно. Сбежались хуторяне и арендаторы со всей округи – напрасно, напрасно! Команды, крики, стоны – напрасно! Вот верхний этаж закачался, будто потерял равновесие, с разрывающим душу треском провалились горящие стропила, и сразу стал слышнее чудовищный рев бушующего в усадьбе пожара.
А Кевенхюллер сидел на колоде для рубки дров, умиротворенно улыбался и потирал руки.
Раздался страшный грохот, словно бы небо обрушилось на землю, и он подпрыгнул от восторга:
– Все! Потолочные балки обрушились. Теперь там никому не уцелеть! Либо раздавило, либо сгорела, к черту. Там ей и место.
Ему пришлось пожертвовать честью и славой Экебю, чтобы разделаться с этой нечистью. Все погибло – роскошные залы, в которых, казалось, навсегда поселились радость и веселье, где каждый изразец, каждая половая доска дышали воспоминаниями, стол, прогибающийся под тяжестью изысканных блюд, приготовленных французом-поваром, дорогая старинная мебель, редкостные – теперь, должно быть, и не сыщешь таких – серебро и фарфор. Погибло и его огненное колесо…
И он с пронзительным криком вскочил с колоды. Огненное колесо! Его колесо, его солнце, образец, по которому должны были быть изготовлены тысячи и тысячи таких же колес, – неужели он сам поставил его под лестницей в усадьбе?
– Неужели я сошел с ума? – спросил он себя с ужасом. – Как я мог решиться на такое?
И в ту же секунду открылась дверь мастерской.
На пороге стояла зеленая волшебница, улыбающаяся и прекрасная. На зеленом платье муарового шелка ни пятнышка, ни запаха дыма в волосах. Такая же, какой он увидел ее в молодости на площади в Карлстаде, с волочащимся хвостом, с сияющими зелеными глазами, благоухающая дикими ароматами леса.
– Теперь и Экебю горит, – сказала она и засмеялась.
Кевенхюллер уже изготовился швырнуть в нее кувалду, но в последнюю секунду разглядел, что у нее в руке. А в руке у нее было вот что: двумя пальцами, чуть на отлете, она держала его маленькое солнце, его огненное колесо.
– Смотри-ка, я спасла твое колесико!
Кевенхюллер отбросил кувалду и упал перед ней на колени.
– Ты разбила мой экипаж, ты сломала мои крылья, ты загубила мою жизнь! Будь же милосердной, я ничего дурного тебе не сделал!
Она легко вспрыгнула на верстак, сидела там, покачивая ногами, юная и прекрасная. Сидела и лукаво улыбалась. Точно такая, как в Карлстаде.
– Значит, ты догадался, кто я такая.
– Я знаю тебя, я всегда знал тебя. Ты муза вдохновения. Но дай же мне свободу! Забери назад свой дар! Я не хочу творить чудеса! Я хочу стать обычным человеком! Почему, почему ты меня преследуешь?
– Ты безумен, – тихо сказала лесовичка. – Я никогда не желала тебе зла. Я наградила тебя великим даром, но, если ты настаиваешь, могу забрать его назад. Но подумай хорошенько, чтобы потом не пожалеть.
– Не пожалею! – выкрикнул Кевенхюллер. – Забери этот дьявольский дар, он мне ни к чему.
– Сначала ты должен уничтожить вот это. – Она швырнула к его ногам огненное колесо.
Он ни секунды не сомневался – поднял кувалду и обрушил ее на свое изобретение. Он был уверен – если оно не может служить людям, будет служить дьяволу. Сноп искр взвился в воздух, горящие осколки разлетелись по мастерской. Все было кончено – погибло его последнее чудо.
– Теперь я могу забрать назад свой подарок, – скучно сказала лесная фея. – Считай, что уже забрала.
Она спрыгнула с верстака и пошла к выходу. Открыла дверь, и фигура ее озарилась багровым светом бушующего пожара. Он поднял глаза – ему захотелось посмотреть на нее в последний раз.
Она была прекраснее, чем когда-либо, но Кевенхюллеру, как он ни вглядывался, не удалось различить даже следов злорадства. Она была печальна, серьезна и горда.
– Безумец, – повторила она. – Разве я запрещала тебе отдавать свое изобретение другим? Другие могли бы построить тысячи и миллионы самоходных экипажей, летательных машин и солнечных колес. Мне просто не хотелось, чтобы такой гений, как ты, гнул спину у станка.
И с этими словами она ушла. Кевенхюллер еще два дня безумствовал, а потом стал обычным человеком. Как все.
Но в припадке сумасшествия он сжег Экебю. Никто, правда, не пострадал. Но какое горе для кавалеров! Гостеприимный дом, приют счастья и радости жизни, прекратил свое существование. По их вине.
Ярмарка в Брубю
В первую пятницу октября в Брубю открылась большая ежегодная ярмарка. Она по традиции продолжается восемь дней – самый главный осенний праздник. Уже можно показаться в только что сшитых зимних обновках. Чуть не на каждом хуторе режут скот и пекут хлеб, подают праздничные блюда – жареный гусь, ватрушки, фрикадельки. Самогон течет рекой. Работа подождет – ярмарка! Празднуют все – и господа, и простой люд. Работники получили жалованье, в семьях только и разговоров, что и кому купить на ярмарке. Народ стекается отовсюду – тут и там можно видеть пришельцев из отдаленных сел, их легко узнать по торбе за спиной и посоху в руке. Пригнали скот на продажу. Упирающиеся телята и козы доставляют немало забот хозяевам, но еще больше радости зевакам. Постоялые дворы забиты до отказа. Обсуждают новости, но главное – цены на скотину и домашнюю утварь. А дети – что ж, дети! Дети как дети. Мечтают о подарках и о традиционной ярмарочной денежке.
И в первый же день ярмарки – господи, какая суматоха на холмах и на широченной поляне, где расставлены ярмарочные шатры и палатки! Городские купцы уже поставили лотки и выложили товары, а приезжие из Даларны и вестйоты[39] не только соорудили длиннющие прилавки, но и умудрились растянуть над ними светлый дерюжный полог – на случай дождя. Канатоходцы, шарманщик, слепые скрипачи, гадальщицы, продавцы леденцов – все тут как тут. На пустом месте выросли несколько трактиров – самогон идет бойко, бойчее и желать нельзя. Чуть поодаль разместился прилавок с керамическими и деревянными горшками, вазами и блюдами. Садовники предлагают лук, хрен, яблоки и груши из господских садов и огородов. А сколько красно-коричневой медной посуды, луженной изнутри белым оловом!
И все же заметно, что год необычный, что в Свартшё, Бру и Лёввик, да и в другие приозерные уезды пришла нужда. Торговля с лотков и прилавков идет вяло, хотя на большой поляне, где торговали скотом, царит оживление. Многие решили расстаться с теленком, коровой или лошадью, чтобы самим кое-как пережить зиму.
Весело все же на ярмарке. Если есть деньги на пару стаканчиков самогона, за настроение можно не беспокоиться. Да и не только в самогоне дело. Когда люди приезжают из далеких, заросших непроходимыми лесами краев, где они месяцами ни с кем не встречаются, то сам шум, крики и смех толпы поднимают настроение. Они словно с ума сходят от радости, дичают на глазах.
Конечно, и торговля важна на ярмарке, но торговля не главное. Важно другое – в кои-то веки собираются родственники и друзья, угощают друг друга самогоном, бараньей пёльсой[40] и жареной гусятиной. А как приятно уговорить девушку прогуляться и купить ей в подарок Псалтырь или шелковую блузку. Или поискать подарки для оставшихся дома малышей.
Кажется, сюда приехали все, кто не остался присматривать за хозяйством. Здесь, само собой разумеется, и кавалеры в полном составе, и крестьяне из захолустного Нюгорда, и норвежские лошадники, и финны из северных лесов, и, конечно, всякого рода мошенники с большой дороги.
То там, то тут то и дело возникает движение, люди сбиваются в кучу, и непонятно, что же там происходит, в центре людского водоворота. И ведь не пробьешься туда, пока полицейские не растолкают толпу и не разнимут дерущихся или не поставят на колеса перевернутую телегу. А тем временем в другом месте опять собирается толпа, на этот раз новое развлечение: бойкая девица затеяла свару с торговцем.
К обеду начинается большая драка. Крестьяне обвинили вестйотов, что они обмеривают, – их мерка для локтя слишком короткая. Перепалка, естественно, переходит в потасовку. Каждый знает этот закон: для многих, кто месяцами влачит существование в нужде и лишениях, нужен выход обуревающей их злобе и разочарованию в справедливости окружающего мира. И что может быть лучше, чем врезать по физиономии кому-то, кто в их представлении эту несправедливость олицетворяет! А чаще первому, кто подвернется под руку. Забияки и рукосуи тут же слетаются, как мухи на мед. Кавалеры пробиваются вперед, чтобы восстановить мир известным им способом, а драчуны из Даларны спешат на помощь вестйотам.
Пьяный и злой Бык Монс из Форса, само собой, в центре событий. Он свалил одного из вестйотских купцов и собрался было его добить, но на отчаянный крик прибежали соотечественники бедняги и попытались оттащить силача. Тогда Бык Монс свалил рулоны ткани с поддона, поднял его и стал им размахивать во все стороны. Огромный поддон, восемь локтей в длину и локоть в ширину, сколоченный из толстых досок.
Опасный тип, этот Монс. Не зря его прозвали Быком. Рассказывают, его посадили в каталажку в Филипстаде, а он пробил ногой стену камеры и ушел. А еще как-то раз поднял из воды плоскодонку и понес ее на плечах. И можно понять, что, когда он начал крутить этот тяжеленный поддон, все разбежались, в том числе и его нынешние враги – вестйоты. Бык Монс погнался за ними – он в том состоянии, когда уже не важно, друг перед тобой или враг. Уж если дал себе труд ухватиться за этот поддон, значит, надо опустить его на чью-то голову.
Люди в ужасе бегут, женщины и мужчины. Крик и визг оглушительный, дело пахнет убийством. Легко сказать, как убежать матери с ребенком на руках? Тем более, надо лавировать между тесно составленными телегами, лотками, прилавками, волами и перепуганными суматохой лошадьми. Далеко не убежишь.
В тесном промежутке между лотками сгрудилась кучка женщин. Бежать им было некуда, и Бык Монс устремился к ним. Ему померещилось, что среди них прячется один из вестйотских купцов. Поддон взмыл в воздух.
Но когда смертельное орудие, со свистом рассекая воздух, уже опускалось, навстречу ему поднялись руки одного-единственного человека. Он не съежился в ужасе и надежде, что пронесет, а встал, поднял руки и добровольно принял удар на себя. Конечно, он не смог остановить трехпудовый поддон и теперь лежал на земле без сознания.
И Бык Монс встретился взглядом с этим человеком. В последнюю долю секунды перед тем, как удар пришелся тому по темени, Монс встретился с ним взглядом, и из взбешенного гиганта точно выпустили воздух. Он без сопротивления позволил связать себя и увести.
Мгновенно по ярмарке разнесся слух: Бык Монс убил капитана Леннарта. Божий странник, народный заступник пожертвовал собой, чтобы спасти беззащитных женщин и детей.
И на ярмарке стало тихо. Только что здесь бурлила жизнь, а сейчас все словно замерло. Никто не торгуется у лотков, замолкли застольные куплеты, канатоходцы спрыгнули на землю – никто на них не смотрел.
Божьего странника, народного заступника, убили. Какое горе!
Люди тесным кольцом окружили тело. Никаких ран не было видно, только по виску стекала тоненькая струйка крови. Бык Монс проломил ему голову. Капитан Леннарт, божий странник, лежит на земле мертвый.
Несколько человек бережно кладут его на поддон, тот самый, и замечают, что он еще дышит.
– И куда его теперь нести?
– Домой, – отвечает суровый голос из толпы. – Куда же еще? Домой.
О, что за вопрос! Само собой разумеется, несите его домой, люди добрые! Поднимите его на плечи и несите капитана Леннарта домой! Он был мячиком для забавы в руках Господа, легчайшим перышком, послушным дуновениям божественных уст. Несите его домой!
Этой размозженной голове служили подушкой и тюремные нары, и клок сена на полу хлева. Пусть же хоть теперь она упокоится в стенах родного дома, на подушке из гусиного пуха. Бедняга безвинно попал на каторгу, терпел позор и мучения, его выгнали из родного дома. Он бродил, не имея приюта, по указанным ему свыше дорогам, но всегда стремился домой, куда Всевышний не пожелал его впустить. Может, теперь, когда он погиб, спасая детей и женщин, двери его дома будут для него открыты.
Ведь на этот раз его провожают домой не пьяные собутыльники, а убитые горем люди, в чьих убогих хижинах находил он приют, помогал им словом и делом, облегчал их страдания. Несите его домой!
Так тому и быть. Шестеро крепких мужчин поднимают на плечи поддон и проносят через всю ярмарочную поляну, и там, где они проходят, мужчины снимают шапки, а женщины склоняют головы, точно как в церкви при упоминании имени Бога. Многие плачут, другие вспоминают, каким замечательным человеком был капитан Леннарт, каким добрым, отзывчивым, каким он был веселым, как умел словом и делом утешить страдальцев и вылечить душевные раны. Как только носильщики устают, их молча сменяют другие и подставляют плечи под роковой поддон.
Процессия проходит мимо кавалеров.
– Пойдемте с ними, друзья, мы должны убедиться, что капитан и в самом деле вернулся домой, – мрачно сказал Беренкройц и двинулся за процессией.
Остальные последовали его примеру.
Ярмарочная поляна почти опустела. Провожать капитана Леннарта в Хельесетер двинулись почти все – надо же убедиться, что он и в самом деле вернулся домой. То, что надо было купить, не куплено, подарки оставшимся дома детям отложены на потом, Псалтыри и шелковые платочки, при виде которых загораются глаза у каждой девушки, остались лежать на прилавках. Все должны убедиться, что капитан Леннарт вернулся домой.
Процессия приближается в Хельесетеру. В усадьбе тишина. И опять, как и тогда, полковник Беренкройц колотит кулаком в запертую дверь. Хозяйка дома одна – работники тоже были на ярмарке.
И она задает, как и тогда, тот же вопрос:
– Что вам угодно?
И полковник Беренкройц отвечает теми же словами:
– Мы привезли тебе мужа.
Она сурово посмотрела на полковника – спокоен и уверен, как всегда. Отодвигает его в сторону и видит плачущую толпу.
Она видит толпу, сотни заплаканных глаз, смотрящих на нее со страхом и тоской. Она видит человека, распростертого на грубом дощатом поддоне.
– Да, это он, – шепчет она и прижимает руки к сердцу. – Это его настоящее лицо.
И, ни слова не говоря, распахивает дверь и ведет их в спальню. Полковник помогает ей постелить двуспальную постель и взбить перину. Наконец-то капитан Леннарт сможет отдохнуть в мягкой постели на белоснежных простынях.
– Он жив? – спрашивает капитанша.
– Пока жив, – отвечает полковник Беренкройц.
– Надежда есть?
– Нет. Тут ничего не сделаешь.
Она замолчала. Потом встрепенулась, будто ее озарила внезапная мысль.
– И все они… все они оплакивают его? Леннарта?
– Да.
– Почему? Что он для них сделал?
– Последнее, что он сделал, – подставил себя под удар Быка Монса, чтобы спасти женщин и детей.
Капитанша опять замолчала.
– А что у него было с физиономией в тот раз? Два месяца назад.
Полковник вздрогнул. Только сейчас до него дошло.
– Йоста его раскрасил! Сказал, что истинная живопись – это когда малюют по-живому.
– Значит, из-за вас, кавалеров, я не пустила домой собственного мужа? И как вы за это ответите?
Беренкройц пожал широкими плечами:
– Много есть чего, за что мне придется отвечать.
– Я думаю, это самый большой ваш грех.
– У меня тоже не было в жизни тяжелее похода, чем сегодняшнее шествие. Но, скажу я тебе, есть еще двое, и они виноваты не меньше нашего.
– Это кто же?
– Один из них – Синтрам. А другой виновник – ты, кузина, собственной персоной.
Капитанша хотела возразить, но поникла головой.
– Это правда, – только и сказала она.
И попросила рассказать, что за пирушку они устроили на постоялом дворе в Брубю.
Он рассказал все, что помнил, а она слушала молча, изредка поглядывая на безжизненное тело мужа.
Спальня постепенно заполнилась плачущими людьми, никто даже и не думал попросить их выйти. И не только в спальне – все двери распахнуты, все комнаты, лестницы, прихожая забиты народом. В доме поместились не все – во дворе тоже стоят группы людей, ошеломленных нелепостью случившегося.
Полковник завершил свой рассказ. Капитанша вдруг повысила голос:
– Если здесь есть кавалеры, прошу уйти. Не хочу их видеть у смертного одра моего мужа.
Полковник, ни слова не говоря, поднимается с места и уходит. За ним пробиваются сквозь толпу Йоста Берлинг и другие. Они сами до слез огорчены последствиями дурацкой шутки.
– Есть ли кто-то, кто видел моего мужа за эти два месяца? Где он жил, что он делал?
И ей рассказывают о капитане Леннарте. Рассказывают жене о ее муже, против которого она ожесточила свое сердце. Они говорят высоким языком псалмов, будто пересказывают библейскую притчу. Впрочем, чему удивляться – эти люди за всю свою жизнь ничего и не читали, кроме Библии. В тесной спальне звучат обороты из Книги Иова, пронзительные в своей простоте и мощи. Они говорят о божьем страннике, посвятившем жизнь служению людям.
Рассказ занял немало времени. Все хотели вставить восторженное слово о бескорыстном страннике, всегда готовом прийти на помощь ближнему. Уже смеркается, а они всё не могли выговориться, один за другим выходили с очередным свидетельством о славных делах великого мужа, чья жестокосердная жена не хотела даже слышать его имени.
Находились такие, кого он поднял со смертного одра. Рассказывали, как одним словом мог он утихомирить разошедшихся кулачных бойцов. Отчаявшимся возвращал надежду, спившихся пробуждал к трезвости. Каждый, кому приходилось трудно, мог послать за капитаном Леннартом, и тот всегда приходил на помощь. И даже если он не мог помочь, у него всегда находились слова утешения и надежды.
Весь вечер в спальне звучали библейские гимны в честь умирающего, а остальные терпеливо ждали во дворе. Они знали, что происходит в доме: пишется житие божьего странника капитана Леннарта.
Тот, кому было что сказать, протискивался вперед и делился с другими.
– И я тоже с ним встречался, – говорил кто-то, и ему тут же освобождали место.
Человек оставлял свидетельство и растворялся в сгущающемся вечернем мраке.
Каждого, кто выходил из дома, засыпали вопросами:
– Что она говорит? Что она говорит, эта суровая жена из Хельесетера?
– Она ничего не говорит. Она сияет, как королева, и улыбается, как невеста. Принесла всю одежду, что она ему соткала, и выложила на стул у кровати.
И вдруг наступило молчание. Люди без слов знали почему – капитан Леннарт умирал.
Но перед смертью он открыл глаза и увидел свой дом, жену, детей и приготовленные для него одежды. Увидел, улыбнулся, захрипел и испустил дух.
Рассказы умолкли. Кто-то тихо запел похоронный псалом, его тут же подхватили сотни голосов. Пели стройно и чисто, старались, потому что понимали – это последний земной привет отлетающей в вечность душе.
Лесной хутор
Давно это было, очень давно. За много лет до того, как кавалеры хозяйничали в Экебю. Подпасок и девочка-пастушка играли в лесу, собирали морошку и мастерили дудочки из ольховых веток. Оба они родились в лесу, лес был их домом, и наделом их тоже был лес. И жили они в мире и согласии со всей лесной живностью, как живут в мире и согласии хозяева и домашние животные.
Рысь и лису почитали они за собак, куниц – за кошек, зайцев и белок – за домашний скот, филины и тетерева сидели в клетках из еловых ветвей, сами ели и сосны были им верными слугами, а молодые березки гостевали на их пирах. Они знали все норы, куда прятались гадюки от зимних холодов. Не испугались даже извивающегося в прозрачной воде огромного водяного змея, потому что опознали в нем знакомого ужа. Не боялись они ни гадюк, ни дриад, ни водяных змей – что за лес без дриад и гадюк. А лес был их домом. Люди в своем доме ничего не боятся.
Хутор, где жил мальчуган, стоял в лесу. Туда вела полузаросшая лесная тропинка, то поднимающаяся вверх, то круто сбегающая вниз, горы вокруг заслоняли солнце, а совсем рядом дремало и дышало во сне ледяными туманами бездонное болото. Малопривлекательное жилище для обитателей плодородных долин.
Ничего удивительного, что подпасок и пастушка еще в детстве решили пожениться и зарабатывать на жизнь своим трудом – в лесу, разумеется. Они и не представляли жизнь в другом месте.
Но когда они выросли и уже свадьба была не за горами, началась война, и пастушка призвали в армию. Вернулся с войны в целости и сохранности, не был ранен, ему не оторвало, как многим, руку или ногу, однако что-то с ним случилось. Война не прошла для него бесследно, слишком много зла и человеческой жестокости он насмотрелся. И потерял способность видеть добро.
Поначалу никто ничего и не заметил. Цел – и слава Богу. Как и ожидалось, вскоре после возвращения они обвенчались. Поселились, как и задумывали, в уединенном лесном хуторе неподалеку от Экебю, но счастье в их дом не пришло.
Она не узнавала мужа – он стал ей чужим. Почти все время молчал, а иногда принимался громко и ненатурально хохотать. Не то чтобы он ссорился с кем-то или кого-то обидел – нет, он никого не задевал и работал усердно. И все же люди его сторонились. Его никто не любил, потому что он не любил никого. Он во всем и во всех видел только плохое. Он уже знал, что самый мирный с виду человек, дай ему только возможность, может оказаться убийцей и насильником. Этому его научила война. Других уроков с войны он не вынес. И сам он был уверен, что все его ненавидят. Горы, заслоняющие солнце, болота, источающие холодный туман, – его враги.
Тому, кто вынашивает недобрые мысли, не стоит жить в лесу.
Еще раз повторю – не стоит жить в лесу тому, кто во всех видит врагов. Запомните это вы, те, кто решил поселиться в безлюдной чаще! Очистите ваше сердце, напоите его добром, иначе вам всюду будут мерещиться враги. Вам будет казаться, что и в природе все подчинено тому же закону войны: убей, пока не убили тебя. Вы не увидите в природе ни милосердия, ни сострадания.
Так и он – с кем бы и с чем бы он ни встречался, ничего хорошего для себя не ждал.
Ян Хёк, солдат, сам не понимал, что у него сломалось внутри, но чувствовал: что-то не так. И дома он не находил покоя и удовлетворения. Он разучился видеть добро. Выросли красивые и крепкие сыновья, но и в их душах не видел он добра. Не было для них большей радости, чем задираться и драться с кем попало, тем более что они были настолько сильны и ловки, что всегда выходили из драки победителями.
А жена искала утешения в лесу. Она научилась различать целебные травы, верила в живущих под землей лесных гномов и знала, что надо принести им в жертву, чтобы поддерживать мир и согласие. Знала, как лечить болезни, знала, какой совет дать несчастным, страдающим от неразделенной любви. Вскоре она прослыла колдуньей. Люди ее избегали, хотя она тоже никому не причинила зла.
Как-то раз она решилась поговорить с мужем. Надо было выяснить наконец, что его гнетет.
– Тебя словно подменили после этой войны, – сказала она. – Что там с тобой сделали?
Он чуть не ударил ее, и так было каждый раз, когда она заговаривала с ним о войне. Он впадал в ярость. Скоро уже все в округе знали про такую странность и всячески избегали военных разговоров.
Самое удивительное – никто из его однополчан не сказал бы, что он был хуже других или отличался особенной жестокостью. Он был солдатом – вот и все. Но то, что он видел вокруг, ужаснуло его и оставило в душе неизгладимый след. Он перестал замечать хорошее. Все это от войны. Он во всем видел врагов, даже в природе. Решил, что природа не простила ему, что он принимал участие в таком грязном, кровавом и жестоком деле, как война.
К тому времени, когда майоршу прогнали из Экебю, он жил один в своей лесной хижине. Жена умерла, а сыновья разлетелись кто куда. Но во время ярмарки на его хуторе всегда были гости. У него останавливались черноволосые, смуглые бродяги – им было удобно жить там, куда никто не заглядывает, а хозяин уже много лет никуда не ездил и к себе никого не приглашал. Их маленькие длинногривые лошадки тащили за собой телеги с обычным скарбом: точильные станки, паяльники для лужения медной посуды, тюки с тряпьем. За телегами шли громкоголосые, рано постаревшие, отечные от курения и вина веселые женщины с несчитаным количеством детей и жилистые мужчины. Они приезжали на лесной хутор, и жизнь сразу становилась веселее. Они привозили самогон, карты и шумные споры. Было им что рассказать и о конокрадстве, и о кровавых драках.
В пятницу в Брубю открылась ярмарка, и почти сразу убили капитана Леннарта. Бык Монс, тот, что убил капитана, – один из сыновей бывшего пастушка. Поэтому в воскресенье гости усердно подливали Яну Хёку и рассказывали о тюремной жизни, которая уж им-то была знакома более чем хорошо.
Старик сидел на колоде у печи и почти все время молчал. Смотрел большими тусклыми глазами на гостей и молчал. Уже стемнело, но в печи полыхал яркий огонь. В его колеблющемся свете было особенно заметно, в какой беспросветной нужде живут эти пришлые люди, как скверно они одеты.
Внезапно открылась дверь, и в хижине появились две женщины. Графиня Элизабет в сопровождении дочери покойного пастора из Брубю. Старику графиня показалась небесным видением – весь ее прекрасный облик лучился кротостью и добротой. Оказывается, после смерти капитана Леннарта исчез Йоста Берлинг, и она решила обратиться к нему – всем известно, что в этих лесах он знает каждую тропинку. Может быть, он видел пропавшего кавалера? Или, может быть, его видел кто-то из его гостей, они же кочуют в этих краях.
Пустой вопрос. Ни он, ни его гости никого в этих краях не видели.
Ей предложили стул. Она опустилась на него и долго молчала, глядя на огонь. В хижине стало тихо, шум и несвязные пьяные разговоры прекратились – все сидели и с восторгом смотрели на ангельское видение.
Ее, очевидно, испугала внезапная тишина. Она очнулась от раздумий и обратилась к хозяину:
– Дедушка, я слышала, вы служили в армии. Расскажите что-нибудь про войну.
Все замерли – знали, как действуют на хозяина такие просьбы.
Но старик сделал вид, что не слышал.
– Мне было бы очень интересно услышать о войне от того, кто сам в ней участвовал, – продолжила графиня, но осеклась – заметила, что дочь пастора отчаянно жестикулирует и отрицательно качает головой. Наверное, она сказала что-то неуместное. И все уставились на нее так, будто она нарушила неписаный, но важный закон.
Молчание нарушил резкий голос жены одного из бродяг:
– Это же вы были графиней в Борге?
– Это так.
– Другая жизнь была, а? Не то что гоняться по лесу за полоумным пастором. Хороша добыча! И не стыдно вам?
Графиня резко поднялась:
– Отдохнула – и хватит. Спасибо за гостеприимство.
Она пошла к выходу, но у порога ее настигла та самая женщина, которая только что ее стыдила:
– Я просто должна была что-то сказать. Старик не переносит разговоров о войне. Он даже слово «война» слышать не может. Я не хотела вас обидеть, извините.
Графиня кивнула и заторопилась. Но тут она посмотрела на грозный лес, на гору, заслонившую солнце, почувствовала мертвящий холод болотных испарений и резко остановилась, точно вспомнила что-то.
– Анна-Лиза, – сказала она пасторской дочке, – мы должны вернуться. Они нас так хорошо приняли, а я все испортила. Я хочу загладить свою вину. Поговорим со стариком о чем-нибудь повеселее. Не о войне, во всяком случае.
Ах, Элизабет, Элизабет! Она бы охотно посвятила этому жизнь: утешать тех, кто нуждается в утешении.
– Дело вот в чем, – сказала она, не успев переступить порог. – Я боюсь, что Йоста Берлинг ушел в леса, чтобы покончить с собой. Поэтому надо найти его как можно быстрее. Нам с Анной-Лизой, моей подругой и служанкой, несколько раз казалось, что мы его видели, но он каждый раз исчезал. Я почти уверена, что он бродит где-то у той горы, где погибла девушка из Нюгорда. И вот что я сейчас подумала – не идти же мне назад в Экебю за помощью! Здесь столько крепких молодых мужчин, они его без труда поймают.
– Давайте, ребята! – пронзительным голосом выкрикнула та самая женщина, которая стыдила графиню. – Если уж сама графиня не считает зазорным просить лесных бродяг о помощи, грех сидеть на месте.
Парни, ни слова не говоря, повставали с мест и отправились на поиски.
А старый Ян Хёк не сдвинулся с места. Он сидел и смотрел на огонь своими странными, без блеска, глазами. Вся его согбенная фигура выражала такой мрак и такую пугающую безысходность, что молодая графиня никак не могла найти слова, которые могли бы облегчить его душевные муки. Ей было очень неловко, но тут она заметила в темном углу хижины больного ребенка на соломенной подстилке. Рядом какая-то женщина, раскачиваясь и тихо постанывая, нянчила больную руку. Она бросилась к ним и стала помогать, чем могла. Подошли другие, и она очень быстро нашла общий язык с этими измученными, но разговорчивыми женщинами, женами и подругами лесных бродяг.
Через час явились их мужья. Они привели с собой связанного Йосту Берлинга в рваной и грязной одежде и положили перед очагом. Он дико оглядывался и, казалось, мало что соображал в происходящем. Прекрасное лицо его осунулось до неузнаваемости. Все эти дни он спал на холодной, влажной земле, уткнувшись лицом в еще хранящий летнее тепло густой мох, карабкался по острым камням, продирался сквозь колючие заросли. Ни в какую не хотел идти, сказали бродяги, пришлось его связать.
Жена бедняги, увидев, в каком виде ее муж, пришла в негодование.
– Что у вас за вид! – воскликнула она.
– Я не рассчитывал показываться вам на глаза, графиня.
– А разве я не ваша жена? Разве у меня нет права первой узнавать о том, что вас мучит? Я извелась от страха за эти два дня!
– Я повинен в смерти капитана Леннарта. Как я мог показаться вам на глаза? Как я мог?
– Вы же никогда ничего не боялись, Йоста Берлинг!
– Единственное и лучшее, что я могу для вас сделать, Элизабет, – освободить вас от моего существования.
Она сдвинула брови и посмотрела на него с нескрываемым презрением:
– Значит, вы хотели сделать меня вдовой самоубийцы?
Лицо его исказилось.
– Элизабет… умоляю, выйдем отсюда и поговорим с глазу на глаз.
– Зачем? – Ее голос приобрел несвойственную резкость. – Почему бы этим людям не послушать? Разве мы лучше кого-то из них? Скажите мне, кто из них причинил другим столько несчастий, как вы и я? Они дети лесов и пустынных дорог, они вынуждены жить, окруженные всеобщей ненавистью. Пусть же слышат, что грех и страдание не только их удел, что всеми любимый хозяин Экебю Йоста Берлинг тоже натворил немало бед! Вы думаете, ваша жена считает вас выше, чем кого-то из них?
Он с трудом приподнялся на локте и посмотрел на нее с чувством, которое легко было принять за обиду.
– Я вовсе не такой негодяй, каким вы меня считаете!
И он рассказал, что делал эти два дня. В первый день он просто шатался по лесу, изнемогая от угрызений совести, просто не мог никому смотреть в глаза. Но он даже не помышлял о самоубийстве. Прикидывал, не уехать ли ему куда-нибудь в далекие края. Но в воскресенье он спустился с холмов и пошел в церковь в Бру. Ему захотелось еще раз посмотреть на людей, измученных нуждой, на людей, которых он мечтал осчастливить, сидя с покойным пастором у позорной кучи хвороста, на людей, к которым он проникся любовью после той ночи, когда они искали девушку из Нюгорда.
Служба уже началась. Он, стараясь остаться незаметным, прошел на хоры, посмотрел вниз и с жестоким раскаянием вспомнил прошлое. Как бы он хотел донести до них слово Божье, утешить их и ободрить. Он уже слышал эти слова, одухотворенные его собственным отчаянием.
Но этот путь был ему заказан. Тогда он спустился в ризницу и написал завещание. Графине, конечно, это уже известно. Он пообещал, что в Экебю снова закипит работа, что наиболее нуждающимся будет роздано зерно. Он выражал надежду, что его жена и кавалеры выполнят это обещание, когда его с ними не будет.
На выходе он увидел перед домиком приходского совета гроб, грубо сколоченный, но заботливо обитый черным крепом и украшенный венками из стеблей брусники. Не надо было долго думать, чтобы сообразить, что это гроб капитана Леннарта. Вдову попросили поторопиться с похоронами – те, кто приехал на ярмарку издалека, хотели во что бы то ни стало попрощаться со странником божьим, капитаном Леннартом.
Он стоял и смотрел на гроб, не в силах оторвать от него взгляд, и в этот момент на плечо его легла тяжелая рука.
Это был Синтрам.
– Йоста, – сказал он, – если хочешь удивить народ, ляг и умри. Вот это будет номер! Представляешь, как хитро? Честной народ не ждет никакого подвоха, а ты взял и помер. Ляг и умри, говорю я!
Йоста не знал, что и подумать, но ему стало не по себе. Синтрам начал жаловаться, что все его планы опустошить берега Лёвена провалились. На какие только хитрости он не шел! Ради этого сделал так, чтобы управление Экебю перешло к кавалерам, ради этого подбивал пастора из Брубю обирать людей до нитки, ради этого устроил засуху и голод. На ярмарке он собирался нанести последний удар. Голодная и нищая толпа – что может быть лучше! Наверняка начнутся грабежи, а где грабежи – там и до убийств рукой подать, а потом дело доделают судейские и окончательно разорят народ. Голод, бунты, убийства, воровство – кто захочет жить в таком краю? И все это устроит он, Синтрам! Не потому, что Синтрам злодей, а потому, что он любит нетронутую природу. Вид вспаханной земли доводит его, Синтрама, до судорог. И надо же, один человек все испортил! Догадал же его черт умереть в самое неподходящее время.
И тогда Йоста спросил его, зачем ему все это нужно.
– А ты не понял, Йоста? – спросил Синтрам, ухмыляясь, и от этой ухмылки у Йосты по спине побежали мурашки. – Потому что Синтрам и в самом деле злодей! Синтрам – это олицетворенное зло, медведь-шатун в горах, пурга в степи! Потому что убийства и преследования доставляют мне, Синтраму, радость! К черту людей, говорю я, к черту людей! Я их ненавижу. Иной раз, конечно, забавно с ними поиграть, посмотреть, как мечутся они между моими когтями, как дергаются, стараются уйти от моей власти… забавно, забавно, но мне надоели эти игры, Йоста, время игр прошло. Я хочу убивать и разрушать.
Синтрам окончательно потерял рассудок. Начинал он эти игры и в самом деле ради забавы, пусть и злые, но все же игры. Но со злом шутить опасно – оно засасывает человека, как болото. И теперь он воображал себя духом из преисподней. Он с такой любовью предавался злодейству, что оно окончательно завладело его душой. Зло тоже может довести человека до сумасшествия. Не только любовь и философские размышления.
Он был вне себя, этот сумасшедший. В припадке ярости начал ни с того ни с сего срывать с гроба венки.
– Не трогай гроб! – крикнул Йоста.
– Да что ты говоришь? – осклабился Синтрам. – Не трогать гроб? Я не только его потрогаю, я вытащу вашего друга Леннарта на землю и растопчу его труп вместе с венками. Ты что, не видишь, в какой прекрасной серой карете я сюда прибыл?
Йоста и в самом деле только что заметил, что у поворота Синтрама дожидается тюремная повозка. В ней сидели исправник и двое конвойных.
– Как я могу не послать последний привет капитанше из Хельесетера? Это она после смерти мужа начала рыться в старых бумагах и раскопала улики, что я замешан в эту историю с торговлей порохом. Как я могу не напомнить ей, что бабье дело – ткать и печь, а не писать доносы? Как я могу не вознаградить себя за унижение, которое испытал, со слезами умоляя исправника Шарлинга разрешить мне попрощаться с покойным?
И он опять бросился обдирать креп. Кое-где уже показались влажные, грубо струганные доски.
Йоста Берлинг схватил его за руки:
– Оставь в покое гроб! Я отдам все, только оставь в покое гроб!
– Смотри-ка, чего захотел! – воскликнул безумец. – Тогда кричи! Зови на помощь! Пока исправник явится, я много чего успею! Или давай устроим драку. Здесь или на погосте, среди надгробий и венков. Будет на что поглядеть прихожанам!
– Я готов заплатить любую цену! Этот человек не знал покоя при жизни, так пусть хоть после смерти отдохнет его душа. Тебе нужна моя жизнь? Возьми!
– Знаем мы эти обещания, мальчуган.
– Испытайте меня.
– Так ляг и умри, как я сказал.
– Так и сделаю. Но сначала Леннарт должен упокоиться в земле.
На том и порешили. Синтрам взял с Йосты Берлинга клятву, что по истечении двенадцати часов после похорон его не будет в живых.
– Ты в последнее время что-то зачастил с праведными поступками. А теперь я буду уверен, что из тебя ничего порядочного не выйдет.
Для Йосты Берлинга вовсе не составило труда дать такую клятву. Он устал от мук совести и к тому же хотел дать свободу жене. Беда в том, что когда-то он уже поклялся майорше, что не умрет, пока дочка пастора из Брубю служит в Экебю и ей не грозит нищета или что-то еще похуже. Но Синтрам заверил его, что ее уже нельзя считать служанкой, поскольку она унаследовала огромное состояние отца. Йоста возразил, что никто не знает, где покойный пастор спрятал свои богатства, на что Синтрам ухмыльнулся:
– Подумаешь, загадка! В церкви в Бру он их спрятал. В звоннице, среди голубиных гнезд.
И с этими словами Синтрам двинулся к тюремной повозке, а Йоста ушел в лес. Ему почему-то показалось, что будет справедливым, если он лишит себя жизни именно там, где погибла слабоумная девушка из Нюгорда. Там он бродил весь день, видел, что жена его ищет, и не решился покончить с собой чуть не у нее на глазах.
Йоста лежал у печи связанный и монотонно рассказывал эту историю, не поднимая голову.
– О, как мне это знакомо, – сказала Элизабет с горечью. – Как мне это знакомо! Герой! Всегда готов сунуть руку в огонь, всегда готов покончить счеты с жизнью ради очередного приступа самоедства! Как я на это клюнула когда-то, на эту шикарную доблесть! Но этим ничего не добьешься, Йоста. У меня изменились идеалы. Теперь я ценю спокойствие, разум и добрые дела. Вы, должно быть, думаете, что оказали покойному капитану Леннарту большую услугу? Ну, хорошо, сорвал бы Синтрам обивку, перевернул гроб, растоптал венки. Гроб бы подняли, обили и украсили заново. И венки бы нашлись. Вот если бы вы на глазах Синтрама положили руку на гроб этого святого человека и поклялись бы продолжать его дело, помогать бедным, которых Синтрам хотел выжить отсюда! Такой поступок я бы оценила. А что сделали вы? Если бы вы в церкви не рвались читать проповедь, а просто сказали голодным людям – не как священник, а как человек: я буду помогать вам, чем могу! А вы хотите переложить все на слабые плечи жены и немощных, смешных стариков.
– Мы, кавалеры, не свободные люди, – сказал Йоста после долгого молчания. – Мы связаны клятвой. Жить для радости, и только для радости. И горе нам, если мы изменим этому слову. Вы даже не знаете, графиня, чем это может кончиться.
– Вот уж воистину горе вам! – передразнила его графиня. – Потому что среди кавалеров вы оказались самым трусливым! Вчера все одиннадцать сидели в своем флигеле мрачные, как совы. Вас нет, капитан Леннарт погиб, честь и слава Экебю поругана. К тодди даже не прикоснулись, боялись показаться мне на глаза. И тогда моя служанка Анна-Лиза пошла к ним. Вот эта самая, что стоит здесь, хорошо вам знакомая Анна-Лиза, дочь покойного пастора из Брубю, пошла к ним. Она девушка разумная, могу сказать, что именно она не дала вам окончательно разорить Экебю за этот год, отчаянно боролась с вашим безумным расточительством и еще более безумным бездельем.
«Сегодня я опять была у отца в усадьбе, – сказала она им, – но ничего не нашла. Все векселя оплачены, долгов нет, но и денег нет. Ни в ящиках, ни в шкафах. Денег нет».
«Не убивайся уж так, Анна-Лиза», – утешил ее Беренкройц.
«Когда майорша ушла, – продолжила Анна-Лиза, – она просила меня проследить за ее поместьем. И если бы найти отцовские деньги, я бы отстроила Экебю. Но я их не нашла. Поэтому прихватила кое-что из позорной кучи щепок, которая довела отца до смерти. Потому что я заслужила этот позор. Что я скажу хозяйке, когда она увидит, что сделалось с Экебю?»
«Не принимай все так близко к сердцу», – опять попытался успокоить ее Беренкройц.
«Но мусор я взяла не только для себя. Думаю, сиятельные господа заслужили этот позор не меньше! Прошу вас! Мой славный родитель принес в этот мир меньше бед и разорения, чем господа кавалеры!»
И она обошла кавалеров и вручила каждому щепотку мокрых щепок. Кто-то начал ворчать, но остальные понуро молчали. В конце концов все тот же Беренкройц сказал:
«Спасибо, Анна-Лиза. Все правильно. Ты можешь идти».
А когда она ушла, он впечатал кулак в стол с такой силой, что стаканы подпрыгнули, а некоторые даже повалились.
«С этой минуты, – зарычал он, – никакого пьянства! Допились! Ничего подобного я больше не допущу!»
Встал и вышел.
За ним потянулись и остальные. И знаете, куда они пошли, Йоста? Они пошли к реке, туда, где до наводнения стояли кузница и мельница. Они пошли туда и начали работать, растаскивать камни и бревна. Старики не выдержали позора, они наконец поняли, что натворили. Разорили Экебю. Знаю, знаю, вы считаете работу делом зазорным, но, очевидно, стыд за содеянное пересилил. Более того, Йоста, знаете, что они сделали? Они послали Анну-Лизу за майоршей. А вы? Что делаете вы?
Йоста выдавил из себя еще один аргумент:
– Что вы хотите от меня, графиня? Что вы хотите от разжалованного священника? Я презираем людьми и ненавистен Богу.
– А еще я была в церкви в Брубю, – будто не слыша его слов, продолжила графиня. – Две женщины просили передать вам привет.
«Передай Йосте, – сказала Марианна Синклер, – что женщина, которая любила, никогда не станет презирать предмет своей любви».
«Передай Йосте, – сказала Анна Шернхёк, – что у меня все хорошо. Я управляюсь с обоими поместьями, и своим, и с Бергой. Люди говорят, что я становлюсь второй майоршей. Я уже не думаю о любви, только о работе. В Берге немного успокоились, горе уже не так остро. Но мы очень переживаем за Йосту и молим Господа за него. Но когда же, когда же он станет взрослым?»
– Вы презираемы людьми? – продолжила графиня. – Не в этом дело. Скорее наоборот – вас окружили любовью, и в этом ваша беда. И женщины, и друзья… стоит вам засмеяться, пошутить или спеть, и все грехи прощены. Все, что вы вытворяете, находит у них понимание и прощение. И у вас язык поворачивается назвать себя презираемым?
Как вы можете говорить, что вы ненавистны Богу? Почему вы не остались и не проводили капитана Леннарта в последний путь? Это были необычные похороны. Слух, что божий странник убит, мгновенно разлетелся по округе. На отпевание пришли тысячи людей. На огромной поляне за погостом было не протолкнуться. Процессия уже выстроилась перед домом общины, ждали только старого проста. Известно было, что он болен, церемонию вести не сможет, но прийти обещал. И обещание выполнил – опустив голову, погруженный в размышления о неумолимой старости, занял он место во главе похоронной процессии. Ничего необычного он не заметил. Слишком многих пришлось ему отпевать на своем веку. Он так и прошел весь путь, не поднимая головы и не замечая ничего вокруг. Пробормотал последние слова молитвы: «Из земли ты вышел, в землю вернешься», бросил на гроб пригоршню влажной земли и собрался уходить.
Но тут дьякон начал псалом. Впрочем, не думаю, что бас дьякона вывел бы проста из задумчивости, если бы тот пел один. Но дьякон пел не один. Его тут же поддержали сотни, если не тысячи, голосов. Пели все – мужчины, женщины и дети. И тогда прост провел ладонью по глазам и поднял голову. Он не мог понять, откуда это пение. Он с трудом поднялся на кучу земли и обомлел. За всю свою долгую службу он никогда не видел ничего подобного. Мужчины в старых, потрепанных похоронных шляпах, женщины в белых передниках – все они пели последний псалом, и у всех были слезы на глазах.
И старому, опытному священнику стало не по себе. Он понял, что обязан произнести слова утешения. Это его долг. Но где их найти? Что он скажет этим так искренне скорбящим людям?
Негромкий, но на редкость стройный многоголосый хор смолк. И прост молитвенно поднял руки.
«Я вижу, у вас большое горе, – сказал он. – Горе всегда тяжкий груз. И груз этот нести стократно тяжелее вам, кому предстоит еще долго топтать земные тропы, чем мне, кто скоро расстанется с этим миром».
Он в ужасе замолчал. Его голос был слишком слаб. Мало того, он никак не мог найти нужные слова. Но постепенно глаза его налились юношеским сиянием, к нему словно вернулись молодость и здоровье.
Ах, какую надгробную речь он произнес, Йоста! Сначала рассказал, что ему было известно о страннике божьем. Потом напомнил, что не внешний блеск и даже не какие-то особые таланты принесли тому всеобщую любовь, а то, и только то, что он всегда следовал по пути, указанному ему Богом. И он молил нас именем Спасителя поступать так же. Пусть каждый любит каждого, пусть каждый помогает и поддерживает ближнего и видит в нем только хорошее. Каждый должен поступать, как замечательный капитан Леннарт. Он не мог раздавать богатые дары, но его кротость и любовь к ближнему сами по себе были неоценимым даром.
И вдруг прост начал объяснять нам, что же произошло за этот последний год. Он, оказывается, уверен, что это всего лишь необходимые приготовления к эре счастья, и она придет, нужно только набраться терпения и любви. В этот трудный год божественная суть человека пробивалась, только как отдельные лучи пробиваются сквозь лесную чащу, но придет время, и она засияет, как яркое полуденное солнце!
Мы слушали его, как слушают пророка. Всем вдруг захотелось любить друг друга, всем захотелось стать добрыми и хорошими.
Он поднял глаза к небу, воздел руки и призвал мир в наш край.
«Именем Бога, – сказал он, – пусть прекратятся распри и беспорядки! Пусть мир поселится в ваших сердцах и во всей природе! Пусть все обретут покой – и камни, и деревья, и звери земные, и птицы небесные! Пусть никто, ничто и никому не причиняет обиды и зла!»
– И знаешь, Йоста, – графиня внезапно перешла на «ты», – знаешь, Йоста, произошло чудо. Вершины гор засияли, а осенняя дымка стала нежно-розовой.
А под конец он сказал, что так продолжаться не может и не будет. Кто-то придет, сказал он. Уверен, Бог наш не хочет, чтобы вы погибли. Он пришлет того, кто накормит голодных и поведет по пути истины.
И все подумали о тебе, Йоста. Даже не подумали – мы твердо знали, что прост говорит о тебе. Все ведь уже слышали, что за завещание ты оставил в церкви. И после этого ты отправился в лес умирать! Люди ждут тебя, Йоста. В каждой хибаре только и разговоров, что раз уж сумасброд Йоста Берлинг из Экебю рвется им помочь, значит, все обойдется. Ты их герой, Йоста. Они видят в тебе героя и спасителя.
Я вижу, и ты понял, что священник говорил о тебе, и я думаю, одно это заставит тебя расстаться с желанием покончить счеты с жизнью.
Но я, твоя жена, Йоста, говорю тебе вот что: ты должен выполнять свой долг – помогать людям. Только не воображай, что ты посланец Божий, прост не это имел в виду. Помогать людям может каждый, запомни это. Для этого не нужны подвиги, зажигательные речи, не надо блистать и поражать воображение. Не надо, чтобы твои выходки обсуждали на каждом хуторе. Надо работать, вот и все.
Но подумай хорошенько, Йоста, прежде чем отказаться от данному Синтраму слова! У тебя теперь есть право умереть, и ты должен помнить, что жизнь отныне не предложит тебе весь набор кавалерских радостей. Признаюсь, у меня было желание бросить все и уехать домой, на юг. Мне казалось, я по своим грехам не заслужила такого счастья, как быть рядом с тобой всю жизнь. Но я остаюсь, Йоста. Если ты вернешь слово Синтраму, если ты раздумаешь умирать, я остаюсь с тобой. Но не жди веселья, не ищи развлечений! Я найду в себе силы, я заставлю тебя выполнять свой долг, а это нелегкий путь. Но разве я имею право на слова счастья и надежды? Мы с тобой причинили столько горя и страданий людям, что их темные тени всегда будут стоять у нашего очага. Не знаю, способно ли еще мое исстрадавшееся сердце на любовь. Боюсь, нас ждет бесслезная, но и безрадостная жизнь, жизнь-искупление. Подумай, подумай и еще раз подумай, Йоста, что ты выбираешь – смерть или жизнь.
Она не стала дожидаться ответа. Кивнула дочери пастора и ушла. Но не успела войти в лес, как горько разрыдалась и рыдала всю дорогу до Экебю. И, только вернувшись домой, вспомнила, что так и не поговорила со старым солдатом о чем-нибудь веселом, чтобы отвлечь его от горьких дум.
А там, на лесном хуторе, после ухода графини долго царила тишина.
– Вечная хвала Господу Богу нашему! – ни с того ни с сего почти крикнул хозяин.
Все обернулись, настолько неожиданным было его восклицание. Он обвел взглядом сидящих:
– Зло, зло и зло! Я ничего не видел вокруг, кроме зла. На войне открылись мои глаза, и я понял, что все вокруг – сплошное зло. Злые мужчины, злые женщины, зло и ненависть везде, среди людей и в природе, в лесу и в поле. Но она-то, та, что ушла, – она добра! Мой дом посетил праведный и добрый человек. Я буду долго помнить ее в своем одиночестве. Она всегда будет со мной.
Он развязал Йосту Берлинга, поднял и торжественно протянул ему руку.
– Ненавидимый Богом, назвал ты себя. – Он покачал головой. – Возможно, так и было, но все изменилось. Я тоже мог бы так сказать про себя, но все изменилось. С тех пор как она побывала в моем доме, все изменилось! Она – само добро!
На следующий день Ян Хёк явился к исправнику Шарлингу.
– Я должен нести свой крест, – сказал старый солдат. – Я был злым человеком и воспитал злых сыновей. Я виноват в том, что произошло на ярмарке. И я прошу, чтобы в тюрьму посадили не сына моего, а меня.
Но конечно, никакими законами такое предусмотрено не было. И тогда он последовал за сыном на каторгу и был там все время, пока тот не отбыл свой срок. Это, возможно, самая трогательная из всех старых историй, но ее вам расскажет кто-нибудь другой.
Маргарета Сельсинг
За несколько дней до Рождества майорша вернулась в Лёвшё, но до Экебю добралась только в сочельник. Она тяжело заболела в пути. Воспаление легких, постоянная лихорадка, но по виду ее никто бы этого не сказал, настолько она была счастлива.
Дочь пастора из Брубю прожила у нее на заводе в лесах Эльвсдаля с октября и теперь очень торопилась домой. Но она никак не могла помешать майорше останавливать чуть не каждого прохожего и расспрашивать о новостях:
– Как дела в Лёвшё?
– Неплохо, неплохо, – слышала она в ответ. – Получше идут дела. Полоумный пастор из Экебю и его жена стараются всем помочь.
– Хорошие времена настали, – говорил следующий. – Синтрама нет, кавалеры из Экебю взялись за работу. Деньги пастора-скупердяя нашлись. Люди говорят, в церкви в Бру, в звоннице. Много денег. Хватит, чтобы в Экебю вернулись его честь и слава. И на хлеб голодным тоже хватит.
– Наш старый прост будто ожил, – удивлялся третий. – Каждое воскресенье читает проповеди, дескать, Царствие Божье уже наступает. Кому охота грешить в такое время? Говорит, всё, со злом покончено. Наступает царство добра и справедливости.
И жар не так мучит майоршу, и в груди меньше колет, когда слышит она такие слова:
– Две богатые женщины помогают Йосте Берлингу, и делом и деньгами. Марианна Синклер и Анна Шернхёк. Сами ходят с хутора на хутор, смотрят, чтобы никто не голодал. И еще вот что: самогона стали меньше гнать, зерно не переводят на эту заразу.
У майорши появилось странное чувство, будто она сидит в церкви и слушает бесконечную службу. Уж не в Святую ли землю она приехала? У стариков разглаживались морщины, когда они говорили о наступившей в их краях благодати. Даже больные забывали про свои болезни – такие хорошие времена наступили, болеть неохота, говорили они.
– Всем бы стать такими, как покойный капитан Леннарт. Делать добрые дела – что может быть лучше? Верить в добро, никому не делать зла – ясное дело, Господь только этого и ждет, чтобы вернуться в Свое Царство.
И этот дух ощущался повсюду. Во многих усадьбах открыли бесплатные кухни для самых нуждающихся. Рабочие вернулись на свои места, все майоршины заводы заработали в полную силу.
Никогда она не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Ей казалось, что морозный воздух освежает ее грудь и унимает постоянную колющую боль. У каждой усадьбы останавливала она экипаж и расспрашивала работников.
– Все хорошо, – отвечали ей. – Нужда уже в глаза глядела, но добрые господа из Экебю, храни их Господь, помогли. Госпожа майорша удивится, когда увидит, сколько сделано. Мельница, которую половодьем снесло, почти готова, а кузница уже работает. И дом в усадьбе, который сгорел, скоро готов будет. Уже стропила поставили, под крышу подвели.
Лишения и трагические события изменили людей, думала майорша. Боюсь, ненадолго, но изменили. Но как приятно вернуться в край, где все помогают друг другу, где каждый стремится сделать что-то хорошее, где перед лицом беды отступили злоба и зависть. Ей уже казалось, что она смогла бы простить глубоко ранившее ее вероломство кавалеров, и в душе радовалась, что не потеряла способность прощать.
– Анна-Лиза, – сказала она. – Мне, старухе, кажется, что мы с тобой угодили в Царство Небесное.
Когда сани остановились в Экебю, кавалеры кинулись помогать ей и оцепенели от изумления: они ее не узнали. Перед ними была не властная, суровая и острая на язык майорша, а совершенно другая женщина. Такая же кроткая и добрая, как их молодая графиня. Те, кто знал ее в давние годы, перешептывались: «Это не майорша. Это Маргарета Сельсинг».
Конечно, кавалеры были искренне рады. Их опасения, что майорша не простит им предательство, оказались напрасными. Она и не помышляла о мести. Но радость быстро сменилась тревогой – майорша была очень больна. Ей тут же постелили в конторе. На пороге она остановилась.
– Что это было? – спросила она. – Я знаю, что это было. Буря Господня. Господь наслал на нас бурю. Но теперь я чувствую: буря эта была очистительной.
И закрыла за собой дверь.
Кавалеры понуро побрели в свой флигель. Так много хочется сказать человеку, который близок к тому, чтобы покинуть этот мир! Слова так и просятся наружу, когда знаешь, что в соседней комнате лежит тот, чьи уши очень скоро не смогут их услышать. Так и хочется сказать: «О, друг мой, друг мой! Можешь ли ты простить? Можешь ли ты поверить, что мы любим тебя, несмотря ни на что? Как же могло случиться, что мы принесли тебе столько горя и страданий, пока вместе брели по этому короткому пути, который называется жизнью? Спасибо, милый друг, за всю радость, что ты мне подарил. Спасибо, что ты есть».
Это первое, что приходит на ум. А надо сказать еще многое, многое другое.
А майорша горела в лихорадке. У нее начался бред, и если бы она даже услышала слова любви, приготовленные кавалерами, она бы их не поняла. Неужели она так и не узнает, как они самоотверженно трудились, чтобы восстановить ее детище, как они спасли честь и славу Экебю?
Кавалеры пошли в кузницу. Там было пусто, рабочие разошлись по домам праздновать Рождество. Кавалеры не стали их звать, разожгли горн сами. Им казалось, что, если майорша услышит звук кузнечного молота, она и без слов поймет все, что они хотели ей сказать.
Уже давно стемнело, поэтому Рождественская ночь наступила незаметно. Они молчали, но каждый думал об одном и том же: как странно, что второе Рождество подряд они встречают в кузнице.
Умелец Кевенхюллер, благодаря которому удалось в такое короткое время восстановить и мельницу, и кузницу, и Кристиан Берг, могучий капитан, раздували горн, Йоста и патрон Юлиус подбрасывали уголь.
Кто-то сидел на тачках с углем. Лёвенборг, старый мистик, беседовал с дядюшкой Эберхардом, сидя на наковальне прямо под нависшим молотом.
– Сегодня ночью умрет Синтрам, – сказал он.
– Почему именно сегодня? – спросил Эберхард.
– Брат мой, надеюсь, помнит, что ровно год назад мы заключили пари? Мы поклялись, что не будем превращаться ни в пергаментных желчных старцев, ни в туго набитые кошельки. Мы не собираемся делать ничего, что не пристало кавалерам. Мы остаемся кавалерами.
– А ты, брат мой, понимаешь, что мы проиграли пари? Не пристало кавалерам… многое мы понаделали, чего не пристало делать кавалерам. Помогли майорше, начали работать, и, что совсем плохо, Йоста не сдержал слова. Обещал умереть, а вот он, уголь таскает, живее всех живых.
– Неужели ты считаешь, что я об этом не подумал? – пожал плечами Лёвенборг. – Но позволь, брат, указать тебе, что ты, хоть и философ, мыслишь поверхностно. Мы поклялись не искать выгоды – помнишь? «Не собираемся превращаться в туго набитые кошельки». И мы ее не искали. Мы поклялись не совершать практичных поступков. Но мы не давали обещания не действовать во имя любви, чести и добра. Думаю, Синтрам проиграл.
– Наверное, брат мой прав, – произнес дядюшка Эберхард задумчиво.
Возможно, эта мысль ляжет в основу его новой теории мироздания.
– Мало того, – продолжил Лёвенборг, – я слышал нынче бубенцы на его санях. Вы же понимаете, что это… не настоящие бубенцы. Он скоро явится.
И маленький старичок уставился в открытую дверь кузницы, где на темно-синем, почти черном небе сияли редкие звезды.
И через мгновение вскочил как ужаленный:
– Брат! Ты видишь его? Ты разве не видишь, как он крадется в дверь?
– Ничего я не вижу, – буркнул философ. – Ты уже носом клюешь, брат мой. Тебе приснилось.
– Я его видел совершенно отчетливо! На фоне звезд! Как всегда, в своей волчьей шубе с когтями и меховой шапке. А сейчас скрылся в темноте. Смотри, он уже у горна, стоит рядом с Кристианом! Но и Кристиан его не видит! Он бросил что-то в огонь! Осторожно, друзья, берегитесь!
И словно в подтверждение его слов из горна с треском вырвался сноп искр. Никого, правда, не обожгло.
– Отомстить хочет, – прошептал Лёвенборг.
– Ты что, с ума сошел, брат? – Эберхард не на шутку рассердился. – Тебе мало того, что было? Никого там нет.
– Можно, конечно, выдавать желаемое за действительное. Но это не помогает, брат! Вон же он стоит и щерится. Осторожно!
Он рванул Эберхарда с наковальни, и оба старика повалились на пол. В ту же секунду огромный молот сорвался и с тяжким грохотом рухнул. Не выдержал железный крюк-фиксатор, такое бывает, но Лёвенборг и Эберхард чудом избежали гибели.
– А теперь веришь? – выкрикнул Лёвенборг. Он сиял от гордости. – Но нет у него над нами власти! Хочет отомстить, а не может! – Он помолчал, довольно улыбаясь, но тут ему пришла в голову тревожная мысль.
– Иди к женщинам, Йоста, – крикнул он. – Он может и там показаться. Они не так привычны к чертовщине, как мы, закаленные бойцы. Наверняка перепугаются. И будь осторожен! Над нами у него власти нет, а над тобой… над тобой – не знаю, ты же нарушил слово. На тебя он особенно зол. Ты дал ему слово и не выполнил обещания. Будь осторожен!
Позже они с удивлением узнали, что Лёвенборг был прав: Синтрам умер именно в эту ночь, в ночь на Рождество. Кто-то рассказывал, что он якобы повесился в тюрьме. Другие перешептывались, что судейские сами его убили. Улик по его делу почти не было, а выпустить его на волю означало обречь весь уезд на страдания – по части интриг Синтраму равных не было. Но большинство были уверены, что Синтрам бежал. В полночь за ним приехал князь тьмы в черной карете, запряженной черными же лошадьми, и увез Синтрама из тюрьмы – провел сквозь стены, будто их и не было.
Любопытно, что не только Лёвенборгу померещился Синтрам в рождественскую ночь. Он был замечен и в Форсе, а Ульрика Дильнер видела его во сне. Многие, многие видели его, и так продолжалось несколько дней, покуда Ульрика Дильнер не забрала из тюрьмы его тело и не похоронила на погосте в Свартшё. Сразу после этого она рассчитала всех подручных Синтрама, и под ее управлением Форс вскоре стал образцовым хозяйством. После этого привидение не появлялось.
* * *
Говорят также, что еще до прихода Йосты Берлинга в контору приходил неизвестный и передал майорше какое-то письмо. Письмо положили на столик рядом с постелью больной, и ей неожиданно стало намного лучше. Температура снизилась, боли стали не такими свирепыми, она присела на постели и прочитала письмо.
Старики считают, что таинственное улучшение в ее состоянии произошло не без вмешательства темных сил, потому что то, что она прочитала письмо, было Синтраму на руку.
И письмо было необычным. Договор, написанный на черной бумаге и подписанный кровью. Конечно, никто ничего подобного не видел, но покажи этот договор кавалерам, они бы его узнали. Он был составлен в кузнице Экебю.
А сейчас майорша полусидела в кровати и читала этот договор. Она узнала, что она – ведьма, что она обязалась поставлять души кавалеров в преисподнюю, поэтому она должна покинуть Экебю. Ведьмам не место в Экебю, это наносит ущерб чести и славе поместья. И еще много всякой чуши было написано в этом пьяном договоре. Она посмотрела на дату – ровно год назад. Проверила все подписи и рядом с росчерком Йосты Берлинга прочитала следующее: «Поскольку майорша сделала меня убийцей Эббы Дона, рассказав ей про мое прошлое, я без колебаний ставлю свою подпись».
Майорша медленно свернула договор и положила его в конверт. Потом долго лежала и думала. Как горько было ей узнать, что для тех, кому она помогала и давала работу, она была ведьмой и колдуньей, приспешницей дьявола. Ну что ж, что еще ждать от неверной жены… Вот какую благодарность она заслужила.
Ну, хорошо, темные люди, и представления о мире у них темные. Но кавалеры! Эти нищие кавалеры! Изобретатели и музыканты, воины и философы, которых она приютила, кормила и поила, которым из уважения к их былой мощи и жалости к сегодняшней немощи позволяла жить беззаботной, веселой жизнью! Как они-то могли пойти на такое, отнять у нее Экебю! Мысли ее обгоняли друг друга, она чувствовала, как в ней закипает гнев, а ее пылающий мозг уже предлагал планы отмщения.
Она приказала дочери пастора, которая не отходила от ее постели, послать в Хёгфорс за нотариусом. Я хочу составить завещание, сказала майорша.
Анна-Лиза ушла, ее сменила графиня Элизабет.
Майорша долго молчала. Брови ее были сдвинуты, лицо искажено страданием.
– Госпожа майорша очень больна, – тихо сказала графиня.
– Да. Я никогда в жизни не была так больна.
Вновь наступило молчание. Потом майорша заговорила снова, голос ее был сух и резок:
– Подумать только, а ведь и вы, графиня… вас здесь все любят и на руках носят, а вы ведь тоже изменили мужу.
Элизабет вздрогнула.
– По крайней мере в мыслях, а ведь это одно и то же. Сейчас, когда я на волосок от смерти, я это ясно чувствую. Это одно и то же.
– Я знаю, госпожа майорша. Вы правы – это одно и то же.
– И, однако, вы счастливы! Вы стали женой вашего возлюбленного, не согрешив при этом в глазах людей. Вы можете не скрывать свою любовь, идти рука об руку до конца дней.
– О, майорша, майорша!
– И как же вы можете с ним оставаться? – Голос больной изменился, она почти кричала. Глаза ее горели сухим горячечным блеском. – Покайтесь, покайтесь, пока не поздно! Поезжайте к своим родителям, пока они сами сюда не явились и не прокляли вас! Неужели вы всерьез считаете Йосту Берлинга своим мужем? Бегите от него! Я оставлю ему Экебю, власть, все что угодно – и вы решитесь разделить все это с ним? Решитесь наслаждаться богатством и славой? Я решилась… когда-то. Надеюсь, вы помните, как сложилась моя жизнь. Помните тот рождественский ужин, помните каталажку в судейской усадьбе?
– О, госпожа майорша, о каком счастье вы говорите? Я приложу все усилия, чтобы счастье даже не приближалось к нашему очагу. Мы, грешники, не имеем права наслаждаться счастьем. Неужели вы думаете, я не хочу домой? Если бы вы знали, с какой тоской я думаю о доме, о спокойствии, о родительской поддержке и любви. Но я и на это не имею права. Я обречена жить здесь, я обречена все время бояться… Господи, все, что я делаю, в конце концов оборачивается грехом и скорбью сердечной. Бояться, что, помогая одному, я наношу рану другому. Я слишком слаба и глупа, чтобы выдержать жизнь здесь, но что я могу сделать? Я, связанная вечным искуплением греха?
– Все это слова, графиня. Красивые слова. Не обманывайте себя. Вы просто не хотите его оставить, вот и вся причина.
Графиня не успела слова сказать, и я не уверена, что она нашлась бы, что ответить, но тут в комнату вошел Йоста Берлинг.
– Подойди ко мне, Йоста. – Возбуждение улеглось, голос опять стал резким и неприязненным. – Подойди, подойди, ты, кем не нахвалится весь уезд. Спаситель человечества. Узнай, как прожила это время старая майорша, которую ты обрек нищенствовать на дорогах, презираемой и ненавидимой!
Сначала я расскажу тебе, что было весной, когда я наконец добралась до своей старухи матери.
В марте это было, в марте. В марте пришла я в эльвдальские леса. Можешь себе представить, что за вид у меня был. Туда путь не близкий – нищенка, побирушка. Она в молочном погребе, сказали мне. Я спустилась туда и долго стояла у дверей. По всем стенам на полках стояли медные бидоны с молоком. А моя мать, которой за девяносто, брала один за другим эти бидоны и снимала сливки. Она работала без устали, ловко и споро, но я видела, с какой мукой ей это дается, как ей трудно выпрямиться, чтобы достать с полки очередной бидон. Мне казалось, она меня не видит, но вдруг услышала ее странный, пронзительный голос.
«Значит, так все и случилось, как я тебе пожелала», – сказала она.
Я попросила ее простить меня, но поняла, что зря старалась – старуха была совершенно глуха. Я замолчала и опять услышала ее голос:
– Можешь подойти поближе и помочь.
Я подошла и стала помогать. Снимала бидоны в раз и навсегда заведенном ею порядке, ставила на место, опускала половник ровно на ту глубину, на которую следует опускать, когда снимаешь сливки. Мать никогда и никому, ни одной служанке, не доверяла эту работу, но я с детства помнила, как это делается.
«Справишься», – только и сказала она, и я поняла, что она меня простила.
А из нее словно воздух выпустили. Сидела в своем кресле и спала целыми днями. Две недели назад она умерла. Я вернулась бы раньше, Йоста, но я не могла ее оставить. Не могла…
Майорша остановилась. Ей было заметно трудно дышать. Йоста бросился к ней, но она предостерегающе подняла руку, собралась с силами и продолжила:
– Ты знаешь, Йоста, я хотела, чтобы ты жил здесь, в Экебю, поблизости от меня. У тебя особый дар, в твоем обществе всем весело и хорошо. Если бы ты захотел остепениться, я дала бы тебе большую власть. И я всегда надеялась, что ты найдешь себе хорошую жену. Сначала подумывала я о Марианне Синклер, потому что видела, как она в тебя влюблена, еще с тех пор, когда ты работал лесорубом. Потом Эбба Дона… В один прекрасный день я даже поехала к ней и сказала, что, если она выйдет за тебя замуж, ты получишь в наследство Экебю. Если я что-то сделала не так, прости меня.
Йоста встал на колени рядом с кроватью, прижался лбом к железной раме и застонал, как стонут люди, когда вспоминают что-то очень постыдное.
– И скажи мне, Йоста, как ты собираешься жить? Как ты будешь обеспечивать молодую жену? Скажи мне, скажи. Ты же знаешь, я всегда желала тебе только добра.
И Йоста начал говорить, стараясь улыбаться, хотя сердце его изнывало от жалости и стыда.
– Когда-то, когда я хотел во что бы то ни стало заняться работой, майорша подарила мне хуторок. Он никуда не делся. Я его не продал и не пропил. Он все еще мой. Осенью я привел его в порядок. Лёвенборг помогал мне. Мы побелили потолок, покрасили окна, оклеили стены обоями. Дальнюю комнатку Лёвенборг окрестил «кабинет графини». Он объездил все хутора в округе, искал господскую мебель, которую хозяева по случаю покупали на аукционах, но так ей и не пользовались. Купил кресла с подлокотниками, комоды с бронзовой оковкой и все такое. А в большой комнате поставили ткацкий станок для моей жены и токарный для меня. Купили разную домашнюю утварь. Лёвенборг долгими вечерами сидел и сетовал, как же мы будем жить с графиней в такой глуши. Но, клянусь, майорша, даже молодая моя жена не знала про это. Мы решили признаться ей только тогда, когда нам придется покинуть Экебю.
– Продолжай, Йоста!
– Лёвенборг все время повторял, что без служанки нам не обойтись. «Летом-то здесь, конечно, красота, – повторял он, – но зимой ей будет одиноко. Тебе нужна служанка, Йоста».
И я с ним согласился, хотя не знал, хватит ли у нас на это средств. Тогда он в один прекрасный день явился со своими нотами. Принес и стол с нарисованными клавишами. «Ты что, Лёвенборг, собрался поступить к нам в служанки?» – спросил я его. «А почему бы и нет, – ответил он. – Служанка вам нужна. Не собираешься же ты заставить юную графиню готовить еду и таскать дрова и воду из колодца?» Разумеется, я не собирался заставлять ее впрягаться в домашнее хозяйство, но ведь у меня самого есть пара рук. Но он настаивал на своем – лучше, если нас будет двое, а она пусть сидит и вышивает крестиком. Ты даже не представляешь, сколько заботы нужно такому нежному созданию!
– Продолжай! – сказала майорша. – Мне нравится твой рассказ. Он облегчает мои страдания. Значит, вы с Лёвенборгом решили, что молодая графиня будет в восторге от такого предложения?
Ему не очень понравился ее насмешливый тон, но он сдержался и продолжил:
– Нет, майорша, я так не решил, но если бы она захотела, было бы замечательно. Оттуда пятьдесят километров до ближайшего врача. А у нее такая легкая рука и такое нежное сердце, она могла бы перевязывать раны и облегчать горячку. К тому же я уверен, что люди стали бы приходить к ней за утешением, ее словно сам Бог предназначил быть утешительницей и целительницей ран. И физических, и душевных. А ведь так много горя в мире, так много несчастных, которым нужны слова утешения и надежды!
– А ты, Йоста Берлинг? Сам-то ты что собрался делать?
– Моя работа – верстак и токарный станок. Хочу жить своей жизнью и ни от кого не зависеть. Если моя жена согласится разделить со мной такую участь, так тому и быть. И если мне предложат все богатства мира, они меня не соблазнят. Я понял, что должен жить своей жизнью. Жить бедным среди бедных и помогать им, чем могу. Им нужен кто-то, кто сыграл бы польку на свадьбе или на Рождество, нужен кто-то, кто напишет за них письмо уехавшим детям, и пусть этим кем-то буду я. Богатство мне не грозит, майорша, но это меня ничуть не огорчает.
– Не особенно веселая жизнь, Йоста.
– Почему? Если нас двое и если мы поддерживаем друг друга, веселее жизни и быть не может. И двери наши будут открыты для всех – и для бедных, и для богатых. Уверен, что на хуторе у нас будет весело. И кого это испугает, что еду готовят прямо у них на глазах или что приходится двоим есть из одной тарелки.
– И какую пользу ты видишь в таком существовании? Чью похвалу хочешь заслужить?
– Самой большой похвалой для меня, майорша, будет, если мои бедные соседи будут вспоминать меня хоть пару лет после моей смерти. А насчет пользы… посажу пару яблонь у дома, научу деревенских скрипачей старинным мелодиям, а мальчишек-подпасков – хорошим песням, чтобы не так тоскливо было на лесных пастбищах.
Поверьте, майорша, я тот же самый сумасброд Йоста Берлинг, каким был и, наверное, останусь навсегда. Могу быть спельманом, не более того. Мне надо замолить много грехов, но стенать и рыдать по этому поводу – не для меня. Попробую принести людям радость, это и будет мое искупление.
– Йоста, все, о чем ты говоришь, слишком мелко для человека с твоими дарованиями. Я оставляю тебе Экебю.
– Майорша! – воскликнул Йоста с ужасом. – Умоляю, не делайте меня богатым! Не обременяйте этой обузой. Мое место среди бедняков.
– Я оставляю Экебю тебе и кавалерам. Ты достойный человек, Йоста. Народ тебя благословляет. Я скажу тебе, как мне сказала мать: справишься.
– Майорша, мы не можем принять этот дар. Мы, кавалеры, доставили вам столько горя! Мы не понимали вас, считали за злодейку.
– Я оставляю вам Экебю, – упрямо повторила она, жестко и непримиримо.
Йосте стало страшно.
– Не соблазняйте стариков, майорша! Богатство опять превратит их в лодырей и пьяниц. Богатые кавалеры – боже упаси! Что с нами будет?
– Я оставляю вам Экебю, Йоста. – Она будто и не слышала его возражений. – Но сначала ты должен мне обещать дать свободу твоей жене. Такая хрупкая женщина не для тебя, Йоста, и тем более не для той жизни, которую ты ей предлагаешь. Довольно она уже настрадалась в нашем медвежьем краю. Она тоскует по своей теплой, цветущей родине. Отпусти ее, Йоста. Отпусти, и Экебю твое.
Молодая графиня подошла к постели и преклонила колени:
– Я уже не тоскую по дому, майорша. Мой муж нашел выход. Это именно та жизнь, которая нам нужна. Я счастлива, что мне больше не придется притворяться холодной и строгой и непрерывно зудеть об искуплении и покаянии. Об этом нам напомнит бедность. Дорогой, ведущей к бедным и больным, я могу идти без греха и угрызений совести. И мне уже не страшно здесь, на севере. Но ради всего святого, не делайте его богатым. Тогда мне и вправду придется уехать.
Майорша приподнялась на кровати.
– Значит, все счастье должно достаться вам! – в отчаянии крикнула она и с трудом потрясла в воздухе кулаком. – Все счастье – вам! Нет уж, Экебю достанется кавалерам, пусть получат, что заслужили. И муж с женой пусть погибают! Ведь я же ведьма, колдунья, я вас направила на путь зла и предательства. Ты примешь от меня Экебю, и Экебю погубит тебя. Потому что ты слаб, Йоста. Ты дашь свободу жене и отправишь ее домой, и тогда ничто тебя не спасет. И твое имя после смерти будут проклинать так же, как благодаря вам проклинают мое. Маргарету Сельсинг будут вспоминать как ведьму и прелюбодейку. Тебя будут вспоминать как расточителя и кровососа!
Она бессильно опустилась на подушки и замолчала. И в наступившей тишине послышались тяжелые, торжественные удары кузнечного молота.
– Слушайте! – торжественно сказал Йоста. – Вот так и будут вспоминать Маргарету Сельсинг. Выходки вечно пьяных кавалеров забудутся, а эта музыка будет звучать вечно. Она будет звучать вечно, эта музыка, – победный гимн, неумолчная ода в честь неутомимой труженицы. Вы слышите, майорша, о чем поет молот? Спа-си-бо! – благодарит он. Спасибо за хорошую работу, спасибо за хлеб, что ты давала бедным, спасибо за проложенные дороги, за построенные дома! Спасибо за радость, которая жила в твоем доме! И память о тебе будет жить вечно, и дом твой всегда будет приютом тружеников и подвижников. Спи с миром и не суди строго тех, кто оступился. Тебя ждет царство мира и покоя, так благослови тех, кому еще предстоит этот путь.
Йоста замолчал, но молот продолжал петь. Все похвалы, все восторги, даже преклонение, которые достались в свое время майорше, вновь ожили в этой мощной оде. И постепенно маска гнева и обиды сошла с ее лица, то ли лихорадочный, то ли гневный румянец сменился восковой бледностью. Все поняли, что смерть уже развернула над ней свой плащ.
Вошла дочь пастора – приехал нотариус. Майорша слабо пошевелила пальцами – отпусти его. Никакого завещания не будет.
– О, Йоста Берлинг, Йоста Берлинг, как много тебе дано… – прошептала она. – И ты опять победил. Встань на колени, я хочу благословить тебя…
Она закашлялась и захрипела. Тело ее сотрясалось от страданий, но душа ничего про это не знала. Она уже парила в небесах.
Через час короткая борьба со смертью закончилась. Она вытянулась на постели, и лицо ее стало таким спокойным и прекрасным, что все замерли в глубоком душевном волнении.
– Дорогая наша майорша, – сказал Йоста Берлинг, сдерживая слезы. – Вот это и есть твое лицо. Маргарета Сельсинг вернулась после долгого отсутствия. И никогда больше она не уступит место майорше.
* * *
Кавалеры вернулись из кузницы, и их встретили печальным известием – майорша умерла.
– А молот она успела услышать? – только и спросили они.
– Успела, – коротко ответил Йоста, и они удовлетворенно кивнули.
А когда узнали, что майорша хотела оставить им Экебю, но не успела составить завещание, гордости их не было предела. И никто никогда не слышал от них слов сожаления о не доставшемся им богатстве.
Еще рассказывают, что в этот рождественский день Йоста Берлинг держал свою последнюю речь. Рядом с ним стояла его молодая жена. Им было очень грустно, что кавалерам придется покинуть Экебю. Что их ждет? Одинокая старость и болезни. Где они будут жить? Кавалеру, вынужденному снимать угол на крестьянском хуторе, не позавидуешь. Их ждет постепенное угасание. Прощайте, друзья, прощайте, веселые пиры и развлечения!
И он говорил для них, беззаботных, закаленных невероятными превратностями судьбы и все же сохранивших дух молодости и бескорыстной дружбы. Он называл их греческими богами и рыцарями, сошедшими с пьедесталов, чтобы взрастить радость и веселье в железной стране и в железный век. И сожалел, что даже в райском саду, где порхают бабочки счастья, никуда не деться от гусениц, пожирающих плоды.
Он знал, как никто, как важна радость для детей человеческих. Но он знал и другое – как трудно сочетать веселье и доброту. Нет задачи легче и нет задачи труднее, сказал он. Но твердо верит: прошедший год, год нужды, радости, счастья и разочарований, многому нас научил.
* * *
Ах, дорогие мои господа кавалеры, и у меня тяжело на душе в эту минуту. Грустно подумать – это наша последняя ночь вместе. Я уже не услышу вашего смеха и задорных песен. Настала пора разлуки и с вами, и со всеми веселыми людьми, жившими когда-то на несказанно красивых берегах озера Лёвен.
О, старые мои друзья! Вы одарили меня бесценными дарами. Вы скрасили мое уединение, вы дали мне понять, как переменчива жизнь на этой земле, как отчаяние сменяется радостью и радость отчаянием. Как герои Рагнарёка, последней битвы богов, сражались вы на берегах озера моего детства. Но чем могу я отблагодарить вас?
Может быть, вас порадует, что ваши имена все еще живы в стенах дорогих вам поместий? Еще стоят и Борг, и Бьорне, и Экебю в великолепном окружении порогов, парков и улыбчивых лесных полян, а если выйти на террасу и прислушаться, можно услышать совсем рядом пчелиное жужжание старых легенд и былей.
И если уж речь зашла о пчелах, позвольте мне рассказать вам еще одну старую историю.
Коротышка Рустер, барабанщик, отважно маршировал со своим барабаном в первых рядах шведской армии, когда та в 1813 году вошла в Германию. И после этого всю жизнь не уставал рассказывать удивительные истории про эту загадочную южную страну. Люди там огромные, как колокольни, ласточки величиной с орлов, а пчелы никак не меньше гусей.
– А ульи какие? – спрашивали его.
– Ульи как ульи. Такие же, как у нас.
– А как же они туда возвращаются? Как пролезают в леток?
– Неохотно, – отвечал маленький Рустер с сочувственной миной. – Очень и очень неохотно.
Дорогие мои читатели, как мне удержаться от искушения сказать то же самое? Целый год и еще один день вились над нами огромные пчелы фантазии, но теперь они очень и очень неохотно возвращаются в тесные ульи действительности.
Конец
1
Пробст – старший пастор в определенном географическом регионе, подчиненный епископу. – Здесь и далее примечания переводчика.
2
Соборный капитул – орган, состоящий из представителей духовенства высоких уровней в кафедральном соборе.
3
Финские леса – малодоступные леса на севере Вермланда, назывались так потому, что еще с XVII века там жили в основном бедные финские эмигранты.
4
Заводы – небольшие (самое большее – 10–20 рабочих) предприятия по обогащению чугуна путем снижения содержания углерода; готовый продукт, как правило, стальные прутья, полученные путем ковки или вальцовки. Владельцы заводов назывались патронами.
5
Парафраз цитаты из Второго послания апостола Павла Тимофею: «…если отречемся, и Он отречется от нас» (2 Тим. 2:12).
6
Шилле, или чилле, – старинная карточная игра для трех игроков.
7
Прост – в шведской церкви почетный титул, который епископ присваивает наиболее заслуженным пасторам. Полный титул prost honoris causa (лат.).
8
Иггдрасиль – вселенское дерево в скандинавской мифологии, объединяющее все сферы мироздания. Как правило, его ветви соотносятся с небом, ствол – с земным миром, корни – с преисподней.
9
Локи – по одной из версий в скандинавской мифологии, бог огня.
10
Танкред – пес Йосты, назван в честь одного из рыцарей из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».
11
По обычаю проводилось три оглашения предстоящей свадьбы с интервалом в неделю, на случай возникновения возможных препятствий для брака.
12
Шведская миля – 10 километров.
13
Спельман – деревенский скрипач.
14
Напомним: шведская миля – десять километров.
15
Рюген – остров у северных берегов Германии, недалеко от Ростока. Прообраз сказочного «острова Буяна» в русских сказках. Померанская война – неудачная попытка отвоевать Померанию, которая до Вестфальского мира (1648) принадлежала Швеции.
16
Мумма – искаженное «Mumm», известная французская фирма, производитель шампанского. Так в шутку называли брагу.
17
Иеремия. 25:32.
18
Персонажи шведских сказок и легенд.
19
Мамзель (от фр. мадемуазель) – так в XIX веке называли незамужних женщин недворянского происхождения.
20
«Аксель», «Сага о Фритьофе» – поэмы классика шведской поэзии Эсайаса Тегнера (1772–1846). На стихи из «Саги» написано много романсов.
21
Священный союз заключен в 1815 году по инициативе Александра I между Россией, Австрией и Пруссией после победы над Наполеоном с целью поддержания существующего политического порядка в Европе.
22
Ротная деревня – поселение, обязанное поставлять рекрутов в армию и частично отвечать за их содержание.
23
Блокулла – гора, где собираются ведьмы. В России – Лысая гора, в Германии – Броккен и т. д.
24
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья (Рим. 12:20).
25
Шеппунд – старинная мера веса, около 135 килограммов.
26
Довре – сокращенное название горной гряды, разделяющей Южную и Северную Норвегию (Доврефьелль).
27
В финской мифологии обожествлялись хищные звери и лесные ведьмы.
28
«Черные» (без дымохода) бани использовались и для копчения.
29
Майский шест – врытый в землю высокий столб с перекладиной, на которой укреплены два кольца; символизирует вонзенный в землю фаллос, символ и залог плодородия.
30
Напомним еще раз: шведская миля – десять километров.
31
Король Йоста – имеется в виду король Густав Васа (время правления 1523–1560).
32
Святой Улоф – король Норвегии, первый святой в Скандинавии, поверженный великан символизирует побежденное язычество; святой Кристофер – ангел-покровитель пилигримов и путешественников, цветущий посох символизирует Божье благословение; святой Эрик – шведский святой, живший, по-видимому, в XII веке, символическая фигура шведского королевского дома.
33
Баллада об Акселе, девице Вальберг и их несчастной любви.
34
Черстин – героиня старинной баллады, девушка, не сохранившая верность своему жениху, которого она, правда, считала мертвым.
35
Юной Аделине в шутку предложили съесть сердце убитого жениха.
36
Эгреты, эгретки – перья на головном уборе.
37
Армуазен – род тонкой тафты.
38
1808-й и 1809-й – годы проигранной шведами войны с Россией из-за Финляндии, последней войны в истории Швеции. Эти годы совпали с неурожаем и тяжелыми эпидемиями.
39
Вестйоты – жители соседней провинции Вестерйотланд.
40
Пёльса – традиционное блюдо из провернутых или нарубленных потрохов, лука, ячменя и пряностей.