Книга: Философия культуры
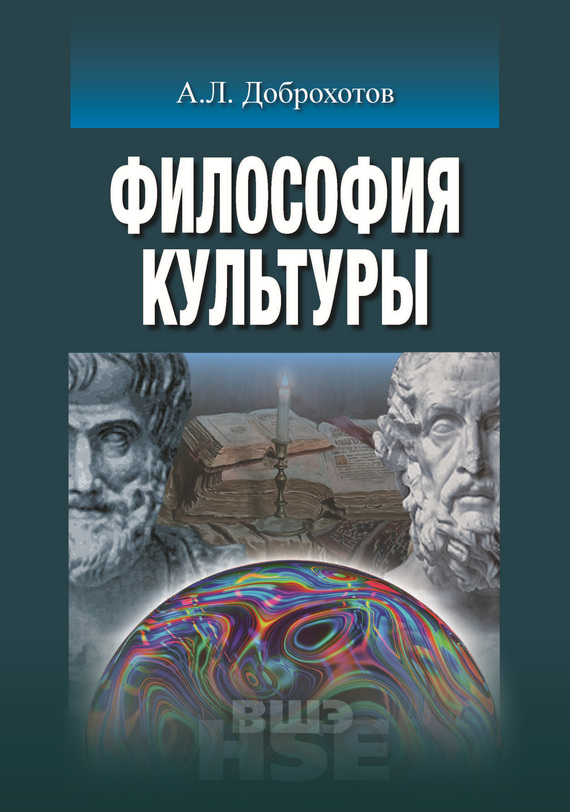
Философия культуры
Рукопись подготовлена в рамках грантового проекта ВШЭ по изданию авторских учебников
Рецензенты:
доктор философских наук, заведующий сектором античной и средневековой философии и науки Института философии РАН
В.В. Петров;
доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета
Г.И. Зверева
«Философия культуры» как дисциплина в системе высшего образования сегодня уже с достаточной определенностью позиционируется среди других гуманитарных и социальных номинаций: в частности, она уже не смешивается с культурологией. Но все же надо отдавать себе отчет в том, что время итоговых учебников по философии культуры, которые можно было бы назвать сводом устоявшихся дисциплинарных знаний, еще не пришло. Это вполне естественно: философия культуры и как гуманитарное знание, и как учебный курс находится в процессе становления. «Философия культуры» – это рубрика, которая появилась сравнительно недавно. Гуманитарная наука стала активно ветвиться на дисциплинарные потоки и «ручейки» во второй половине XX в. Это многообразие, надо сказать, зачастую так же быстро «пересыхает», как и появляется, но «философия культуры» закрепилась. При этом она нередко «перечитывает» со своей точки зрения то, что уже попало в другие рубрики: в социологию, психологию, языкознание, антропологию и т. д. Поэтому белых пятен на этой территории более чем достаточно. Нет устоявшейся терминологии, нет привычных навыков размежевания с близкими дисциплинами, умения отделить академическое исследование от идеологической манифестации, нет системных и достаточно полных историй культурфилософских учений. (Зато читателям этого учебника – будущим молодым ученым – есть чем заняться в перспективе.)
Ниже будет представлена долгая и богатая история развития культурфилософских идей, но – при всем том – у философии культуры практически нет фундамента общепризнанных аксиом, методов и достижений (в той мере, в какой ими располагают, скажем, социолог или лингвист). Спорно даже то, что мы вправе надеяться на появление такого фундамента в будущем. Тем не менее многообразие дидактических подходов, учебников и пособий – одно из условий хотя бы относительного успеха в этом направлении. Учебники по философии культуры нужны в самых разнообразных версиях, чтобы в процессе проб и ошибок выявлять удачные решения. Но принцип поливариантности имеет еще один важный аспект, который надо подчеркнуть с самого начала: гуманитарные науки – это многообразие точек зрения. Именно в этом их сила, и в таком качестве надо эти науки изучать. Унификация гуманитарного знания делает его бесплодным, поливариантность – напротив – позволяет осваивать неоднозначную реальность человеческого мира. Так, хорошо организованная сеть множества дорог позволяет лучше освоить городское пространство, чем одна магистраль (хотя магистраль, безусловно, лучше, чем бездорожье). Данный учебник также нужно рассматривать как авторскую версию одного из возможных подходов к теме. От него не нужно ждать директивности, но можно ждать инструктивности. Принимая или не принимая его положения, читатель все же проходит путь обучения.
От философии культуры, как и от всякой теории, не следует требовать «пользы», но можно, тем не менее, ожидать подсказок в решении насущных задач. Сегодня крайне востребованным оказалось умение сформулировать универсальные ценности и различить простейшие функции культуры. Например, недавно возобновился спор о соотношении науки и религии (казалось бы, давно завершенный). Заговорили о «столкновении цивилизаций», о «мультикультурализме». Знать в ходе этих споров кое-какие накопленные опытом философии ответы было бы неплохо. Польза философии культуры возможна и там, где современные конфликты в явной или скрытой форме содержат установки, идеи и мифы, которые поддаются анализу. Впрочем, самая общая польза в том же, в чем польза изучения иностранных языков. Среда непонятных «шумов» превращается в среду коммуникации. Мы начинаем понимать, что происходит вокруг, по каким правилам идет «игра», и нами уже трудно манипулировать. Философия культуры неплохо учит разоблачать те формы культуры, которые выдают искусственное за естественное, а естественное – за этическое, моральное, а значит, она учит не обманываться речами различных проповедников вражды или ложной солидарности. Вот еще, может быть, самый простой пример «пользы»: сейчас важные процессы происходят в массовой культуре, которая не только высвечивает, выговаривает какие-то не замеченные нами тайны современного мира, но и в своих «низких» модусах вырабатывает и апробирует ценности будущей высокой культуры. Способы расшифровки этих сообщений подсказывает нам идейный ресурс, накопленный философией культуры.
Предлагаемый учебник до некоторой степени экспериментален и принадлежит к типу учебника-исследования. Автор счел возможным использовать разнообразный спектр жанров: история идей; «догматичная» теоретическая часть с единой идейной схемой и анализом истории культурных эпох; эссе, посвященные тем или иным конкретным «казусам»; дидактические материалы. Этим должна быть показана многоаспектность философии культуры как гуманитарной дисциплины.
Одним из принципиальных решений учебника является доминанта истории культурфилософских идей. Автор твердо уверен в том, что основой обучения должен стать исторически сложившийся корпус ведущих концепций философии культуры, которому будет подчинен современный категориальный аппарат соответствующей дисциплины. С этой точки зрения сегодняшняя артикуляция и тематизация философии культуры как дисциплины должна играть роль систематического введения, не предопределяющего идейные предпочтения учащегося. Признавая дискуссионность такого решения, автор все же считает его хорошо обоснованным и позволяющим избежать догматизма. Учебник стремится представить философию культуры как единый вектор мысли с весьма неслучайным сюжетом развития и поэтому должен читаться как текст, связанный в целое не авторским усилием, а историей предмета. Студент, который пройдет путями культурфилософской мысли, получит возможность сопереживать ее ключевые события. В этом случае учебник будет школой гуманитарной мысли.
Приоритет некоторых тем (концепций зрелого Просвещения и немецкой классической философии), который очевиден в исторической части учебника, может быть оспорен, но надо признать, что с точки зрения дидактического эффекта именно этот материал позволяет вооружить студента системой понятий и методов, сохраняющих валентность во все периоды развития философии культуры. По этой же причине в учебник включены некоторые сквозные культурно-исторические фабулы. Так, особое внимание обращается на «волновой» характер историко-культурных процессов, анализ которых подкреплен историческим материалом и компаративным анализом культурных эпох. Движение по культурному циклу хорошо выявляет телеологию культуры: по авторской версии – объяснительную матрицу культурных процессов. В учебнике рассмотрены основные типы трансляции культуры как внутри целостного типа, так и при взаимодействии между гетероморфными культурами. Особое внимание уделяется тем случаям трансляции, когда внутренняя преемственность культуры заканчивается и она должна уступить место другой культуре. В этом случае речь идет уже не столько о традиции, сколько о консервации и адекватной «зашифровке» культуры: именно эти механизмы часто игнорируют авторы культурологических учебников. Одна из главных задач философии культуры, как полагает автор, состоит в построении функционально-значимой теории динамики культурных форм: без них малоэффективны традиционные герменевтические и каузальные объяснения механизмов культуры. Поэтому учебник специально обращает внимание на достижения культуральных исследований XIX–XX вв., выводящих на построения когерентной теории динамики культурных морфем. Селективность указанных тем во многом связана с их дидактической задачей: с тем, чтобы избранный демонстративный материал позволял студенту двигаться дальше самостоятельно.
Теоретические разработки учебника основаны на том, что, с точки зрения автора, предмет философии культуры есть смыслообразующая деятельность, объективированная в артефактах. Причем существенной для учебника является спецификация философии культуры как связи императивов духовной культуры и природной среды через создание символической среды как медиума. Для автора принципиально то, что «композит» состоит именно из этих элементов.
Еще одно решение, дискуссионность которого автор готов признать, – создание системы «факультативов», параллельной основному тексту. «Факультативы» не являются чисто дидактическим материалом, но они демонстрируют основные подходы философии культуры к своей предметности. Это должно позволить студенту, освоившему концептуальный материал, увидеть, как можно его приложить к конкретной историко-культурной реальности. Полезны будут и «факультативы», дающие очерк методики отечественных культурологов и философов, давно уже получивших признание международного научного сообщества. Пусть не удивляют читателя в этих эссе некоторые реминисценции, «цитаты» из основной, теоретической части (а порой и «переклички» самих факультативов). Они намеренно использованы автором, с тем чтобы «новое» знание периодически находило опору в уже знакомом, закрепляя и расширяя его и одновременно выстраивая некий каркас взаимосвязей, на котором держится единое целое книги.
Учебник рассчитан на студентов и аспирантов гуманитарных вузов, поэтому автор избегает в нем искусственного упрощения проблематики. Но при условии помощи педагога-руководителя или использования справочной литературы он может быть применен и в других вузах, а также в старших классах средней школы.
Возникновение и развитие философии культуры
Предыстория
Теория культуры появляется в европейской науке лишь в XVIII в. Еще позже формируется культурология как самостоятельная дисциплина: это происходит в XX в. Но, несмотря на относительную молодость культурологической мысли, можно говорить о ее достаточно содержательной предыстории. В мышлении древних цивилизаций тема культуры присутствует в «связанном» виде: она включена в религиозный культ, в мифологию, в исторические и географические описания, в практику образования и т. п. Культура не становится предметом исследования хотя бы потому, что не существует как отдельно воспринимаемый объект. К такому восприятию привела лишь долгая история культурных кризисов, научившая видеть в культуре не естественную среду социальной жизни, а продукт творческих усилий, имеющий ограниченную временем и обстоятельствами ценность. Попробуем взглянуть на эти косвенные формы понимания культуры[1].
Древние мифы (и их фольклорные родственники – сказки), как правило, затрагивают два сюжета, имеющие отношение к нашей теме. Это: а) рассказ о творении мира и б) приключения дерзкого изобретателя разных хитростей и приспособлений (названного в научном мифоведении культурным героем). Древняя космогония разных народов дает множество вариантов просхождения мира, среди которых можно найти и весьма причудливые, но нам особенно интересен мотив творческого усилия, которое может осуществляться богом (богами), человеком или даже животным. Этот извод космогонии отличается от версий, по которым мир рождается биологической силой (как дитя божественной пары родителей, или как птенец из яйца, или как часть разъятого тела прародителя и т. п.). В тех мифах, где мир порождается целенаправленным усилием бога-творца (как, например, в египетской и вавилонской мифологии, в индуизме, в иудаизме), уже присутствует в скрытой форме тема культуры: творец придает хаотическому материалу форму и смысл, зачастую опосредуя свою волю такими инструментами, как слово и число, устраивает мир как сложноорганизованную систему с уровнями разного достоинства и предназначения (таковы, например, древние модели мира как «мирового древа», «мировой горы» или античный образ «космоса»). В мифоведении такой тип творца называют демиургом[2], и действительно, перед нами – образ мастера, который творит мир как добротную вещь или как произведение искусства.
Во многих мифах наследниками творения оказываются люди. Человек может бережно хранить порядок, установленный богами, но может и вносить в него нечто новое. Такой ролью в мифах обычно наделяется «культурный герой». Он устанавливает правила общественной жизни, мастерит или добывает (порой хитрыми уловками) инструменты, огонь, полезные злаки, изобретает приемы ремесла, охоты, искусства. Иногда он даже помогает богам в благоустройстве природного мира. Любопытно, что чаще всего древние мифы изображают культурного героя как пройдоху и жулика, который похищает то, что ему не принадлежит (ученые назвали такой мифологический тип «трикстером»). Видимо, седая древность приписывала творческие силы только богам и побаивалась наделять ими недостойный человеческий род. Культурному герою несвойственна роль племенного вождя, который защищает установленный порядок, или жреца (жречество в большей степени хранит дары богов, чем изобретает новое). Он скорее оживляет и разнообразит мир своими проделками и уловками. При этом отнюдь не все его выдумки служат людям на благо, часто это плоды его озорства или дерзости (в таких случаях в мифе нередко появляются отрицательные двойники культурного героя, как бы пародирующие его полезные дела). Лишь со временем культурный герой уподобляется богам и становится изобретателем (как Гермес), мастером (как Гефест) или героем (как Прометей). Важная роль культурного героя – борьба с темными хаотическими силами, будь то природная стихия, чудовище или злодей. Стоит заметить, что культурный герой может быть прямым потомком богов, их родственником или сотрудником, но он остается человеком при всех своих подвигах и даже волшебных способностях. Лишь сравнительно поздний слой мифов говорит об обожествлении героя, его принятии в сообщество богов. Мы видим, что древняя мысль уже включает в свою картину мира акты сознательного творчества, акцентирует внимание на переходе от хаоса к порядку, на необходимости героических усилий для поддержания такого порядка и осознает неоднозначную роль в мировом устройстве человека, способного стать и на сторону хаоса, и на сторону порядка.
Вместе с появлением в лоне древнего Средиземноморья греческой полисной демократии – общества радикально нового типа – возникает и новый образ культуры. Дело в том, что, в отличие от других древних цивилизаций, где хранителями культурных ценностей было сословие жрецов, античная (греко-римская) цивилизация, основанная на принципе гражданской свободы, утверждает свою культуру как общинную собственность и ценность, за которую отвечают все граждане. Естественно, в этих условиях появляется необходимость в массовом образовании, вырастает роль культуры как пространства коммуникации, ощущается и потребность в рациональном осознании (в рефлексии) законов культуры. Само понятие культуры формируется в довольно узкой предметной области: стремление обобщить культурные явления возникает только в связи с образованием. Этому служат греческое понятие «пайдейя» и латинское «гуманитас», общий смысл которых – воспитание и образование, делающие из природного человека достойного гражданина. Однако смысловая нагрузка этих понятий приблизилась к современному понятию «культура»: словом «пайдейя» обозначали весь тот комплекс ценностей и традиций, который делал человека (независимо от его этнического и социального происхождения) сознательным носителем эллинской культуры. Было в ходу также понятие «мусейа», которое обозначало область духовных достижений образованного человека, его причастность к музам и их дарам. Но потребности в обобщенном описании этой области мы не встречаем.
И все же можно говорить если не о теории культуры, то о своего рода «чувстве культуры», которое было весьма развитым в античности. Эпические поэмы Гомера и Гесиода – «священное писание» Античности – проникнуты благоговейным восхищением способностью богов и людей превратить хаос в благоустроенный и прекрасный космос. Воспевание труда, изобретательности, любовное описание строений, оружия и утвари, гордость эллинским мастерством и разумом – все это говорит о том, что универсум идеальных и материальных артефактов воспринимается греками как целостная и прекрасная система. По образу Паламеда – персонажа мифов и эпоса – мы видим, каким почтением окружен этот изобретатель алфавита, цифр, монет, календаря, мер веса и длины, игры в кости и шашки. По образу Одиссея – главного гомеровского культурного героя (и соперника Паламеда) – мы можем судить о том, как рядом с прославлением воинских подвигов появляется восхищение изворотливым, гибким разумом и способностью сохранять с его помощью человеческое достоинство в самых невероятных ситуациях. У Гесиода можно увидеть своего рода динамику культуры. В поэме «Теогония» дана генеалогия богов, изображающая поэтапный переход эволюционного типа от хаоса к космосу, которым разумно правят олимпийцы. В эпической поэме Гесиода «Труды и дни» мы встречаем описание культурных эпох, связанных с пятью последовательными поколениями людей, сотворенных богами. Гесиод изображает нелинейный процесс: золотое, серебряное и медное поколения сменяются в направлении вырождения; четвертое – героическое – поколение лучше прежних, но губит себя войной, пятое – железное – несет с собой окончательную и безраздельную власть бесправия и злодейства. Заметим, что, с одной стороны, судьба каждого поколения предопределена материалом, из которого его создает Зевс, но с другой – эпоха формируется способом труда, совестью и справедливостью; люди сами творят свой мир.
С гесиодовским драматизмом переживает человеческий дар творчества и Софокл («Антигона», 332–375; пер. Д.С. Мережковского). Софокл изумляется тому, что «сильнее человека нет в природе ничего», но уверен, что он «если нет в нем правды вечной, на погибель обречен». Заметим, что, воспевая разумность человека, Софокл употребляет слова «механе» (хитрость, уловка, приспособление) и «техне» (умение, искусство, ремесло) – слова, в которых звучит предвестие будущего триумфа европейской техники. Современность унаследовала созидательный пафос античности, но предостережения Софокла как-то забылись. Для античного же сознания, особенно греческого, в завоеваниях культуры всегда было что-то сомнительное и рискованное. Недаром Прометей, безусловный герой для Нового времени, для Античности (для Гесиода, Эсхила) – все же соперник олимпийцев (титан), дерзкий нарушитель мирового порядка, заслуживающий возмездия.
Осознавая «дерзость» культуры, древние признают и ее необходимость людям в той мере, в какой они отделены от мира животных. Оба этих мотива – восхищение созидательными способностями человека и опасение утратить связь с природой – постоянно сопровождают античную мысль. Интересом к пестрому быту, нравам и культуре разных народов пронизаны рассказы (логосы) первых греческих историков: логографов и Геродота. Поздние историки более критичны и разборчивы в выборе предмета своих рассказов, но у них зато появляется ощущение культурной значимости истории. Так, Фукидид воспроизводит речь Перикла (II, 34–46), в которой дано то, что мы бы сейчас назвали характеристикой культурного типа Афинского государства. Греки были склонны понимать историческое время как циклический, повторяющийся процесс, но именно поэтому Фукидид видит смысл в труде историка, который извлекает из событий их поучительный и воспитательный смысл (своего рода культурный опыт). У Ксенофонта мы встречаем попытку понять и оценить чужую культуру как образец: его «Киропедия» (или «О воспитании Кира») – своеобразный дидактический роман, где персидская культура изображена в утопических тонах. Позднее римский историк Тацит в труде «Германия» также не только даст этнографический очерк быта и нравов германцев, но и оценит их образ жизни как естественное царство свободы и морали, контрастирующее с римским обществом, развращенным и изнеженным культурой и богатством.
Первым отчетливо выраженным актом рефлексии о культуре были учения ранних греческих софистов, которые противопоставили мир человеческих творений и отношений миру природы. Ключевое для софистики различение свободно установленного закона (nomos) и природной необходимости (physis) впервые допустило несоизмеримость космоса и человека. Этим была не только намечена будущая граница гуманитарного и естественно-научного знания, но и указана специфика культуры как особого типа реальности.
Ко времени духовного расцвета Афин на рубеже V–IV вв. до н. э. сложился устойчивый дискурс о культуре, который можно назвать типичным для античной ментальности. Последовательность полезных изобретений и открытий во времени становится одной из форм осмысления культуры. У Демокрита эта тема становится картиной культурной эволюции (Лурье, 558).
Такую же картину, но с более настойчивыми сетованиями по поводу утраченной гармонии с природой, нарисует в I в. до н. э. римский последователь Эпикура Тит Лукреций Кар («О природе вещей», ст. 1448–1455; пер. Ф. Петровского).
Новый поворот темы мы встречаем у Платона. В диалоге «Протагор» заглавный персонаж рассказывает миф о даре Прометея, в котором культура предстает более дифференцированным пространством, чем в традиционных рассказах о прогрессе. Корнем культуры оказывается ошибка Эпиметея, который, распределяя способности между смертными существами, забыл про людей и оставил их беззащитными. Исправляя ошибку брата, Прометей крадет искусство Гефеста и Афины вместе с огнем (321 с-е; пер. В.С. Соловьева). Поскольку человечество осталось без социальности, культура науки (Афины) и техники (Гефеста) оказалась беспомощной. Тогда Зевс посылает Гермеса ввести среди людей стыд и правду так, чтобы все были к ним причастны (322 c-d). Таким образом, культура внутри себя разделена на сферы «техники» и «ценностей», говоря современным языком, и эти сферы не следуют друг из друга с естественной необходимостью. Платон указывает на источник возможных конфликтов внутри культуры и предостерегает от однозначного понимания прогресса.
Поздняя Античность парадоксально сочетает расцвет специализации и детализации культуры с относительно слабым интересом к теоретическим изысканиям в сфере самосознания культуры. Эллинистическая культура, с ее релятивизмом, субъективизмом, энциклопедизмом, тягой к организации академических сообществ и в то же время к сближению с миром повседневности, музейным отношением к наследию, интересом к традиции, опытом массовой культиндустрии, диффузией и диалогом с инокультурными мирами, должна была бы заняться рефлексией. Но вместо этого мы встречаемся с повторением классических схем. В целом культурология не нашла почвы в Античности из-за фундаментальной установки на толкование природы как единственной и всеохватывающей реальности: субъективный аспект культурного творчества рассматривался как то, что надо подчинить объективно верному «подражанию» (мимесису) природным образцам (как бы при этом ни понималась природа). Античность, как уже отмечалось, знала понятия, близкие к нашей «культуре»: таковы греческая «пайдейя», «мусейя» и римская «гуманитас». Но эти понятия, по сути дела, означали совокупность общепринятых ценностей, передаваемых образованием. Достаточно было общего учения о природе и бытии, чтобы понять их смысл. К тому же древние не видели здесь специфического предмета науки: «мусическое» отличает свободного и образованного грека от варвара, но само оно не наука, и в нем нет особых законов его собственного бытия.
Средние века практически не меняют эту установку. Дело в том, что система средневекового образования в целом была заимствована из Античности. Духовный аспект культуры оказался почти без остатка инкорпорирован религиозным культом. Религиозное же отношение средневековых теистических конфессий (христианства, ислама, иудаизма) к культуре было парадоксальным соединением утилитарного приятия и субстанциального размежевания. Культура стала чем-то «внешним», чьи соблазн и опасность никогда не забывались. К XIII в. формируются сложные символические системы (то, что сейчас иногда называют «тексты»), в которых мы находим латентные представления о культуре как целостности: готическая архитектура, университет, монастырь как система, сообщество алхимиков, мир паломничества, новые монашеские ордены, тексты и легенды артуровского цикла, куртуазная литература, «Комедия» Данте и др. Эти «тексты» могут быть прочитаны как образ многоуровневого, сложного мира перекликающихся символов: так виделась культура зрелому Средневековью, но – будучи видимой и понимаемой – она не проговаривалась как «теория».
Культурологический дискурс появляется на закате арабо-мусульманского Средневековья, в XIV в. Во «Введении» («Мукаддима») к своей «Большой истории» Ибн Хальдун (1332–1406) провозглашает необходимость новой науки об обществе, которая раскрыла бы законы его существования и развития. Две главные закономерности, с его точки зрения, – это «способ добывания жизненных средств» (т. е. хозяйство в широком смысле слова) и природная среда. Ибн Хальдун решительно отверг мусульманских перипатетиков с их платоно-аристотелевским учением об обществе и утопическую традицию (выдающимся образцом которой, между прочим, была «Повесть о Хайе ибн Якзане» мыслителя XII в. Ибн Туфайля, где конструировалась духовная робинзонада человека, попавшего на необитаемый остров и создавшего своего рода виртуальную культуру «из ничего»). Ибн Хальдун предложил создать эмпирическую науку, своего рода комплекс из политэкономии и социологии, которая объясняла бы историю, культуру, обычаи того или иного народа[3].
Как ни странно, в эпоху Возрождения время культурологии также не пришло. Казалось бы, в это время культура выделилась из культа и достигла высокой степени автономии. Возродился античный антропоцентризм. Практически утвердило себя представление о культурном плюрализме. Тем не менее теория культуры по-прежнему остается невозможной и неуместной. Может быть, это связано с тем, что появился такой самодостаточный предмет для размышлений, как «природа»: в однородном измерении природы можно было разместить весь универсум явлений, так же как размещался он греками в измерении «разума». Культура и в этом случае лишь имитирует природу, и значит, изучать надо не копию, а оригинал.
Не стал веком рождения культурологии и XVII в. с его превознесением универсального разума, по отношению к которому мир культурных реалий был лишь случайным разнообразием, легко редуцируемым к первичным рациональным (собственно, математическим и естественно-научным) моделям. Но той латентной теорией культуры, о которой пока идет речь, век достаточно богат. В каком-то смысле XVII в. сделал шаг назад в интересующем нас процессе вызревания культурологии: новорожденная парадигма экспериментально-математического естествознания одним из своих устоев имела идеал разума как «чистой доски», на которой можно писать, руководствуясь врожденными свойствами самого разума и опытом. Традиция и символическая среда культуры представлялись в этом случае источником заблуждений, предрассудков и социальной манипуляции. «Очищение разума» предполагало и очищение от груза культурного наследия. Но вместе с тем – самосознание эпохи, уверенной в том, что она созидает новый мир по законам разума, требовало, чтобы построение культуры шло со знанием дела: методично и рационально. Поэтому знание механизмов функционирования культуры было весьма востребовано. Показательна в этом отношении философия Ф. Бэкона (1561–1626), мыслителя, весьма близкого к живой еще гуманистической традиции, и в то же время основателя ново-европейского эмпиризма. По его плану «великого восстановления наук», в частности по детально продуманной классификации наук, видно, что мыслитель конструирует новый тип цивилизации, основанной на союзе науки, техники и промышленности и жестко управляемой интеллектуальной элитой. Это один из первых макетов технократической культуры, который в известной мере был реализован историей западного общества. Культурологический характер имеет и знаменитое учение Бэкона об «идолах» (idola), направленное на очищение наших знаний от заблуждений. По Бэкону, существует четыре вредоносных идола:
1. Врожденные «идолы рода» (tribus) – в основном это наши органы чувств с их субъективностью и неправильное употребление их «данных».
2. «Идолы пещеры» (specus) – это особенности нашего психофизического склада и груз непродуманного опыта.
3. «Идолы рынка, или площади» (fori) – это фикции, порожденные коммуникацией, особенно словами.
4. «Идолы театра» (theatri) – иллюзии, порожденные слепым доверием к авторитетам.
Мы можем убедиться, как легко прочитывается этот концепт с точки зрения анализа культурных форм. Если идолы-1 порождены природой человека, то остальные суть культурные оболочки человеческого мира: идолы-2 – это культура повседневности и душевных реакций, идолы-3 – семиотика социальной культуры, идолы-4 – аксиология, идеология и медийная культура. Применение метода Бэкона можно расширить до аналитики всего универсума культуры. Так вскоре и произошло: уже в XVIII в. критика познания переросла (и превратилась в устойчивый мотив) в британской традиции в критику догм и фикций культуры.
Показателен и так называемый Спор о древних и новых, разгоревшийся в конце XVII в. во Франции и в разных формах проявлявшийся в первые десятилетия XVIII в. Возможно, именно с этой дискуссии можно начинать отсчет возраста культурологии. Формально спор шел о сравнительных достоинствах древней и новой литературы, но по сути дело было в размежевании складывающейся культуры модернитета и предшествующей традиции. Основные партии, именуемые по той эпохе, которую они защищали, кристаллизовались после того, как в 1687 г. на заседании Французской академии Шарль Перро (1628–1703) продекламировал свою поэму «Век Людовика Великого». В ней он утверждал, что прогресс искусства, науки и техники под мудрым попечением королевской власти демонстрирует превосходство современности над древностью. Перро продолжил развитие своей позиции в серии диалогов «Параллели между древними и новыми авторами» (1688–1697). Разгорелась интенсивная дискуссия; в ней участвовали лучшие умы Франции, творцы и организаторы ее культурных триумфов. К партии «новых» присоединились брат Шарля – Клод Перро, Фонтенель (1657–1757) и Удар де Ла Мот (1672–1731). Партию «древних» возглавил Буало (1636–1711); так или иначе его поддержали Расин (1639–1699), Лафонтен (1621–1695), позже Лабрюйер (1645–1696) и Фенелон (1651–1715). Партия «древних» выступила с программой опоры на Античность как вечный ресурс моральных и эстетических образцов. Партия «новых» в противовес культу Античности выдвинула задачу воплощения духа современности.
«Древние» видят в культуре абсолютные истины, некое идеальное первоначало, которое пытаются пережить и выразить творцы, опираясь на выработанные каноны и сознавая при этом невозможность прямого овладения истиной. Отсюда и присущий им культ формы; с этим связаны и такие социальные ценности «древних», как ответственность элиты, моральная независимость, гражданский долг, критицизм. «Древние» не принимают готовности «новых» оправдать положение дел «духом времени» и задачами текущего момента. Если «новые» склонны были считать мир идей относительным, исторически обусловленным продуктом своего времени, который служит определенным интересам (т. е. трансформировать идеи в идеологию), то для «древних» идеи были скорее платоновским вечным бытием, задающим времени норму. За это различение идеально-нормативного и жизненно-эмпирического они и боролись с оппонентами. Можно сказать, что «новые», объясняя культуру, чертят историческую горизонталь, а «древние» – смысловую, ценностную вертикаль. Во всяком случае, мы можем зафиксировать родившееся в этом споре новое понимание культуры как универсума смыслов, которые проявляются во всех формах человеческой деятельности и объединены сквозной взаимосвязью.
Античность в самосознании новоевропейской культуры
Охарактеризуем, хотя бы тезисно, основные вехи осознания «античного» в составе новоевропейской культуры.
I. Первым рубежом можно считать появление стилевой программы классицизма. Хронологическую область формирования классицизма обозначим как тридцатилетие (1607–1637), в котором были рождены программные шедевры стиля: «Орфей» Монтеверди (1607) – «Смерть Германика» Пуссена (1627) – «Сид» Корнеля (1637). Помещение в этот ряд первой европейской оперы может вызвать недоумение, но если стилевая атрибуция здесь не вполне убедительна, то «античный проект» очевиден: рождение оперы завершило на свой лад усилия Флорентийской камераты по реконструкции античной драмы.
Весьма непростой задачей является оценка предыдущего XVI в. – периода между зрелым гуманизмом и классицизмом. Вряд ли можно усомниться в том, что здесь мы можем найти своеобразную рецепцию античности. Маньеризм и раннее барокко активно используют топику античной литературы и мифологии, палладианство переосмысляет ордерную систему, антиаристотелевская наука ищет союзников в досократике… Но, в отличие от классицизма, это брожение не порождает цельного образа античности и не выходит за рамки переходного типа культуры.
Сама проблема трансформации античной классики в парадигму классицизма породила множество непроясненных вопросов[4]. Однако интересующий нас аспект достаточно очевиден: классицизм обращается к античности как к мироформирующей модели, а не как к арсеналу образов и мотивов.
II. Второй рубеж – это 1688 г.: публикация трактата Шарля Перро «Параллели…», с которого начинается «Спор о древних и новых». Этот спор в нашей научной литературе не получил пока достойного отражения[5], а между тем он является корневым событием в истории новоевропейской рецепции Античности: по сути, здесь были выдвинуты две оппонирующие версии гуманизма Нового времени. Партия «древних» (Расин, Буало, Лафонтен, Лабрюйер, Фенелон), как уже говорилось выше, видела вечный ресурс моральных и эстетических образцов в Античности. Парадоксальным образом Античность здесь вступила в союз с янсенизмом, который воодушевлял многих сторонников партии «древних». Дело в том, что творчество как отбор лучшего во имя идеала – так можно было бы выразить девиз этого направления – предполагало моральную автономию, духовный аристократизм и личную преданность идеалу, что перекликалось с этической транскрипцией христианства в янсенизме. Партия «новых» (Перро, Фонтенель, Ла Мот, отчасти Бейль) противопоставила культу античности императив воплощения духа современности. С этим сопрягались предпочтение пользы идеалу, идея прогресса, антимифологизм и ориентация на ценности естественных наук, борьба с реликтами язычества в благочестии, преклонение перед «народностью», несколько сервильное уважение духа государственности. Вполне последовательно «новые» тяготели к таким чуждым античной эстетике установкам, как стирание грани между поэзией и прозой, отрицание канона и воспевание художественного инстинкта, форсированное развитие жанров публицистики и романа, интерес к фольклору (в частности, к сказке), синтез научного и художественного, предпочтение живописи – скульптуре, оперы – драме, благосклонность к прециозной поэтике. Именно в контексте этого спора рождается тема «вкуса» (т. е. способности к субъективной, но общезначимой оценке эстетического феномена), определившая развитие эстетики XVIII в. Программа «новых» оказалась доминантной, «древних» – рецессивной. Это в значительной мере обусловило функциональную роль обращения к античности в культуре модернитета.
III. Следующую ступень можно йотировать 1755 г., выходом в свет труда Винкельмана «Мысли о подражании…». Здесь и – особенно – в «Истории искусства древности» (1764) Винкельману удалось перенастроить всю эстетическую оптику Европы на откровение эйдоса в человеческом теле, увиденное сквозь призму «благородной простоты». Удачной параллелью (впрочем, иногда и контрапунктом) этой теоретической реновации античного духа стал синхронный расцвет этнографии и археологии, позволивший – шаг за шагом – приблизиться к исторической плоти Греции и Рима. Показательно в этом отношении воздействие раскопок в Геркулануме (с 1738) и Помпеях (с 1748) на стилевые поиски века.
IV. Еще одна веха – рождение новой исторической науки, ориентированной на критику источников и исследование национальной истории. Движение от беллетризованного, назидательного нарратива к каузальному моделированию эпохи, от истории героев к истории народов и институтов не в последнюю очередь было связано с ретрактацией опыта античных историков. Чрезвычайно репрезентативен в этом отношении труд Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788). Рим – образцовое воплощение политической свободы и гражданской добродетели – становится парадигмой для объяснения всех других «казусов» национальной истории. Классическое, понятое как типическое, позволяет строить объясняющие и прогнозирующие модели. Особо подчеркнутая Гиббоном концепция вирулентности христианства для античной культуры попадает в резонанс с секулярными устремлениями эпохи. Тема усталости культуры и грозящего варварства также оказалась востребованной ново-европейским историческим сознанием.
Любопытно, что исторический роман, в отличие от исторической науки, остался в целом равнодушным к античности вплоть до времен Флобера. Тем самым в споре «древних и новых» он берет сторону «новых», или же новорожденного консерватизма. Ретроспективный взгляд этого жанра был направлен на национальную историю и Средневековье.
V. Наконец, политический уровень. Политическая литература Просвещения, а затем и сама Великая французская революция создают свой миф об античной свободе. Эвокация античной гражданственности требовала не только возрождения и воплощения определенных идей, но и всей культурной семиотики античной свободы. Этот опыт, в свою очередь, стал арсеналом для политической семиотики XIX–XX вв. Ближайший пример – рождение ампира с его колоссальным и разнообразным семиотическим потенциалом[6]. Более поздний пример – Греческая война за независимость (1821–1829) и порожденное ею филэллинство, которое вызвало не только волну политических симпатий к Греции, но и волну культурной рефлексии.
VI. Следующая остановка – Веймар. Несмотря на тесную связь с идеями Винкельмана и Лессинга, «веймарский классицизм» Гёте и Шиллера следует признать особой стадией интересующего нас процесса. Если ранее (начиная с войны «древних и новых», обозначившей, хотя и не артикулировавшей, столкновение принципов «рационального» и «витального») роль античного наследия определялась его апологией Разума и Меры, то Гёте и «гётеанство» понимают античность как уникальный синтез стихийножизненного и нормативно-разумного начал[7]. Стоит заметить, что классицизм Гёте подкреплен и исторически подпитан синхронностью с тем моментом развития Нового времени, который можно назвать классическим в смысле «акме»: 1760-1830-е годы позволительно йотировать как момент предельного выражения энтелехии[8] Нового времени.
«Веймарский» образ античности транслируется далее в духовные миры Гегеля, Шеллинга, Шлейермахера и йенских романтиков, которые, при всем бесспорном различии, близки в своем переживании абсолюта, косвенно («диалектически» и «иронически») присутствующего в мире, благодаря эстетической форме, этическому идеалу и историческому процессу. Последнее – т. е. историческая инкарнация абсолюта – наименее античная составляющая в этом комплексе. Но нельзя забывать, что историцизм этой идейной ветви немецкой мысли отличается и от просветительской версии Гердера, и от политического позитивизма Маркса. Темпоральность абсолюта в спекулятивной философии – в близком родстве с платоническим «подвижным образом вечности»: именно это позволило немецкому трансцендентальному идеализму в полном соответствии с заветами Гёте избежать коллизии жизни и разума. Весьма показательно то, что реабилитация забытых досократиков не удалась позднему гуманизму, но более или менее удалась новой версии натурфилософии, оформившейся в немецкой культуре как раз в это время.
Не исключено, что именно веймарско-йенско-берлинская формула сопряжения античности и модернитета позволила в дальнейшем спокойно, без проблем культурного иммунитета, обращаться за поддержкой к античной классике таким разным мыслителям, как Шопенгауэр с его квазиплатонизмом, Керкегор с его неосократизмом, Конт с его утопическим позитивизмом[9].
VII. Для XIX в. весьма показательна борьба вокруг образовательных моделей. Рождение новой классической филологии в Германии (особенно после Ф.А. Вольфа), реформы Конвента и контрреформы Империи во Франции сделали столкновение классической гимназии и реальной школы ареной идеологической битвы. Характерно, что роль античности не всегда сводилась к союзничеству с консервативно-охранительной властью. Во времена перезрелого позитивизма античность могла ассоциироваться с мечтательным идеализмом и подозрительным политическим энтузиазмом[10].
VIII. Еще одной примечательной особенностью XIX в. надо признать появление явных аксиологических соперников античности. Если раньше культурная коллизия модернитета выглядела как столкновение идеала (античность) и реальности (современность), то теперь появляются альтернативные идеалы. Раньше таковым могло быть только христианство, теперь же это и национальная самобытность, и либеральная технократия, и позитивизм, и оккультизм, и декаданс… Происходит открытие и изучение экзогенных культур, которые не воспринимаются уже как более или менее утонченная форма варварства; открыты миры ислама, буддизма; Европа привыкла к идее неповторимости и своеобразия каждой культуры. Античному идеалу брошен вызов, и вскоре следует ответ.
IX. К 1870 г. здание, выстроенное позитивистским трезвомыслящим человеколюбием и рассчитанное на века прогресса, начинает давать первые трещины. Синхронно начинается кризис трех ведущих ценностей Нового времени: гуманизма, рационализма и натурализма. Под вопросом уже не просветительская версия разумного, а сам Разум как способ полагания бытия и ценности. Все убедительней выглядит концепт культуры как герметически замкнутого типа, как органической целостности, внутри которой Разум – лишь один из способов проявления доразумной основы. Особенно активны два извода этой идеи: биологизм и эстетизм. Биологизм (с включением сюда стихии психического) наиболее последовательно выразился в культуралистике: Бахофен, Буркхардт, Вагнер; у нас – Данилевский, Леонтьев, Розанов. Эстетизм: группа «Парнас», Раскин, Моррис, Патер, Уайльд. (Несистематичный перечень имен здесь просто для «наведения» внимания на густонаселенную область.) Оба направления близки: показательна легкость, с которой можно переместить имя из одного разряда в другой. Оба – сосредоточены на реанимации мифа как живой культурной силы. И еще одна важная для нас общая черта: античность зачастую переосмысляется в преломлении через другие эпохи: Ренессанс, Средневековье, доцивилизационная архаика.
Рано или поздно вызов Разуму должен был оформиться как манифест, и эту роль с блеском сыграла книга Ницше «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм». Ницше был в восторге, когда Брандес назвал его учение «радикальным аристократизмом». Действительно, перед нами необычная попытка, основываясь на реконструированном (якобы) духе античности, восстановить аристократическую аксиологию в самых жестких ее версиях (вряд ли в такой форме имевших историческое воплощение) и противопоставить культ формы, свободно порожденный волей, плебейскому культу содержания, пользы и цивилизации. Внешне опираясь на досократиков, а по существу – на софистов, Ницше ищет в античности права на свободу мифотворчества. Характерно, что Э. Роде, выдающийся профессионал, защищая Ницше, отступает с территории науки на территорию идеологии, противопоставляя «зарвавшейся цивилизации» культуру как более высокое благо. Культура, с его точки зрения, может позволить ученому пренебречь фактами и логикой, как господину рабами, если истина дана ей в непосредственном созерцании. Таким образом тема античности радикально переводится в разряд идеологических мифов[11].
X. Сказанное не значит, что античная тема отдаляется от исторической реальности. Напротив: следующий этап можно обозначить как начало прямого воплощения «античного проекта». Синхронно с «дионисийством»
Ницше (и его параллелями в символизме и ар-нуво) появляется «аполлинийское» течение неоклассицизма, проявившееся в живописи, архитектуре, поэзии, музыке, формальном искусствознании[12]. Обе ипостаси активно взаимодействуют и создают ту особую атмосферу рискованной самодельной теургии, которой отличается рубеж XIX–XX вв. Условно говоря, с 1871 («Рождение трагедии…») по 1894 г. (создание Кубертеном олимпийского движения) происходит становление новой версии античного принципа как социально-политической практики.
XI. Означенная двойная модель продолжает доминировать в XX в. Неоромантическое сознание может при этом искать в этой модели «страшную», неантропоморфную архаику (passim) или безличную судьбу бытия (Шпенглер, Хайдеггер); тоталитарное (скажем, фильмы Роома или Рифеншталь) – культ тела, здоровья, полисной солидарности, рационального расчета; культурутопическое (например, Йегер[13]) – педагогический проект; культурностальгическое (например, Рильке, Мандельштам) – исконную подлинность; авангардное – чистую форматуру (Пикассо)…[14] Но инвариантом остается образ дегуманизированной античности, оба (воображаемых?) аспекта которой одинаково дистанцированы от «просто человека».
Возможно, скоро мы осознаем, что нового в этот сюжет принесли конкретные исследования античной культуры, которыми также был богат XX в.
* * *
К вопросу о «больших нарративах»: предметность, здесь обозначенная, исчезнет или безнадежно деформируется, если мы изменим масштаб рассмотрения. Во всяком случае, если увеличение охвата (расширение культурного региона, присоединение предшествующих эпох и т. п.) не является фатальным, то сужение повлечет разрыв историко-логических связей и утрату «фабулы» процесса. Проблема еще и в том, что каждая ступень очерченного процесса имеет внутреннюю логику и относительную замкнутость: поэтому изъятие ее из целого вроде бы не выглядит как деструкция. В самом деле, почему бы не рассмотреть романтический образ Античности сам по себе или неоклассицизм в музыке XX в., взяв его «абсолютное» содержание? Но такое экспонирование, выведение темы из общей системы координат позволит спроецировать на нее любое содержание, которое мы сможем произвольно ассоциировать с темой. То есть янсенист XVII в. заговорит словами просветителя XVIII в., йенский романтик – словами декадента XIX в. и т. п. Так, от противного, можно еще раз подчеркнуть нередуцируемость телеологии культуры.
К числу «скрытых» теорий культуры относится «Божественная Комедия» Данте – один из итоговых шедевров средневековой ментальности. В трех частях (кантиках) Данте представляет грандиозную литературную мистерию, повествующую о странствии автора в 1300 г. по трем загробным мирам: по Аду, Чистилищу и Раю. Данте создает небывалые по художественной детализации и символической насыщенности картины девяти кругов адской воронки, девяти уровней горы Чистилища, девяти небесных миров и райской Розы в Эмпирее, откуда Данте созерцает Троицу. Ведомый сменяющими друг друга проводниками – Вергилием, Беатриче и св. Бернаром Клервоским, герой узнает устройство мира, законы посмертного воздаяния, встречается и беседует с многочисленными персонажами истории и современности. В ходе своего странствия-паломничества автор-герой заново переживает свою жизнь, очищаясь и преображаясь. Таким образом, «Комедия» в символе странствия показывает и путь исторического человечества, и путь внутреннего самоуглубления и спасения. С небывалой для Средневековья смелостью Данте соединяет в воспетом им мистическом событии судьбу конкретного земного человека с судьбой истории и мироздания, оставаясь при этом в рамках церковного христианского гуманизма.
Одна из главных сквозных тем «Комедии» – законы воплощения высшего смысла на разных уровнях бытия. Поскольку это совпадает с основной темой наук о культуре, мы вправе поместить поэму Данте в наш очерк культурологических учений. Важная для нас особенность «Комедии», которую нельзя рассматривать только лишь в рамках дантовской поэтики, это понимание универсума как системы разнородных миров, каждый из которых создан из своей собственной «материи» по своим законам и потому выражается своими образами и символами, своим языком. Дантовский универсум создан по законам божественной поэзии: создатель «Комедии» лишь пересказывает то, что уже до него стало плодом творения.
Шеллинг отмечал скульптурность первой кантики, живописность второй и музыкальность третьей, но это только наиболее общие различия художественных средств. «Комедия» содержит детально продуманную иерархию культурных миров. «Ад» – это культура безжизненного вещества, замкнутого пространства и остановившегося времени. Здесь все рельефно, наглядно, чувственно: «весомо, грубо, зримо». Динамика Ада – конвульсия, бессмысленное повторение, фарс, гротеск, гиньоль, вульгарный юмор. Наш современник без труда узнает эстетику массовой культуры – от сентиментальной мелодрамы (Паоло и Франческа) до «хоррора» последних кругов. Есть здесь и своя теория: физика подземных стихий, классификация видов моральной смерти (антиэтика) и метафизика демонологии. Любопытно, что в этой же кантике мы встречаем культурфилософское осмысление прошедшей истории человечества. В седьмом круге Ада происходит важный разговор между Данте и его проводником. Отвечая на вопрос об адских реках, Вергилий рассказывает легенду о Критском старце (XIV, 94-114). На острове Крит есть гора Ида. Когда-то в пещере Иды мать Зевса прятала свое дитя от Сатурна. Теперь на вершине горы стоит статуя старца. Спиной она обращена к Дамиате, городу в дельте Нила, лицом – к Риму, «как к зерцалу». Голова у старца золотая, грудь и руки серебряные, середина тела медная, ноги железные, правая ступня, на которую он опирается, – глиняная. Тело рассечено от шеи, из раны струятся слезы, стекая в пещеру. Из этой пещеры и берут начало адские реки: Ахерон, Стикс и Флегетон. Четвертая река, Лета, течет с горы Чистилища. Сливаясь воедино, они образуют в центре Земли ледяное озеро Коцит.
Что означает этот загадочный образ? Комментаторы предлагают следующее толкование. Старец символизирует собой «ветхое» человечество, как бы рассеченное грехом Адама. Образ старца возник из соединения рассказа Овидия о четырех эпохах человеческой истории и сновидения царя Навуходоносора (библейская Книга пророка Даниила). Четырехсоставное тело статуи означает смену веков в истории, причем голова («золотой век») осталась незатронутой раной греха (цельность разума). Статуя опирается на глиняную ступню (церковь), а не на железную (империя). Дамиата, к которой обращена спина статуи, – место двух важных сражений: в пятом крестовом походе здесь была одержана победа, а в седьмом – крестоносцы (в частности, тамплиеры) потерпели сокрушительное поражение. Кроме того, Дамиата была важным этапом на пути пилигримов: это середина пути от Крита к Синаю. Старец смотрит на Рим, потому что спасение человечества – в воссоздании Римской империи. Здесь мы встречаемся с философией истории, свернутой в один выразительный образ.
Крит для Данте – символ працивилизации, и современные историки, пожалуй, согласились бы с ним, учитывая роль, которую сыграл Крит как посредник между древневосточной и древнегреческой культурой. Крит – остров Зевса, его родина. Это еще и прошлое человечества с его «золотым веком» блаженства. Но Крит связан и с мифом об Энее. Здесь, по преданию, жили предки троянцев (род самого Энея по мужской линии восходил к Зевсу), здесь же собирался обосноваться Эней после бегства из Трои, но судьба повела его дальше, так что Крит оказался важным этапом на пути к Риму. Место рождения Энея – гора Ида Фригийская – недалеко от Трои. Обе горы, конечно, связывались в мифологическом сознании, а для Данте эта связь имела также историческое значение: она обозначала два этапа развития общества. Третья гора, расположенная в конце пути Крит – Дамиата, – это Синай, гора, на которой Бог явился Моисею и дал ему закон. Четвертая гора – холмы Рима. Таким образом, путь Энея привел к созданию старой Римской империи, а путь пилигримов вычертил направление движения к будущему Риму. Видимо, в зерцале Рима старец надеется узреть свое спасение и исцеление от древней раны.
К осмыслению истории Данте возвращается еще раз – находясь в преддверии Рая. Во время перелета на девятое небо Беатриче предлагает Данте взглянуть вниз. Поэт видит прочерченный Улиссом путь от Гадеса к горе Чистилища и финикийский берег, с которого была увезена на Крит похищенная Зевсом Европа. Бросая последний взгляд на уплывающую из поля зрения землю Северного полушария, Данте как бы отмечает две точки европейской истории: ее начало (Крит) и «конец» (Улисс), т. е. выход за свои рамки. Зевс проделал путь с юга на север, а Улисс – с севера на юг. Глазами Данте мы можем посмотреть на историю с высоты вневременной истины. Не исключено, что Данте хотел противопоставить два продолжения того пути, который был начат Зевсом. Улисс, двигаясь по горизонтали, выходит за пределы Европы в пустое пространство и гибнет, не доплыв до горы очищения. Данте покидает Европу, двигаясь по вертикали духовного восхождения.
Свою версию истории культуры Данте представляет во второй кантике. «Чистилище» – самая, пожалуй, поэтически совершенная часть «Комедии» – имеет тщательно продуманную структуру, свой уравновешенный и гармонизированный мир образов, свою философскую проблематику: философия жизни (психология, биология, эмбриология), этика и история. В первом круге горы Чистилища искупается гордыня: грех, который заключал адскую спираль, начинает лестницу Чистилища. Стена, вдоль которой вьется дорога, украшена мраморными барельефами. На их сюжетах стоит задержаться. Первый барельеф – Благовещение. Он изображает ангела, сообщающего благую весть, и Деву Марию, смиренно ее принимающую. Второй изображает царя Давида, пляшущего перед ковчегом. Третий – императора Траяна, благосклонно слушающего просьбу вдовы о заступничестве. В Чистилище, как и в Аду, образы, явленные Данте, должны быть уроком, но в Аду они оторваны друг от друга, замкнуты в своей единичности, а здесь упорядочены и согласованы. Как правило, все назидательные образы касаются трех составных частей мировой истории: христианской, языческой и ветхозаветной. Три барельефа первого круга говорят нам о смирении, образцы которого тем величественней, что речь идет о царском достоинстве. Царица Небесная называет себя рабой Господа (в Средние века заметили, что ave, прочтенное справа налево, дает eva: дерзость Евы преодолена смирением Марии). Царь Израиля Давид при торжественном переносе ковчега Завета в Иерусалим «и больше был, и меньше был царя» (X, 66), потому что вел себя как дитя, но и как боговдохновенный пророк. Римский император снизошел до «мелкого» дела, но еще более возвеличил этим свой сан. Смирение возвышает, гордыня унижает.
Примеры последнего даны чуть позже, в XII песни. Под ногами у путников – плиты с изображением многочисленных примеров поверженной гордости: здесь и Люцифер, и Саул, и руины Трои… Из фрагмента XII, 25–63 явствует, что Данте не только показывает и убеждает, но и внушает идеи самими звуками своей поэмы. Из 13 терцин этого отрывка первые четыре начинаются буквой V, следующие четыре – буквой О, затем – буквой М. Три строки последней терцины начинаются соответственно буквами V, О и М (VOM = UOM, т. е. «человек»). Таким образом, картины на плитах заставляют склонить голову и подумать, как ничтожен человек. Но уже через несколько строк звучит голос Вергилия: «Вскинь голову». Приближается ангел, на него нужно смотреть снизу вверх. Первый круг Чистилища Данте покидает с поднятой головой. Свою антропологию, выраженную в этих песнях «Чистилища», Данте подытоживает в двух строчках (X, 124–125): мы – личинки, из которых должны сформироваться ангельские бабочки.
Идея о том, что часть человечества призвана восполнить небесное государство, сочетается с идеей преображения человека в новое существо. Данте знакомо понятие сверхчеловека, но для него это не ницшеанский зверь, а ангел, вылетевший из кокона человеческой плоти с Божьей помощью, но и благодаря моральным усилиям индивидуума, общества, истории. Здесь средневековый символизм поворачивается к нам неожиданной стороной. Мы привыкли считать, что имеем дело с реальностью, которая в художественном произведении выражается с помощью образов и иносказаний. Но «Комедия» заставляет нас сделать перестановку. Мы видели, как в Аду душа грешника обретает свою окончательную реальность, ту форму, которая выражает ее сущность. По отношению к посмертной реальности земная жизнь была лишь аллегорической цепочкой событий. То же и в Чистилище, но на ступенях его горы душа не сразу обретает реальность, мучительно вырабатывая черты будущего облика. Рай проявит полностью то, что на Земле и в Чистилище было символическим, смешанным со случайностью и отягощенным материей выражением сути.
В Чистилище, пожалуй, главная символическая почва, из которой прорастает реальность, – история общества. События истории в многочисленных обращениях кантики к прошлому (при том что почти все ее персонажи – современники Данте) имеют как бы горизонтальный символический смысл (более ранние «прообразуют», готовят и предсказывают поздние события) и вертикальный (событие имеет высший смысл, в котором выражена его сущность). События жизни Христа являются в этой системе как бы абсолютной точкой отсчета, и поэтому они прямо не входят в мир исторических образов «Комедии».
Обостренный историзм «Чистилища» объяснить нетрудно – ведь история и есть для Данте всемирное Чистилище на Земле. Однако, расставаясь с Чистилищем, Данте омывается не только в водах Эвнои, восстанавливающей жизненные силы, но и в водах Леты, дарующей забвение. Оказывается, культура – это не только память, но и умение забыть. В Аду Вергилий иногда закрывает ладонью глаза своему спутнику: там что-то такое, что нельзя увидеть без ущерба душе; немало драматичного и в Чистилище. Пройдя через огненную стену, а затем и окунувшись в Лету, Данте очищается от груза материальных и психических шлаков. За трое с половиной суток странствия Данте прошел, как повторяют пройденное в школе, всю мировую историю, которая вводится в песни кантики то развернутыми образами, то отдельными фразами, а то и намеками, не теряя при этом своей моральной цельности. В Аду души не знали изменений; они застыли в одном назидательном образе или же в цепи мучительных превращений. В Чистилище вместо превращений – преображение. Здесь начинается – сначала медленно, а затем все быстрее – восхождение к свободе и духовному самоопределению. В Аду господствует ночь, в Чистилище чередуются день и ночь, так же как и в жизни и в мировой истории. Предутренние сны Данте как бы указывают на прорывающуюся в его сознание из мира вечного дня высшую реальность. Но и само его сознание подвижно: впитывая в себя новое содержание, оно меняет свою форму – идет воспитание души. В Аду правила чувственность (даже тогда, когда заставляла волю с ней бороться и разум о ней думать); в Чистилище – царство души; в Раю будет царство духа. Интересно, что ритм развития души Данте не совпадает с общим ритмом движения путников. Если продвижение в целом становится легче и быстрее от круга к кругу, то душа, постепенно переходящая от внешнего содержания к внутреннему переживанию, вынашивает кризис, который и разрешился в Земном Раю слезами и раскаянием.
Рай – это место, где сбываются цели земной истории и примиряются противоречия. На примере райского преображения философии видно, как Данте понимает исполнение стремлений земной культуры. Пять песней «Рая» (X–XIV) посвящены пребыванию на небе Солнца, где перед Данте разворачивается целый мир средневековой философии.
Взирая на божественного Сына,
Дыша Любовью вечной, как и тот,
Невыразимая Первопричина
Все, что в пространстве и в уме течет,
Так стройно создала, что наслажденье
Невольно каждый, созерцая, пьет (X, 1–6).
Это введение как бы задает тон циклу песней о небе Солнца, границе вещественного мира. Завеса солнечного света и преграждает смертному взору путь выше, и освещает то, что ниже. Не случайно именно здесь встречают Данте души мудрецов. Поэта окружает венец из сияющих и поющих солнц, который трижды оборачивается вокруг него. Один из светочей начинает речь и знакомит Данте с остальными. Это Фома Аквинский – пожалуй, самый знаменитый философ XIII в. Он открывает Данте имена мудрецов, начиная с того, кто по правую руку. Первый из них – Альберт Великий, учитель Фомы, крупнейший ученый своего века, один из зачинателей новой, аристотелевской традиции в средневековой философии. Далее – Грациан, юрист XII в., согласовавший в своих «Декретах» юридическое и церковное право. Петр Ломбардский, теолог XII в., чьи «Сентенции» стали традиционным объектом комментариев в схоластике XIII в. Пятое сияние – Соломон, сын царя Давида, царь Израиля, года правления которого были самым благополучным временем для древнееврейского государства (Соломон значит «мирный»). Он построил Иерусалимский храм, прославился своей мудростью, написал книги Притчей, Екклесиаста и Песни песней (на которые так любил ссылаться Данте). Далее идет Дионисий Ареопагит, считающийся автором корпуса сочинений неоплатонического характера. «Ареопагитики» оказали огромное влияние на средневековую философию. Данте воспроизводит в «Комедии» учение Дионисия о небесной иерархии, да и световая символика «Рая» в значительной мере восходит к его сочинениям. Следующий – Павел Орозий, ученик Августина, написавший хорошо известную Данте всемирную историю. В отличие от Августина он относится к Риму как к опоре христианской государственности и закладывает основы христианской мистической интерпретации Римской империи. Восьмой – Боэций, казненный Теодорихом по подозрению в политическом заговоре. Его сочинение «Об утешении философией» – одна из самых любимых книг Средневековья, оказавшая влияние и на создателя «Божественной Комедии». Исидор Испанский (560–636), автор знаменитой «Этимологии» – компилятивно-энциклопедического сочинения, которое было одним из источников средневековой образованности. Беда Достопочтенный (674–735), англосаксонский ученый: историк, грамматик, теолог. Ришар Сен-Викторский (ум. 1173), крупнейший представитель мистической школы, обосновавшейся в монастыре св. Виктора в Париже. Под влиянием Бернара Клервоского сен-викторцы развивали учение о восхождении души через различные ступени душевного и рассудочного совершенства к непосредственному созерцанию высшей истины. Замыкает круг Сигер Брабантский, глава школы парижского аверроизма.
Аверроисты, стараясь оставаться в рамках ортодоксии, тем не менее вводили в схоластику смелые новшества, опираясь на аристотелизм Ибн-Рушда (Аверроэса). Они утверждали, что мир относится к Богу как следствие к первопричине и «совечен» творцу; отрицали бессмертие индивидуальной души, признавая лишь бессмертие интеллекта, нумерически единого для всех людей; ограничивали в ряде случаев божественное всемогущество. По крайней мере так формулировал их заблуждения епископ Тампье, дважды осудивший своими постановлениями парижский аверроизм. Сигер был привлечен к церковному суду и убит секретарем при невыясненных обстоятельствах.
О последнем светоче венца у Данте сказано подробнее. Фома Аквинский, по левую руку от которого оказался Сигер, был ярым противником аверроизма и даже иногда изображался на фресках попирающим поверженного Аверроэса. В течение четырех лет он вел в Париже активную борьбу против сторонников Сигера. Здесь реализован важный принцип композиции поэмы: соединение противоположностей в гармоничное единство. Фома оказался «золотой серединой» между Альбертом Великим и Сигером Брабантским, причем все участники этой группы предстают в неприглаженной оригинальности своего духовного облика. О Сигере говорится, что он был «ясный дух, который смерти ждал, отравленный раздумий горьким ядом» (X, 134–135). Данте не скрывает, что Сигер «неугодным правдам поучал» (X, 138). Но это событие земной истории, которая вся построена на мучительных диссонансах. Царство Небесное примиряет тех, кто, каждый по-своему, отражал истину, но вступал в конфликт с другими искателями истины. Данте считает, что истина слишком велика для того, чтобы ее познал один мудрец. Необходимо сообщество умов, которые, дополняя друг друга, избавляясь от односторонности и даже соединяя крайние позиции, создают подвижный образ вечной истины.
Продолжая свою речь, Фома Аквинский дает философско-теологическое обоснование роли францисканского и доминиканского орденов. Невеста-церковь, говорит он, спешит на зов жениха-Христа. Небесная мудрость определила ей в помощь двух вождей. Один придает ей уверенности в себе, другой помогает сохранять верность жениху. Один сияет мудростью херувима (в ангельской иерархии херувимы осуществляют полноту знания), другой пылает любовью серафима (серафимы обозначали пламенеющую любовь к Богу). Первый – св. Доминик, второй – св. Франциск. Небесная этика в изображении Данте такова, что петь хвалу себе и своему непосредственному вождю считается недостойным. Поэтому Фома возносит хвалу Франциску Ассизскому, воспевая его аскетичность, смирение, любвеобильность, а в заключение порицает своих братьев по ордену – доминиканцев, которые сбились с истинного пути. После его слов вокруг первого венца появляется второй. Данте сравнивает эти два концентрических круга с гирляндами роз и с двойной радугой. Второй венец останавливает свое вращение, и раздается голос, произносящий хвалебную речь в честь св. Доминика, ревностного борца с ересями. Заканчивается этот гимн порицанием францисканского ордена, не сохранившего чистоту первоначальных идеалов. Затем говорящий открывает свое имя. Это Бонавентура из Баньореджо, генерал францисканского ордена, один из самых знаменитых мистиков своего времени. Впоследствии он был канонизирован и причислен к десяти великим учителям церкви. Его книга «Путеводитель духа к Богу» – один из источников «Божественной Комедии».
Оба оратора делают упор на взаимной связи двух вождей, на единстве их цели и необходимости их для церкви, которая, как боевая колесница, опиралась на эти два колеса в междоусобных битвах (XII, 107–108). Интересен мотив их сопоставления как «Востока» (Франциск – XI, 53–54) и «Запада» (Доминик – XII, 50–51), причем «Восток» ассоциируется с аскезой, любовью, созерцанием, «Запад» же – с активным утверждением идеалов, организующей силой («садовник», «страж»), знанием. Бонавентура представляет остальные 11 огней в своем венце. Сначала идут Августин и Иллюминат, первые ученики и последователи Франциска Ассизского. Затем – Гуго, глава сен-викторской школы (1096–1141), учитель Ришара (который был в первом венце), особенно чтимый Бонавентурой философ. Следующий – Петр Коместор (XII в.), прославившийся «Схоластической историей» (своего рода исторической энциклопедией, следы чтения которой можно обнаружить и в «Комедии»). Пятый – Петр Испанский (ум. 1277), создавший трактат, который стал одним из главных логических трудов Средневековья. Шестой – пророк Нафан (Натан), советник царя Давида, учитель Соломона, по совету которого Соломон предпринял постройку храма. Затем – Иоанн Златоуст (350–407), византийский проповедник, изгнанник и мученик. Ансельм Кентерберийский, «отец схоластики», основатель рационалистического метода истолкования богословских истин. Элий Донат (IV в.), философ и грамматик, христианин, вышедший из римской школы неоплатонизма. Рабан Мавр (776–856), архиепископ Майнца, крупный просветитель эпохи «каролингского ренессанса». Наконец, Иоахим Флорский. Мы видим, что венец замыкается так же, как и первый: по одну сторону от Бонавентуры – верные последователи Франциска, по другую – «радикал»-еретик. С иоахимитами Бонавентура неустанно боролся, и поэтому слова о «вещем Иоахиме» звучат в его устах парадоксально.
Данте рисует впечатляющую картину созвездия великих мыслителей, которое двумя венцами вращается вокруг него в противоположных направлениях, образуя счастливое «содружество божеств» (XIII, 31). Данте сравнивает созвездие философов с венцом Ариадны, обладавшим магическим свойством светиться в темноте, называет его мудрецов паладинами, рыцарями короля Артура, говорит о 12 парах цветов, выросших из одного зерна веры. Этим усиливается впечатление гармонии и согласованности всей композиции. Но столь же настойчиво Данте обращает внимание читателей на различия как между отдельными огнями венца, так и между двумя его кругами. Общее между внутренним и внешним кругом в том, что они собирают крупнейших мыслителей Средневековья и отчасти составлены по принципу контраста. Видно, что Данте отдает предпочтение философам-просветителям, закладывавшим основы христианской культуры и образованности. Заметны и различия: внутренний круг, доминиканский, более схоластичен, рационалистичен, больше связан с аристотелевской традицией; внешний, францисканский, больше связан с мистикой, с традицией Августина. В то же время чувствуется, что Данте вкладывает в эту конструкцию более конкретный смысл, что его классификация мыслителей тоньше, чем представляется на первый взгляд. Не случайно и движение в противоположных направлениях, при котором каждая позиция дает новую пару философов. Во всяком случае, поэт хочет показать нам, что споры, а иногда и взаимные преследования философов и мудрецов Земли превращаются на небесах в созвучие, которое не только не исключает различия, иерархии (францисканский круг все же иерархически выше доминиканского), но и предполагает их.
«Венец Ариадны» – это одна из первых попыток создать историко-философскую концепцию и теоретически объяснить процессы, происходящие в философии Средних веков, включив их в культурный контекст. Иоахим Флорский попытался в свое время выделить в каждом историческом цикле 12 мужей, выражающих в своей деятельности смысл данного периода; он также предсказывал появление 12 мужей духовных, которые ознаменуют эру святого духа. Но Данте идет дальше, не просто формируя группу лиц, но отыскивая логику разделения и соединения философских позиций.
Впрочем, можно подойти к его конструкции и по-другому: «венец Ариадны» объясняет, почему в Средние века не возникла история философии. Потребности в систематизации эмпирического многообразия не было, поскольку культурным процессам не придавалось самостоятельного значения. Вместо культурно-исторического развития философии Данте изображает логико-эстетическую композицию, в которой восполняются все изъяны и случайности исторической последовательности событий и психологических конфликтов. И все же надо признать, что сама попытка Данте осмыслить кипение умственных страстей своей эпохи, привести в теоретический порядок разноголосицу тенденций, в реальной жизни скорее ломающих традицию, чем дружно поющих, как в Дантовом хороводе, была смелым шагом к новому пониманию философии и культуры в целом. Данте первый (и, может быть, единственный) ощутил, что современный ему духовный мир есть нечто большее, чем идеи и течения, его составляющие. Он попытался вглядеться в лицо своего века, и это ему удалось. Данте увидел зрелое Средневековье как целое. Его эпоха богата гениями, но они были слишком заняты своими делами, чтобы посмотреть на современность с высоты теории. Даже Иоахим Флорский и его ученики были погружены в заботы святого духа, и дух культуры Средневековья не существовал для них как самостоятельная реальность.
Данте сознательно берется судить свое время и, что бы ни вдохновляло его – астрологические расчеты или политические предвидения, выводит колоссальную формулу века, создавая «Комедию». Особенно наглядна его интуиция в изображении групп политиков или философов: антиномии, полагает Данте, несовместимы только в суетной повседневности, но эпохе они-то в первую очередь и нужны, это ее строительный материал, на котором она проявляет свои синтетические силы, или, говоря языком Дантовой философии духа, любовь. Опыт такой философии проложил пути идеям Дж. Вико, историзму и культурологии XVIII–XIX вв.
Культурфилософские идеи XVIII в.
В XVIII в. в Европе активизируются процессы, которые привели к формированию науки о культуре. Нам важно понять, почему кристаллизация культурологии происходит именно в это время. К середине века очевиден кризис научной парадигмы Нового времени. Механика, математика и астрономия перестают поставлять универсальные формулы для описания природы. Обозначаются контуры новых наук: биология, химия, психология, языкознание, история, этнография, антропология, археология, политология – эти и другие научные направления изучают теперь то, что раньше считалось областью случайного или даже вовсе внеразумного. Тем самым оказывается возможным рациональное (по форме) знание о предметах, по крайней мере не вполне рациональных. Отсюда – потребность в рассмотрении того типа реальности, который не совпадает ни с природой, ни с субъективной разумной волей. С этим и связана рефлексия о «цивилизации» и «культуре» как ближайшем проявлении этой реальности, которую можно было бы назвать объективно-разумной, бессознательно-разумной или даже бессубъектно-разумной. Открытие «культуры» и расширение сферы рационального делают ненужной прежнюю унитарную модель разума, создающего свою иерархию, что позволяет в результате расположить разнородные ценности на одной плоскости. Появление – пусть в черновом виде – новых научных дисциплин позволило потеснить детерминизм и обострить внимание к бессознательно-целесообразным аспектам реальности. Жизнь – история – язык – искусство – «животный магнетизм» – «духовидение»… Все это требовало категории цели, но далеко не всегда нуждалось в рационально-целеполагающем субъекте, идеал которого выработал XVIII в. в противостоянии Ренессансу. Чувственно-аффективный субъект, вписанный в среду, лучше соответствовал новой картине целого. У науки в этот период ослабевает страсть к унификации мира как своего рода сверхавтомата, к описанию его на языке дедукции и сквозной причинности. Астрономия осваивает идею множественности миров, физика вспоминает античный атомизм. Появляется вкус к энциклопедической классификации и таксономии пестрых феноменов действительности: метод выведения законов несколько потеснен методом описания фактов; партикулярное и индивидуальное уже не так подавлены универсальным.
Синхронно появился неведомый ранее европейскому сознанию принцип историзма, и скоро будет сформулирована его предельная ценность – прогресс. Борьба в концепциях историков «случайности» и «провидения» как движущих сил истории показывает востребованность новой объяснительной модели развития цивилизации, в которой непрерывность развития заменит как эсхатологическую прерывность (модель, принятая Средневековьем), так и эстетическое безразличие ко времени (модель Античности). Рождение историзма во многом обессмыслило старый идеал природы. Процесс становления перестал быть несовершенным полуфабрикатом по отношению к вечному бытию. Природа сама становится частью универсума, в котором происходит историческое становление. Но самое главное – становление предполагает свою первичность по отношению к любому ставшему, и это открывает горизонты интуиции культуры. Ведь полиморфизм культуры в ее историческом измерении означает, что единичное и особенное явление самоценно в своей конкретности как символическое выражение абсолюта, что универсум плюралистичен, что каждый момент исторического неповторим и заслуживает памяти и запечатления.
XVIII веком был открыт естественный плюрализм культур: географическая экспансия Европы, колониализм, миссионерство, археологические раскопки – все это обнаружило не «варварские», как полагали ранее, но именно альтернативные культуры. В соединении с руссоистскими разочарованиями это приводит к отрицанию однонаправленного развития цивилизации. Возникает интерес к инокультурному: появляются «готические» и «восточные» мотивы в литературе и живописи; понемногу восстанавливается уважение к мифу. Не только экзотика, но и классика становится в очередной раз предметом рефлексии. Но теперь она уже несколько теряет свой статус абсолютной точки отсчета и само собой разумеющегося достояния Европы «по праву рождения»: после Винкельмана «благородная простота» Античности воспринимается как несколько дистанцированный в истории укор европейской «испорченности». Впрочем, синхронный расцвет этнографии и археологии, позволивший буквально увидеть исторический образ Античности благодаря раскопкам в Геркулануме и Помпеях, привносит и в античную тему момент экзотики.
Проявляется внимание к национальной самобытности, к фольклору. Пока это происходит в таких спокойных формах, как плодотворный интерес к «особенному», не растворившемуся во «всеобщем», что обогащает плюральное представление о культуре. Но Гёте уже видит в этой тенденции некую угрозу и развивает (в полемике со штюрмерством и ранним романтизмом) контрамотив: рассуждения о «мировой литературе» и «мировой культуре». Такая форма конфликта универсального и партикулярного только подчеркивает, что однородная десакрализованная среда культуры уже сформировалась как некая общая оболочка.
В XVIII в. появляется сентименталистско-демократический принцип равенства людей в их природе, прежде всего в чувственности, каковая порождает равнодостойные уважения переживания. Отсюда – стремление скорее понять «иного», чем оценить его с точки зрения готовой шкалы ценностей. Приоритет задачи понимания и эмпатического сопереживания перед репрессивной нормой (каковой, между прочим, является и художественный стиль) повышает интерес к индивидуальному, своеобычному и даже паранормальному.
Меняется характер европейского гуманизма: индивидуалистический гуманизм XVIII в., идеалы гражданского общества, борьба за права личности, права «естества» требуют не универсальной нормы (защищенной авторитетом власти), но автономии лица с его «малым» культурным миром или автономии сравнительно небольшой группы со своими ценностями и основаниями для солидарности (нуклеарная семья, салон, клуб, кафе, кружок, масонская ложа). Просвещенческий педагогизм, в свою очередь, развивает этот мотив как требование бережного отношения к своеобразной личности воспитуемого.
Критикуется репрессивный характер традиционных моральных норм. Либертинаж борется с «противоестественностью» этики. Возникает стремление защитить права всего «ненормативного» на его долю в существовании. Штюрмерская литература понемногу поэтизирует насилие и темные аффекты. В свете этого понятен сдвиг умственного интереса эпохи от этики к эстетике с ее неповторимыми формообразованиями в качестве предмета понимания и сосредоточенные размышления над феноменом игры, в которой веку иногда видится тайна культуры.
Формируется интерес к бессознательному и стихийному. Обнаруживается, что эти феномены и процессы вполне могут иметь свою поддающуюся изучению форму. Месмеризм может лечить, поэзия может осваивать «сумеречные» состояния души, оккультизм – налаживать коммуникации с иными мирами… Такие полярные формы, как мятеж и традиция, могут равно опираться на воплощаемый ими «бессубъектный» смысл.
Возникают заметные сдвиги в стилевых формах искусства, в его топике, в диспозиции и статусе жанров. Так, интимизируются классицизм и барокко; формируется психологический роман и «роман воспитания»; закрепляется эпистолярный жанр; беллетризуются дневники и путевые заметки; обозначается «виртуальная» архитектура (Пиранези, Леду); в литературу приходит «культурный эксперимент» (Свифт, Дефо, Вольтер); реабилитируются «чудак» (Стерн), «мечтатель» (Руссо), «авантюрист»; искусство учится ценить красоту детства, прелесть примитива, поэзию руин, преимущества приватности, лирику повседневности – т. е. всего того, что находится на периферии властно утверждающей себя всеобщности нормы. В конце концов признается «равночестность» музыки другим высоким жанрам. Вообще для века довольно характерна доминанта литературы и музыки, которые если и не оттесняют другие виды искусства, то меняют их изнутри.
Появляется своего рода культурный утопизм. Спектр его тем – от программы просвещенного абсолютизма (со свойственной ему стратегией руководства культурой) и мечтаний об эстетическом «золотом веке» до садово-парковых «единений с природой» и странствий культурных «пилигримов». Стоит заметить, что утопия – верный признак десакрализации мира и перенесения идеала в «здешний» мир.
Естественно, в этой атмосфере сгущаются релятивизм и скептицизм – постоянные спутники перезрелого гуманизма. Но они же по-своему логично пытаются «обезвредить» претензии догматизма сведением их к культурной обусловленности. Кант называет скептицизм «эвтаназией чистого разума», но надо признать, что скептицизм XVIII в. не отказывал разуму в праве обосновать несостоятельность догматизма, для чего иногда требовалось именно «культурное» разоблачение. Налицо быстрое становление европейской интернациональной интеллигенции, соединяющей огромное влияние на общественное сознание с весьма удобным отсутствием прямой ответственности за свои идеи и проекты. Активно формируется медиакультура. В этом контексте появляется профессиональная художественная критика.
К концу столетия французская политическая и английская промышленная революции демонстрируют фантастическую способность активного автономного субъекта творить собственные «миры», вместо того чтобы встраиваться в мир, данный от века.
Сводя все эти симптомы в целое, мы обнаруживаем сдвиг настроения, чем-то напоминающий коперниковскую эпоху расставания с геоцентризмом: уходит уверенность в существовании неподвижного центра – воплощения наших идеалов и ценностей; приходит ощущение разомкнутого многополярного универсума, в котором каждый субъект может постулировать свой мир и вступить в диалог с другими мирами. Параллельно этому возникает и попытка теоретического обоснования такого мировоззрения. От Вико и Гердера до Гегеля и Шеллинга простирается путь европейской мысли к «философии культуры». Мы увидим, что пограничным и ключевым текстом стала «Критика способности суждения» Канта, в которой впервые была описана телеологическая (по существу, культурная) реальность, не сводимая к природе и свободе. Особо следует отметить роль йенского романтизма, который дал, пожалуй, наиболее живучую модель понимания мира как мифопоэтического культурного универсума, воспроизводившуюся другими культурами и эпохами. К началу XIX в. мы видим оформление того, что когда-то Вико назвал «новой наукой», в качестве нового типа рационального знания о культуре.
Итальянский философ Джамбаттиста Вико (1668–1744) по праву считается одним из основоположников культурологии. В своей главной работе «Основания новой науки об общей природе наций» (1725) он выдвигает учение о циклическом развитии мировой истории, причем принципиально рассматривает историю как общий процесс единого человечества, протекающий по одним и тем же законам, предписанным «провидением» (что было, по сути, псевдонимом причинности, подчиняющей себе отдельные стремления и борьбу людей за свои частные интересы). Каждая эпоха состоит из трех веков:
1. Век богов: детство эпохи, бескрайняя свобода, безгосударственность, власть жрецов.
2. Век героев: юность эпохи, появление аристократического государства; доминируют сила и воинственность.
3. Век людей: зрелость эпохи, формирование демократической республики или монархии, ограниченной представительством; сила уступает место праву и гражданскому равенству, торговля объединяет человечество в одно целое, развивается промышленность и техника, процветают науки и искусства.
В отличие от Иоахима Флорского, также изобразившего троичную схему культурного роста, Вико не считает историю исполнением некой телеологии. Во-первых, цикл может и не состояться по тем или иным причинам; во-вторых, круговращение истории бесконечно: история движется через накопление противоречий и взрывы конфликтов к итоговому кризису, после которого все начинается сначала. Особое внимание Вико уделяет проблемам собственности (и их оформлению в праве). Они и являются мотором истории. Собственность века богов представляет «отец семейства», который, стремясь подчинить себе «домашних», опирается на слуг и дарует им земельную собственность, порождая тем самым век героев. В героическую эпоху отеческая власть становится властью земельной аристократии, подчиняющей себе народ. Эпоха людей преодолевает имущественное неравенство за счет развития ремесел и торговли и правового порядка, но порождает переход от гражданской свободы к своекорыстию и анархии. При всем том в учении Вико нет фатализма: Вико уверен, что воля и творчество человека не скованы предопределением, люди творят свое время, а не наоборот; о детерминации он говорит лишь применительно к большому историческому времени.
Вико хорошо осознавал новизну своего учения и создал для него философский фундамент. Он активно критикует Декарта за то, что тот стремился сделать свой рационалистический метод, подходящий лишь для естественных наук, универсальным. Для Вико нет единого типа рациональности: мир природы и мир истории устроены по-разному и должны познаваться различными методами. Как это ни парадоксально, Вико считает естественнонаучные знания лишь правдоподобными, а исторические – достоверными (при определенных условиях). Дело в том, что, согласно Вико, знать можно только то, что сам сделал: истинное (verum) и сделанное (factum) взаимозаменимы. Бог творит мир и тем самым его познает; люди творят лишь в меру своих сил, но то, что делают, они вполне знают в рамках этой меры. Поскольку история творится людьми, то она и познаваться должна не как природа, а как область деяний человека. Для культурологического подхода принцип «verum = factum» весьма конструктивен, поскольку он задает важный принцип понимания: для наук о культуре понять – значит создать модель целенаправленного действия. Возможно, между Сократом и Кантом не было больше других мыслителей, кроме Вико, которые подсказывали бы такие далеко идущие выводы из тождества созданного и познанного.
Несмотря на то что эмпирическая база Вико как историка была весьма ограничена (в основном это история Древнего Рима или поэмы Гомера), он формулирует такие принципы культурно-исторического исследования, которые станут устоями сегодняшнего историзма: опора на источники; исследование взаимодействия всех сторон культуры; внимательное отношение к мифам, обрядам, ритуалам, материальной культуре; интерес к языку как историческому источнику и фактору культуры; учет конкретно-исторического своеобычного характера институтов каждой эпохи, взаимное использование науками результатов их работы. Вико не был прочитан в свое время европейским Просвещением: для научной общественности его открыл лишь в XIX в. французский историк Мишле. Но ретроспективно мы видим, что формирование культурологического подхода к истории произошло именно в его «Новой науке».
Статус особой ветви знания придает культурологии Просвещение, провозгласившее своей задачей распространение идеалов науки, свободы и прогресса. Попробуем прояснить эту неслучайную связь, поскольку она будет сказываться и на дальнейшей истории культурологии. Принципиальна установка Просвещения на разум как высший авторитет в решении моральных, политических и практических задач. Императив разума необходимым образом связан с ответственностью его носителей – просвещенных граждан. Поскольку разум, освобожденный от предрассудков, является единственным источником знания, ключевой целью становится очищение разума. Здесь мы узнаем мотив, звучащий с самого начала Нового времени, с эпохи религиозных войн XVI в. и становления научного естествознания в XVII в.: овладение сознанием и наведение на его территории порядка – это вовсе не дело кружка праздных философов, это прямая обязанность ответственной части общества (т. е. в конечном счете власти). В XVIII в. оказалось, что реализовать эту программу можно благодаря союзу просвещенного абсолютизма с образованной общественностью. (Их отношения не заладились, и дело кончилось революцией, но проект оказался жизнеспособным, хотя сейчас, в свете исторической памяти, мы не склонны оценивать его с однозначным энтузиазмом.) Очищение разума требует знания о том, как устроена машина культуры – источник знаний, умений, добродетелей, но также и главный генератор предрассудков. «Просвещенческая» составляющая останется постоянным элементом в истории наук о культуре, поэтому для нашего обзора истории культурологических учений внутренняя структура Просвещения может служить одной из «матриц» объяснения тех процессов, которые нас интересуют.
Британия XVII–XVIII вв., осваивая открывшиеся возможности Нового времени, безусловно, лидировала в политическом и экономическом отношении, задавая образцы подражания более инертному и сложному миру континента. Теоретическое осознание культуры было подчинено этой практической динамике. Главными культурологическими темами английского Просвещения становятся эстетика, мораль и история. Доминирует в британской традиции стремление окончательно избавиться от средневековых универсалий и основать новую культуру на фундаменте здравого смысла и эмпиризма. Основная задача понимается как поиск корней всех идеалов и норм в «естественных чувствах». Показательна здесь эстетическая мысль, которая весьма основательно повлияла на континентальную культуру.
Идеи Э.Э.К. Шефтсбери (1671–1713), собранные в двухтомнике «Характеристики людей, обычаев, мнений и времен» (1714), репрезентируют первую версию понимания культуры в сформировавшемся английском Просвещении. По Шефтсбери, мир устроен Богом как гармоничная система связи частей и целого. Поэтому человеку дан для счастливой жизни надежный компас – способность стремиться к общему благу, что в конечном счете доставляет и благо личное. Шефтсбери выдвигает учение о «моральном чувстве», оказавшееся впоследствии одной из доминант британской мысли Просвещения. Моральное чувство не только побуждает выполнить долг, но и доставляет наслаждение от созерцания добродетели, что, в свою очередь, является источником красоты, а значит – искусства. Такое направление мысли позволило сформировать последователям Шефтсбери (Хатчесону, Юму и др.) целую программу пересмотра оснований культуры и выведения всех ее свойств и способностей из изначально доброго естества индивидуума, раскрывающегося в конкретном опыте.
Критиком этого оптимизма стал Б. Мандевиль (1670–1733), в своей аллегорической сатире «Басня о пчелах» (1717) смоделировавший человеческое общество как «улей», в котором властвуют эгоизм, обман, корысть, а за ними следуют все мыслимые пороки. Все заявленные людьми благие цели Мандевиль систематически разоблачает как лукавство или самообман. Однако именно эту морально дурную природу человечества Мандевиль считает реальным двигателем социальности и культуры. Более того, именно здесь скрыт источник цивилизационного прогресса. Логика Мандевиля проста: отдельный порок заставляет общество как систему уравновешивать его действие противодействием, что и стимулирует культуру в целом. (Так, если есть кражи, то есть и работа для слесаря, делающего замки, и т. д.) Он называет зло «животворящей силой» общественного порядка, да и самого добра, тогда как добра опасается из-за его расслабляющего и усыпляющего эффекта. При всех этих парадоксах Мандевиль понимает, что превратить пороки в добродетели может только разумная политическая власть, к назиданию которой и обращена его сатира.
Британские мыслители все же предпочли менее парадоксальную версию культурной динамики и подхватили идеи Шефтсбери. Ф. Хатчесон (1694–1746 или 1747) углубляет учение Шефтсбери о моральном чувстве и решительно отказывается искать его истоки во врожденных идеях, разумном эгоизме или божественных установлениях. Моральное чувство, по Хатчесону, есть непосредственная, инстинктивная реакция на факт и вытекающая из этого оценка. Как таковое оно не нуждается ни в рациональных, ни в мистических, ни в прагматических основаниях. (Однако избежать проблемы обоснования Хатчесон все же не в состоянии, и это побуждает его склониться к мягкой форме теологической версии.) Итоговый труд Хатчесона «Система моральной философии» (изд. 1755) расширяет эту интуицию до эстетических, психологических и политических сфер. Мир внутренних чувств оказывается безусловным фундаментом всей культуры. Этот путь понимания культуры как самодостаточного человеческого мира уводит от многих тупиков экстернализма, от выведения ценностей из внешних человеку данностей, но ставит вопрос о критериях различения моральной воли и произвола, который в рамках этого воззрения решить не удается.
Классикой британской версии Просвещения стали концепции Д. Юма (1711–1776), завершившего логическое развитие эмпиризма, и А. Смита (1723–1790), создателя политэкономии модернитета. В «Трактате о человеческой природе» (1739–1740) Юм, во многом следуя за Хатчесоном, осуществляет гораздо более радикальный демонтаж рационализма, оставляя во власти человека лишь способность ассоциировать внешние данные, создавая случайные, но практически устойчивые связи. Знание при этом приобретает статус веры, мораль – статус «диспетчера» аффектов, свобода – статус иллюзии, порожденной незнанием. Однако в эстетике (которую тогда называли «учением о вкусе» и «критикой») этот радикализм заметно смягчается, и в этом есть определенная логика. В старой культуре просветителям виделась система безжизненных догматических конструкций. За ними маячил призрак фанатизма, которому в свое время были принесены слишком большие жертвы. Пафос британского Просвещения в том, чтобы вернуть культуру к живой естественной конкретности, укоренить ее в «природе человека». Эстетическая сфера идеально отвечала этому замыслу: в ней непосредственно чувственное, эмоциональное соединяется с формальным и общезначимым. Поэтому просветители так много сил прилагают к разгадке феноменов прекрасного и возвышенного. Юм и идущий по его пути Смит считают, что человеку свойственна «симпатия»: способность сопереживать и сострадать. Эта способность выводит людей из замкнутости в себе и даже может делать из них альтруистов. Поэтому и человеческое общество созидается не долгом, не законом и не утилитарным договором, а естественным тяготением людей друг к другу. Симпатия может также соединять прекрасное и полезное: та целесообразность, которую можно в этом усмотреть, – своего рода переживание смысла – дает нам приятные чувства, собственно и составляющие эффект искусства.
Как ни странно, историческая мысль несколько отставала от моралистики и эстетики Просвещения. Но все же мы можем констатировать рождение в это время новой исторической науки, ориентированной на критику источников и исследование национальной истории. Движение от беллетризованного, назидательного повествования к причинно-следственному моделированию эпохи, от истории героев к истории народов, институтов и культуры не в последнюю очередь было связано с пересмотром и адаптацией опыта античных историков. Чрезвычайно показателен в этом отношении труд Э. Гиббона (1737–1794) «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788). Рим – образцовое воплощение политической свободы, гражданской добродетели и могучей культуры – становится парадигмой для объяснения всех других «казусов» национальной истории. Классическое, понятое как типическое, позволяет строить объясняющие и прогнозирующие модели. Особо подчеркнутая Гиббоном концепция вредоносности христианства для античной культуры попадает в резонанс с антиклерикальными устремлениями эпохи. Тема усталости культуры и грозящего варварства, пронизывающая книгу Гиббона, также оказалась востребованной новоевропейским историческим сознанием, что не так уж парадоксально, поскольку открытие культуры как предмета научной мысли требует, чтобы эту предметность разместили не в заоблачном мире вечных ценностей, а в посюстороннем мире с его ритмами расцвета и упадка.
Во французском Просвещении канон культурологической мысли был задан Шарлем Луи Монтескьё (1689–1755). Уже в «Размышлениях о причинах величия и падения римлян» (1734) он выявляет замысел теории исторического процесса, а его путешествие по Европе в 1728–1731 гг. можно рассматривать как своеобразное «полевое исследование» обычаев, климата, нравов и политического устройства разных стран. В книге «О Духе законов» (1748), имевшей феноменальный успех, он в живой литературной форме, свободно странствуя по временам и пространствам, развивает свое знаменитое учение о «географическом детерминизме». Анализируя главную для него проблему – обусловленность политического устройства, названную им «духом законов», Монтескьё выводит своего рода формулу суммы отношений законов страны к ее климату, географическим условиям, нравам, обычаям, вере, благосостоянию и численности населения, экономической деятельности и т. п. Монтескьё одним из первых пытается понять общество как систему со структурно связанными элементами. Существенно, что одним из определяющих элементов он считал «страсти» – эмоциональные доминанты, которые обеспечивают обществу стабильность. В республике это добродетель, в монархии – честь, в деспотии – страх. Ослабление этих руководящих страстей ведет к гибели политической системы. Но основным источником детерминации он считал географическую среду, главными элементами которой были климат, почва и рельеф. Климат и почва определяют душевный склад народа, а рельеф влияет на размеры территории. Экономическая составляющая также преломлена у Монтескьё через призму географии: характер почвы – плодородный или неплодородный – формирует виды экономической активности и влияет на уровень богатства нации. Сама идея причинной связи природной среды, общества и культуры оказалась весьма креативной, несмотря на всю ее наивность и «натяжки», особенно если вспомнить, что в то время преобладали две старинные объяснительные модели: религиозная телеология и героический волюнтаризм.
Вольтер (1694–1778) в отличие от Монтескьё, полагавшего, что исторически детерминированные культуры имеют естественные пределы прогресса, считал, что «нравы и дух» народов могут изменяться быстро и радикально. Вольтер был убежден, что политическая и духовная культура могут прогрессировать в любых географических условиях. Одним из первых историков Просвещения он рассматривает эволюцию культуры как процесс, обусловленный собственными внутренними законами, а не вечными «параметрами» среды и неизменной морали. В ряде исторических сочинений – особенно в «Опыте о нравах и духе народов» (1769) с его методологическим введением, названным новым для того времени словосочетанием «Философия истории», – Вольтер выдвигает свое новаторское понимание культурно-исторического процесса. С одной стороны, он указывает на необходимость очистки истории от мифов и беллетристики, формулирует задачу создания для нее эмпирической базы из фактов. С другой – под лозунгом «пирронизма в истории» предлагает и сами факты проверять при помощи критики письменных источников и материальных артефактов, дабы избежать того, что мы сегодня назвали бы «идеологизированием». Вольтер весьма существенно пересматривает саму предметность исторического исследования.
Историк призван изучать жизнь народов, а не властителей и героев; понимать духовный облик нации он должен, учитывая всю культуру народа как целое, изучая науку, философию, искусство, право, быт и т. д. в их взаимном влиянии. Религия для Вольтера – лишь одна (и не слишком им чтимая) из частей культуры. Для понимания хода событий важно изучение экономической и материальной культуры человечества, причем всего человечества как единого мирового сообщества. Вольтер постулирует задачу преодоления европоцентризма и создания всемирной истории. В его собственных исторических трудах мы встречаем очерки арабской, индийской, американской, китайской культур, которые для него уже не просто экзотический фон, а равноправный с Европой субъект истории, столь же способный двигаться по пути исторического прогресса.
Вместо внешней детерминации культуры – будь то природа или божественное провидение – Вольтер предлагает изучать внутренние причинно-следственные связи. При этом как движущую силу истории он рассматривает человеческие «мнения»: то, что мы назвали бы ментальностью. Так же как и Вико, он считает, что историю делают люди, а не безличный фатум. Подчеркнем, что вольтеровские «мнения» – это не абстрактные идеи и не те аффективные силы, «страсти» и «интересы», на которые обращали внимание историки прошлого. По сути, речь у Вольтера идет о комплексном содержании общественного сознания, которое возникает в результате внедрения в массы достижений отдельных индивидов, умеющих влиять на народное сознание средствами убеждения. Отсюда – уверенность Вольтера в моральном долге просветительской элиты перед народом и ее ответственности перед историей. Вольтеру и его последователям виделся плодотворный союз мудрецов-просветителей и носителей власти, который очистит коллективное сознание от «ложных мнений». «Ложные мнения» не могут конкурировать с истиной и потому прибегают к насилию, в чем и состоит главная драма мировой истории. Вольтер не придерживался «теории заговора» и не считал, что «ложные мнения» – продукт злого и корыстного умысла. Однако главным источником деструктивных «ложных мнений» он считал религию, а точнее церковь как исторический институт, ответственный за ложное толкование истин веры. Пессимистично оценивая наличные результаты истории, Вольтер все же уповает на то, что «царство разума» – это нормальное состояние человечества, к которому культура движется без предопределения, но с необходимостью, подобной законам природы.
Противоположным полюсом просветительского понимания культуры становится учение Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). В знаменитых «Рассуждениях о науках и искусствах» (1750) Руссо впервые высказал свою главную интуицию: развитие цивилизации[15] не только не способствует «очищению нравов», но и наносит добродетели непоправимый вред, вытесняя естественную доброту, гармонию с природой и простоту. Променяв «естественное состояние» на «общественное», человек утратил близость к природе, отгородился от нее социальными институтами, промышленностью, науками и искусствами, попав тем самым под власть порока. В работе «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) Руссо признает главным источником зла частную собственность, которая лишает человечество невинности, порождает разрушительные страсти и неравенство. Однако, поскольку вернуться к первозданному состоянию уже нельзя, человечество должно нейтрализовать яд цивилизации добродетелями гражданского общества, в котором собственность превращает людей в ответственных граждан правового государства. Такое общество возникает в результате общественного социального договора, когда люди уступают часть своих суверенных прав государству в обмен на охрану свободы и справедливости. Таков акт «общей» воли. Это не то же самое, что воля «большинства», которая может оказаться произволом. Руссоистская версия теории общественного договора содержит в себе не только политический смысл, но и концепцию культуры: несмотря на свой культ «сердца» и непосредственности, Руссо сохраняет в культуре нормативный элемент, то разумно-«общее», что делает народ сувереном и предохраняет культуру от произвола суммы неразумий.
В романе «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) Руссо дополняет общественный идеал эмоционально-психологическим: защититься от цивилизации может человек, обладающий любящей и тяготеющей к природе «чувствительной» душой. Такую душу можно воспитать, развивая добрые природные задатки («врожденную нравственность»), которыми одинаково одарены все люди. Свое педагогическое учение Руссо изложил в романе «Эмиль» (1762). В приложении к роману («Исповедание веры савойского викария») Руссо также предлагает извлечь из глубин души «религию сердца», не нуждающуюся в искусственной догматике и формальном попечении церкви, – «гражданскую» религию, интегрирующую людей на основе таких естественных ценностей, как вера в бессмертие души и конечное торжество добра. В «Исповеди» (изд. 1782–1789) Руссо применяет свои учения к истории собственной души с таким радикализмом и откровенностью, которых со времен блж. Августина не знала европейская традиция. Идеи Руссо стали своего рода контрпросветительской программой: критика урбанизма и холодной рациональности, культ природы, искренности, непосредственности, утверждение права на непохожесть и своеобычность – все это вошло в фонд альтернативных ценностей культуры Нового времени, каковой надолго стал источником аргументов для культуркритики. Протест Руссо против цивилизации и его идеал «естественного человека» имели невероятный успех и стали фактором, напрямую влияющим на общественную историю.
Д. Дидро (1713–1784) придает «культурологическому дискурсу» новые аспекты (хотя нужно учесть некоторую «отложенность» его влияния: ряд значимых произведений Дидро не вышли при его жизни). Эстетической теме, которая всегда была важной для Просвещения, Дидро сообщает дополнительный смысл: анализ искусства становится для него методом интерпретации культуры в целом. В своей теории сценического искусства он предлагает – в рамках нового жанра «мещанской драмы» – перейти к воспитанию публики через театральный анализ культурно-социальных конфликтов в семьях «третьего сословия» и созданию «драмы положений» (предполагающей, по сути, прояснение структуры объективных ситуаций), в отличие от классической «драмы характеров». В «Парадоксе об актере» Дидро описывает метод своего рода культурной эмпатии, предполагающий аналитическую дистанцию между изображаемым аффективным состоянием и личностью самого актера. В диалогах «Племянник Рамо» и «Жак-фаталист и его хозяин» Дидро переносит свою теорию «драмы положений» на драму идей: в диалогах блистательно вскрывается диалектическая подвижность идейно-культурных позиций и их связь с личностью носителя идей. (Нелишним будет отметить, что Гегель использовал метод Дидро в некоторых своих гештальтах.) Обзоры парижских Салонов Дидро, публиковавшиеся в рукописной газете с 1759 по 1781 г., также стали поворотным моментом в просвещенческой эстетике: здесь Дидро выступает не только как один из основоположников жанра художественной критики, но и как культуролог, устанавливающий соответствия между разнородными феноменами культуры. Проповедуя в своей эстетике верность природе, Дидро вносит в эту просветительскую аксиому весьма существенную коррекцию: поскольку задача художника – показать красоту добродетели, которая сама по себе встречается более чем редко, то искусству необходимо выявлять и изображать «чудесное», т. е. редкое, но возможное и желательное. Как прозаик и драматург Дидро и в самом деле показывает, что самое «чудесное» – это нерастворенность человека в природе, его непокорность среде. Собственно, это уже альтернативная Просвещению программа культуры.
Особо надо сказать о Дидро как основателе, авторе и редакторе (совместно с Д’Аламбером) 35-томной «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751–1780). Сам проект стал культурным феноменом. Это не только программный документ эпохи Просвещения, но и универсальная модель культуры, как она видится лучшим умам Франции. Благодаря выдающемуся мастерству издателей «Энциклопедия» убедительно изобразила мир культуры как поступательное взаимодействие наук, искусств, техники и политической практики. При этом она сама стала интеллектуальным клубом, дискуссионным пространством и социальным институтом, посредничающим между носителями власти и культурной элитой. Неудивительно, что наша Екатерина Великая предложила издателям перенести проект в Россию, правильно оценив перспективы этой эффективной «культурной фабрики» (которая, кроме всего прочего, принесла доход от продажи в 7,5 млн ливров).
В целом преобладающая модель просвещенческого понимания культуры – это учение о непрерывном прогрессе человечества, опирающегося на всестороннее развитие разума. В наиболее зрелых формах мы находим ее у А.Р. Тюрго (1727–1781) и Ж.А.Н. Кондорсе (1743–1794). Тюрго в «Рассуждении о всемирной истории» (1750–1751) подчеркивает особую роль разделения труда в прогрессе цивилизации, которое стало возможным при переходе от собирательства и охоты к земледелию. Последнее обеспечило «прибавочный продукт», достаточный для занятия «механическими искусствами» (т. е. ремеслами) и умственной работой, что и обусловило быстрый подъем культуры. Тюрго напрямую связывает «механические искусства, торговлю, гражданскую жизнь» с интеллектуальной культурой и образованностью, утверждая, что они являются своего рода порождающей силой цивилизации. В то же время он избегает установления между ними прямой зависимости, на примере Средневековья показывая, что между накоплением изобретений и расцветом «наук и нравов» существует временная дистанция, которая нужна для того, чтобы извлечь из «механических искусств» при помощи опытов и размышления физическое и философское знание. Выдвигая идею линейного прогресса, он рисует эту линию прерывистой, признавая возможность остановок, кризисов и революций. Важнейшим условием прогресса Тюрго считает сохранение свободы экономической деятельности. В написанной для «Энциклопедии» статье «Существование» он (по-видимому, впервые) прочертил три стадии общественного развития – религиозную, спекулятивную, научную. Эта схема впоследствии, благодаря Сен-Симону и Конту, станет очень влиятельным культурологическим концептом.
Кондорсе в работе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1794) дает резюме просветительской традиции понимания культуры как прогресса. Он выделяет в истории человечества десять эпох, считая современность девятой, переходной эпохой, готовящей десятую – «царство разума», которая решит основные задачи истории: «уничтожение неравенства между нациями», «прогресс равенства между различными классами» и «совершенствование человека». Кондорсе провидчески оговаривается, что три главных неравенства – богатства, наследства и образования – должны уменьшаться, но не должны уничтожаться, поскольку по своей природе они естественны. Искореняя их окончательно, люди могут породить более страшное, противоестественное неравенство. В результате разумной деятельности по минимизации неравенства должно появиться, по Кондорсе, «взаимополезное сотрудничество», которое прекратит соперничество и войны. Это, в свою очередь, откроет путь к физическому и моральному усовершенствованию человека.
Наука XVIII в.: смена парадигмы
(Из лекционного курса)
В обзорном очерке XVIII в. уже отмечалась и роль науки в становлении модернитета, и ее позднейшие мутации. Для раннего Нового времени ключевой духовной дисциплиной было математическое эмпирическое естествознание. Именно по лекалам этого типа знания кроили все остальные. В XVIII в. произошел невидимый на первый взгляд, но очень серьезный слом научного рационализма. Именно тогда возникает вопрос, который в современной формулировке звучит так: в самом ли деле сциентистская рациональность и вообще рациональность – это одно и то же? Действительно ли наука является единственной моделью разумности? Под вопросом оказалась и вторичная ценность, которая была порождена ментальностью новой науки: механизм как идеал воплощенного научного рационализма и инструмент практической деятельности по воплощению идеалов в действительность. Механицизм, практицизм, рационализм, экспериментальный эмпиризм – вот столпы Просвещения, причем не только прагматические, но и теоретические.
Несколько слов о механицизме. Смысл новоевропейского механицизма в том, что четко выделяется сфера собственно механического и тем самым освобождается сфера внемеханического. Значит, само механическое может быть объектом игры. Оно не подчиняет человека, а освобождает его от неосознанно механического, делает его осознанно механическим. Живое, игровое, витальное, иррациональное и т. д. остается вне его и остается свободным от механицизма[16]. Стоит с этой точки зрения посмотреть на философию механицизма – и мы увидим, что там работает еще и этический принцип: все, что можно описать как механизм, надо описывать как механизм и только как механизм, зато все остальное вообще не является механизмом ни в каком смысле. Это может быть один и тот же объект. Так, человек для Декарта – механизм, машина. Но тот же человек, если включить его в контекст субстанции мыслящей, а не субстанции протяженной, ни в коем случае не машина, это абсолютный носитель свободы. Механицизм позволяет разделить эти крайности; но именно потому он позволяет им легко общаться: они не перемешаны; нет мучительной неясности, поисков нейтральной зоны. Все четко разделено, и поэтому возникает пространство свободы, где мы можем коммуницировать, поскольку знаем, с чем и кем имеем дело. (Сравните это парадигму с отношением к механизму у романтиков: там он – кукла, двойник, машина – источник ужаса, смерти, фикции. Но это уже совсем другая эпоха.)
Механицизм хорошо согласуется с одним из основных принципов Нового времени – с разделением властей. Механицист считает своим долгом не смешивать первоначала, не нагружать метафизическими и моральными предпосылками то, что является машиной. Средние века, напротив, считали своим долгом любой объект нагрузить символическим сверхсмыслом. Раннее Новое время говорит: «Ни в коем случае!» Если перед нами политика, то давайте опишем ее как механизм, который решает только политические задачи. Пусть от нее отделены будут религия и мораль. Если природа – мы ее опишем как мертвый механизм. Это звучит ужасно для современного сознания, но ужасно ведь отождествление этого механизма с универсумом, а механицизм отождествляет его только с описуемой частью природы. Но зато в стороне остается религия, живой человек… и т. д. Тайна либерализма Нового времени отчасти заключается именно в этом искусстве разделять. Потому что разделенное в конце концов может вступить в синтез. Если же мы не сможем разделить, мы не знаем, что с чем и по каким правилам соединять; это будет хаос, а не синтез. В то же время разделенное – в силу того что выделена его четкая специфика – может оказать поддержку, помощь другому, когда другое находится в своих границах и уже больше не может в своих границах решать какую-то свою задачу, но знает, к какой другой инстанции обратиться. Механицизм, таким образом, это более хитрая вещь, чем наивное сведение всего к жестким каузальным связям, к материальным объектам и т. д.
Именно кризис механицизма был одной из форм выражения кризиса науки XVIII в. До поры существовал очень удачный союз философской логики, научной практики, механицистской модели мира. Но в XVIII в. приходят две новые парадигмы, которые претендуют на то, чтобы стать научными. Рядом с физическим детерминизмом и механицизмом появляются биологизм и историцизм – две новые силы, которые раньше в расчет не принимали. Потому что считали, что биологическое можно свести к механическому: живое виделось всего лишь как более высокий уровень сложности, а историческое – это просто случайное проявление во времени того, что в вечности существует как незыблемая модель. Поэтому была невозможна история как наука. Лишь XIX в. с огромным трудом окончательно убедил себя и других, что история может быть наукой. Ранее же это была сфера окололитературная: по сути работа писателя – собрать случайный яркий материал и подать его так, чтобы он еще и оказался поучительным, и развлекал. Но вот в XVIII в. появляется другое ощущение историзма – как особого рода темпоральной линейности, где что-то происходит. Мы знаем, откуда берется сама эта модель: это христианское отношение к истории – линейно и четко ограниченное в начале и в конце движение, когда что-то такое происходит, что повторяться уже не будет, и каждый момент имеет свою ценность. Но в Средние века это отношение к Священной истории не было связано с естественной и событийной историей. Там, в подлунном мире, где происходит история, царит хаос. Эта история погибнет вместе с событиями апокалипсиса. Но XVIII в. ко времени Гердера уже считает, что все в мире существует в историческом измерении, даже природа и тем более – ее живая часть. Биология противопоставила механизму организм как принципиально другую модель: механизм теперь рассматривается как частный случай организма.
Философия раннего Просвещения оказалась неподготовленной к этому повороту, потому что вся она была построена на жесткой модели механицизма и детерминизма. Виталистская модель, столь важная для Ренессанса, утратила валентность; она появляется вновь только в XIX в. Но интеллектуальная культура не исчерпывалась философией, и формирование новой науки начинается в сферах, которые даже не получили своей строгой номинации. О чем писал Вико? Теперь мы знаем, что это была культурология, но сам он назвал свой труд просто «Новая наука». Каким жанром пометить то, что делали просвещенческий оккультизм, новорожденный роман в своих социально-психологических штудиях, теоретический месмеризм, физиогномика, филантропическая публицистика?
В конце концов ученые начинают работать без философов: философы не поспевают за ними. Строго говоря, это были одни и те же люди; разделение, только что допущенное, – риторическая фигура. Но оно уместно, поскольку до статусно-социального разделения в XIX в. оставались считаные десятилетия. Важно, что ученые Просвещения уже являются самостоятельной силой. В XVIII в. возникает широкая специализация; ученый теперь не обязан знать все на свете; у него есть своя узкая сфера. Сами ученые не видят здесь проблемы, потому что реально заработал механизм Академии наук, когда корпорация ученых под защитой государства может позволить себе узкую специализацию, и в случае необходимости коллеги всегда помогут создать контекст, в который можно включить свою науку. Но некая проблема все же появилась. Если функцию философа берет на себя естествоиспытатель, то он должен заняться не совсем органичной для себя работой по созданию идейной генерализации картины мира. Однако коллектив специалистов – это еще не субъект философии. Он может создать скорее не теорию, а мировозренческий дизайн (sit venia verbo). Что это, если не идеология?
В XVIII в. появляется невиданная раньше в истории Европы сила – идеология. Идеология – это утилитарное отношение к идее как к средству. Предполагается, что есть нечто реально-жизненное, некий процесс, интерес (не обязательно корыстный), выраженный на языке идей, которые становятся его представителем. Идеи в этом случае служебны и вторичны. Всегда можно найти исторические прецеденты, и ростки идеологии мы можем усмотреть в теориях и практике софистов, в дискуссиях XVII в. «о древних и новых», но настоящая культурная база идеологии появляется только с Просвещением. Натурализм эпохи приучил видеть Природу единственным Универсумом, и это позволило ученым строить картину мира без философов и богословов. Это и есть рождение позитивистской установки, которое французские материалисты окончательно оформили как идеологию. Отсюда – еще один шаг до идеологизма XIX в.; до утверждения о том, что никакой реальной основы у идей, собственно, нет: идеи всегда сводимы к принципу эффективности, к принципу эффективной защиты внеидейного. Весь XIX в. («эра подозрения», по словам Рикёра) будет посвящен разоблачению всего идейного и идеального; сведению его к реальному. Действительно, в свете новой парадигмы логично предположить, что за любым идеологическим конструктом стоит интерес; и задача философа в том, чтобы демонтировать этот конструкт и показать, какие и чьи интересы он выражает. Именно XVIII в. рождает эту установку. Но поскольку это век не только просвещения и искусства, но еще и век политики, идеология получает новую почву. Политика перестает быть делом узких групп, облеченных реальной властью; она становится общеевропейской игрой. Те, кому не дают рычаги политики, образуют свои кружки и комплоты, и, как оказалось, это очень эффективное средство, чтобы встроиться в политику. Возникает теневой политический театр. Сначала это были по большей части игры, но по мере того, как реальные политики ослабевали из-за предреволюционного кризиса, теневые игроки неожиданно оказались мощными фигурами на доске. Так политика становится великой культурной силой века. Кроме того, в политику было интересно играть, потому что Просвещение нарисовало маршрут, по которому должно идти человечество, впервые по-настоящему ввело понятие прогресса: стало ясно, кто есть враги прогресса, и понятно, за что бороться. Особенно охотно в политику включились люди, которые не имели власти, но имели образование, т. е. разночинцы, или шире – «третье сословие», которое, как говорил аббат Сийес, должно быть всем, хотя на данный момент оно не является ничем; оно работает, но ничего не получает. «Ничто» и «все» – это мощный вектор динамического напряжения, который заставлял и действовать, и создавать идеологические мифы. Оппозиция «механизм – организм» уже недостаточна для описания этой культурной модели, поскольку органическое подчиняется силе, делающей из него свой материал. Кажется, именно эту силу Гёте попытался обозначить как «демоническое», и если это так, то он угадал характер будущих культурных коллизий.
У «Парадокса об актере» сложилась довольно парадоксальная история восприятия. Этот маленький шедевр Дидро отличается вроде бы не концептуальной сложностью, а литературным блеском и неожиданностью поворота темы, но многочисленные (зачастую очень темпераментные) отклики озадачивают именно разнообразием истолкования главной идеи диалога. Казалось бы, театральные деятели, адресаты «Парадокса», соглашаясь или не соглашаясь с Дидро, могли прийти к согласию хотя бы в понимании сути «послания» автора. Но этого не произошло. Характерен такой пассаж К.С. Станиславского: «Основные мысли Дидро, очень неправильно понятые и истолкованные, сводятся к следующему: актер не переживает те же самые чувства, что он переживает в жизни. По мнению Дидро, нельзя жить подлинным чувством совершенно тождественно тому, какое мы испытываем в жизни, но можно жить настоящим, вновь творчески зародившимся чувством, то есть иными словами он говорит то же, что и мы, когда призываем в нашем творчестве на помощь аффективные воспоминания. <…> У Риккобони есть письмо Дидро <…>, где Дидро отстаивает наши принципы, а та отстаивает мейерхольдовские принципы»[17]. В данном случае не так важно, насколько близки «аффективные воспоминания» методу Дидро. Важнее то, что Станиславский берет Дидро в союзники, противопоставляя Мейерхольду. Но и Мейерхольд видел близость идей Дидро приемам своей «биомеханики», а Эйзенштейн вычитывал у него предвосхищение принципов монтажа[18]. Это говорит, кроме прочего, о том, что основная мысль «Парадокса» допускает разные толкования. Диалог этот, как легко заметить, весьма патетичен, но смысл пафоса выводит нас, как представляется, за пределы театральной темы. Ниже предпринимается попытка прочитать «Парадокс об актере» в свете конфликта рассудка и воображения как двух ключевых концептов Просвещения и соответственно в контексте первого кризиса рациональности в европейской культуре Нового времени, многосторонне проявившемся во второй половине XVIII в.
Основной тезис диалога, который на все лады варьируется автором, заключается в требовании дистанцирования от роли и эмоциональной невозмутимости, которые необходимы «великому актеру». «Я хочу, чтобы он был очень рассудочным [beaucoup de jugement]; он должен быть холодным, спокойным наблюдателем [un spectateur froid et tranquille]. Следовательно, я требую от него проницательности, но никак не чувствительности [la pénétration et nulle sensibilité], искусства всему подражать [l’art de tout imiter],vum, что то же, способности играть любые роли и характеры». Так говорит первый протагонист, выразитель авторских мыслей. Второй изумленно восклицает: «Никакой чувствительности! [Nulle sensibilité!]»[19]. Конечно, это вызов веку сентиментализма, несущий не только критику, но и некую позитивную контрпрограмму. В чем преимущество «рассудочной» игры? В том, что «актер, который играет, руководствуясь рассудком (réflexion), изучением человеческой природы [la nature humain], неустанным подражанием идеальному образцу [modèle idéal], воображением (imagination), памятью [mémoire], – будет одинаков на всех представлениях, всегда равно совершенен: все было измерено, рассчитано, изучено, упорядочено в его голове [mesuré, combiné, appris, ordonné dans sa tête]; нет в его декламации ни однотонности, ни диссонансов. Пыл его имеет свои нарастания, взлеты, снижения, начало, середину и высшую точку. Те же интонации, те же позы, те же движения; если что-либо и меняется от представления к представлению, то обычно в пользу последнего. Такой актер не переменчив: это зеркало, всегда отражающее предметы [une glace toujours disposée à montrer les objets], и отражающее с одинаковой точностью, силой и правдивостью [vérité]. Подобно поэту, он бесконечно черпает в неиссякаемых глубинах природы [lefonds inépuisable de la nature], в противном случае он бы скоро увидел пределы собственных богатств»[20]. Хочется воскликнуть: «Да актер ли это?!» Ведь перед нами платоновский мудрец, у которого тоже есть и рефлексия, и идеальная модель, и число для упорядочивания мира и, наконец, для которого мир тоже есть театральная игра. Обратим внимание на ключевые слова, объясняющие источник «величия» такого актера: он обращается к «неиссякаемым глубинам природы». Прежде всего важно, что кроме двух перспектив – актера и зрителя – появляется объективная (абсолютная?) точка отсчета: природа. Важно и то, что природа имеет lefonds inépuisable: т. е. она позволяет актеру выходить из любого ограниченного контекста в пространство творческой свободы, причем выходить легитимно, не в экстатическом произволе, а в союзе с объективностью, поскольку от себя актер привносит только зеркальность, способность нейтрально отражать мир.
В то же время Дидро отнюдь не жертвует эмоциональными способностями актера, предлагая дистинкцию чувства и чувствительности. «Быть чувствительным [sensible] – это одно, а чувствовать [sentir] – другое. Первое принадлежит душе [ате], второе – рассудку [jugement]. Можно чувствовать сильно – и не уметь передать это. Можно хорошо передать чувство, когда бываешь один, или в обществе, или в семейном кругу, когда читаешь или играешь для нескольких слушателей, – и не создать ничего значительного на сцене. Можно на сцене, с помощью так называемой чувствительности, души, теплоты, произнести хорошо одну-две тирады и провалить остальное; но охватить весь объем большой роли, расположить правильно свет и тени, сильное и слабое, играть одинаково удачно в местах спокойных и бурных, быть разнообразным в деталях, гармоничным и единым в целом, выработать строгую систему декламации, способную сгладить даже срывы поэта, возможно лишь при холодном разуме [tête fwide], глубине суждения [profond jugement], тонком вкусе [goût exquis], упорной работе [étude pénible], долгом опыте [longue expérience] и необычайно цепкой памяти [ténacité de mémoire][21].
В этой развернутой программе рационализации вдохновения обращает на себя внимание хорошо темперированное соотношение между чувством и средствами его передачи. Более того, средства оказываются значительнее, чем транслируемая эмоциональная материя, и скорее могут претендовать на статус цели, чем она. Ведь эти средства, собственно, и есть разум, который может бесконечно погружаться в любую иррациональную стихию и возвращаться с эстетической «добычей». Но и мир «души» не приносится в жертву «рассудку». Если во времена Корнеля «sensibilite» держали на коротком поводке, то Дидро не сомневается в том, что рассудок должен погрузиться в душевный апейрон; причем ему, в сущности, все равно, в какой именно, поскольку предусмотренной классицизмом иерархии предметов, достойных изображения, для эпохи Дидро почти уже нет. В конце концов, речь идет об игре актера, а не о миссии философа, и это немало говорит о смене приоритетов. Другое дело, что, подчиняя себя эмоциональной стихии, актер самой своей способностью кристаллизовать переживание и повторять его сколь угодно часто переворачивает заданное отношение и заставляет чувство служить себе. Нужно ли удивляться, что об этой инверсии пишет Дидро – крестный отец «диалектики слуги и господина»?
С чем же боролся философ, формулируя свой «парадокс об актере»? Похоже, что мы имеем дело с одной из самых значительных попыток реванша рациональности после убедительной победы чувствительности и воображения, одержанной в эпоху, условно говоря, раннего Руссо.
Весьма показательно в этом отношении творчество любимца Дидро – Шардена. Поворот, осуществленный Шарденом, это нечто большее, чем неслучайная «эскизность», проницательно замеченная Дидро, но свойственная в пору зрелости XVIII в. не одному Шардену. Здесь речь идет уже о метаморфозе художественного пространства, которое теперь несовместимо с идеальным моделированием: трудно представить Шардена, расставляющего восковые фигурки в «перспективном ящике». У Шардена перед нами – рекурсивный ход культуры, которая нуждается в том, чтобы скрепами феноменального мира стали чувственные перцепции, субъективное время и та сила, которая может их объединить, – эмпирическая индивидуальность. Иногда отмечают (М.И. Свидерская, В.С. Библер), что замечания Дидро о Шардене зачастую противоречат друг другу. Так, В.С. Библер обращает внимание на парадоксальность, «органическую несогласованность» эстетики вкуса Дидро. «Вкус Дидро, вкус безусловно „просвещенный“, удовлетворяется лишь тогда, когда художественное произведение воспринимается одновременно – как природа, как нечто совершенно естественное и – вместе с тем – как нечто неестественное, искусственное, классическое, идеальное, стоящее выше природного образца, точнее, вне этого образца»[22]. То, что мы уже знаем о «Парадоксе», позволяет увидеть в этой «несогласованности» как раз последовательное проведение принципа субстанциального союза художника и природы. Но только Дидро в художнике видит начало неаффективное, независимое от гипноза эмоций, а в природе – начало, стоящее за явлениями, трансфеноменальное, безусловно объективное. Однако ведь в таком случае речь идет о Разуме и Бытии, о концептах, вытесненных, казалось бы, новыми универсалиями: Человеком и Природой. Дидро осуществляет реверсивный культурный ход, предчувствуя, как можно предположить, демонизацию этих универсалий в культуре грядущего века. Несомненно, он тем самым идет против наступающей эпохи «самовыражения», против течения, которое и сегодня еще может считаться доминантой. Но в то же время его идеал – отнюдь не то, что С.С. Аверинцев называет идеалом рассудочно-риторического дискурса. Дидро находится в области отхода от риторической традиции, предшествуя таким гениям переломного времени, как Гёте и Пушкин, и закладывая основы нового канона.
Поскольку первый набросок идей, высказанных в «Парадоксе», появился в печати в 1770 г. (задолго до публикации 1830 г.), можно с уверенностью сказать о влиянии Дидро – прямом или косвенном – на эстетику «нового канона», на теорию игры Шиллера, на гётевскую концепцию стиля, на эстетику Пушкина. Идеи Гёте особенно показательны в этом отношении. В поздней работе «Искусство и древность» Гёте дает емкое пояснение: надо различать, подыскивает ли поэт особенное для всеобщего или видит в особенном всеобщее. В первом случае возникает аллегория, где особенное служит лишь примером; второй случай характеризует собственную природу поэзии: она передает особенное, не думая о всеобщем, не указывая на него. Это не только формулировка гётевского символизма, но и в какой-то мере – стратегия, предлагаемая Дидро актеру: встраивать всеобщее в особенное уже самой рефлексивной дистанцией.
Говоря о новом рационализме «Парадокса», стоит обратить внимание и на характер актерской рефлексии, которая сопровождается у Дидро такими устойчивыми характеристиками, как «холод» и «отстраненность». Почему в эпоху теплой человечности – «холод»? Видимо, здесь у Дидро – целый букет мотивов. Но прежде всего чувствуется неприятие той «непосредственности», которая вместе с индивидуализмом преодолела со временем и всю европейскую аксиологию личностного разума. (Мы-то сейчас уже знаем, какие инфернальные формы приобрела эта чувствительность и непосредственность. Но почему бы не предчувствовать этого и Дидро – современнику де Сада и почти современнику режиссеров Французской революции?) Дистанция и холодная рефлексивность выступают у Дидро в этом отношении антидотом и приобретают отчетливую социально-этическую окраску. Поучительный опыт рассмотрения «Парадокса» в контексте властных, социальных и этических отношений эпохи предпринял М. Ямпольский, отметивший у Дидро специфический механизм блокирования просвещенческого мимесиса: «Дидро строит модель мимесиса, который позволяет актеру сохранить позицию субъекта, сознавать, что имитация – не более чем театральная игра. Это разделение гения на чисто пластическую массу – актера и рационального зрителя – <…> позволяет сохранять репрезентативную структуру зрелища, то есть структуру субъективности. Но субъективность эта обретается ценой эмоциональности. Сентиментальность – главная угроза структуре субъективности»[23]. Возможно, «холод» не единственная оппозиция «сентиментальности», но для Дидро важно вспомнить о классической характеристике разума, которая предполагала его отстраненность и невовлеченность в природный континуум. «Душа великого актера состоит из того тонкого вещества [l’élément subtil], которым наш философ заполнял пространство, оно ни холодно, ни горячо, ни тяжело, ни легко, оно не стремится к определенной форме [n’affecte aucune forme déterminée] и, воспринимая любую из них, не сохраняет ни одной»[24]. Душа, таким образом, может и не быть холодной, но обязательно должна избегать детерминации определенной формой. Принято считать, что «наш философ» – это Эпикур. Но заданным характеристикам, по сути, отвечает «архе» всех раннегреческих философов: и «от всего отрешенное» единое Гераклита, и анаксагоровский Ум… Именно отрешенность и дает право как на понимание, так и на управление. И все же показательно, что именно «холод» становится лейтмотивом «Парадокса». В таком виде и транслируется этот мотив в той ветке европейской культуры, которая оказалась если не оппозиционной, то все же – рецессивной частью цивилизации позитивизма и психологизма. Мы узнаем этот мотив в формуле Стендаля: «Роман – это зеркало, с которым идешь по большой дороге [un roman est un miroir qui se promène sur une grande route]»; в дефиниции вдохновения у Наполеона (вдохновение – это быстро сделанный расчет) и Пушкина (расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий); в «тур д’ивуар» Флобера, в эстетике «Парнаса»… и далее в поэтике Чехова, в блоковских строках, напоминающих о неотъемлемом от этого мотива призвуке трансцендентности:
И к вздрагиваньям медленного хлада
Усталую ты душу приучи,
Чтоб было здесь ей ничего не надо,
Когда оттуда ринутся лучи.
«Парадокс об актере» не был, конечно, единственным в XVIII в. случаем высвеченной коллизии рациональности и имагинативных форм культуры, но мы имеем право говорить об оригинальной версии «спасения» рационализма, выдвинутой Дидро. Дело не только в том, что разум в работе Дидро сближается с неким универсальным чувством, наделенным правом контроля и руководства над аффектами, и трактуется как источник «идеального образа»: в этом Дидро не одинок. Важнее то, что в сентиментальной аффективности была предугадана грозная дионисийская сила, угрожающая аполлиническому началу в Просвещении. Поэтому борьба Дидро с «чувствительностью» выходит за рамки эстетической проблематики и, по сути, является альтернативной антропологией как по отношению к гуманизму Просвещения, так и по отношению к психологизму XIX в.
Постскриптум
Не странно ли, что, почувствовав родственную эстетику в Шардене, Дидро не заметил ее в творчестве Ватто? Да, он недолюбливал Ватто: «… я отдал бы десять Ватто за одного Тенирса»[25]. И конечно, Дидро вполне мог воспринимать магический лиризм Ватто как идейно ненавистную ему сентиментальность. Nulle sensibilité! Да и некоторая отстраненность Ватто от мира своих картин – это не tête f'wide. В «Опыте о живописи» он категоричен. Считая невыносимым в изобразительном искусстве выработанное цивилизацией галантное жеманство, с которым проявляется учтивость, Дидро не принимает в качестве контраргумента даже ссылку на Ватто. (Характерно, впрочем, что он же и делает эту ссылку от лица воображаемого оппонента.) «Отнимите у Ватто его ландшафты, его краски, изящество его фигур и их одежд; смотрите только на изображаемую им сцену [ne voyez que la scène] и судите сами»[26]. То есть та специфическая театральность, о которой пишут исследователи творчества Ватто, не существует для Дидро. Но немного ниже он пишет – безотносительно к Ватто – о способности живописи сообщить статичному пространству кинетическую силу: «Всякое действие заключает в себе несколько моментов; но я сказал уже и повторяю еще, что художнику принадлежит только один, длительность которого равна взгляду [l’artiste n’en a qu’un dont la durée est celle d’un coup-d’oeil]. Однако, подобно тому, как на лице, на котором царила скорбь и внезапно проявляется радость, я найду переживания нынешнего момента, смешанное со следами переживания уже уходящего; так и в моменте, который изберет художник, могут оставаться то ли в позах, то ли в характерах, то ли в действиях пребывающие следы момента предшествующего [des traces subsistantes du moment qui a précédé]. Система фигур, сколько-нибудь сложная, не может вся сразу измениться; это известно каждому, кто знает природу и кто обладает чувством правдивости. Но он чувствует также, что при этих разделенных фигурах и неопределенных персонажах, только отчасти содействующих общему эффекту, он проиграет в смысле интереса то, что выиграет со стороны разнообразия. Что увлекает мое воображение? То же, что привлекает и массу [C’est le concours de la multitude][27]. Я не могу противостоять такому количеству призывающего меня народа. Мои глаза, мои руки и моя душа невольно устремляются туда, куда прикованы их глаза, их руки и их души»[28].
Но разве не в этом волшебство Ватто, недоступное, кажется, в такой мере больше никому в XVIII в.? Возможно, наиболее показателен в этом отношении шедевр Ватто «Вывеска Жерсена» («симфония из тысяч волшебных нюансов», по выражению А.К. Якимовича[29]), где динамика не дана напрямую, движением фигур и групп, но воплощена как раз в том, что Дидро назвал traces subsistantes, и идеально уравновешена с эмоциональными характеристиками персонажей[30]. Вот как пишет об этом искусствовед: «Спокойная волнистая линия очерчивает две основные группы: упаковщики и входящая в магазин пара слева и справа – группа у прилавка. Но и внутри каждой группы есть свой, созвучный первому, волнистый, мерный ритм, а расположение фигур в каждой из них словно бы повторяет латинскую букву «s». Перспективные линии неторопливо уводят взгляд зрителя в светлую глубину дома <…> Впервые в живописи Ватто мир искусства отделился от мира реального, и реальные люди из плоти и крови впервые показаны им в прямом взаимодействии с выдуманным, живописным миром. Здесь, в этой лавке, происходит примирение фантазии и реальности, прежние герои словно сходят со сцены и, стерев грим, присоединяются к зрителям – таким же, как они»[31]. «Присоединение к зрителям» – это не просто риторическая фигура: этот весьма важный момент, замеченный исследователем, перекликается с пафосом Дидро, который пытался спасти актера из клаустрофобического плена аффектов и сделать его субъектом творческой свободы. «Длительность» Шардена и «кинетика» Ватто сходным образом выводят живопись из замкнутого пространства мимесиса, и это должно было бы побудить автора «Парадокса» взять Ватто себе в союзники.
Культурфилософские идеи германии XVIII – первой трети XIX в.
Немецкое Просвещение некоторое время находилось в фарватере английского и французского, но его более поздний расцвет стал также фактором силы: и задачи, и их решение были зрелым плодом духовного развития новой Европы. К тому же Германия этого времени была раздробленным и сложно устроенным политическим телом с двумя основными конфессиями, немногими центрами национальной «гравитации», слабой экономикой, весьма разными взглядами и настроениями бесчисленных властителей. Но культурный капитал и историческое самосознание были более чем значительны. Это обусловило интенсивнейшую духовную жизнь тогдашней Германии. Как и в России, Просвещение в Германии едва ли не главным центром имело волю государя и собранных вокруг него «экспертов». Такой влиятельной и хорошо интегрированной интеллигенции, как во Франции, в немецких землях не существовало. Однако преодоление этих трудностей превратило со временем Германию в авангард теоретической мысли, направленной на решение самых острых духовных коллизий позднего Просвещения. Неудивительно, что и окончательное формирование теории культуры как ветви гуманитарной мысли произошло в Германии во второй половине XVIII в. (Теорию культуры в данном случае правильнее называть не культурологией, что было бы анахронизмом, а культурфилософией[32].)
С выходом в свет труда И.И. Винкельмана (1717–1768) «Мысли о подражании произведениям греческой живописи и скульптуры» (1755) начинается новый этап культурной рефлексии, который был не только выбором «немецкого пути» Просвещения, но и общеевропейским поворотом. У Винкельмана за хрестоматийной формулой «благородной простоты и спокойного величия» греческого искусства скрывается нетривиальная теоретическая основа. Мы можем усмотреть здесь латентную полемику с принятыми в XVIII в. оценками. Классическим каноном по-прежнему в это время считалось римское искусство в его не столь уж многочисленных и в основном эллинистических образцах, хотя об этом уже шли споры, и расцвет этнографии и археологии, позволивший шаг за шагом приблизиться к исторической плоти Греции и Рима, подталкивал к переоценке ценностей. Винкельман не просто предлагает переориентироваться на греческий канон, но и встраивает его в культурное целое. Греческое искусство становится пластической эмблемой ценностей своей цивилизации: демократии, гуманизма, разума, меры, одухотворенной телесности… Вернемся к формуле «благородной простоты и спокойного величия». Принцип простоты в винкельмановском контексте – это вызов поэтике барокко. Предикат благородства – протест против сентиментального мещанского демократизма с его культом добрых нравов «третьего сословия». Принцип величия – спор с приземленным натурализмом Просвещения. Предикат спокойствия – коррекция категории «возвышенного», которая зачастую в эстетике Просвещения (а позже штюрмерства) трактовалась как катастрофический революционный слом устоев. В дальнейшем критическая немецкая мысль двинется по всем этим четырем направлениям.
Сама Античность для Винкельмана становится каноном, задающим ритм и смысл истории. Вслед за Вазари и Вико (с идеями которого он был знаком) Винкельман пытается выстроить периодизацию культурных эпох, но его схема уже несколько сложнее, чем биоморфная модель предшественников (детство, зрелость, упадок). Винкельман выделяет следующие четыре эпохи:
1. Древнейшая (или архаическая): от начала до Фидия.
2. Высокая: Фидий и его время.
3. Изящная (или «элегантная»): Пракситель, Лисипп, Апеллес.
4. Подражательная: греко-римская.
Этот ритм он усматривает и в искусстве итальянского Возрождения: 1) до Рафаэля; 2) Рафаэль; 3) Корреджо; 4) братья Карраччи. В дальнейшем историческая культурология обнаружит, что применимость этой схемы выходит далеко за рамки истории искусства: скорее можно говорить об универсальной модели смены культурных периодов. Возможно, что Винкельман был первым, кто ввел понятие «стиль» в смысле характеристики художественной эпохи. Еще решительнее можно утверждать, что он впервые говорит о произведении искусства на новом языке: вместо прямолинейного описания предмета и оценочных эпитетов мы видим попытку реконструировать его «внутреннюю форму», осуществить своеобразный перевод с языка художественной техники на язык поэтики.
У Винкельмана мы уже встречаем такие средства интерпретации искусства, которые можно использовать в гораздо более широком плане – как метод описания культуры и ее типов. Еще дальше по этому пути пошел Г.Э. Лессинг (1729–1781). Размежевание «древних» и «новых», о котором шла речь выше, до некоторой степени может пригодиться при сравнении Винкельмана и Лессинга. Неоклассицизм первого противостоит новаторству второго. Лессинг пытается ограничить власть античного канона, для чего создает свою теорию различения пространственных и временных искусств. В «Лаокооне» (1766) он проводит границу между литературой и зрительными искусствами, показывая, что мир пластической красоты не в состоянии выразить подвижную реальность мира человеческой воли, действия, истории. Это может сделать «поэзия» (т. е. совокупность вербальных искусств), которая в состоянии передать временную последовательность, имеет возможность разбивать свое повествование на части и фрагменты и не прикована так жестко к «идеалу красоты». На примере знаменитой скульптурной группы Лессинг показывает, что верность этому идеалу заставила скульпторов ослабить изображение страдания. Литература же в состоянии выражать эстетику страдания и даже безобразия. Такое расширение эстетического спектра было весьма значимым для самооправдания культуры Нового времени. Лессинг утверждает мысль, которая сейчас нам не кажется такой революционной, каковой она была на самом деле: литература не создает картинки при помощи слов, она является не ослабленной версией изобразительного искусства, а другим художественным миром, который более значим для современности с ее динамикой.
Таким же историческим оправданием для театра была «Гамбургская драматургия» (1767–1769); с нее, в частности, начинается немецкий культ Шекспира, важный для самосознания эпохи. В этой работе Лессинг также прочертил границу между старой и новой эстетикой, говоря о неаристотелевском понимании «всеобщего характера»: современности важно изобразить не столько тип с его усредненными характеристиками, сколько воплощенную идею, которая не исключает неповторимой индивидуальности. Наконец, большую роль в воспитании сознания культурно-религиозной толерантности сыграла драма «Натан Мудрый» (1779): тема «диалога культур» звучит здесь – без экзотики и скрытого европоцентристского высокомерия – как предупреждение и напоминание Просвещению о его миссии.
И.Г. Гердер (1744–1803), подхватывая эстафету немецкой просветительской мысли, получает в наследство большой ресурс размышлений о культуре и связывает его в такую целостность, которая уже может претендовать на статус науки о культуре. В ранних работах (среди прочих в трактате «О происхождении языка», 1772) он разрабатывает проблемы эстетики и языкознания. Его учение о «духе народа», который выражается в искусстве и – наиболее чисто – в народной поэзии, стоит у истоков фольклористики. Работа о происхождении языка дает одну из первых моделей естественного становления языка в ходе истории. Гердер отрицает генетическую субординацию языка и мышления, полагая, что они развиваются во взаимообусловленном единстве. Он не только отвергает богоданность языка, но и, полемизируя с Кондильяком и Руссо, утверждает его собственно человеческую специфику, находимую в мысли, практике и общественности.
В «Идеях к философии истории человечества» (опубликованы в 1784–1791) он создает обширную картину эволюции природы от неорганической материи до высших форм человеческой культуры. Здесь Гердер реализовал свой проект универсальной философской истории человечества. Труд состоит из 20 книг (и плана заключительных пяти книг), в которых Гердер, суммируя достижения современных ему космологии, биологии, антропологии, географии, этнографии, истории, дает изображение поэтапного становления человечества. В центре его внимания – процесс мирового развития. Общий порядок природы Гердер понимает как ступенчатое поступательное развитие совершенствующихся организмов от неорганической материи через мир растений и животных к человеку и – в будущем – к сверхчувственной «мировой душе». Как свободная и разумная сущность человек представляет собой вершину сотворенной божественным духом природы. Критикуя телеологию, Гердер подчеркивает значение воздействия внешних факторов (совокупность которых он называет «климатом») и считает достаточным для понимания истории ответить на вопрос «почему», не задаваясь вопросом «для чего». В то же время он признает ведущей силой истории внутренние, «органические» силы, главная из которых – стремление к созиданию общества. Основной сплачивающей силой общества Гердер считает культуру, внутренней сущностью которой является язык. Проблеме происхождения и развития языка Гердер уделяет особое внимание.
Представляет интерес предложенная Гердером концепция «всеобщего мира», делающая упор не на политическом договоре «верхов», как в большинстве аналогичных трактатов XVIII в., а на нравственном воспитании общественности. В отличие от своей ранней критики цивилизации, близкой по духу Руссо, Гердер возвращается в «Идеях…» к историческому оптимизму Просвещения и видит в прогрессирующем развитии человечества нарастание гуманизма, который понимается им как расцвет принципа личности и обретение индивидом душевной гармонии и счастья.
Книга вызвала интенсивную полемику в кругах просветителей. Гёте ее приветствовал, Кант критиковал ее эвдемонизм и отсутствие философской методологии, но отчасти благодаря самой полемике просветительский дискурс о культуре приобрел именно гердеровский «формат». Благодаря «Идеям…», Гердера можно считать, наряду с Вико и Кантом, отцом культурологии как науки. В целом работа сыграла роль манифеста просвещенческого историзма.
Во второй половине 1780-х годов Гердер вовлекается в «спор о пантеизме» и публикует трактат «Бог» (1787), в котором выказывает себя радикальным сторонником спинозизма.
Поздний Гердер разрабатывает своеобразную культурную антропологию и политическую философию в «Письмах для поощрения гуманности» (1793–1797), где, в частности, выдвигает свою версию учения о «вечном мире», к которому должны привести не договоры властей, а гуманистическое воспитание народа, торговля и здоровый прагматизм. В работах «Метакритика чистого разума» (1799) и «Каллигона» (1800) Гердер вступает в ожесточенную, но довольно поверхностную полемику с Кантом. «Каллигона» содержит одну из первых формулировок позитивистской эстетики.
В рамках позднего этапа немецкого Просвещения учение Гердера оказалось в изоляции. Будучи близким по настроению к пантеистической натурфилософии Гёте, оно противоречило ей рационалистическим доктринерством и религиозным духом. Оно вступило в конфликт с кантовской версией природы человека и смысла истории: принципы счастья индивидуума (Гердер) и благоденствия общества в государстве (Кант) оказались несовместимыми. Ранних романтиков отталкивал наивный оптимизм Гердера. Несмотря на это, мировоззрение Гердера стало арсеналом тем, идей и творческих импульсов для самых разных направлений немецкой мысли: для романтической эстетики и натурфилософии, гумбольдтианского языкознания, диалектической историософии Фихте и Гегеля, антропологии Фейербаха, герменевтики Дильтея, философии жизни, либеральной протестантской теологии.
Об одном из течений, у истоков которых стоял Гердер, надо сказать особо. В литературно-эстетическом движении «Буря и натиск»[33] бунтарский дух соединился с руссоизмом, литературными новациями Клопштока и историзмом Гердера. Среди тех, кто так или иначе был затронут этой молодежной субкультурой, были Бюргер, Ленц, Клингер, Шубарт, Гейнзе, Фосс, Гёте, Шиллер. У штюрмеров появляется идейный синдром, который не раз проявит себя в истории: индивидуалистическая критика цивилизации, культ непосредственности самовыражения и соединение всего этого с преклонением перед стихией национального, народного, фольклорного, традиционного. «Бурю и натиск» можно рассматривать как часть общего потока контрпросвещения, но именно немецкая его версия оказалась особенно важной для становления наук о культуре. Движение довольно быстро исчерпало себя из-за недостатка конструктивных идей, но штюрмерское наследство вошло как составной элемент в европейский романтизм.
И.В. Гёте (1749–1832) фокусирует в своем творчестве многие тенденции немецкого Просвещения, и, хотя специальной культурологической доктрины мы у него не находим, именно его идеи оказались в числе самых востребованных позднейшей традицией. В годы штюрмерской молодости Гёте был адептом национальной и личной самобытности: в народной поэзии, готической архитектуре («О немецком зодчестве», 1772), в творчестве таких мировых гениев, как Шекспир, он видел противовес оцепеневшей нормативности современной культуры и власти. Преодолев штюрмерство, Гёте приступает к выработке новой системы ценностей. В конце 1780-х годов кристаллизуется идеология веймарского классицизма, которую разрабатывают Шиллер и Гёте – сначала порознь, а затем в интенсивном и плодотворном сотрудничестве. Винкельмановский идеал гармонической личности наполняется натурфилософскими и историософскими идеями, в основе которых принципы «меры», «середины» и «здоровья». Дальше всего этот идеал от мещанской умеренности: Гёте героизирует способность носителя культуры вбирать опыт прошлого и находит бытийный центр, равноудаленный от всех крайностей. В романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» (изд. 1795–1796) Гёте иллюстрирует идеи веймарского классицизма историей духовного становления молодого человека, прошедшего путь от эстетизма «театрального призвания» до осознанного выбора практического поприща.
В этот период Гёте вырабатывает свою эстетику, которая, как оказалось впоследствии, содержала большой культурологический потенциал. Отправной точкой для Гёте является «природа» – главный концепт его мировоззрения, живое, развивающееся, надличное бытие, включающее все сущее как свои части. Искусство, по Гёте, вместе со своим творцом, человеком, принадлежит природе, но в своем духовном аспекте оно все же «возвышается» над ней и обретает право соединять «рассеянные в природе моменты», придавая им «высшее значение и достоинство» («О правде и правдоподобии произведений искусства», 1797). Но, чтобы применить это право, художник должен найти правильную связь между всеобщим и особенным. Гёте решает таким образом классическую задачу Просвещения: задачу выхода из двух тупиков – абстрактной нормативности и слепой эмпиричности.
В работе «Простое подражание природе, манера, стиль» (1789) он различает три заглавных типа творчества, которые относятся друг к другу как два полюса к середине. «Простое подражание природе» воспроизводит явления в меру своего мастерства, не чувствуя духа целого; художник здесь проявляет спокойное утверждение сущего, его «любовное созерцание». «Манера» выражает особенность художественной индивидуальности автора, жертвуя конкретными деталями и подчиняя их общему замыслу; происходит «восприятие явлений подвижной и одаренной душой». «Стиль» проникает в саму сущность вещей, не выходя за пределы «видимых и осязаемых образов»; он «покоится на глубочайших твердынях познания», но не за счет абстракций, а благодаря найденному центральному образу, которому подчиняются частности. «Стиль» оказывается таким соединением противоположностей, которое возводит их на более высокий уровень, где объективное и субъективное примиряются. В поздней работе «Искусство и древность» (1821–1826) Гёте дает еще одно емкое пояснение: «Огромная разница, подыскивает ли поэт особенное для всеобщего или видит в особенном всеобщее. В первом случае возникает аллегория, где особенное служит лишь примером, случаем всеобщего; второй случай характеризует собственную природу поэзии, она передает особенное, не думая о всеобщем, не указывая на него. Кто, однако, схватывает это живое особенное, рано или поздно, не замечая, получает одновременно и всеобщее»[34]. Здесь перед нами не что иное, как формулировка гётевского символизма, который окажет на культурологию немалое влияние (табл. 1).
Таблица 1
Гётевский символизм
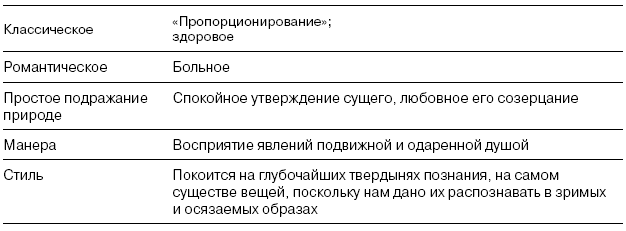
Для позднего Гёте характерны размышления о «мировой культуре» (возможно, что он и ввел в оборот это словосочетание, так же как в случае с «мировой литературой»). С одной стороны, он дорожит несоизмеримостью и своеобычием культур, с другой же – предвосхищая культурную компаративистику, утверждает плодотворность сравнений строения и воздействия аналогичных явлений культуры. Литературным воплощением этого метода стал цикл «Западно-восточный диван» (изд. 1819), в котором Гёте осуществляет попытку эмпатии, проникновения в дух персидской поэзии при виртуозном сохранении «европейской» точки отсчета.
Как ни странно, для понимания гётевского учения о культуре ключевыми оказываются его натурфилософские работы «Опыт о метаморфозе растений» (1790) и «Учение о цвете» (1810). Здесь Гёте выдвигает свою морфологию природы, основанную на поисках «прафеномена» – «первоявления», которое своей особенностью раскрывает всеобщность. Например, лист есть «перворастение», в котором заложена своего рода морфологическая «программа» для всех состояний всех возможных растений. В основу природной динамики Гёте полагает принципы полярности и восхождения. Раздваиваясь и вновь собираясь в единство, природа осуществляет бесконечное восхождение ко все более высоким степеням совершенства. Эти принципы Гёте прилагает и к миру культуры: «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821–1829), «Избирательное сродство» (1809) и, конечно, «Фауст» (1808–1832) в своей литературной оболочке скрывают модели духовной морфологии личности, общества и истории.
Ф. Шиллер (1759–1805) известен в истории культурологической мысли прежде всего своим концептом игры. Но, чтобы лучше понять его, нужно реконструировать контекст шиллеровского идейного мира. В работе «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795–1796) Шиллер различает два типа культур, которым соответствуют два типа творческой индивидуальности. «Наивное» – это стихийное прирожденное единство личности с природой, основанное на чувственности; «наивный» художник творит так же, как природа, – непосредственно и бессознательно, нуждаясь только в искусном самоограничении. «Сентиментальное» – это стремление идеального к природному воплощению, основанное на разумности; «сентиментальный» художник вечно стремится к недостижимому слиянию своей субъективности с реальностью, ломая ограничения и условности. (Эта дилемма проецировалась Шиллером на его отношения с Гёте, который был для него воплощением гармоничной «наивности».) Шиллер подчеркивает драматизм этого раскола и тем самым оказывается у истоков дихотомического понимания культуры как напряженного диалога двух неслиянных и нераздельных элементов. (Ср. позднейшие оппозиции «классическое – романтическое», «аполлинийское – дионисийское» и т. п.) Сами по себе эти полюса несоединимы (разве что в руссоистском доцивилизационном раю), но культура может и должна их примирить, тщательно охраняя их границы и способствуя внутреннему развитию каждой сферы, что приводит к сближению и если не к синтезу, то к временному равновесию. Социальный аспект этой роли культуры – эстетическое воспитание.
В работах «О грации и достоинстве» (1793) и «Письма об эстетическом воспитании» (1795) Шиллер утверждает, что способность эстетического воспитания без принуждения вовлечь человека в духовный мир позволяет надеяться на примирение долга и склонности; чувственности с ее «влечением к материи» и разума с его «влечением к форме». Такое состояние счастливого баланса Шиллер называет «прекрасной душой». В результате должно появиться «влечение к игре» (Spieltrieb), которое снимает конфликт противоположностей и, собственно, является главной тайной культуры. Игра позволяет преодолеть дистанцию между аморфным потоком жизни и холодной статикой формы, итогом чего оказывается красота. Не менее важно то, что в своем стремлении к красоте человек порождает не только искусство, но и самого себя и все человеческое сообщество, превращая свои скрытые возможности в гармоничную действительность. Формула Достоевского (знатока и поклонника Шиллера) «Красота спасет мир», скорее всего, коренится в этом комплексе идей. Путь понимания культуры, проложенный Шиллером, оказался более чем перспективным. Именно по нему пошли и посткантовская философия «трансцендентального идеализма», и немецкий романтизм.
Романтизм возник в 90-е годы XVIII в. в Германии, а затем распространился по всему западноевропейскому культурному региону. Но здесь нас интересует йенская школа немецкого романтизма как источник базовой культурологической концепции. Романтизм – это эстетическая революция, которая вместо науки и разума (что характерно для эпохи Просвещения) ставит высшей культурной инстанцией художественное творчество индивидуума – последнее становится образцом, «парадигмой» для всех видов культурной деятельности. Основная черта романтизма как движения – стремление противопоставить бюргерскому, «филистерскому» миру рассудка, закона, индивидуализма, утилитаризма, атомизации общества, наивной веры в линейный прогресс новую систему ценностей: культ творчества, примат воображения над рассудком, критику логических, эстетических и моральных абстракций, призыв к раскрепощению личностных сил человека, следование природе, миф, символ, стремление к синтезу и обнаружению взаимосвязи всего со всем. Довольно быстро аксиология романтизма, выработанная йенцами, выходит за рамки искусства и начинает определять стиль философии, естественно-научных изысканий, социологических построений, медицины, промышленности, одежды, поведения и т. д.
Парадоксальным образом романтизм соединял культ личной неповторимости индивидуума с тяготением к безличному, стихийному, коллективному; повышенную рефлективность творчества – с открытием мира бессознательного; игру, понимаемую как высший смысл творчества, – с призывами к внедрению эстетического в «серьезную» жизнь; индивидуальный бунт – с растворением в народном, родовом, национальном. Эту изначальную двойственность романтизма отражает его теория иронии, которая возводит в принцип несовпадение условных стремлений и ценностей с безусловным абсолютом как целью. К основным особенностям романтического стиля надо отнести игровую стихию, которая растворяла эстетические рамки классицизма; обостренное внимание ко всему своеобычному и нестандартному (причем особенному не просто отводилось место во всеобщем, как это делал барочный стиль или предромантизм, но переворачивалась сама иерархия общего и единичного); интерес к мифу и даже понимание мифа как идеала романтического творчества; символическое истолкование мира; стремление к предельному расширению арсенала жанров; опору на фольклор; предпочтение образа понятию, стремления – обладанию, динамики – статике; эксперименты по синтетическому объединению искусств; эстетическую интерпретацию религии; идеализацию прошлого и архаических культур, нередко выливающуюся в социальный протест; эстетизацию быта, морали, политики.
В полемике с Просвещением романтизм формулирует – явно или неявно – программу переосмысления и реформы философии в пользу художественной интуиции, в чем поначалу он очень близок раннему этапу немецкой классической философии. Философия для Новалиса и Ф. Шлегеля – главных теоретиков течения – вид интеллектуальной магии, с помощью которой гений, опосредуя собой природу и дух, создает органическое целое из разрозненных феноменов. Однако абсолют, восстановленный таким образом, романтики трактуют не как однозначную унитарную систему, а как постоянно самовоспроизводящийся процесс творчества, в котором единство хаоса и космоса каждый раз достигается непредсказуемо новой формулой. Акцент на игровом единстве противоположностей в абсолюте и неотчуждаемости субъекта от построенной им картины универсума делает романтиков соавторами диалектического метода, созданного немецким трансцендентализмом. Разновидностью диалектики можно считать и романтическую «иронию» с ее методом «выворачивания наизнанку» любой позитивности и принципом отрицания претензий любого конечного явления на универсальную значимость. Из этой же установки следует предпочтение романтизмом фрагментарности и «сократичности» как способов философствования. В конечном счете это – вкупе с критикой автономии разума – привело к размежеванию романтизма с немецкой классической философией и позволило Гегелю определить романтизм как самоутверждение субъективности: «Подлинным содержанием романтического служит абсолютная внутренняя жизнь, а соответствующей формой – духовная субъективность, постигающая свою самостоятельность и свободу»[35].
Отказ от просвещенческой аксиомы разумности как сущности человеческой натуры привел романтизм к новому пониманию человека: под вопросом оказалась очевидная прошлым эпохам атомарная цельность «я», был открыт мир индивидуального и коллективного бессознательного, прочувствован конфликт внутреннего мира с собственным «естеством» человека. Дисгармония личности и ее отчужденных объективаций особенно богато была тематизирована символами романтической литературы (двойник, тень, автомат, кукла, наконец – знаменитый монстр Франкенштейна, созданный фантазией М. Шелли).
В поисках культурных союзников романтическая мысль обращается к античности и дает ее антиклассицистское толкование как эпохи трагической красоты, жертвенного героизма и магического постижения природы, эпохи Орфея и Диониса. В этом отношении романтизм непосредственно предшествовал перевороту в понимании эллинского духа, осуществленному Ницше. Средневековье также могло рассматриваться как близкая по духу, «романтическая» по преимуществу культура (Новалис), но в целом христианская эпоха (включая современность) понималась йенцами как трагический раскол идеала и действительности, неспособность гармонически примириться с конечным посюсторонним миром. С этой интуицией тесно связано романтическое переживание зла как неизбывной вселенской силы: с одной стороны, романтизм увидел здесь глубину проблемы, от которой Просвещение, как правило, попросту отворачивалось, с другой – романтизм с его поэтизацией всего сущего частично утрачивает этический иммунитет Просвещения против зла. Последним объясняется двусмысленная роль романтизма в зарождении тоталитаристской мифологии XX в.
Романтическая натурфилософия, обновив возрожденческую идею человека как микрокосма и привнеся в нее идею подобия бессознательного творчества природы и сознательного творчества художника, сыграла определенную роль в становлении естествознания XIX в. (как непосредственно, так и через ученых – адептов раннего Шеллинга, таких как Карус, Окен, Стеффене). Гуманитарные науки также получают от романтизма (от герменевтики Шлейермахера, философии языка Новалиса и Ф. Шлегеля) импульс, значимый для истории, культурологии, языкознания.
В романтическом понимании религиозной культуры можно выделить два направления. Одно было инициировано Шлейермахером («Речи о религии», 1799) с его пониманием религии как внутреннего, пантеистически окрашенного переживания «зависимости от бесконечного». Оно существенно повлияло на становление протестантского либерального богословия. Другое представлено общей тенденцией позднего романтизма к ортодоксальному католицизму и реставрации средневековых культурных устоев и ценностей (программная для этой тенденции работа Новалиса – «Христианство, или Европа», 1799).
Историческими этапами в развитии романтизма стали зарождение в 1798–1801 гг. йенского кружка (А. Шлегель, Ф. Шлегель, Новалис, Тик, позже Шлейермахер и Шеллинг), в лоне которого были сформулированы основные философско-эстетические принципы романтизма; появление после 1805 г. гейдельбергской и швабской школ литературного романтизма; публикация книги Ж. де Сталь «О Германии» (1810), с которой начинается европейская слава романтизма; широкое распространение романтизма в рамках западной культуры в 1820-1830-х годах; кризисное расслоение романтического движения в 1840-х, 1850-х годах на фракции и их слияние как с консервативными, так и с радикальными течениями «антибюргерской» европейской мысли.
Влияние романтизма заметно прежде всего в таком философском течении, как «философия жизни». Своеобразным ответвлением романтизма можно считать творчество Шопенгауэра, Гёльдерлина, Керкегора, Карлейля, Вагнера-теоретика, Ницше. Историософия Баадера, построения «любомудров» и славянофилов в России, философско-политический консерватизм Ж. де Местра и Рональда во Франции также питались настроениями и интуициями романтизма. Неоромантической по характеру была философия символистов конца XIX – начала XX в.
Еще один великий итог немецкого Просвещения – немецкая трансцендентальная философия И. Канта (1724–1804), И.Г. Фихте (1762–1814), Ф.В.Й. Шеллинга (1775–1854) и Г.В.Ф. Гегеля (1770–1831), в рамках которой окончательно сформировалась теория культуры как самостоятельная ветвь гуманитарной мысли (табл. 2).
Рассмотрим генезис проблемы культуры в третьей «Критике» Канта. В «Критике способности суждения» (1790) Кант, как известно, анализирует понятие цели и строит свою телеологию, завершившую его систему. При этом не происходит выявление нового типа бытия, как это было в предыдущих «критиках»; Кант по-прежнему убежден, что нам даны лишь два типа реальности, два самостоятельных мира: природа и свобода. Но появляется новый тип априори – принцип целесообразности. Этот принцип не позволяет субъекту сконструировать действительный объективный мир, но тот субъективный мир, который возникает в результате применения принципа целесообразности, имеет важное значение для «настоящих» миров природы и свободы. Последние не имеют между собой ничего общего и нигде не пересекаются, если не считать самого человека. Но «иллюзорный» мир, построенный третьим априори, указывает им на возможность контакта. Кант рассматривает этот мир на примере двух его «измерений» (не исчерпывающих, заметим, «размерности» данного мира). Это жизнь как система организмов и искусство вместе со стоящей за ним символической реальностью.
Таблица 2
Основные труды представителей немецкой трансцендентальной философии
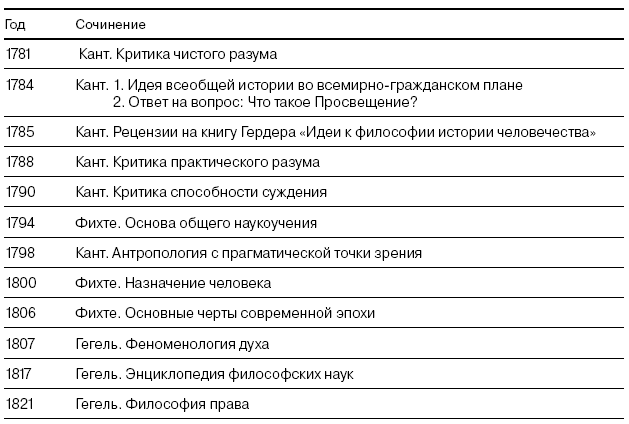
Предмет, по учению критической философии, может восприниматься и мыслиться только в одном из двух аспектов: с точки зрения или природы, или свободы. Совместить их можно лишь в порядке последовательности смены аспектов рассмотрения, но не принимая одновременно оба аспекта. Искусство нарушает этот закон. Его процесс и его произведение – это свобода, ставшая природной реальностью, или природа, действующая по законам свободы. Искусство – лишь «как бы» реальность, оно само не вносит ничего объективно нового, но только меняет точку зрения на предмет. Предмет становится двузначным, он показывает и себя, и нечто другое. Кант назвал эту способность и ее результат «символической гипотипозой». Высшим проявлением символической способности оказывается главная категория кантовской эстетики – прекрасное. Прекрасное есть символ доброго. Символична и вторая центральная категория «Критики» – возвышенное. Она символизирует то, что выступает в рамках искусства как трансцендентальный идеал.
Целесообразность как априорный принцип, порождающий все типы символического, не выводится ни из природной причинности, ни из свободы, которая лишь ориентируется на конечную цель. Именно поэтому целесообразность есть самостоятельный тип априори. Для самого Канта такой результат был отчасти неожиданностью: априорность, считал он, должна порождать свой тип объективности; условный же мир целесообразности не может быть объективным. Однако оказалось, что субъективная априорность не только возможна, но и в какой-то мере необходима для того, чтобы указать на допустимость гармонии природы и свободы.
Кант связывает принцип целесообразности со способностью суждения, которая в его гносеологии выполняла роль силы, соединяющей общее правило с единичным фактом. Тот случай, когда способность суждения действует без заранее данного понятия, являет нам целесообразную организацию без наличной цели, или прекрасное. «Чувственное понятие», которое как трансцендентальная схема играло в «Критике чистого разума» важнейшую, но чуть ли не противозаконную роль примирителя рассудка и интуиции, находит таким образом свое естественное место в телеологии. Но продуктивная способность воображения дает примирение интуиции и понятия, которое, даже если оно сумело стать общезначимым, есть лишь «как бы» реальность. Настоящую реальность телеологическое суждение может только позаимствовать у природы или свободы. Если проводить это заимствование систематически, то мы получим в первом случае представление целесообразной иерархии живых организмов, а во втором – искусство.
Второму случаю Кант уделяет несколько большее внимание из-за его значимости в системе высших способностей души. Произведение искусства, всегда имея своим материалом чувственность, единичные феномены, тем не менее представляет свой эстетический результат как необходимый. При этом прекрасное не имеет никаких реальных оснований для всеобщности: оно нравится без утилитарного интереса, без цели и без понятия. Прекрасное – экзистенциально нейтральная категория, для него даже неважно, существует или не существует объект, который им сконструирован. К тому же телеологическое суждение, или «рефлексивная способность суждения», не может опереться на априорное определение существования; по своей деятельности оно – творческий поиск, а не фиксация данности. Один из необходимых выводов кантовской эстетики состоит в том, что искусство не имеет служебного отношения ни к истине, ни к добру. Красота сама по себе не знает ни долга, ни правды – это нейтральная сила. Парадокс в том, что именно это открытие позволило Канту обосновать особую роль искусства в синтезе способностей души.
В сфере действия телеологического суждения Кант находит основания для той строгой игры воображения на основе трансцендентальных гипотез, о которой шла речь в первой «Критике». Тайну искусства Кант усматривает в игре познавательных способностей, в игре весьма серьезной, так как одним из ее неявных правил оказывается допущение того, что должное как бы уже стало сущим. Область этого «как бы» (als ob) – не что иное, как символическая реальность. Особенность эстетической деятельности в том, что она может творить символы, причем обычно без сознательной устремленности. Если перед нами прекрасное, то оно уже тем самым символ, а именно символ добра. Ноуменальность добра и бесцельность феноменов не имеют точек пересечения, но искусство с его способностью делать чувственное целесообразным, не требуя при этом действительной цели, самим своим существованием реализует символический синтез сущего и должного.
Если бы Кант не открыл новый тип априорности, т. е. если бы он не доказал автономию эстетического, искусство, будучи подчиненным морали или науке, не смогло бы быть посредником между этими мирами. Находясь же между столь могучими полюсами сил, оно в конце концов не избежит такой роли. Учение Канта о гении и эстетическом идеале дает этому теоретическое обоснование. Стоит обратить внимание на онтологическое содержание третьей «Критики», поскольку именно оно позволяет локализовать предмет наук о культуре. Своей телеологией Кант завершил построение системы трансцендентальных способностей души, а тем самым и структуры объективности. Выяснилось, что без понятия цели данная структура была бы неполной. Выяснилось также, что телеология и эстетика как ее часть выполняют те функции, которые докритическая метафизика возлагала на абсолютное бытие. Искусство показывает, что умопостигаемая реальность – не только абстрактный ориентир, но и в некотором смысле явление. Открытие Кантом априорной основы телеологии сообщило искусству и его созданиям, т. е. символам умопостигаемого, онтологический характер.
В контексте описания телеологической квазиреальности у Канта появляется тема культуры (§ 83): культура человека рассматривается как последняя цель природы. Здесь Кант повторяет ход мысли своей статьи «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784): «тайный план» природы в том, чтобы осуществить совершенное государственное устройство, позволяющее человечеству свободно раскрыть свои природные задатки, которые формирует «культура умения», и научиться исполнять долг из чувства долга, чему учит «культура воспитания». «Культура воспитания», таким образом, формирует человека как моральное существо, что и составляет конечную цель природы и истории. Эта тема проходит через все творчество Канта с 1780-х годов[36]. Кантовское употребление понятия «культура» (равно как и отличение его от «цивилизации», т. е. поверхностного окультуривания) не слишком далеко отходит от общего узуса немецкого Просвещения (культура как приобретение полезных навыков). Культура рассматривается как средство воплощения моральности: в этом отношении она не самоценна.
Однако некоторые мотивы третьей «Критики» проводят границу между Кантом и традиционным Просвещением. В § 83 Кант дает следующую дефиницию: «Обретение разумным существом способности ставить любые цели вообще (значит, в его свободе) – это культура»[37]. Такая радикальная степень свободы, во-первых, полностью переворачивает отношения человека и природы (превратив человека в цель, природа превращает себя в его средство) и, во-вторых, ставит вопрос о том, что, собственно, «культивируется», если природа перестает быть субстратом совершенствования. Кант вынужден развести два понятия. Он пишет: «Но не каждая культура достаточна для этой последней цели природы. Культура умения [Geschicklichkeit], конечно, есть главное субъективное условие для того, чтобы быть способным содействовать [достижению] целей вообще, но ее все же недостаточно для того, чтобы содействовать воле в определении и выборе ее целей, что существенным образом принадлежит всей сфере пригодности к целям. Последнее условие пригодности, которое можно было бы назвать культурой воспитания (дисциплины), негативно и состоит в освобождении воли от деспотизма вожделений…»[38] Слово «дисциплина» обладает в этом высказывании несколько большей гравитацией, и это затемняет смысл введения второго – негативного – типа культуры. С «дисциплиной» все достаточно ясно. Кант, например, так разъясняет ее смысл в своей «Педагогике»: «Дисциплинировать – значит обезопасить себя от того, чтобы животная природа человека, будем ли мы рассматривать последнего как особь или как члена общества, не шла в ущерб его чисто человеческим свойствам. Следовательно, дисциплина есть только укрощение дикости»[39]. Но этого мало для «содействия воле». В той же «Педагогике» Кант, чуть ниже, замечает, что человека можно просто дрессировать, а можно действительно просвещать: важно научить думать[40]. Видимо, в «культуре воспитания» (Kultur der Zucht) следует уловить еще один смысловой оттенок. В отличие от благородного Bildung, Zucht – жесткое слово. Zuchten значит «держать в строгости», «наказывать», но еще и «выращивать», «выводить породу». Возможно, это слово, близкое по значению и «воспитанию», и «дисциплине», понадобилось Канту потому, что содержало еще один смысл – целенаправленного преобразования природы. Zucht-культура – это культура выведения новой породы человека, «человека свободного». В этом негативном типе культуры содержится, может быть, весьма позитивная тема второго, метабиологического, культурного антропогенеза. Параграф 84 вносит окончательную определенность в понимание телеологического смысла культуры: порожденный ею человек есть «конечная цель творения» (пока как ноуменальный), «только в человеке, да и в нем только как в субъекте моральности, встречается необусловленное законодательство в отношении целей, и только одно это законодательство делает его способным быть конечной целью, которой телеологически подчинена вся природа»[41].
Параграфы 83–84 как бы соединяют две линии кантовских размышлений о культуре. Одна – наиболее очевидная – была только что обозначена. Другая менее очевидна, поскольку понятие культуры с ней прямо не связано, но она не менее важна. Речь идет о способности наглядного воплощения высших целей. Если вторая часть «Критики способности суждения» формулирует «конечную цель творения» как плод культуры (ноуменально данную, но феноменально недоступную), то первая показывает возможность ее изображения без ее данности: возможность некоторым образом увидеть невидимое.
Завершающие первую часть § 59–60 вводят понятия символического изображения и аналогии. По Канту, соответствующее понятиям изображение (Darstellung), или «гипотипоза»[42], может быть или схематическим, когда понятию рассудка дается соответствующее априорное созерцание[43], или символическим, когда под понятие разума (под идею) подводится созерцание, которое способность суждения связывает с этой идеей по аналогии, т. е. не по сходству с созерцанием, а по «правилам образа действия», осуществляемого суждением. Схематическая гипотипоза дает прямое изображение понятия, а символическая – косвенное, но в любом случае это изображение, а не обозначение (указание через произвольно избранные знаки). «Между деспотическим государством, – поясняет Кант, – и ручной мельницей нет никакого сходства, но сходство есть между правилами рефлексии о них и об их каузальности»[44]. Введение Кантом концепта символической гипотипозы вносит окончательную определенность в давно волновавшую его тему воображения как относительно самостоятельной силы. Символические функции воображения (конкретнее – свободной игры воображения и разума), по существу, позволяют связать миры видимого и невидимого, т. е. миры физического факта и морального смысла. Учитывая это, мы можем понимать все сказанное Кантом об «искусстве» как учение о силе-посреднице, создающей при помощи особого рода имагинации мир-связку между природой и свободой, или, говоря на языке современной гуманиоры, как учение о культуре.
Различение феномена, ноумена и всего спектра познавательных способностей привело к необходимости придать особый статус мышлению, которое имеет вполне определенную предметность, но не является, тем не менее, объективирующим мышлением. Символический способ репрезентации невидимого оказывается необходимым звеном кантовской системы, поскольку решает проблему «контакта» с абсолютом, не решенную в первых «критиках». Жесткая дизъюнкция (в первой «Критике» – между знанием и вненаучной ориентацией на идеи, а во второй – между природой и свободой) ставила под вопрос возможность действительной связи природного, человеческого и божественного. Третья «Критика» показала, как возможна такая связь и как она осуществляется на трех уровнях нарастания степени «целесообразности»: в «технике природы», в искусстве и в культуре.
Можно заметить, что Кант своим учением о символической сущности культуры предостерегает против многих наметившихся злоупотреблений Просвещением: против утопического овеществления свободы политикой; против «мечтательной» спиритуализации природы; против произвольно-мистической объективации ноуменального мира; против утилитарно-позитивистского отношения к культуре, и искусству в частности. Впрочем, золотая середина кантовского культурсимволизма не менее наглядна и в свете тех девиаций, которые (на тех или иных основаниях) были прочерчены послекантовской спекулятивной философией.
Вернувшись к исключительно важной для Канта теме правового гражданского государства как высшей цели культуры, мы можем убедиться в ее неслучайности. Кантовский идеал государства, если так можно выразиться, тоже своего рода символическая реальность. Оно сохраняет связь с природой (запрещая тем самым самообожествление человека) и в то же время ориентирует свободу человечества на сверхприродные цели.
Кант постулирует, таким образом, символическое познание как главный инструмент культуры и определенно указывает на две полярные опасности – антропоморфизм и деизм, которые будут неизбежны при игнорировании символизма. Именно в этом смысле Кант выдвигает свой тезис: «Прекрасное есть символ нравственно доброго»[45], подчеркивая законность в данном случае притязания на общезначимость переживания. Параграф 60 указывает, что хотя ни науки о «прекрасном», ни ее метода быть не может, но возможна пропедевтика, заключающаяся в «культуре душевных сил, которой следует добиться посредством предварительных знаний, называемых humaniora»[46] и в «культуре морального чувства»[47].
Таблица 3
Место телеологии в системе Канта
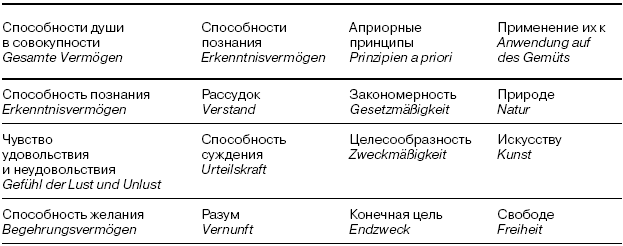
Если созданная Кантом телеология культуры (табл. 3), задающая предельные горизонты исторического развития, более важна для современной философии культуры, то его символизм более важен для культурологии, поскольку он отвечает на вопрос, как возможно систематическое изучение известных воплощений неизвестных смыслов. Этот вопрос был поставлен именно XVIII веком, но общепризнанного ответа на него нет и поныне. Однако опыт следующих двух столетий[48] подсказывает, что предложенный Кантом путь остается в числе самых перспективных.
Тема культуры играла в системах немецкой классической философии, созданных после Канта, значительно большую роль, чем в самой критической философии. Это было обусловлено двумя принципиальными нововведениями. Первым был метод историзма, давно вызревавший в культуре XVIII в. Он предполагал, что бытие объекта может быть дано только через полноту его истории, и этим решал старую проблему соотношения общего и индивидуального. Вторым была критика кантовского понятия «вещь в себе», в котором философы видели досадную непоследовательность своего учителя. Кант, безусловно, расценил бы второе нововведение как шаг назад, поскольку этим философия возвращалась к аксиомам старой метафизики. Однако именно кантовское открытие активности познающего субъекта, его понимание предмета знания как создания трансцендентальной субъективности побудило философов нарушить главный запрет критического метода – запрет перехода от предмета к его бытию самому по себе. Абсолют, утверждали взбунтовавшиеся ученики Канта, может быть дан мысли в объективированных продуктах ее творчества, если это мысль самого абсолюта. Для того чтобы простые смертные могли участвовать в таком мышлении, они должны включиться в историю самопознания абсолюта. А для этого, в свою очередь, надо осознать, что любой наш духовный акт есть средство саморазвития абсолюта.
Наибольшее влияние на философов-современников Кант оказал не столько «Критикой чистого разума», сколько двумя последующими «критиками». Эстетикой и телеологией Канта вдохновлялась романтическая школа. В ней идея историзма предстала как культ творческого процесса, в котором совпадают – в лице художника – природа и свобода. В «Критике способности суждения» романтики нашли богатые возможности для обоснования этой интуиции. В их же среде началось увлечение мистической натурфилософией, также воспринимаемой под знаком исторического метода: бесконечное становление природы и вещественная индивидуальность каждого ее явления представлялись романтикам более соответствующими понятию реальности, чем абстракции онтологии. В русле этого течения долгое время находился Шеллинг. «Критикой практического разума» вдохновлялся Фихте. Открытую Кантом ноуменальную сферу свободы он истолковывал в духе историзма как моральное становление субъекта, причем тот путь, который должны были пройти индивидуум и общество в целом, понимался как оправдание и подтверждение автономии человеческой свободы.
Рассмотрим, какие культурфилософские идеи были в первую очередь выдвинуты преобразователями трансцендентального метода. Путь решения Фихте, Шеллинг и Гегель представляли себе в общем одинаково. Необходимо было построить теорию абсолютной личности, в которой были бы сняты оппозиции сознательного и бессознательного, абстрактной всеобщности и конкретной ограниченности. Но для осуществления решения мыслителям пришлось существенно отойти от кантовского канона. Так, Фихте, который проложил этот путь для других, превращает учение Канта о спонтанности «я» в историю творения реальности через свободное самоопределение «я». Знание, в частности, трактуется как способ бытия свободы. Естественно, что тема культуры, как бы она ни обозначалась в трансцендентальной философии, становится чрезвычайно значимой: ведь если для Канта культура была «как бы» реальностью, порожденной двумя настоящими реальностями – природой и свободой, то для Фихте и его последователей она становится второй реальностью после «я», его инобытием, поочередно принимающим статус отпадения, отчуждения от него или статус возвращенного бытия. Эта реальность сохраняет телеологию символического мира культуры и принимает на себя всю нагрузку реального мира свободы. Поэтому для Фихте становится актуальной задача понимания истории, выделения в ней этапов в свете эволюции свободы, постижения национального духа и даже моделирования утопий – все, что так чуждо было Канту.
Путь Шеллинга имеет некоторое внешнее сходство с эволюцией Фихте: оба постоянно работали над преодолением исходных противоречий своих систем, оба стремились сохранить некоторую степень верности Канту, оба перешли к религиозно-этической проблематике (один – от натурфилософской и эстетической, другой – от моральной и гносеологической), для обоих важным стимулом явилась немецкая мистика (для Фихте – Экхарт, для Шеллинга – Бёме). При всем этом Шеллинг в итоговых своих построениях более решительно выходит за рамки классической традиции Просвещения и представляет своим развитием важный для понимания исторического поворота феномен.
Отправной точкой для культурфилософских идей Шеллинга стала его натурфилософия. Бессознательное творчество природы как живого организма (уже заключающее в себе такие принципы будущего духовного творческого начала, как полярность, единство противоположностей, восходящая лестница «потенций») завершается появлением сознательного «я». В «Системе трансцендентального идеализма» (1800) Шеллинг показывает, как «я», преодолевая раскол на теоретическую и практическую деятельность, становится сознательной творческой силой. Опираясь на идеи Канта, Шиллера, Фихте и романтиков, Шеллинг трактует эту новую реальность как искусство, которое вправе и в силах примирить сознательную и бессознательную стороны «я», природу и свободу, мораль и склонность. Здесь у Шеллинга неявным образом уже обосновывается такая сфера бытия, как культура. Свобода требует сообщества свободных субъектов, целесообразные действия которых создают историю. Но история как объективный процесс есть необходимость, противоречащая свободе «я». Чтобы снять это ограничение, «я» должно найти способ соединить свободу и необходимость, что возможно только в сфере искусства (которое понимается достаточно широко, как универсум творчества). Искусство выходит в измерение бесконечности, которое было закрыто и для теоретического знания, и для нравственного действия. Художник сознает как свободный дух, но действует как природа. Таким образом, главная задача философии – преодолеть расколы и противоречия бытия – оказывается выполненной.
В «Философии искусства» (1802–1803) этот комплекс идей получает систематическое раскрытие. Главный творческий субъект искусства – бессознательно творящий «гений». Гений примиряет конечность и конкретность чувственности с бесконечным, но бесплотным разумом. Если природа могла все конечное рано или поздно включать в бесконечное, то гений может заключить бесконечное в конечном – в этом тайна красоты. В связи с этим Шеллинг развивает свое учение о символе, которое будет иметь долгую культурную жизнь. Бесконечное открывается при оптимальном соединении общего и особенного. Можно проявить особенное в общем – это Шеллинг называет схемой. Можно общее увидеть в особенном – это аллегория. Если общее и особенное слиты в одно – это символ. Символ для Шеллинга есть высшая степень выраженности абсолюта. Как и Ф. Шлегель, он уверен, что, разворачивая свои потенции, символ создаст новую мифологию: философия, рожденная поэзией, некогда обособилась от нее, но со временем она опять вольется в «океан поэзии», мифологизировав мир. Культуру в целом Шеллинг понимает как символический организм, что позволяет нам представить важность данного концепта, выработанного лучшими умами этой духовной эпохи – от Гёте до Шеллинга.
Поздняя философия Шеллинга переносит динамику абсолюта из истории мира в историю Бога. Поскольку эти построения, выпав на какое-то время из сознания современников, вернулись к концу XIX в. и оказались весьма влиятельной версией культурфилософии, на них надо остановиться подробнее. Начиная с так называемых штутгартских лекций (1810) Шеллинг развивает сложную диалектику первопринципов истории становления Бога как абсолютной личности. Эти принципы выступают как бытие (Sein) и сущее (Seiendes). Бытие – это реальное, бессознательное начало в Боге. Но, как и в человеке, бытие Бога не совпадает с Богом. Собственно Бог – идеальное начало, или Сущий. Идеальное, или осознанное, – это, по Шеллингу, субъект бытия, а бессознательное – предикат этого субъекта, т. е. сущего, и потому лишь ради сущего присутствует. Различая себя в себе, Бог отличает себя как сущее от бытия. То же может происходить в человеке; это будет его высший моральный акт.
«Мировые эпохи» (1811) – законченное, но не изданное сочинение – содержат эти идеи уже в той форме, в какой они будут постоянно воспроизводиться в разных вариантах поздних шеллинговских конструкций. В работе должны были изображаться три периода божественной жизни: прошлое (домировая эпоха), настоящее и будущее (грядущая преображенность мира). Непросветленная инертность бытия обнаруживается лишь после выделения из него сущего. В этом и была роль бытия – позволить сущему утвердить свою свободу и мораль. Поэтому прошлое должно не просто пройти, но быть осознанным и преодоленным, в противном случае оно будет длиться бесконечно. Бытие, или природа Бога, состоит из двух принципов (или, если принципы разворачиваются в эволюции, потенций): интенсивно-личностного и экстенсивно-божественного. Природа Бога есть такая сущность, которая не может не существовать, т. е. это необходимое бытие. Но необходимое бытие не будет абсолютным, если не дополнится свободой, путь к которой лежит через противоречивое взаимодействие двух природных принципов. Борьба принципов превращает природную реальность абсолюта в страдание. Интенсивный принцип желает утвердить свою самость, но его импульс периодически побеждается экстенсивным принципом, в результате чего порыв к существованию ослабляется и расширяется, реализуя себя вовне. Периодическое преобладание принципов заставляет первосущность постоянно пульсировать, осуществляя, по выражению Шеллинга, в своем вдохе и выдохе, систоле и диастоле жизнь абсолюта.
Стремление к существованию удовлетворится лишь по достижении вечного бытия. На этом уровне воля станет беспредметной силой хотения, волей без желания. Но для этого достигнутый объект должен быть действительным, полноценным бытием. Ничто ограниченное не может удовлетворить стремление первоприроды к существованию, и в этом причина исторического развития мира. (В гегелевской «Науке логики», создававшейся в те же годы, выдвинут аналогичный стимул развития: источник диалектики, т. е. развития абсолюта через противоречия, – это неадекватность любого конечного содержания Богу.) Природа, бывшая когда-то у раннего Шеллинга оборотной и равноправной стороной духа, становится теперь материалом претворения божественной полноты.
Истинное бытие, к которому, преодолевая все конечное, стремится воля, – это абсолютная личность, т. е. бытие, преодолевшее и преобразившее свою природу. Шеллинг описывает преображение природы как некую онтологическую алхимию, очищающую духовную сущность абсолюта от мрака первоприроды. Первоприрода не может сама по себе стать истинным бытием, несмотря на свою никогда не успокаивающуюся страсть к бытию (Sucht zu Sein). Она есть лишь необходимость, но откровение в целом и любой его отдельно взятый момент совершаются не потому, что в этом есть необходимость, а потому, что такова воля Бога. В то же время творческая форма откровения зависит не от свободы, а от природы Бога, и потому Бог отдает себя необходимости, т. е. первичному стремлению к существованию.
Первая мировая эпоха – это бытие в себе, которое, еще не ведая свободы, познает себя в образах, предназначенных для воплощения в других эпохах. Эта домировая жизнь соответствует библейскому понятию «мудрости в Боге». Содержание мудрости в себе составляют три потенции. Первая есть обращенная на себя, центростремительная, отрицательная сила (ср. фихтевское «я»). Вторая – обращенная вовне, центробежная, утвердительная сила («мир духов»). Третья – единство двух первых – мировая душа. Мировая душа – это синтез пустого существования первой потенции и безличного богатства второй. Поэтому мировая душа есть связующее звено, посредница между миром и Богом. Но три потенции составляют лишь природу абсолюта. Над природой возвышается преодолевающая ее свобода. Поэтому тайна мирового единства символизируется числом 4. Перед нами – универсальная мифология, которая может объяснять любой культурный и природный процесс. Вряд ли об этой мифологии мечтал ранний Шеллинг, но для позднего именно такой путь открывает возможность соединить опыт древней мудрости и открытия современной философии.
В последний период творчества Шеллинг много сил посвящает истолкованию древней мифологии. Подобно поздним неоплатоникам, он выстраивает рядом с философией целый параллельный мир мифологических образов, в которых, по его мнению, уже в свое время отразились главные тайны бытия. Всю мировую историю и соответственно свою философию Шеллинг делит на две части. Философия мифологии имеет дело с периодом, когда естественный процесс богопознания выражался в образах и, позднее, в мыслях. Философия откровения повествует о периоде, начавшемся со сверхъестественного открытия истины и знаменующемся преодолением природы свободой. Философия приводит к внутреннему единству и образное, и понятийное, и сверхъестественное знание. С культурологической точки зрения интересно не столько то, что Шеллинг погружается в интерпретацию мифологии, сколько то, что само его философствование становится мифологичным. Философ уже не может строить образ универсума, исходя из понятия как точки отсчета. С позиции реформированной Шеллингом культурфилософии под вопросом находится любая идеальная значимость, если она не освящена событиями мирового мифа. Философу остается роль медиума: у раннего Шеллинга это был поэт, у позднего – пророк. Шеллинг осознавал происходящие историко-философские сдвиги, что ясно выражено в его трактовке предшествующей спекулятивной философии как «негативной», а своей – как «позитивной». Здесь Шеллинг встал в конце концов на точку зрения своего оппонента Якоби, боровшегося с «нигилизмом» немецкой философии. Но все же сам он принадлежит к последним явлениям классической традиции.
В системе Гегеля культурфилософия занимает вполне определенное системное место, и это обусловливает способ ее понимания. Термин «культура» Гегелем малоупотребим: он обозначает скорее техническую функцию приведения материала в порядок с точки зрения требований всеобщности мышления. Более важен термин Bildung, переводимый обычно как «образование», но означающий широкий спектр формообразующих действий. Интересующая нас предметность рассматривается в третьей части «Энциклопедии философских наук» – «Философии духа»[49]. Это третий этап гегелевской системы движения абсолюта от Логики (в которой пустое Бытие структурирует себя как Идею) через Природу (проходящую путь от пространственно-временного вакуума до высших форм Жизни) к Духу и соответственно момент синтеза триады. Как и всякий элемент его системы, Дух подчиняется законам развития триад: во-первых, начальное не исчезает в последующем по принципу «снятия», а вбирается в него, обогащая при этом свой смысл; во-вторых, любой элемент триады относится к своим коррелятам в других триадах как звено в цепи развития и может как сам пояснять их, так и поясняться ими. Отсюда ясно, что Дух как категория сохранялся на всех уровнях развития. Каждый шаг развития дает новый предикат для абстрактного субъекта, выдвинутого в начале Логики, – для Бытия, и в конце оказывается, что истинным субъектом был Дух, предикатами для которого являлись предшествующие категории. Пройденный путь можно систематизировать следующим образом (табл. 4, 5).
Таблица 4
Система философии
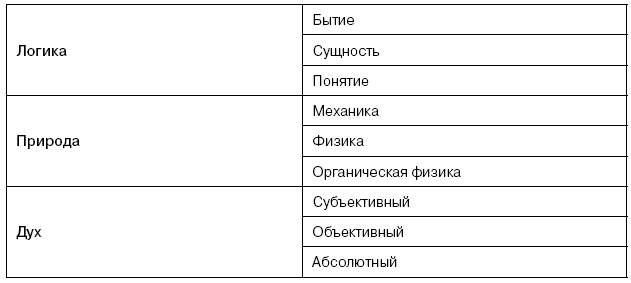
Таблица 5
Философия духа
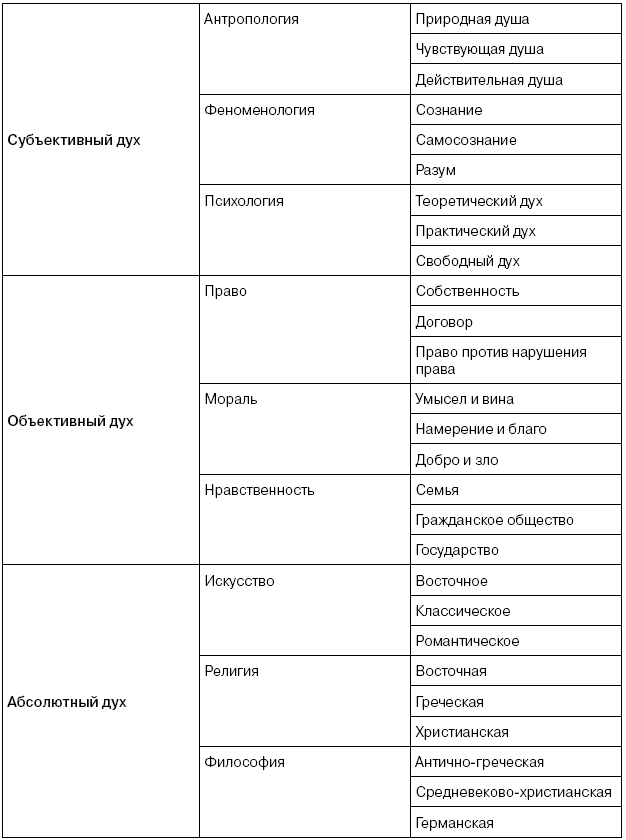
Перед нами – сложно артикулированный сюжет становления абсолютного духа: Идея, вернувшаяся к себе из инобытия Природы, приобрела личностное измерение и стала Духом. Сначала она развивается как субъективный дух в человеческом индивидууме – в результате животное становится субъектом разумного, сознательного действия. Затем она как объективный дух поднимается по триаде ступеней права, морали и нравственности. Наконец в формах абсолютного духа она создает миры искусства, религии и философии. Дух стал актуализацией своих возможностей: логической и природной. Таким образом, мы можем увидеть в изложенном сюжете то, что принято сейчас называть историей и теорией культуры. Остановимся на тех особенностях философии духа, которые выявляют характер гегелевской культурфилософии.
Субъективный дух – это история рождения в телесно-психическом субъекте свободы. С появлением свободы человек перестает быть подчиненной частью природы и переходит в мир развивающегося Духа, что, по Гегелю, происходит вместе с появлением христианства. Тем самым Дух перестает быть субъективным и реализует себя в объективных формах, которые могут обеспечить существование и защиту свободы. Дух объективируется в системе таких социальных институтов, как государство, право, семья, собственность, общественность и т. п. Другим его аспектом является история как событийный процесс. С гегелевской точки зрения, история со всей ее эмпирией есть материал для становления Духа. В некоторых случаях он может напрямую воплотиться во «всемирно-исторических индивидов», которые, реализуя свои личные цели, на самом деле являются инструментами исторической необходимости. Гегель критикует и просвещенческий, и романтический субъективизм в понимании истории, утверждая, что роль личности в истории возможна только тогда, когда личность «сотрудничает» с замыслами Духа. Деля мировую историю на четыре периода – восточный мир (Китай, Индия, Египет), греческий мир, римский мир, германский мир, Гегель прочерчивает эволюцию свободы и видит в этом (а не в материальных или художественных достижениях) главный критерий уровня цивилизации.
Три главных этапа реализации объективного духа: 1) право; 2) мораль; 3) нравственность. Право материализует свободу так, что она воплощает себя в собственности и механизмах ее защиты. Но эта форма «тесна» свободе как непосредственная (т. е. в данном случае зависимая от среды) и внешняя. Поэтому на следующем шаге эти ценности переносятся внутрь, интериоризируются и тем самым одухотворяются. Мораль как новый уровень объективного духа позволяет человеку отделить себя от вещей, уйти в субъективную сферу, сосредоточиться на своей моральной воле и ее всеобщности. Но стать независимым от внешних обстоятельств человеку при этом не удается. Он может только замкнуться в себе и сознании своего морального достоинства: в этом слабость данного момента. Когда моральная воля реализуется вовне и подчиняет себе вещи и обстоятельства, она становится нравственностью. Когда же нравственность воплощает себя в конкретных целях посредством объективного, мы оказываемся в царстве этического. Три главные ступени этого процесса – семья, гражданское общество и государство. Семья – это органическая целостность и взаимозависимость членов, обусловленная чувством, любовью. В гражданском обществе целостность распадается, индивидуумы становятся независимыми и приобретают более высокую степень свободы в рамках закона, но теряют при этом преимущество органической сплоченности, отчуждаются от целостности. Третья ступень – государство – соединяет противоположности и сплачивает свободных индивидуумов на основе Духа как субстанции. Этот раздел системы – настоящий эмоционально насыщенный гимн государству, что дало повод обвинять Гегеля в обожествлении государства и «тоталитаризме», но следует помнить, что государством Гегель называет только ту стадию развития Духа, которая опирается на предыдущие результаты развития права и личности, т. е. государство – высшая степень свободы (в этом смысле оно и правда божественно как воплощение Духа). Именно государство есть главный субъект истории. Но поскольку история еще не закончена, то государство, которое воспевает Гегель, – это цель, а не наличный факт.
Как и всякая вторая ступень гегелевской триады, объективный дух является инобытием, в котором простая цельность первой ступени переживает раскол, дифференциацию и конкретизацию. «История» здесь сыграла ту роль, которую в общей системе играет «природа». Пройдя через горнило исторической стихии, Дух возвращается к самому себе и становится «абсолютным духом». Здесь он формирует три ступени познания Бога человеком (средствами его человеческой культуры). Справедливо и обратное прочтение формулы: происходит познание человека Богом – и, таким образом, самопознание Бога. Ступени эти таковы: 1) искусство; 2) религия; 3) философия. Искусство познает Бога при помощи чувственных образов, религия – через представления веры, философия – посредством чистого понятия. Задача искусства – осуществить единение чувственно-индивидуального и понятийно общего, что и происходит в созерцании красоты. Содержательно искусство равнодостойно религии и философии, но форма чувственного созерцания все же является моментом его ограниченности. Исторически искусство рано или поздно уступает высшие функции богопознания вере и разуму. Религия познает Бога в представлениях, отходя от объективности искусства и погружаясь во внутренний мир человека. Благодаря этому внешняя данность мира искусства превращается в личное достояние человека и сливается с его жизнью. Философия переводит весь этот опыт в измерение понятия. Надо помнить, что понятие в гегелевской системе – это не только форма мысли, но и особый личностный тип бытия: собранность в себе знающего и действующего разума. Понятие выше объективности и субъективности: оно абсолютно и – говоря современным философским языком – интерсубъективно. Внутреннее содержание оно делает объективно значимым и персонализированным. Абсолютный дух свободно и бесконечно познает сам себя, вобрав весь предшествующий опыт и достигнув предельной конкретности.
Значение системы, представленной в «Философии духа», для истории культурологии было бы несколько умалено, если бы мы не учли богатый материал конкретного гегелевского анализа культуры, дошедший до нас благодаря его лекционным курсам. Обратим внимание на некоторые гегелевские схемы из этих источников, в которых можно усмотреть «культурологию в действии».
В истории искусства Гегель выделяет три стадии, соотнося их со способами воплощения Идеи: 1) символическое искусство; 2) классическое искусство; 3) романтическое искусство. Первая стадия исторически была пройдена Древним и средневековым Востоком. Символическое искусство еще не позволяет Идее обрести адекватную форму. Форма доминирует над содержанием и является его внешней средой, в чем и заключается суть символизма. Этот принцип наиболее полно выражен архитектурой. Классическое искусство достигает единства содержания и формы. Эта стадия представлена античностью. Античное искусство индивидуализирует Идею, дает ей оптимальное пластическое выражение в материале. Идея в этом случае выступает как «идеал». Принцип идеала наиболее полно выражен скульптурой. Однако очеловечивание идеала, нарастание случайной конкретности привели к деградации классического искусства. Романтическое искусство (от конца Средневековья до начала XIX в.) состоит в доминанте духовного содержания над чувственной формой. Этот принцип наиболее полно воплощают живопись, музыка и поэзия. Идея, полностью подчинившая себе форму, как в этом случае, становится разрушительной силой, поскольку искусство не существует без чувственной образности. Романтическая стадия искусства также исчерпывает себя.
Современный мир, утверждает Гегель, не нуждается более в искусстве как высшей форме познания абсолюта, оно не соответствует более «духу времени» и должно уступить место другим формам. При этом Гегель не торопится ставить точку в истории развития современного искусства: как и романтики, он возлагает надежды на эволюцию сравнительно нового литературного жанра – романа. Его теория романа как эпоса современности, как формы, преодолевающей собственную прозаичность за счет многоаспектности и динамики выражаемой им действительности и дающей «прекрасному» новую эстетическую трактовку, является примером глубокого анализа и диагноза культурной ситуации. Нетрудно раскритиковать конструкции Гегеля за схематичность, но продуктивнее будет увидеть в них инструмент для различения стадий и состояний культурной формы: решение именно этой задачи открывает предметную область для наук о культуре.
В истории религии Гегель также выделяет три стадии: 1) естественную религию: китайскую, т. е. конфуцианство, индусскую и буддийскую; 2) религию свободы: иудейскую, греческую и римскую; 3) абсолютную религию – христианскую. Критерием градации является способ понимания Бога. Естественная религия понимает Бога как субстанцию, в которой растворяется индивидуальность; религия свободы – как духовную индивидуальность; абсолютная религия – как Дух, познающий самого себя в человеке. Обратим внимание на способ репрезентации религий в этой иерархии. Триаду первой стадии Гегель метафорически обозначает как «религию меры», «религию фантазии» и «религию в-себе-бытия». Это весьма произвольные эпитеты, не передающие все богатое и разнообразное историческое содержание этих конфессий. Но вместе с тем именно то, что эпитеты порождены взглядом извне, как образные импрессии, делает их менее агрессивными, чем сама классификация.
Между первой и второй стадией у Гегеля идет религиозный тип, представляющий Бога как субъекта. Переход от сакрального воображения, от субстанции к субъекту нужен Гегелю, чтобы дать синтез этих начал в религии свободы. Гегель относит к этому типу персидскую, сирийскую и египетскую религии. Но предикация Бога как субъекта в этом случае более чем сомнительна. Эта триада соответственно обозначается так: «религия света», «религия страдания», «религия загадки».
Религии свободы также получают образную репрезентацию: это соответственно «религия возвышенности», «религия красоты», «религия целесообразности». Христианская религия номинируется как «религия откровения». Если христианство описывается Гегелем с высокой степенью проникновения в его глубинные смыслы и антиномии (как бы при этом ни оценивалась конфессиональная корректность и правоверность его мысли), то гетеродоксальный мир бесцеремонно стилизуется для локализации в схемах. Однако, если переключить внимание на метафорические выражения, при помощи которых Гегель нотирует религии, то мы увидим, что здесь в свернутом виде даны так называемые гештальты, образы-притчи, которые Гегель виртуозно выстраивает в своих текстах начиная с «Феноменологии духа». Это не что иное, как культурологическая дескрипция, которая в силу своей образности дает больше и отсекает меньше, чем схематическая классификация.
Значение гегелевской философии духа в контексте истории учений о культуре не только в том, что она дает беспрецедентную систематизацию видов и функций культуры в их логико-исторической связи и взаимообусловленности. (Хотя и этот результат чрезвычайно весом: без него XIX в. не смог бы оперировать как чем-то очевидным представлением о культуре как системе и процессе.) Помимо этого, Гегель оставляет преемникам богатый инструментарий анализа конкретных феноменов культуры, созданный им в ходе его историософских, эстетических, религиоведческих и правоведческих изысканий и размышлений. Наконец, Гегель изобразил историю культуры как грандиозный экзистенциально-напряженный сюжет, создав особый, близкий жанру романа (и вобравший в себя при этом поэтику эпоса, лирики и драмы) философский нарратив. Этот результат оказывается особенно впечатляющим на фоне просветительского повествования о прогрессе и приземленной эмпиричности позитивизма XIX в.
Конфликт рационализма и мистики: Сведенборг и Кант
А.Г. Габричевский о Гердере
Гофман как философ культуры
Конфликт рационализма и мистики: Сведенборг и Кант
Культура рационализма достигла вершин в трудах Канта. Посмотрим, как на этой вершине можно было по-новому оценить высоты мистической культуры XVIII в. Среди работ Канта есть «золушки», не то чтобы забытые, но затененные более великими произведениями и обойденные должным вниманием исследователей. «Грезы духовидца…» (1766) тоже попадают в эту рубрику, но здесь все осложняется естественностью, с которой этот текст укладывается как в жанровую ячейку иронических пафлетов просвещенческого скептицизма, так и в «докритическую» топику философа[50]. Между тем кантоведы отмечают неслучайную двойственность мотивов и интонаций «Грез», которую не так просто интерпретировать[51]. С одной стороны, перед нами по-вольтерьянски дерзкая критика мистических видений, с другой – серьезная сосредоточенность на способности сознания выходить за пределы мира явлений[52]. Кант дает нам подсказку и самим заглавием, в котором ставит метафизику не над мистикой, а рядом с ней, как альтернативную, но родственную возможность, и – прямым указанием на собственное небезразличие. Он пишет: «Весы рассудка не совсем беспристрастны, и то плечо их, на котором стоит надпись надежда на будущее, имеет механическое преимущество, благодаря которому даже легкие доводы, падающие на чашу надежды, заставляют на другой стороне умозрения, имеющие сами по себе больше веса, подниматься вверх. Вот единственная неправильность, которую я не могу устранить, да и в сущности никогда не желаю устранять»[53]. Но идет ли речь в этой работе только о надежде, которой Кант, конечно, не лишает читателей, но все же отрезвляет их в финале цитатой из Вольтера о необходимости «возделывать свой сад»? Исчерпывается ли мораль трактата раблезианским упованием на «un grand peut-être»?
Чтобы дать один из возможных ответов, попробуем поближе взглянуть на личность главного героя кантовской статьи и на его место в важном для XVIII в. сюжете взаимоотношения рассудка и воображения. Собственно, конфликт указанных сил и пути их гармонизации составляют едва ли не главную цивилизационную проблему эпохи. Без понимания сути конфликта невозможно прояснение характера первого кризиса рациональности в европейской культуре Нового времени, который многосторонне проявился во второй половине XVIII в. Новое время предприняло грандиозный эксперимент. Оно попробовало заменить всю средневековую иерархию земного и небесного одним беспрерывным полем знания. Старая культура знала, что такое доприродное и сверхприродное: она имела представление о душевных глубинах и мире ангелов, располагая природу между этими самовластными царствами и, более того, даже в саму природу внося память о грехопадении, лишая ее тем самым полной автономии в собственных пределах. Новое время неожиданно обнаруживает, что вправе сказать: все есть природа, все может быть выражено на языке причинно-следственных отношений, все может быть явлено в чувствах и расчислено умом. Но тогда приходится признать, что природа есть то, что обусловлено человеческой субъективностью. Весь универсум делится без остатка на субъект и объект, который дан моей субъективности. Дан как познанный или еще не познанный, но во всяком случае – предстоящий моей практической и теоретической активности. Дальнейшие шаги культуры выглядят уже вполне последовательно. Математическое естествознание создает ощущение власти над объектом, превращая его в механизм, который можно познать и которым в конечном счете можно научиться управлять. Философский рационализм позволяет сделать таким механизмом все, что мы пожелаем. Этика активизма и личной ответственности снимает препятствия перед распространением нашей власти над сколь угодно сложной системой механизмов.
Конечно, сегодня мы смотрим на эту модель культуры с гораздо меньшей симпатией, чем ее современники, поскольку знаем, как дорого заплатили за ее энергичный оптимизм в наше время, но верно и то, что без такого дерзкого самоутверждения ни опыт свободы, ни опыт самопознания, без которых, как ни рассуждай, человеческой истории не существует, не был бы достаточно полным. XVIII век начинает поиски более гибкой модели, предпочитая телу душу, механизму – организм, физическому времени – историю. Раз все есть природа, рассуждает XVIII в., то нет непроницаемой границы между человеком и миром: все есть мир. Отсюда задача ученого: все перевести на язык природы. А в такой задаче, по существу, уже содержатся в свернутом виде попытки создать энциклопедический синтез, ввести эволюцию, а затем и историю как замену иерархии, научить математику играть роль метафизики. Если XVII в. хорошо усвоил тезис «знание – сила», то его век-преемник увидел обратимость формулы: сила – это знание, поскольку она делает то же самое, перекраивая мир по своим лекалам. Особенно наглядной становится правота такого толкования, когда материалом для утопии оказывается общество, понятое как агрегат индивидуумов. Но и здесь XVIII в. ищет гибкого решения. Странная двойственность просветительского рационализма, совмещавшая любовь к «ясности и отчетливости» с тягой к оккультным явлениям и «животному магнетизму», соединявшая рассудочное государственное строительство с расцветом бесчисленных масонских организаций, может быть, объясняется именно попыткой уравновесить механицизм вытесненным в культурное подполье метафизическим инстинктом. Пожалуй, фигура-архетип в этом процессе – Лейбниц. Именно он первым соединил рационалистический метод и замысел универсального символического языка науки с идеей индивидуальных «живых сил» как непрерывно развивающихся субстанций бытия, и он же продемонстрировал неистощимую изобретательность в практическом применении этих идей. Ломоносов, Сведенборг, Бошкович и целая плеяда «младших богов» будут потом повторять этот синтез, расцвечивая его своими красками. Но как бы мы ни относились к личности Сведенборга, трудно не признать, что его место в этом реестре совершенно своеобразно и притягивает внимание из-за некоторой неразгаданности его роли.
Эмануэль Сведенборг родился 29 января 1688 г. в Стокгольме[54]. Его отец был настоятелем собора, а позднее получил сан епископа и дворянское звание (что повлекло смену фамилии Сведберг на облагороженный вариант – Сведенборг). Кроме того, он был профессором богословия в университете Уппсалы. Став королевским капелланом, отец Эмануэля вошел в политический бомонд Швеции. Таким образом, в ряду гениев науки Нового времени Эмануэль Сведенборг по знатности происхождения уступает разве что Ф. Бэкону.
В возрасте 11 лет Сведенборг поступает в Уппсальский университет (тогда в этом не было ничего исключительного). Окончив его через 10 лет, Эмануэль приобретает обширные познания в естественных науках, философии, праве, древних и новых языках. К тому же он весьма прилично играет на органе. Но юному гению этого мало: он методично планирует и осуществляет пятилетнее странствие по Европе, во время которого углубляет свои знания физики, астрономии, механики и со свойственными ему тщательностью и прилежанием овладевает ремеслом шлифовщика линз, часовщика, гравера, столяра, переплетчика.
1716 г. – отправная точка одновременно в научной и административной карьере Сведенборга: публикуется его первая статья и начинается служба асессором в Горном управлении, которая продлилась 30 лет и потребовала немалых усилий, ибо инспекция шахт и сбор налогов заставляли много путешествовать и даже опускаться в земные недра. (Здесь уместно вспомнить горного инженера Новалиса, а может быть, и Данте, который также, прежде чем посетить небеса, побывал в преисподней.)
В 1719 г. к этим заботам добавляется еще и политическое поприще. Сведенборг становится членом палаты лордов и, относясь к этой своей обязанности, как и ко всем другим, в высшей степени ответственно, активно участвует в парламентской жизни. Биографы сообщают, что однажды, в 1760 г., ему довелось сыграть весьма существенную роль в разрешении политического кризиса, охватившего Швецию: радикалам, предложившим ввести жесткую систему ротации государственных чиновников и чрезвычайно расширить полномочия королевской власти, Сведенборг противопоставляет свой более умеренный и взвешенный план, который показался парламенту убедительным.
О большом личном авторитете Сведенборга свидетельствует и то, что король Карл XII попросил его стать своим советником по инженерным вопросам. Стоит упомянуть проблемы, которыми он не без успеха занимался в связи со своим постом. Сведенборг руководил реализацией столь существенных проектов, как создание системы продвижения судов посуху, системы механизмов для разработки соляных источников, прокладывание канала, устройство сухого дока нового типа. Подобно Леонардо да Винчи, он выдумывает проекты машин будущего. В его бумагах можно найти схемы летательного аппарата, печи регулируемого сгорания, пневматического ружья, подводной лодки, парового котла. Но, видимо, главным занятием его жизни – до начала чудесных событий – было серьезное занятие естествознанием, которое принесло ему первую международную славу. Свидетельством тому может быть присвоение Сведенборгу звания почетного члена Петербургской академии наук в 1734 г.
Наиболее известны его открытия и разработки в области металлургии, где его выводы о способах обработки железа, бронзы и меди стимулировали науку и технологию металлов, и в области биологии, где весьма плодотворными оказались догадки Сведенборга о функциях коры головного мозга и гипофиза. Много внимания Сведенборг уделяет космологии и психологии. В своей полемике с Ньютоном он делает дерзкий шаг в сторону некоторых интуиций физики XX в., утверждая, что любой материальный объект есть в конечном счете нечто сводимое к движению, принявшему геометрическую форму.
С 1729 г. Сведенборг работает над сводным текстом по естествознанию, опубликованным в 1734 г. Это три тома «Трудов по философии и минералогии», которые сейчас, когда многие из догадок мыслителя подтвердились, производят большое впечатление на историков науки. В первом томе излагается, в частности, своеобразная теория природной субстанции. Вырастая из философских споров своего времени, эта теория остается оригинальной позицией шведского мыслителя. По мнению Сведенборга, основой природы является некая исходная точка материи, которая состоит из чистого движения и порождается божественным импульсом. Далее это исходное движение порождает цепь ограниченных сущностей, и каждая порожденная серия величин приобретает все большую массу и теряет все больше энергии. Так, последовательно угасая, энергия порождает три мира: животный, растительный и минеральный.
В 1740–1741 гг. публикуется не менее знаменитый труд – «Хозяйство одушевленного царства» («Oeconomia Regni Animalis»), где ведущей темой является попытка раскрыть тайну души, которая, по Сведенборгу, есть посредник между единой системой живых организмов и божественной бесконечностью. Особое внимание в работе уделяется функции крови как носительницы души, причем высказывается проницательная гипотеза о роли легких в очищении крови. В духе эпохи ученый полагает, что материальным носителем души должна быть некая «духовная жидкость», которой необходимо стать предметом исследования науки будущего. Однако вскоре Сведенборг начинает исследовать тайны души совсем с других позиций.
Судя по дневникам, в 1744–1745 гг. Сведенборг переживает серьезный кризис то ли психологического, то ли религиозного характера. Его мучают сомнения, посещают необычные сновидения; молитвы и размышления сменяют друг друга, не принося, видимо, духовного облегчения. Он возобновляет свои занятия Библией, не прекращая интенсивных научных и философских занятий. Перелом наступает в апреле 1745 г. Сведенборг находился тогда в Лондоне. Неожиданное видение открыло ему, что он должен стать для человечества вестником небесного мира. С этого момента для Сведенборга начинаются постоянные контакты с «миром духов и ангелов», о которых он сообщает в многочисленных работах. Сразу после серии видений Сведенборг приступает к изучению и комментированию Библии с новой точки зрения. С 1749 г. он начинает публиковать свои результаты, закончив это 8-томное издание («Arcana Coelestia», т. е. «Небесные тайны») в 1756 г. Всю оставшуюся ему жизнь – 27 лет – Сведенборг посвящает служению и выполнению своей пророческой миссии. Книги он издает анонимно и на собственные средства, ведет уединенную жизнь, и очень немногие из его знакомых представляют себе, что за труды создает в своем маленьком домике в саду стокгольмского поместья знаменитый естествоиспытатель.
В 1759 г. происходит случай, в результате которого Сведенборг оказывается в центре общественного внимания. Предоставим слово Канту, который нам интересен здесь как критически настроенный, но объективный наблюдатель. Кроме того, это голос современника. «В конце сентября[55], в субботу, в четыре часа пополудни, господин Сведенборг прибыл из Англии в Готенбург. Здесь господин Уильям Касл пригласил к себе в гости его и еще пятнадцать человек. В шесть часов вечера господин Сведенборг вышел из гостиной и вскоре возвратился бледный и взволнованный. Он заявил, что в Стокгольме, на Зюдермальме, вспыхнул страшный пожар (Готенбург отстоит от Стокгольма на расстоянии свыше 50 миль[56]) и что огонь быстро распространяется. Он очень беспокоился и часто выходил из комнаты. Он сказал, что дом одного из его друзей, которого назвал по имени, уже превратился в пепел и что опасность грозит его собственному дому В восемь часов, снова зайдя в комнату, он радостно воскликнул: «Слава Богу, пожар потушен недалеко от моего дома!» Весь город, и в особенности гостей, собравшихся у Касла, сильно взволновало это известие о пожаре, и в тот же вечер сообщили о нем губернатору. В воскресенье утром Сведенборг был вызван к губернатору. Тот расспросил его о случившемся. Сведенборг подробно описал пожар, рассказав, как он начался, как кончился и сколько времени продолжался. В тот же день известие облетело весь город и вызвало тем большую тревогу, что на это сам губернатор обратил внимание, и многие опасались за своих друзей и за свое имущество. В понедельник вечером прибыла в Готенбург эстафета, отправленная во время пожара стокгольмским купечеством. В письмах о пожаре рассказывалось точь-в-точь, как его описал Сведенборг. Во вторник утром к губернатору прибыл королевский курьер с донесением о пожаре, о причиненном им ущербе, о сгоревших домах. Донесение ничем не отличалось от сообщения, сделанного Сведенборгом; пожар действительно был потушен часов в восемь. Что сказать против достоверности этого происшествия? Приятель, пишущий мне об этом, проверил все не только в Стокгольме, но месяца два тому назад и в Готенбурге, где он хорошо знаком с лучшими семьями и мог получить исчерпывающие сведения и где живет еще большинство очевидцев происшествия…»[57]
Два других хрестоматийных случая сообщают о следующем. Сведенборг помог вдове голландского посла, которой предъявили якобы неоплаченные счета ее покойного мужа, найти расписки, для чего встретился с ним в мире духов и узнал от него, где находится потайной ящик с расписками и бриллиантовой заколкой, которую считали безвозвратно утерянной. Однажды на приеме у королевы Сведенборг получил высочайшее поручение встретиться с покойным братом королевы и расспросить его о некоторых тайнах. Просьба была через несколько дней выполнена, и королева с изумлением засвидетельствовала, что поведанные духовидцу секреты мог знать только ее брат.
Громкая слава не изменила ни привычки Сведенборга к систематическому труду, который теперь был посвящен записи и интерпретации его потусторонних видений, ни его склонности к путешествиям. Разумеется, посещает он и свой любимый Лондон. Правда, ореол чуда привлекает к Сведенборгу многих посетителей, которые, надо полагать, основательно докучали ему своим любопытством. Но Сведенборг ведет себя безупречно: он охотно и любезно поддерживает тему, предложенную собеседником, никогда не заговаривает об иных мирах, если его об этом не попросят, и в то же время корректно ставит на место тех, чья ирония по отношению к духовидцу становится бесцеремонностью.
Последние годы жизни Сведенборга были омрачены кампанией преследования, организованной некоторыми протестантскими епископами. Пожалуй, назвать эти нападки и обвинения совершенно беспочвенными можно, лишь чрезмерно либерально толкуя задачи богословия. Дело даже не в том, что мир, нарисованный Сведенборгом, слишком мало похож на привычные средневековые схемы мироздания. (От них достаточно далек был и ортодоксальный протестантизм XVIII в.) И даже не в том, что награды и наказания в загробных мирах теряют характер небесного суда, плавно продолжая земную цепочку причин и следствий: в евангельских текстах мы не найдем детальных описаний рая или ада. Соблазн был в том, что миропорядок Сведенборга вполне мог обойтись без Христа и более соответствовал индийскому принципу кармы или гностическим мифам, чем религии воплощенного Слова. Однако сам Сведенборг категорично отверг обвинения и особенно подчеркивал несогласие с главным аргументом обвинителей, будто бы он, как некогда социниане, не приемлет учение о воплощении Бога на земле. Тяжба начинается в 1768 г. и особенно обостряется, когда дело передают для обсуждения в парламент. К 1770 г. готово заключение особого королевского совета, которое полностью отвергает богословие Сведенборга, запрещает священникам использовать в проповедях его учение и приказывает таможне не пропускать в страну книги еретика. Правда, последнее слово в некотором смысле осталось за Сведенборгом: после его апелляции к королю дело направили на университетскую экспертизу, которая, с одной стороны, не нашла прямых признаков ереси в трудах обвиняемого, с другой же – не выступила против обвинителей. Эта неопределенность позволила «спустить на тормозах» весь процесс и обеспечить возможность спокойной работы для Сведенборга. В 1771 г. Сведенборг отправляется в Голландию, где печатается его последняя и одна из самых важных книг – «Подлинная христианская религия». Завершив работу по ее изданию, в сентябре этого же года он перебирается в Лондон, где его здоровье резко ухудшается. Посещавшие больного друзья сообщают, что он точно предсказал дату своей смерти – 29 марта 1772 г.
Слава Сведенборга, если не считать возбужденных его чудесами современников, никогда не была слишком широкой. Скорее ее можно представить в виде непрерывной эстафеты родственных душ, которые проносят традицию через века. Но удивляет прочность этой «трансмиссии». Блейк, Новалис, Соловьев, Даниил Андреев. Особая тема – влияние Сведенборга на мировую литературу[58]. Стоит отметить, что интересны не только конкретные казусы и имена, но и укоренение в европейской культуре своеобразного духовно-психологического чекана, который метит творческие личности разных конфессий и направлений. Его отличительная черта – внимание к границе между мирами, видимой уже в нашем повседневном быту (По, Гофман), чуткость к таинственным соответствиям разных типов явлений (Бодлер), к шифрам подсознательного и сверхсознательного, которые могут быть объективированы и в такой ни к чему не обязывающей форме, как сон (Кафка), и в столь рациональной форме, как текст (Борхес) или даже историческая дата (Хлебников). Важная черта этого склада личности (независимо от личной склонности или способности к визионерству) – стремление представить себе окно в иной мир в максимально персонифицированном виде, попросту говоря, как встречу души с душой.
Интересно, что ощущение непрерывности некой иерархии уровней душевной просветленности соседствует, а может быть, и принципиально связано с чувством катастрофичности и прерывности бытия. Андрей Белый вспоминает о том, как он был увлечен описанием «новых типов», появившихся в тогдашней культуре, – апокалиптиков, о которых он хотел рассказать в своих «Симфониях», и о том, как важно ему было для понимания этих типов изучать среди других толкователей Апокалипсиса именно Сведенборга[59]. Несомненно, следы его влияния мы сможем найти не только у апокалиптиков Серебряного века, но и у символистов, и у софиологов. Нередко пишущие о Сведенборге оставляют в тени тему, которая менее колоритна, чем описание его видений, но чрезвычайно важна для понимания его места в новоевропейской культуре и к тому же может примирить со Сведенборгом как скептиков, так и ортодоксальных религиозных критиков. Символизм как метод и как способ восприятия феномена объясняет многое в его причудливых концепциях. Это не античный символизм, где эйдос проявляет себя в материи, и не средневековый, где даны ряды воплощений смысла в земной и небесной иерархии. Перед нами – новая модель: мир как сверхтекст, в котором буквами, «стихиями» являются все крупицы и клеточки космоса, могущие быть знаком. Причем текст этот, при его смысловом единстве, не имеет жесткой оболочки, «переплета». Он бесконечен в физическом и метафизическом смысле. Отсюда – страсть к толкованию Библии, которая понимается как модель символического мира. Сходным образом мыслил наш Г.С. Сковорода, младший современник Сведенборга, называвший Библию третьим, «символическим», миром между микро– и макрокосмосом. Пожалуй, этим же можно объяснить важность для Сведенборга неожиданной, казалось бы (хотя хорошо известной для мистики и алхимии), темы «супружеской любви». Ведь совпадение частей в целое, причем одновременно во всех планах – физическом, душевном, духовном – важнейшее свойство именно символической реальности.
Очерченный образ позволяет предположить, что интерес Канта к Сведенборгу вряд ли обусловлен только его озадачивающими мистическими способностями. Шведский гений был для многих современников воплощением идеалов зрелого Просвещения, предполагавших примирение «правды рассудка» и «правды сердца»: ученый-энциклопедист, он в то же время построил религию «в пределах разума» и своим визионерским опытом соединил видимый и невидимый миры в единый, вполне натуралистический континуум. Но именно этот, сбывшийся как будто, идеал не только привлекал Канта, но и тревожил. Гармония предполагает согласование различного. Казус же Сведенборга предполагает слияние без различения. В таком случае участие разума в этом синтезе становится фикцией: рациональное вполне можно заменить воображением или переживанием. Есть ли у рациональности своя суверенная территория? Именно этот вопрос волнует Канта в «Грезах духовидца». Поэтому Кант так детально разбирает способы, какими духи даны в процессе общения с визионером. Собственно, между мистическим видением и просто видением нет принципиальной разницы. И здесь и там есть явление, данное через субъективную чувственность, и есть интерпретация, которая создает смысл и образ. У Канта нет оснований сомневаться в том, что Сведенборг имел личный опыт видений, но результат опыта описан как интерпретация духовидца. И этот результат весьма согласуется с духом и стилем времени, он есть факт его символической культуры, от которого нельзя отделаться благоразумным сомнением, так же как нельзя освободить духовидца от ответственности за интерпретацию.
Кант задолго до «Критики чистого разума» уже имел в виду в своей работе о «грезах духовидца» путаницу с феноменами и ноуменами, т. е. с данными нам явлениями и созданными на их основе умозрительными предметами. Верно, что Кант – оппонент и критик Сведенборга, но верно и то, что именно кантовское различение явленного и мыслимого определенно доказывает возможность той картины мира, которую изображал шведский визионер[60]. Можно сказать об этом и по-другому: требование необходимой интерпретации любого явления нельзя отменить, и, что бы нам ни явилось, тот шаг, который мы делаем, выходя за границы явления и придавая ему тот или иной смысл, остается на нашей совести (в этом правда Канта), но нельзя также отменить критикой явления, мистичного уже в любом своем обыденном выражении, его непосредственную очевидность, которая всегда открывает нам «иное» (и в этом правда Сведенборга, признанная Кантом). Поэтому было бы недоразумением считать «Грезы» неким разоблачением Сведенборга[61].
Сходное недоразумение возникло из-за учения Канта об априорных формах чувственности: иногда утверждают, что кантовская чистая форма пространства совместима только с евклидовой геометрией, тогда как именно это учение строго обосновало возможность неевклидовых геометрий. Вл. Соловьев, кстати, уверял, что Сведенборг «…раньше Канта понял и признал относительный, субъективный характер нашего пространства, времени и всего определяемого ими механического порядка явлений. Все это, по Сведенборгу, суть не реальности, а видимости (apparentia); действительные же свойства и формы всякого бытия, как математические, так и органические, – т. е. все положительное и качественно определенное – совершенно не зависят от внешних условий своего явления в нашем мире. Сам этот мир не есть что-нибудь безусловно-реальное, а лишь низшее «натуральное» состояние человечества, отличающееся тем, что тут apparentia утверждаются или фиксируются как entia»[62].
Вряд ли Соловьев прав, приписывая Сведенборгу это открытие: первопроходцем тут был Лейбниц; к тому же у Канта пространство и время не «субъективны», а идеальны, что как раз делает их объективными. Но если не придираться к словам, все же идеи обоих гениев отдаленно перекликаются: чувственный мир – это функция личности в некоторых ее аспектах, включая моральный. В этом одна из самых впечатляющих черт сведенбор-говских загробных миров. Та оболочка из вещей, домов, ландшафта, пространства, близких и далеких людей, которая вроде бы дана человеку извне и почти без участия его воли, воспроизводится и в преисподней и на небесах, так что человек не сразу осознает свою смерть. Но осознав, понимает, что сам создает свой мир и этим самым создает себе награду или наказание, длящиеся во всех мирах.
Вот любопытный фрагмент: оказывается, можно утверждать, что «вся жизнь, собственно, лишь умопостигаема, что она вовсе не подвержена изменениям во времени и не начинается рождением и не заканчивается смертью; что земная жизнь есть только явление, т. е. чувственное представление о чисто духовной жизни, и что весь чувственно воспринимаемый мир есть лишь образ, который мерещится нашему теперешнему способу познания и, подобно сновидению, не имеет сам по себе никакой объективной реальности; что, если бы мы созерцали вещи и самих себя так, как они существуют, мы увидели бы, что находимся в мире духовных существ…». Кажется, неплохое изложение взглядов Сведенборга. Между тем это цитата из Канта[63]. Рассуждая о допустимых по отношению к потустороннему миру гипотезах, кенигсбергский мудрец выбирает и прочувствованно излагает именно эту версию, в которой нетрудно узнать «грезы духовидца». Этим лишний раз доказывается, что Сведенборг был запретным, но соблазнительным плодом для критического метода Канта, чья внутренняя цензура не позволяла признать за такой картиной мира действительность, но в то же время не в силах была отказать ей в метафизической и моральной привлекательности.
Человеку нашего века, достигшему таких успехов в создании искусственных оболочек вокруг своего естественного бытия, что чувственный рай не всегда легко отличить от чувственного ада, опыт Сведенборга, что бы мы ни понимали под этим, может подсказать, что овеществлению человеческого мира полезно время от времени противопоставлять умение видеть внешний мир как пластическое выражение нашей моральной природы. Какой бы скромной ни была попытка посмотреть на жизнь с этой точки зрения, в ней всегда будет что-то от ясновидения: Кант дает это понять в «Грезах духовидца». Разумеется, назвать это произведение апологией Сведенборга тоже было бы неверным. Все же главная забота Канта в его рассуждениях – это статус метафизики[64]. Она «следит за тем, исходит ли задача из того, что доступно знанию, и каково отношение данного вопроса к приобретенным опытом понятиям [Erfahrungsbegriffen], на которых всегда должны быть основаны все наши суждения. В этом смысле метафизика есть наука о границах человеческого разума [ist die Metaphysik eine Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen Vernunft], и если по отношению к небольшой стране, всегда имеющей много границ, более важно знать и удерживать ее владения, чем безотчетно стараться расширить их завоеваниями, то и польза от упомянутой науки хотя и мало кому ясна, но зато очень важна и получается только путем долгого опыта и довольно поздно»[65]. В этих словах – квинтэссенция «Грез духовидца» и предвосхищение основной установки первой «Критики», содержащей хрестоматийные слова о знании, которое Кант подвинул, чтобы дать место вере[66].
Не стоит забывать, что метафизическое искусство проведения границ порождает не только ограничение, но и расширение прав разума: Кант демонтировал сведенборгианский мировой континуум, но зато создал три автономных царства – теоретическое, практическое и телеологическое, в которых разум, не жертвуя собой, может выходить за собственные границы в «иное» и возвращаться не без трофеев[67].
Никак не скажешь, что Гердер был недооценен современниками или потомками. Но современность все же подсказывает, что его надо перечитать. Его роль инспиратора новаций весьма велика. Уже в 1771–1776 гг. Гердер – тогда советник консистории в Бюкебурге – становится деятельным участником движения «Буря и натиск». В начале 1770-х годов Гердер разрабатывает проблемы эстетики и языкознания. Его учение о «духе народа», который выражается в искусстве и народной поэзии, стоит у истоков фольклористики. Работа о происхождении языка дает одну из первых моделей естественного становления языка в ходе истории. Гердер отрицает генетическую субординацию языка и мышления, полагая, что они развиваются во взаимообусловленном единстве. Он не только отвергает богоданность языка, но и, полемизируя с Кондильяком и Руссо, утверждает его собственно человеческую специфику, находимую в мысли, практике и общественности.
В 1776 г. Гердер переезжает в Веймар, где становится генерал-суперинтендантом протестантской общины. Вместе с Гёте возглавляет веймарское содружество ученых и писателей. В этот период Гердер интенсивно занимается естественными и историческими науками, создает свой шедевр «Идеи к философии истории человечества» (опубликован в 1784–1791). (Подробнее об этом грандиозном труде, а также позднем творчестве Гердера см. в главе 3 «Культурфилософские идеи Германии XVIII – первой трети XIX в.».)
Несмотря на изоляцию в рамках зрелого немецкого Просвещения, мировоззрение Гердера стало арсеналом тем, идей и творческих импульсов для самых разных направлений немецкой мысли: для романтической эстетики и натурфилософии, гумбольдтианского языкознания, диалектической историософии Фихте и Гегеля, антропологии Фейербаха, герменевтики Дильтея, философии жизни, либеральной протестантской теологии. А.Г. Габричевскому удалось показать еще одну грань гердеровского гения, сближающую его с новейшей эстетикой.
Доклад А.Г. Габричевского «„Пластика“ Гердера»[68], сделанный в ГАХН 12 ноября 1925 г., дает пример радикальной реабилитации классической немецкой эстетики. В статье 1928 г. «Поверхность и плоскость» Габричевский видит большую проблему в том, что наука об искусстве довольствуется «предпосылками и моделями, догматически ею заимствуемыми из физики, физиологии и математики, не проверяя их на непосредственных данностях художественного как такового»[69]. Если же, полагает он, сделать источником теоретической модели сами эти данности, то «учение об элементах искусства не пребывало бы в том зачаточном состоянии, в каком оно находится сейчас, и вошло бы как органическая часть в общую натурфилософию»[70]. В качестве удачного опыта Габричевский приводит оптику Гёте, выросшую из объяснения живописи, и отмечает также, что «другие элементы пространственного творчества находятся в еще большем загоне: для понятия массы мы почти ничего не имеем, кроме гениально набросанной модели Гердера…»[71]. Габричевский имеет в виду текст, не слишком часто цитируемый даже историками эстетики: небольшую раннюю работу под названием «Пластика», написанную в 1778 г.[72]
Главный тезис Гердера – несводимость друг к другу художественных возможностей и способностей, основанных на трех фундаментальных для искусства типах чувственности, каковыми являются зрение, слух и осязание. Гердер подхватывает идею Лессинга о том, что нельзя все художественное сводить к оптическим искусствам как к критерию: нельзя говорить о том, что скульптура – это молчащая поэзия, а поэзия – это говорящая картина. Гердер – в ярости от этих привычных еще с античных времен метафор. Он полагает, что не надо смешивать эти миры, которые должны работать по-своему и оцениваться по собственным внутренним критериям.
Габричевский замечает: «Согласно Гердеру, большинство эстетических терминов заимствовано из области зрительного восприятия. Область осязания не только не исследована, но и все осязательные оттенки слов все более и более выветриваются [из языка]. А между тем осязание первичнее зрения, и на нем построено все искусство пластики. Феноменология осязания есть не что иное, как художественный принцип пластики»[73]. В построении эстетики Гердер идет не путем континентального дедуктивного рационализма и не английским эмпирическим путем: он пытается вывести формы искусства из конкретной чувственности, которая была бы не материалом, а активным элементом. (Собственно, в этом заключается и путь гердеровской философии языка.) Жизнь материала, таким образом, оказывается и заданием для художника, и условием восприятия красоты. Габричевский так оценивает новации Гердера: «В противовес абстрактной рационалистической эстетике своих современников, Гердер пытается построить науку о прекрасном „снизу“, путем анализа простейших „чувственных понятий“. Результатом такого анализа должно явиться точное разграничение чувственных сфер. „Феноменология“ этих сфер лежит в основе разграничения разных типов прекрасного и классификации искусств. Соответственно, и понятие красоты, „чувственное выражение внутреннего совершенства“ носит определенно натуралистический характер. Восприятие красоты есть вчувствование в некий максимум внутренней жизненной силы и движения, выражаемый во внешней чувственной форме»[74].
Критика оптического в «Пластике» оценочно окрашена: видимое, по Гердеру, осуществляет две функции – оно дистанцирует нас от того, что мы видим, а дистанцированное разбивает на рядоположные части, т. е. мы бы сегодня, зная уже хайдеггеровское «Время картины мира», сказали, что происходит отчуждение человека от объекта и внутри себя объективированное структурируется так, что части существуют как отдельные объекты целого. Гердер говорит, что в результате мы получаем иллюзорное воспроизведение реальности на плоскости. Он отнюдь не развенчивает живопись, но лишь утверждает, что в живописи надо видеть то, что она нам может дать; что нельзя заменить ничем другим. Это – объективированная действительность, которая охватывает целое. Сила живописи в том, что она может изображать остановленное и плоское бытие, но зато в совокупности всех сколь угодно детализированных элементов. Хорошая живопись даже преодолевает различие высокого и низкого, изображения достойного и недостойного. Но живопись в принципе не может художественно дать два других типа реальности, которые основаны на слухе и осязании.
Особенность слуха в том, что он дает временную последовательность акустических состояний и соответственно с ними связанных рациональных актов. Осязание дает нам форму и тело. Как показывает Габричевский, интересно уже то, что Гердер почти как синонимы употребляет два этих понятия. Форма – это обязательно объем, и объем дает нам пространство совсем не так, как картина. Это пространство (объем, фигура, форма), наполненное веществом. Но далее таким образом мы открываем силу. Сила, движущая веществом, пространством и временем, – это уже объемная картина космоса. Интересно, какими коннотациями окрашено это воспевание пластики. Гердер подчеркивает, что пластика – это обязательно действие: действие скульптора в первую очередь. Пространство скульптора приобретает овеществленность, а время здесь присутствует в виде динамического действия силы. То есть мы видим, что пластика, по сути, может претендовать, говоря вагнеровским языком, на статус Gesamtkunstwerk'а.
Для Гердера важно и то, что пластика может помочь в том случае, когда остальные чувства не работают. Это модная тема XVIII в. – попытка научить слепых, глухих воспринимать мир, в частности тема Дидро. Гердер подхватывает эту тему и говорит, что осязание обладает колоссальной продуктивной силой, оно может в ряде случаев быть субститутом зрения и слуха. Тогда как слух и зрение заменить осязание не могут, т. е. они не выводят нас к реальности. Очень важно, по Габричевскому, что осязание, в трактовке Гердера, сильнее рождает аффективный эмоциональный поток, тогда как живопись нас дистанцирует и успокаивает, делает холодными созерцателями. (Стоит заметить, что музыка во времена Гердера также была еще ассоциирована со своей античной эстетической идеей; она гармонизировала мир, рафинировала чувства. Так же как и театр, она выполняла терапевтическую, катартическую роль.) Пластика же, по Гердеру, прямо вбрасывает нас в материю и рождает поток чувственности. Гердер говорит, что настоящий скульптор должен эротически почувствовать материал, который он трогает (эротическая составляющая пластики у Гердера настойчиво дана прямым текстом). Поэтому пластика, прочувствованная не глазами, не умом, а телесностью, может получаться такой живой. Телесность и вещественность одинаково восхищают и Гердера, и Габричевского. Последний фактически показывает, что этот прорыв новой чувственно-материальной эстетики был не менее радикальным действием, чем открытие Лессингом литературно-временного, и столь же вовлекал в себя эпохальную идею исторической воли.
Габричевский восторженно характеризует «Пластику»: «Самое выразительное проявление в области эстетики того мироощущения, которое вылилось, с одной стороны, в творчество эпохи „Бури и натиска“ (в частности, молодого Гёте), с другой – в натурфилософию молодого Шеллинга <…> Одна из первых попыток онтологического обоснования художественной формы и единственный для того времени опыт систематического искусствознания не как приложения к эстетике, а как ее основания»[75]. В ГАХНовском докладе «Философия и теория искусства» (27 октября 1925 г.) он формулирует в какой-то мере программное положение: «…на наших глазах возникает своеобразная онтология художественного <…> которая, исходя из чувственной данности, отграничивает художественное не от других форм прекрасного, а непосредственно от других форм бытия. Поэтому, если раньше, например, в эпоху романтики, философская дорога от истории искусства и от индивидуального творческого акта художника вела к эстетике, то современный путь от искусствознания „ввысь“ ведет либо 1) к чистой онтологии с опасностью уклона в натурализм (Шмарзов), или 2) к философии жизни и творчества с опасностью уклона в метафизику (Зиммель), для которого сам метафизический предмет конструируется не по форме прекрасного, как, например, у Шеллинга в эпоху философии тождества, а именно по форме художественного предмета (традиция Гердера у молодого Шеллинга и у Гёте). В этом смысле современный теоретик искусства стоит всегда перед соблазном сенсуализма и натурализма, а историк искусства – перед соблазном построения широких культурно-метафизических схем. Поэтому всякая современная философия искусства должна постоянно оглядываться на феноменологию художественного, и только из нее могут быть почерпнуты принципы построения наук об искусстве»[76]. Гердер, как видно из этой схемы, стоит у истоков любимой Габричевским традиции «философии жизни», но не несет прямой ответственности за ее «метафизические уклоны».
ГАХНовские работы Габричевского показывают, что сам он легко преодолевает соблазн сенсуализма и натурализма, но соблазн «философии жизни и творчества» отнюдь не кажется ему смертным грехом. Гётеанство оказывается для него постоянным источником творческих интуиций[77], «метафизика» Зиммеля – методологией анализа культуры, а Гердер – примером революционного обращения к динамике формы. Цитированная выше статья «Поверхность и плоскость» является хорошим подтверждением сказанному.
В то же время императив оглядки на «феноменологию художественного» отнюдь не является риторическим оборотом. В отличие от эстетики, философия искусства, как подчеркивает Габричевский, имеет дело с формами бытия, а не красоты и поэтому должна беречь свою предметность и от объективистской натурализации, и от субъективистской психологизации.
В этом и основание для размежевания Габричевского с Зиммелем (при всем роднящем их витализме): «метафизический предмет» нельзя конструировать «по форме художественного предмета», поскольку задача в том, чтобы выявить его собственную форматуру, по отношению к которой «художественное» – творчески вторично. Гердер с его «онтологическим обоснованием художественной формы» оказывается в данном случае ближе Габричевскому, чем Зиммель.
Мы, таким образом, могли увидеть, что немецкая классическая эстетика подсказывает Габричевскому ключевые для его морфологического метода решения. Гердер – как и Гёте – от натурфилософского и историцистского витализма делает принципиальный шаг к автономии формы именно тем, что укореняет ее в единстве телесно-духовной практики. Соблазн более простого решения – растворения формы в практике – покончит с эпохой классики, но Габричевский чужд этому пути даже в поздний период своего творчества, когда к нему склонял сам идеологический язык времени. Стоит также заметить, что косвенные, но от этого не менее выразительные следы влияния гердеровских интуиций можно найти в работах Габричевского по теории архитектуры: в его разъяснениях отношений «динамического» пространства и «тектонической оболочки», в описаниях взаимодействия массы и плоскости, «оформляющего жеста» и «отвечающей материи»[78].
Казавшийся благополучным век Просвещения, Разума и Гуманизма кончился в конце 80-х – начале 90-х годов XVIII в. весьма бурными событиями. Французская революция, которая открыла дорогу интенсивному буржуазному развитию Европы, выпустила на волю и демонов «ночи», безумия и бесчеловечности. Четверть столетия понадобилась для того, чтобы Европа вошла в колею более или менее спокойного развития, и теперь, два века спустя, мы видим, что за это время был выработан бесценный опыт, во многом определивший пути европейской культуры. Достаточно упомянуть одну лишь романтическую литературу, чтобы представить, сколь многим мы обязаны этой тревожной эпохе. Немецкие романтики, пожалуй, острее других своих современников ощутили, что все происходящее – это отнюдь не временное отклонение от идеалов Просвещения, а какой-то естественный и глубинный результат их развития.
Мы знаем, что сон Разума рождает чудовищ, но XVIII в. никак не назовешь сонным. Не странно ли, что именно он породил тему «ночной» стороны души? Как разгадать этот поворот культурного сознания? Как и каждая великая эпоха, наступившее вслед за Средними веками Новое время заново открыло для себя Человека. Для него Человек уже не звено в хитросплетениях Космоса (как для Античности) и не ступень в иерархии земного и небесного (как для Средневековья), а высшая ценность и «квинтэссенция» бытия. И, может быть, самое главное – единственная безусловная ценность. Двойственность, противоречивость такого человеколюбия (если ты высшая и единственная ценность мира, то ты ответствен за весь мир и все его зло) была глубоко прочувствована уже в канун Нового времени.
Как бы осваивая открытую им антропоцентричность бытия, Новое время спешит проверить сущность Человека в своих литературных опытах. Великие литературные герои этой эпохи оказываются в определенном смысле постоянной точкой отсчета в мире, который утратил устойчивость и с бесконечным разнообразием меняет свои параметры. Вспомним гигантов Рабле, олицетворяющих проснувшуюся и утверждающую свои естественные права материю; Гулливера, убедившегося в относительности своей меры и нормы; Робинзона, доказавшего, что человек может быть организующим центром космоса; Кандида с его выжившим несмотря ни на что оптимизмом. Здесь перед нами «топология» человечности: обстоятельства сжимают, растягивают и перекручивают ее природу, но само ядро, сущность человека, остается нерушимым.
Разумный и свободный индивидуум не только умеет выстоять в хаосе бытия, но и привносит в него мощный фермент человечности. Не случайно почти все герои Новой литературы – путешественники. Не паломники, а странники, которые открывают для себя чужой мир и открывают себя – миру. Завет Данте, предостерегавшего от подмены кругового пути самопознания и покаяния прямым путем самовыражения, оказывается теперь ненужным. Вместе с тем Новое время никак нельзя назвать наивным. Трагическая сторона гуманизма хорошо видна Сервантесу и Шекспиру, Расину и Стерну. Их герои зачастую отстаивают сущность человека, отступив на территорию абсурда. Но в том-то и дело, что им есть за что сражаться. Кризис же конца XVIII в., помимо целого ряда прочих антиномий, поставил вопрос уже не просто о человечности мира, а о человечности самого человека. Романтики первыми обнаружили, что казавшееся раньше неделимым атомом человечности, «индивидуумом», на деле есть сложная структура, которая стремится уравновесить разнородные, а то и враждебные силы. Наше «я» – лишь элемент этой системы, и даже само «я» может распадаться на враждующие части. Человек-атом, движущийся в бесконечном пространстве и вступающий в творческие сплетения с другими атомами, мало-помалу уступает место человеку-процессу, который еще только ищет себя и не знает заранее, что найдет. В культуру Нового времени приходит идея Истории.
Расслоение человека, утрата «естественной» простоты – любимая тема Гофмана. Произведения великого романтика, открывающие неведомую, «ночную» сторону души и бытия, показывают, на каких путях искал Гофман утраченную простоту человечности. «Ночь» – любимый мотив романтиков. Они развернули широкий спектр эмоционального переживания «тьмы»: от просветленного упоения Ночью как спящей первоосновой природы, где жизнь и смерть – одно (Новалис), до свирепого упоения Мраком, который освобождает мое одинокое «я» от внешних цепей (Байрон). У Гофмана – свое место. Лирическое вдохновение Новалиса – это для него детство романтизма. Гофман чувствует, что человек – герой злой сказки. Темное начало в мире (и главное – в самом себе) не играет с человеком, а всерьез намеревается его поглотить.
Но в то же время Гофман никогда не искал дружбы с князьями тьмы. Его любимый герой – художник. То есть человек, который профессионально обязан играть с темной стороной сознания и природы. Но – не изменять при этом своей «небесной» родине. Гофмановский «маэстро» часто оказывается при этом по-детски беззащитным, и не только перед силами мрака, но даже перед серой повседневностью. (Впрочем, среди заслуг Гофмана – открытие инфернальной стороны в мещанской мирной усредненности.)
И все же Гофман не отказывается от такой, казалось бы, слабой и зыбкой позиции между двумя могучими мирами. Она не такая уж слабая. Заметим, что ему не свойственно то умиление «маленьким человеком», которое часто встречается в литературе XIX в. Гофмановский художник горд тем, что его миссия по-своему уникальна, и тем, что от чистоты его сердца зависит исход космической битвы света и мрака. Гофман с юмором (с романтической, конечно же, иронией) описывает такие битвы в своих сказках, но дает понять, что речь идет о серьезных вещах. Стоит художнику однозначно выбрать «свет» – и мир превратится в бездушный механизм. Стоит выбрать «тьму» – и тьма посмеется и над миром, и над ним, отобрав даже иллюзорную самостоятельность гордого «я».
Разнообразны формы, в которых обнаруживают себя «ночные» стороны бытия в гофмановских творениях. Прежде всего это знаменитая тема «двойника». «Эликсиры сатаны» раскрывают нам целый театр двойников и «масок». Расщепление человеческого «я» ужасно, по Гофману, не только из-за утраты цельности или из-за враждебности многих «я», но главным образом из-за того, что первичное «я» несет ответственность за своих двойников, порождены ли они бессознательно или полусознательно. Преступления «Эликсиров» начинаются задолго до факта их свершения; они предопределены поступком или выбором, сделанным в невидимой «ночной» части бытия. Но если больное сознание порождает двойников, дает силы активным призракам, то оно же – сознание – будет источником спасения. Недаром Гофман – один из зачинателей детективного жанра («Мадмуазель Скюдери»). Сознание должно пройти, шаг за шагом, путь бессознательного, удвоить двойника, отразить отраженное и тем самым обезвредить его. Художник – это и есть идеальный следователь. Только он может увидеть ситуацию изнутри.
Другой облик «ночного» – это фатум, иррациональная судьба, которая часто у Гофмана воплощается в груз наследственного, родового проклятия. И здесь спасение также не в том, чтобы бежать от фатума, а в том, чтобы принять на себя ответственность. Опять же никто не сделает это лучше художника. Только он может всерьез пережить ответственность за то, в чем он не виноват, и в то же время избежать реальной вовлеченности в преступление. Наследственность играет столь важную роль в сюжетах гофмановских новелл потому, что в ней слиты моральное и природное. А природа для Гофмана, как и для многих романтиков, это и есть та забытая «ночная» сторона бытия, которая мстит в ответ на пренебрежение и спасает в ответ на любовь.
Художник – по теории романтизма – сам есть живое воплощение единства природной стихийности и разумной сознательности. Отсюда – один из любимых приемов Гофмана: ироническое разоблачение «второй» природы, искусственного, «механического» мира, фальшивой имитации жизни. Эта имитация опасна, потому что она заслоняет от нас «ночное», создает иллюзию плоского предела пространства, иллюзию безраздельного господства мира обыденной жизни. «Ночному» поневоле приходится прорываться в наш мир «незаконно», через слабые, больные его сочленения, становясь при этом разрушительной силой.
Новеллы Гофмана богаты меткими и враждебными наблюдениями за жизнью этой «второй» природы. Тут и агрессивность вещей, которые отказываются служить человеку, предпочитая понемногу превращать его самого в вещь. И двусмысленность любимых игрушек века Просвещения: кукол, автоматов, зеркал – всего того, что кажется правильным повторением жизни. Настолько правильным, что возникает соблазн заменить живое искусственным и тем самым действительно (в том-то и ужас!) достичь счастья. Наконец – магия одежды, «формы», которая кроит человека по своей мерке, дает ему содержание, к его великому удовольствию. Гофман изобретательно высмеивает все эти декорации. Здесь он – на стороне «тьмы», которая сметает оптические иллюзии рассудка. Может быть, одна из причин его полурелигиозного преклонения перед музыкой в том, что это единственное из искусств, которое не выдает свою строгую форму за природное «реальное» вещество. Опять-таки в этой борьбе с вещами главный герой – художник. Потому что он еще и ремесленник. Он знает секреты вещей, он знает, «как это делается», и знает границы возможности вещного мира. Тут его не проведешь.
Но где художник почти бессилен – так это в обществе. Здесь его магическая формула «союз с тьмой ради победы света» не нужна, ибо союз с силами «ночи» на совсем иных основаниях уже заключили другие. Самому Гофману приходилось быть и гонимым художником-аутсайдером, и государственным чиновником, неудачливым в борьбе с беззаконием. Поэтому его творчество, касаясь этой стороны бытия, теряет даже тот иронический оптимизм, который связан с другими темами. Создается впечатление, что борьба за спасение «ночного» ради «дневного» уже закончена и художнику остается место лишь в подполье.
Чтобы правильно понять волнующие Гофмана проблемы, стоит сравнить его чудеса, призраки и ужасы с теми, что открыты так называемым готическим жанром. В «готических» романах, на которые, казалось бы, так похож роман «Эликсиры сатаны», по-прежнему сохраняется маленький «пережиток» Просвещения. Герой переживает все страсти, даже появление двойников, сохраняя для своего «я» традиционную систему координат. «Я» или есть, или его нет. И уж если оно есть, то через все приключения оно пронесет какие-то остатки равенства самому себе. У Гофмана – другое, новое, роднящее его с XX в.
Гофман недвусмыслен, когда нужно выбрать, чей он союзник в космологических битвах злых и добрых сил. И здесь он серьезен, несмотря на сказочно-юмористический лад его новелл. Но там, где речь идет о понимании человеческой природы, просветительские стереотипы тем более не удовлетворяют Гофмана. Для него проблематично само безусловное тождество личности. Он видит, что в самых глубинах человека вместо простой разумной сущности, которую, если верить Руссо, достаточно освободить от внешних уз, чтобы найти счастье, вместо «природы» мы находим сложный сплав природы и свободы в ее двух обликах, в виде злой и доброй воли. Но и это не предел деления… Поэтому если мы дадим душе руссоистскую свободу, то она, пожалуй, еще и посмеется над нами, прежде чем выдумать какой-нибудь фокус своеволия.
И все-таки романтическая традиция связана каким-то стержнем. От светлого «серафического» Новалиса до едкого скептика Гофмана протянута единая нить веры в то, что где-то в глубинах добро и красота имеют общий корень. Если личность распадается на множество самостоятельных начал, каждое из которых имеет свои цели и свою логику развития, то по крайней мере один из этих продуктов распада не равноценен другим. Это – сердцевина «я», которая приоткрывается в совести и в эстетическом чутье художника. Гофман, может быть, первый заметил, что эти принципы нужны друг другу и если, образно говоря, тонет один, то его можно вытащить, потянув за другой. Романтики верили, что в хаосе элементов есть один, который может собрать вокруг себя все остальные, восстановить космос. Мысль следующей эпохи шагнула дальше. Она принимает открытое романтиками родство «ночного» и «дневного», принимает открытую ими роль бессознательного и, конечно, признает дробление простого «я» на многие части. Но она уже не верит в то, что есть какая-то моральная асимметрия в этом делении. Побеждает принцип равенства всех возможностей, и нам уже трудно понять, в чем секрет веры Гофмана в спасительную миссию такой в общем-то субъективной и спорной вещи, как интуиция мастера-художника.
Культурфилософские идеи XIX в.
В 30-е годы XIX в. произошло то, что сейчас называют сменой культурной парадигмы: новая эпоха может быть с известными оговорками названа (по преобладающей тенденции) позитивистской. Сделаем шаг назад, чтобы подвести итоги достижениям XVIII в. Поворот, осуществленный в европейском мышлении Кантом, позволил выдвинуть в качестве предмета интерпретации, теоретического исследования и системных построений именно культуру как третью реальность, не сводимую к природе и свободе. Принцип историзма, соединенный с открытием Канта, дал возможность в начале XIX в. представителям классической немецкой философии – Фихте, Шеллингу и Гегелю – построить развернутые модели поступательной эволюции универсума как творческого развития духа. Описанные при этом диалектические механизмы предметной объективации духа и его возвращения к своей субъективности через самоинтерпретацию позволяют считать эти модели развернутыми концепциями культурфилософии.
В это же время становление культурологического дискурса происходит в других течениях европейской интеллектуальной жизни: в историософии позднего немецкого Просвещения, в немецком романтизме, несколько позже и во всем культурном пространстве Европы (например, во французской политической мысли, обе ветви которой – консервативная и революционная – оперировали культурологическими мифологемами, в российском споре славянофилов и западников, в ходе которого начинает осознаваться необходимость перехода от историософских схем к конкретно-философскому анализу явлений культуры).
Следующий шаг делает гуманитарная мысль второй половины XIX в.: два ее доминирующих направления – каждое по-своему – создавали предпосылки культурологии. Позитивизм вырабатывал установку на отказ от метафизики в пользу эмпирического исследования конкретных феноменов и их каузальных связей. Философия жизни ориентировала на понимающее вживание в неповторимые единичные явления. Оба направления тяготели к упрощающему редуктивизму, но все же их усилиями культура была осмыслена как возможный предмет теоретического исследования.
Чтобы понять тип новой гуманитарной парадигмы, которая приходит, проявляясь в резких, активных формах, надо обратить внимание на идеологическую атмосферу 1830-1840-х годов. Она характерна сознательным отталкиванием от онтологических традиций западного мышления, а в силу этого и от основных аксиом учения о разуме. Критике подвергаются в первую очередь такие допущения, как возможность при определенных условиях изменить естественную эмпирическую точку зрения и встать на точку зрения разума вообще, или абсолютного разума; возможность средствами мышления гарантировать автономию философской теории; наличие на том или ином уровне реальности объективных соответствий идеальным конструкциям разума. В качестве главного обвинения классической философии выдвигали тезис о том, что ею были забыты реальный мир и действительный индивидуум. В теориях, противостоящих классике, при всем их разнообразии была одна общая черта: объявлялось, что разум не просто отличен по своей природе от реальной действительности, но что он является ее продуктом и относительно пассивным выразителем ее внерациональных импульсов (табл. 6).
Таблица 6
Инверсия ценностей в XIX в.
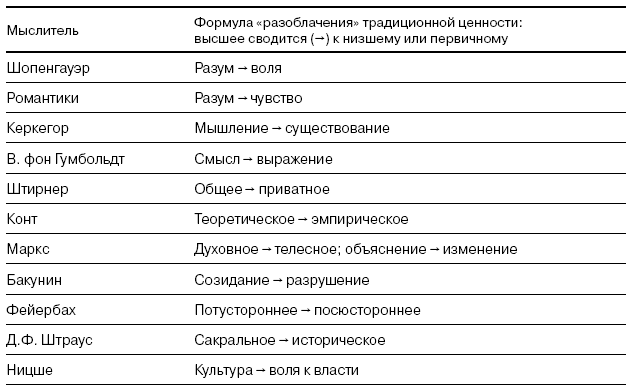
Разрыв с традицией не покажется слишком резким, если мы вспомним, что борьба с догматизмом и метафизикой началась еще в XVIII в.; что внутри самого классического направления действовали разрушительные силы, в частности романтическая школа; что позиции самих классиков были двойственными. Основной набор направлений, выявившийся в общих чертах к 40-м годам XIX в., включал в себя разные, в том числе противоречащие друг другу, тенденции. Но есть критерии, позволяющие отличить их от эпигонов классики или от представителей академической мысли. Главным критерием можно считать недовольство замкнутостью традиционной гуманитаристики на свои собственные ценности, методы и установки и в то же время желание найти какую-то вне разума лежащую действительность, которая могла бы «заземлить» абстрактное теоретизирование. Фактически это оборачивалось редукцией разума к той или иной иррациональной стихии. В основном выдвигалось два вида такой действительности: первый – бессознательная космическая воля, второй – сознательный, но не теоретизирующий индивидуум.
Шопенгауэр – основоположник первого направления – один из самых агрессивных ниспровергателей спекулятивной философии. Однако его система многими чертами напоминает те, с которыми он воевал: абстрактное начало в основе теории, переход от природы к этике, примат практического, постулирование верности кантианству. Новое здесь то, что воля – не только начало, но и единственная сила, имеющая субстанциальный характер.
Вторую концепцию можно представить в двух вариантах мыслителей-антиподов – Керкегора и Фейербаха. Керкегор противопоставляет абстрактное бытие и существование личности, радикально разъединяя мышление и существование. Личность диалектически соотносится с Богом, но Бог, по Керкегору, отнюдь не равен абсолюту философов, это «Бог живой»; личность же должна не познавать его, а верить в него или, может быть, верить ему. Антропологический метод Фейербаха, в отличие от керкегоровского, делает человека единственным (если не считать ему подобных) действительным бытием, но и в его учении иррационализм присутствует и проявляется при попытках найти обоснование социальности и индивидуальности. Речь идет именно о радикальном культурно-идеологическом повороте, который ориентировался на тотальное сведение высших ценностей к низшем субстрату.
Натиск на разум классической цивилизации позволяет прочувствовать атмосферу XIX в., впервые приблизившегося к воплощению утопии Нового времени – к цивилизации без трансценденции. Позитивизм и материализм этой эпохи справляются, как тогда казалось, со всеми духовными задачами человечества и заодно разоблачают как корыстный умысел все многовековые религиозные и метафизические грезы Европы. Среди главных обвинений прошлому был тезис о том, что метафизика забыла реальный мир и действительного индивидуума. В этом было немало правды: безжизненные абстракции старой метафизики превратились в идеологию застоя. Как это часто бывает в ходе культурных революций, отсутствие действительно нового (при острой потребности в нем) иногда небезуспешно замещается инверсией старого. Для того чтобы вернуться к забытой «реальности», создатели новой культуры решили извращенный мир идеалистов «поставить с головы на ноги». Этот бунт против разума не был лишен оснований, но высокая его версия адаптируется европейским мещанином довольно быстро и с тяжелыми последствиями для культуры.
Вместе с тем именно позитивистские установки стимулировали переход от культурфилософии к науке о культуре. Рождение культурологии как гуманитарно-социальной дисциплины было напрямую обусловлено усилиями таких новорожденных или обновленных наук, как антропология, языкознание, психология, история, правоведение, религиоведение, социология, социальная география, политэкономия и др., направленных на теоретическое обобщение эмпирических исследований. Рассмотрим наиболее представительные концепции этой эпохи.
О. Конт (1798–1857) – создатель позитивистского канона. Не только в сочинениях (основные: «Курс позитивной философии», т. 1–6, 1830–1842; «Система позитивной политики», т. 1–4, 1851–1854), но и в активной социальной деятельности, которая предполагала даже построение своего рода «позитивистской церкви», он проповедовал построение новой цивилизации, основанной на искоренении бесплодных фантазий и рациональном синтезе всех реальных достижений человечества под знаменем «положительной философии». Положительной она была потому, что отказывалась от познания сущностей и занималась только описанием фактических («положенных» опытом) данных и их систематизацией на основе здравого смысла. В фонд культурологических идей вошел его «закон трех стадий», по которому любая система знания и ее сознательные носители (человек и человечество) проходят в своем развитии три стадии: 1) «теологическую, или фиктивную»; 2) «метафизическую, или абстрактную»; 3) «позитивную, или реальную».
«Теологическая» стадия, объясняя мир, измышляет сверхопытные антропоморфные сущности (духи, боги и т. п.). Она проходит три фазы: фетишизм, политеизм и монотеизм. «Метафизическая» стадия заменяет антропоморфные фантазмы абстрактными сущностями (субстанции, идеи, материя и т. п.). «Позитивная» стадия от догматической фантастики переходит к эмпирическому вероятностному знанию феноменов. Прогрессивное движение от стадии к стадии Конт считал главным законом истории, полагая, как и его предшественники – французские просветители и Сен-Симон, что морально-духовная эволюция является главным фактором прогресса, а экономика, география, климат и т. п. суть вторичные, подчиненные факторы. «Теологическая» стадия длится до 1300 г., «метафизическая» – до 1800 г., «позитивная» начинается вместе с переходом власти от духовенства и аристократии к индустриальному гражданскому сообществу в 1800 г.
Довольно логично Конт считает ключом к успеху позитивного метода классификацию наук. В самом деле, если мы отказываемся от предпосылки мира сущностей, то единственным основанием систематизации явлений будет наш способ определения объекта и предмета исследования. Свою систему наук Конт выстраивает в соответствии с убыванием общности и возрастанием сложности предмета: математика, астрономия, физика, химия, физиология, «социальная физика» (для которой Конт изобрел название «социология»).
Иначе говоря, лестница восходит 1) от простого к сложному; 2) от абстрактного к конкретному; 3) от древнего к новому. Причем каждая верхняя ступень ряда включает законы и методы предшествующей (табл. 7).
Таблица 7
Конт: лестница классификации наук
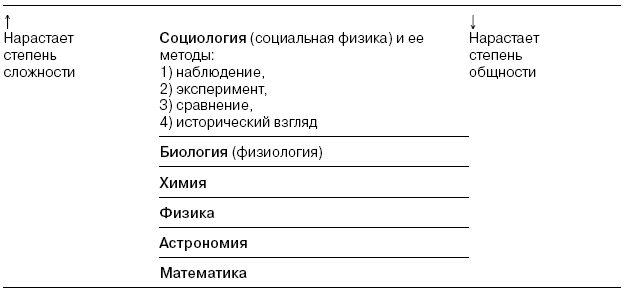
Абстрактные науки выводят законы, определяющие явления действительности и категории мышления.
Конкретные науки применяют законы к действительности.
Позитивная философия приводит принципы наук к наименьшему числу законоположений и совокупность знаний – к общей системе.
Социология обеспечивает реформы, осуществляемые тремя силами: материальной (деловые люди и политические лидеры), интеллектуальной (социологи и священники) и моральной (женщины).
Этой иерархии соответствует историческая последовательность прихода науки к «позитивной» стадии. Поскольку каждая наука должна опираться на факты, описанные в другой науке, порядок их созревания определен степенью сложности и зависимости от других. Поэтому «социология» проходит всего лишь период становления. В специальном выделении гуманитарных наук Конт не видел смысла, полагая, что наука всегда одна и та же. Ряд направлений (психология, политэкономия, история) он категорично отнес к псевдонаукам.
В дальнейшем влиятельной оказалась классификация наук Г. Спенсера (1820–1903), английского последователя Конта и Сен-Симона (табл. 8).
Таблица 8
Спенсер: классификация наук
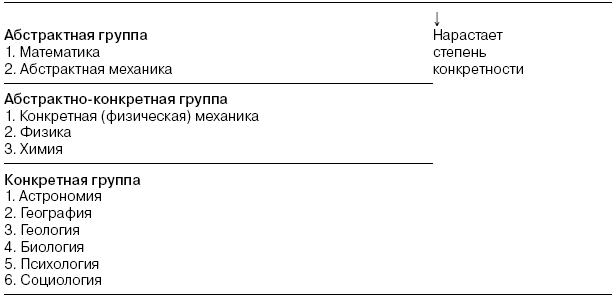
Культурологическая концепция Конта развивается под рубрикой «Социология». Движущей силой развития общества он считает эгоистические интересы индивидуумов, которые уравновешиваются и упорядочиваются альтруистическим интересом государства. При этом Конт считает понятие индивидуума абстракцией, унаследованной от метафизической стадии. Действительным субъектом истории является человечество и его цивилизационные состояния. Человечество нужно рассматривать как сверхорганизм, который обладает всеми свойствами органической системы и должен изучаться как таковой. Базовыми элементами этой системы – также своего рода организмами – являются семья, кооперация и государство. Изучать общество и его культуру нужно, по Конту, при помощи двух дисциплин: 1) «социальная статика» исследует наличный уровень цивилизации и его структурные законы; 2) «социальная динамика» рассматривает движение общества по пути «трех стадий».
Унаследовав от Просвещения теорию прогресса, Конт принимает и такой его причудливый продукт, как культ «Верховного Существа», т. е. мистического единства прошлых и будущих поколений человечества. Его цель – построение общества братской любви и взаимопомощи, скрепляемого жестким контролем и дисциплиной. Интеллигенция в этом обществе должна взять на себя роль духовенства, бизнес – роль светской власти, а социальным мотором должен быть пролетариат. Важнейшими объектами поклонения этого культа должны стать семья и женщина. Конт создает в последние годы жизни квазирелигиозную секту с тщательно продуманными ритуалами, из которой должна была вырасти «позитивистская церковь».
Идеи Конта и его адептов имели исключительное влияние на XIX в., однако они были не единственным источником позитивистской парадигмы. Еще более важный фактор – развитие и дифференциация естественных наук и параллельная попытка социальных и гуманитарных наук воспроизвести методы естествознания. Постижение культуры в таком случае становится исследованием фактической конкретности жизни этноса и социума средствами изучения документальных источников, археологических артефактов, полевых наблюдений, статистики и т. д.
В исторической науке эти пути прокладывали Л. фон Ранке (1795–1886), заложивший принципы строгой критики источников и объективизма в описании истории; Г.Т. Бокль (1821–1862), развивавший географический детерминизм Просвещения; Н.Д. Фюстель де Куланж (1830–1889) с его идеей непрерывности развития общества, не зависящей от революционных взрывов; И.Г Дройзен (1808–1884) с его новаторской методологией исторического познания. Дройзен, опираясь на идеи Гегеля и В. Гумбольдта, выдвигает важный для культурологии тезис о том, что предмет истории состоит в выявлении духовного образа прошлого через сохранение непреходящей конкретности момента. Реконструируя историю, мы «вникаем» в мир подобных нам людей, что позволяет истории в свою очередь вникнуть в нас и сформировать наш образ, дать нам образование (Bildung). Учитывая двойственный смысл немецкого слова Bildung («образование» и «культура»), мы можем считать, что Дройзен описывает именно механизм культурной памяти. Чтобы объяснить, как человек «становится самим собой», Дройзен выделяет три типа «моральных сил», или общностей, каждая из которых обозначает определенный способ совместного бытия людей: 1) естественные (семья, племя, народ); 2) идеальные (язык, наука, искусство); 3) практические (экономика, общество, государство, сферы права и власти). Речь идет о сферах культуры, каждая из которых, по Дройзену, может доминировать в определенную эпоху, создавая культурный тип.
Культурологический подход позитивизма к искусству вырабатывает И. Тэн (1828–1893) в трудах «Критические опыты» (1858) и «Философия искусства» (1865–1869). Он выдвигает концепт «основного характера», согласно которому существует три фактора, жестко управляющих всей активностью человека и общества: раса, среда и момент (табл. 9). «Основной характер» формирует преобладающий в данном обществе тип человека, который, в свою очередь, на все лады выражается в искусстве. Историческая судьба народа также определяется его «основным характером». Поэтому поиск скрытых сущностей культуры – бесплодное занятие. Зато, зная детерминирующую функцию «основного характера», мы можем с пользой изучать различные формации культуры – дух, обычаи, творческие особенности, которые присущи обществу и индивидууму на разных этапах их эволюции. Для позитивистской культурологии и социологии искусства подход Тэна стал во многом методологической установкой.
Таблица 9
Факторы, во взаимодействии порождающие «основной характер» национального типа и особенности культуры
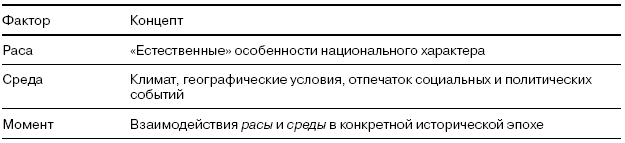
Для истории культурологической мысли очень важен поворот к пониманию языка как субстанции культуры, во многом инициированный В. фон Гумбольдтом (1767–1835). Его учение о языке как бесконечном творчестве и «формирующем органе мысли» стало корнем целого древа учений о первичности языкового моделирования смыслов в культуре. Концепция «внутренней формы» языка, в которой свернута вся картина мира того или иного этоса, также оказалась влиятельной схемой объяснения логики культуры. Этот поворот к языку происходит в философской культуре Запада уже в эпоху раннего романтизма и контрпросвещения. Ранний модернитет постулировал расставание с мифом во имя логоса, науки. Языку в этой культуре отводилось место средства, орудия мышления. Язык понимался как посредник, связной, просветитель и воспитатель; для «взрослого» сознания эта роль языка, как считалось, уже не нужна – для него существует мышление. Но вместе с переоценкой всего стихийного, коллективного и бессознательного начинается и переоценка культурной функции языка. Романтики, И. Гаман, В. Гумбольдт в своих интеллектуальных лабораториях приоткрывают великие тайны языка.
До этого момента парадигмой всякого знания были два варианта. Один – научное знание: все, что может быть помыслено, мыслится по законам и канонам рациональности. Эта парадигма сложилась на заре Нового времени и, почти не изменившись, существует и сегодня. Вторая парадигма, возникшая в ходе романтической революции, утверждает, что все, что по-настоящему может быть схвачено сознанием и истолковано, это продукт художественного синтеза, который на самом деле более полноценен, чем научная абстракция. Но язык и в этой парадигме играл все-таки служебную роль. Оба субъекта – и «мыслящий ученый», и «гений художественной интуиции» – пользуются языком, каждый для чего-то своего. Однако начиная с Гумбольдта (в России – с теории А. Потебни) язык – все чаще и чаще – стали мыслить как некую базисную структуру, которая порождает из себя и мышление, и художественное творчество.
Собственно позитивистскую линию можно вести от учения А. Шлейхера (1821–1868) с его лингвистическим натурализмом. Язык понимался Шлейхером как биологический организм, который необходимо исследовать методами, аналогичными естественно-научным.
Как близкую параллель этой линии можно рассматривать движение в фольклористике и литературоведении, которое назвали мифологической школой.
Мифологическая школа возникла в идейном контексте немецкого романтизма в первой трети XIX в. Для нее характерно утверждение мифологии в качестве субстанции культуры. Обратившись поначалу к исследованиям эволюции фольклора и литературы, школа постепенно расширяет свою предметность до изучения коллективных форм творчества, сравнительно-исторического изучения мифологии, ритуалов, религии, индивидуального сознания. Начиная с «Немецкой мифологии» Я. Гримма (1844) понимание мифологии как бессознательного творчества народа, на основе которого возникли жанры народной поэзии, а косвенно и вся литература, тесно увязывается со сравнительно-историческим языкознанием. Со свойственным позитивизму редукционизмом адепты мифологической школы стремились найти «реальные» основания народной фантазии – будь то метеорологические явления, исторические события или провоцирующие воображение «болезни языка». Однако проясненные в ходе этих штудий механизмы органической связи языка, мифологии, обряда, фольклора, этнопсихологии, «высокой» культуры; понимание динамики форм художественного сознания как стадиального закономерного процесса; разработанный сравнительно-исторический метод – все это навсегда вошло в арсенал гуманитарной науки вообще и культурологии в частности. В России это направление было подхвачено Ф.И. Буслаевым и А.Н. Афанасьевым, А.А. Потебней, А.А. Котляревским, О.Ф. Миллером. Афанасьев, в частности, задолго до структуралистов XX в. реконструировал простейшие базовые оппозиции, лежащие в основе мифологических представлений (например, свет – тьма, тепло – холод). К 1870-м годам критика мифологической школы за редукционизм, этноцентризм, натурализм перерастает в формирование ряда других направлений, в частности сравнительно-исторического литературоведения (и искусствоведения), ориентирующегося на изучение широкого спектра международных культурных связей. Свойственные сравнительно-историческому литературоведению сближение литературы и искусства с другими формами культуры, историко-генетический метод и интерес к культурной психологии народов позволили ему стать важным ресурсом культурологических идей и методов. (В России основателем этого направления был А.Н. Веселовский (1838–1906), чья «историческая поэтика» может рассматриваться как этап истории культурологии.)
На стыке культурологически ориентированного языкознания с другими науками в этот период возникали новые перспективные направления. Так, один из главных представителей мифологической школы М. Мюллер (1823–1900), английский филолог-востоковед, специалист по сравнительной филологии, индологии, мифологии, создатель метода лингвистической палеонтологии культур, постулирует новую дисциплину – «науку о религии», которую он основывает на анализе обусловленности религиозного сознания мифотворческими особенностями различных языков. Но наиболее плодотворным оказался союз филологии с психологией. X. Штейнталь (1823–1899) и М. Лацарус (1824–1903) строят на этой основе теорию «психологии народов». Лацарус в работе «О понятии и возможности психологии народов» (1851) обосновывает необходимость новой науки для изучения культурного творчества народа и его «духа», производного от психологии индивидуума, но имеющего собственные закономерности. В 1859 г. вместе с Штейнталем он основал «Журнал психологии народов и языкознания», специально посвященный этой науке и ее взаимоотношениям с уже существующими методами антропологии, этнографии, сравнительной лингвистики. В итоговой работе «Жизнь души» (1883–1897) Лацарус пытается сформулировать законы, по которым «дух народа» исторически оформляется в политические и культурные институты.
«Психология народов» была развита отцом современной психологии В. Вундтом (1832–1920). Вундт не принимает толкования души как исключительно индивидуальной субстанции (из чего следовало и суммативное понимание коллективных форм психики, и отказ считать реальностью «душу народа»). Для его описательной эмпирической психологии не нужна абстрактная субстанция – достаточно конкретных психических функций в их взаимосвязи. В таком случае принципиального различия между индивидуальной и народной душой не существует: мы имеем право давать научное описание психики любого уровня общности. Особый интерес для Вундта представляет не продукт личных творческих усилий, а именно «психология народов» как результат совместной жизни и взаимодействия людей на основе своих внутренних склонностей. Главные же производные этого процесса – язык, мифы (порождающие религию на основе чувства почитания) и обычаи (порождающие мораль на основе симпатии).
Еще одну культурологическую формулу соединения психологии и истории встречаем у немецкого историка К. Лампрехта (1856–1915). В борьбе с фактуально-дескриптивным методом Ранке он выдвигает свой «причинно-генетический» метод, предполагающий интегральное изучение движущих сил истории, каковыми являются «психогенетические» импульсы коллективных субъектов. С наибольшей выявленностью они осуществляются в социально-экономической истории. В сумме они создают культурные эпохи – предельные понятия, из которых выводятся все частные и индивидуальные духовные феномены. Для каждой ступени исторического процесса характерно общее для своего времени состояние духа, именуемое Лампрехтом «культурным диапазоном». Динамика эпох – одна и та же во всех культурах – определяется движением от первичного равенства и духовной связанности к дифференциации субъектов и духовной свободе. Для изучения этого процесса необходима история культуры как специальная дисциплина («Что такое история культуры?», 1897).
К числу культурологических достижений позитивистской ментальности, несомненно, надо причислить и создание социологии, особенно версию Э. Дюркгейма (1858–1917). Дюркгейм принадлежал к противникам как индивидуализма, так и биологизма в качестве объяснительных моделей. Социальная реальность должна, с его точки зрения, объясняться (с привлечением ресурсов естественных и точных наук) как самостоятельная область бытия без какого бы то ни было редукционизма. При помощи ключевого для его метода понятия «солидарность» Дюркгейм разделяет два типа обществ – архаическое и развитое – как последовательные стадии социальной эволюции. В архаическом обществе существует «механическая солидарность», основанная на однотипности индивидов и форм их деятельности, в развитом – «органическая», базирующаяся на разделении труда. В работе «Элементарные формы религиозной жизни» (1912) Дюркгейм задает метод интерпретации культуры на материале феномена религии, понимаемой им как символизация того или иного уровня общества через сакрализацию объекта-представителя. Будучи предельным символом солидарности, религия порождает своими обрядами и образами важнейшие культурные функции (включая науку). Общество, понимаемое как функциональный ансамбль символов, – это чрезвычайно влиятельный в культурологии XX в. концепт Дюркгейма.
Еще один контекст рождения культурологии (нередко пересекающийся с позитивистским) – традиция философии жизни. У ее истоков не только штюрмеры и романтики, но и само Просвещение (как в «официальной» версии, так и в «теневой», контрпросветительской). Для культуральной мысли XIX в. особенно важен А. Шопенгауэр (1788–1860). В своей главной работе «Мир как воля и представление» (т. 1, 1818), принесшей ему с некоторым запозданием мировую славу, он полагает основой мирового устройства бессознательную и бессмысленную «волю к жизни», а достойной для человека целью – освобождение от воли и мира. Воля творит мир как свое воплощение и создает последовательную лестницу «объективаций»: неорганическая природа, растение, животное, человек. Каждая ступень сохраняет и на свой лад реализует волю. Сначала это слепая «воля к жизни», на высших же ступенях воля опосредована созерцаниями и переживаниями. Дорастая до искусства и морали, носитель воли получает шанс освободиться от ее деспотизма. Искусство позволяет через «незаинтересованное созерцание» идей освободиться от пространства и времени, а в случае музыки – и от самих идей. Мораль, используя энергию сострадания, альтруизма и аскезы, позволяет и вовсе «выйти из игры». Самопознание воли уничтожает саму волю.
Для нас особо важны эстетические идеи Шопенгауэра, являющиеся ключом к его влиянию на культурологию. В эстетическом созерцании человек, учит Шопенгауэр, становится объективным, незаинтересованным наблюдателем. Это значит, что он может хотя бы временно достичь освобождения при помощи такого созерцания, причем неважно, будет ли это созерцание природных объектов или произведений искусства. Красота и есть переживание объективности. Шопенгауэр высказывает необычную для традиционной эстетики мысль о том, что красота существует иногда независимо от усилий художника. Любая вещь может быть прекрасной, поскольку она может стать предметом незаинтересованного созерцания объективности. Так, красота природы есть предмет, равнодостойный искусству. Шопенгауэр настойчиво позиционировал себя как верного последователя Платона и Канта; как бы спорна ни была эта его уверенность, предпосылка объективного существования идей делает его эстетику по-своему логичной. Если воля объективируется в идее, а не просто в природной вещи, то она сама отрицает себя в этой идее, и эстетический акт может присвоить такое самоотрицание воли, поставив его на службу своему освобождению. Но это также значит, что всю культуру как систему объективаций воли к жизни мы можем рассматривать с двух парадоксально сочетающихся сторон: и как самовыражение волевой стихии, не имеющей над собой законов, и как самоотрицание воли, ведущее через искусство к свободе (или, скорее, к «нирване»).
Учение Шопенгауэра об искусстве воспитало всю виталистскую традицию культурологии, причем оба указанных аспекта – и упоение волей, и отказ от нее – нашли своих адептов.
Шопенгауэровским духом проникнуто творчество Я. Буркхардта (1818–1897), учителя Ницше, базельского профессора истории, который решительно отказался выстраивать исторические события в цепочку прогрессивных стадий и предпочитал понимать в них различные формы выражения творческих жизненных сил, рассматривая этот мир сквозь призму истории духовной культуры. В самом знаменитом своем сочинении «Культура Италии в эпоху Возрождения» (1860) он реконструирует Ренессанс не как художественную эпоху, а как целостный тип культуры со всеми его аспектами. По этой книге хорошо видно, как представлял себе Буркхардт задачу истории культуры. Он дает образ культурного типа (в данном случае как индивидуалистической эстетически ориентированной культуры), показывает, в какой степени этот тип стал основой всей новоевропейской культуры, и демонстрирует свое собственное мастерство как историка-живописца, создающего творческий отклик на историческое событие. Это, по Буркхардту, лучшее, что может позволить нам феномен истории. Ценности и идеалы теории прогресса или гегелевской «всеобщей программы мирового развития» он не принимает всерьез.
Другой базельский профессор – И.Я. Бахофен (1815–1887) – осуществил еще более дерзкий пересмотр задач исторического исследования. Он перебросил мостик от романтической теории символа и мифа к будущим юнгианским погружениям в культурное подсознание. В книге «Материнское право» (1861) он выдвигает теорию матриархата, обосновывая ее небывалым способом: опираясь на мифологию и сведения о религии, обычаях и праве Древнего мира. В поздний период творчества он собирает также материал современной этнографии и антропологии, но в «Материнском праве» именно символы, развернутые в мифе, полагаются достоверными свидетельствами об архаической культуре.
Если Буркхардт – историк-художник, то Бахофен – историк-мифотворец. Свою теорию Бахофен также строит по логике и поэтике мифа. Первый этап истории он изображает как счастливую пору власти женщины в обществе: в культе, праве, родстве. Это эпоха «поэзии истории», мира и гармонии между людьми и природой. Символом эпохи является земля – теллурическое начало. (Символ для Бахофена – это не эмблема, а живая сила, формирующая действительность.) Это время, когда при преобладании матерински-теллурических принципов господствовали всеобщее братство, мир и гармония в обществе, а также между людьми и природой. Далее начинается переход к отцовскому началу, которое символизируется солнцем. После «утренней» поры, когда мать властвует над сыном, наступает «полуденная», или дионисийская, когда сын обретает солнечную мощь и утверждает отцовское начало, а затем – «аполлинийская», когда власть полностью переходит к отцу. Теория матриархата, при всей ее стимулирующей исследования заманчивости и популярности в XIX в., была отвергнута в XX в. Но, как ни странно, именно «сказки» Бахофена оказались более живучими. Мифопоэтическое воображение стало для ряда направлений в теории культуры вполне эффективным инструментом.
Значительным этапом в истории культурологии было творчество В. Дильтея (1833–1911). Главный замысел его жизни – «Введение в науки о духе», первый том которого был издан в 1883 г. (второй так и остался незавершенным и публиковался как собрание фрагментов), представлялся автору своего рода продолжением дела Канта по обоснованию возможностей человеческого знания и действия. Дильтей иногда по-кантовски именовал его «Критикой исторического разума». Чтобы по достоинству оценить дильтеевский поворот в гуманитарной науке, нужно учесть атмосферу кризиса позитивистской культуры, в которой Дильтей прокладывает новые научные пути. В 1860-е годы начинает выявляться эмоциональный и идейный протест против позитивизма, оформившийся к концу века в настоящую культурную революцию. Дильтей как сын своего века тоже озабочен утратой живой реальности, засильем абстракций, но он видит, что программа позитивизма так же далека от жизни и так же близка к дурной схоластике, как и современные ей остатки метафизики. Ему одинаково чужды как «объективная и космическая метафизика», так и «метафизика субъективности» с ее субстанциальным «носителем жизни».
Ранний Дильтей ищет выход на пути создания своей психологии. Психология для XIX в. была новой (немецкой по преимуществу) дисциплиной. От нее ждали превращения знаний о человеке в науку. Но Дильтей отмежевался от эмпирической психологии, поскольку видел в ней некорректную и неприемлемую для него объективацию внутреннего мира человека. Дильтею мечталась «описательная психология», которая без внешнего насилия абстракций осуществляла бы переход от переживания через сопереживание к пониманию.
Однако со временем к Дильтею, хранящему верность европейскому рационализму и идеалу науки, приходит осознание недостаточности, зыбкой субъективности метода «переживания». Постепенно складывается новая позиция Дильтея, итоговые формулировки которой даны в «Построении исторического мира в науках о духе», вышедшем в свет в 1910 г., за год до смерти автора. Дильтей как бы переоткрывает принцип отца культурологии Дж. Вико: познаем то, что создаем. Теперь Дильтей уверен, что можно избежать и произвольных толкований субъективизма, и овеществления человека объективизмом. Психическое понимается через включение человека в историю; история же понимается потому, что мы сами делаем историю и суть исторические существа. Эмпирическая психология неправа, поскольку отвлекается от направленности человеческих переживаний на смысл: для психологии придание жизни некой смыслоформы – лишь феномен в ряду других феноменов. Старая метафизика впадает в иную крайность: для нее переживание – лишь материал воплощения общих (и потому безличных) идей.
Дильтей предъявляет обеим крайностям свои контраргументы. Антитезис субъективизму: переживания человека – это текучая переменная, но то, что все они принадлежат человеку, – переменная постоянная, которая одна и та же в разных субъектах. Это позволяет соотносить поток переживаний с личностной установкой «в горизонте» как отдельного «я», так и коммуникации многих «я» (сейчас это называют интерсубъективностью). Поэтому и возможно общение субъектов: содержание их психики может бесконечно различаться, но форма субъективности – направленность на общезначимый смысл – у всех тождественна. Антитезис объективизму: чтобы понять личностное, не нужно его ни овеществлять, ни сводить к низшим субстратам. Для этого толкователю нужно отказаться от узурпированного права «судьи» и самому стать субъектом и партнером в коммуникации. При этом мы из безвоздушного пространства «идей» попадаем в живое время истории со всей ее неопределенностью – зато в этом времени есть действительное бытие живых личностей, а не «разжиженный сок разума» (как однажды выразился Дильтей). Нужно также отказаться от утопической надежды на дедукцию знания из неких первоначал, от задачи «объяснения». Но наукам о духе и нужно не «объяснение», а «понимание». В коммуникации неизбежен круг понимания части через целое и целого через его части: процесс бесконечный, но в то же время не позволяющий понимающему превратить понимаемого в объект, сохраняющий обоих во взаимоотношении и взаимообмене пониманиями.
Это учение позднего Дильтея – уже не психология, а герменевтика[79]. Однако для создания герменевтики Дильтею понадобилось внести в диаду «переживание – понимание» посредующее звено – «выражение». Оформленное знаками переживание (например, текст, формат поведения, институт) становится выражением, тем медиумом, который преобразует общение в движение от случайно-частного и абстрактно-общего к «общезначимости», к «универсальной истории». Тем самым открываются перспективы искомой «науки о духе», не теряющей ни научности, ни духовности.
«Значение» – ключевая категория позднего Дильтея. Она смыкает его учение с переосмысленной классикой. Одним из первых в своем интеллектуальном поколении Дильтей пересматривает наследие Канта и Гегеля, делает их своими естественными союзниками. Гегелевский «объективный дух» становится одной из центральных категорий Дильтея. Возвращение к Канту, правда, остановилось на уровне более близкого Дильтею Фихте, но значимость трансцендентального измерения Дильтеем была глубоко прочувствована. Категория «значения» также дистанцирует учение Дильтея от плоской метафизики: ведь «значение» может оставаться конституантой личностного мира и через бесконечную интерпретацию соединяться (не растворяясь) с другими значениями в «общезначимость». Общее в такой «общезначимости» – это не одно на всех, а единое в каждом.
Тщательно проработанная в «Построении» артикуляция способностей человека и типов «универсально-исторической» взаимосвязи не только предлагала новый метод гуманитарным наукам, но и открывала нечто более существенное – возможность вернуться к наработанным культурой ценностям. Уставшие к концу века от идеологий умы и души тянулись к знанию, пониманию, сообщению; на все лады прочувствованные и осмысленные искусством и философией отчуждение, разорванность, слабость и абсурд не утолили голод по смыслу. И Дильтей показал, говоря словами Канта, «на что мы вправе надеяться»: в век, когда были окончательно утрачены церковная, сословная и политическая солидарность, на которых стояла Европа, учение о «понимании» как коллективном творчестве истории давало шанс на спасение.
Новооткрытый метод был гениально декларирован Дильтеем, но если мы обратимся к «Построению» с вопросом, как, собственно, этим методом пользоваться, ответа мы не найдем. Его, скорее, надо искать у тех философов, которые имели жизненное и историческое время для сбора дильтеев-ского «урожая», – у Гадамера и, может быть, у Хайдеггера[80]. Но если признать, что герменевтическое «понимание» скорее искусство, чем наука, то образцы его мы найдем у Дильтея в изобилии. Краткий, но показательный очерк духа Просвещения дан в конце «Построения»; феноменальны образцы биографическо-герменевтического жанра Дильтея: жизнеописания Шлейермахера («Жизнь Шлейермахера», 1870) и Гегеля («История молодого Гегеля», 1905); на русском языке издан том работ о культуре раннего Нового времени[81]. Но, возможно, наиболее существенной проверкой метода был для Дильтея опыт толкования «объективаций жизни» в работе 1905 г.
«Переживание и поэзия»: в поэзии (в данном случае Лессинга, Гёте, Новалиса и Гёльдерлина), по Дильтею, достигается максимальная свобода от «категорий» и в то же время предельная общезначимость энергии личного переживания благодаря найденной форме[82].
Ф. Ницше (1844–1900), пройдя школу Шопенгауэра, довольно радикально меняет ценностную окраску его учения. Для Ницше мир и культура могут быть оправданны только как эстетический феномен. Поэтому смысл культуры не в освобождении от воли и страдания, а в усилении творческой воли, которая в предельных своих проявлениях оказывается «волей к власти». В своей ранней работе «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) в контексте толкования античной культуры Ницше вычленяет две культурных стихии – «дионисийскую» (принцип жизни, порыва, экстаза, слияния с бытием) и «аполлоновскую» (принцип гармонии, порядка, индивидуализма, разума, созерцания). Дальние родственники просвещенческих категорий «возвышенного» и «прекрасного», эти концепты описывают два взаимодополняющих аспекта мироустройства. В мире Аполлона царит сновиденческая культура наслаждения строем космоса, иллюзия гармонии части и целого. В мире Диониса – культура опьянения свободой, разрушением оков, радость борьбы и страдания. Живая, здоровая культура соединяет эти принципы: такой синтез осуществила классическая греческая трагедия. Больная, надломленная культура избирает один из принципов. Так, деятельность Сократа с его аполлоновской проповедью единства разума и добродетели обозначила слом и болезнь греческой культуры.
Выявление здорового и больного в культуре (прежде всего в современной) становится главной темой культурфилософии Ницше. Свой метод он называет генеалогией. Задача генеалогии – расшифровка культуры как набора симптомов, свидетельствующих о том или ином состоянии ее жизненной энергии. Современной культуре, отравленной моралью, религией и безволием, Ницше выносит недвусмысленный приговор. Он систематически развенчивает ее базовые ценности: гуманизм, рационализм, исторический прогресс, религию. Наука, с его точки зрения, небескорыстная фикция; трусливому гуманистическому оптимизму он противопоставляет свой героический пессимизм; временную динамику предлагает понимать не как историю, а как «вечное возвращение», которое не предполагает отдаленных сверхцелей и лишь предлагает человеку новые правила игры.
Критика культуры стала основной темой позднего Ницше. Он призывает к «переоценке всех ценностей» и реабилитации жизни как самодостаточной ценности. До сих пор, утверждает он, европейская культура была триумфальным шествием нигилизма, отрицанием жизненной реальности и заменой ее рационалистическими и христианскими потусторонними идеалами. Человек будущего – «сверхчеловек» – вернет себе волю к жизни и любовь к бесконечной игре своими возможностями. Этому ничто не может помешать, поскольку в мире, в котором «Бог умер», нет высших инстанций, привилегированных точек зрения. Мир есть только совокупность равноценных перспектив, предполагающих бесконечные толкования, а любая вещь – это лишь перспектива, оформленная как вещь и свернутая в ней. В этом смысле мир всегда есть порождение культуры и тождествен ей. Перспектива порождается волевой устремленностью субъекта на поле захвата (в прямом и переносном смысле), она постоянно меняется, и степень присутствия в ней волевого субъекта колеблется от максимума (в витальных культурах) до минимума (в современности). «Перспективизм» становится для Ницше главным методическим приемом для демонтажа старого универсалистского мировоззрения. Ницше был доволен, когда Брандес назвал его учение «радикальным аристократизмом». В этом же духе высказался Т. Манн, назвав «историю творчества Ницше историей возникновения и упадка одной мысли», мысли о культуре, добавив, что культура – это «все то, что есть в жизни аристократического»[83].
Действительно, перед нами необычная попытка восстановить аристократическую аксиологию в самых жестких ее версиях (вряд ли в такой форме имевших историческое воплощение) и противопоставить культ формы, свободно порожденный волей, «плебейскому» культу содержания, пользы и цивилизации. В то же время предикат «аристократизма» плохо сочетается с рядом ницшеанских установок. Может быть, дело в том, что Ницше, принимая ценность свободного живого духа, стоящего над любыми идеями, не принимал то, что делает дух духом, а не душой или жизнью, – не принимал императив служения высшему. В таком случае критика культуры логично обращается в воспевание пустоты и лжи как сотрудников и защитников жизни. Жизнетворные силы приписываются именно любви к иллюзии.
Критика Ницше отчасти попадает в цель, лишь если иметь в виду под культурным каноном Европы Просвещение и его позитивистский извод (что, конечно, не так). Парадоксальным образом его дискурс иногда бывает близок просвещенческому скептицизму и гуманизму. Довольно много перекличек у Ницше с греческой софистикой, с романтизмом. Задаваясь вопросом, что, собственно, нового привносит в эту традицию Ницше, мы обнаруживаем не столько доктрину, сколько пафос освобождения от тирании «культурного наследия». Культуркритика Ницше была реакцией на то, что мещанско-позитивистская цивилизация «приватизировала» религию, мораль, истину, превратив их в посюсторонние ценности. Как чуткий медиум, улавливающий и конденсирующий атмосферу идей, Ницше понимает, что пришло время протеста, и он начинает восстание, не жалея в борьбе даже тех, кто мог бы быть его союзником. Радикализм ницшеанской критики и объясняет его чрезвычайную влиятельность, не ослабевшую и сегодня.
Течением, связавшим своей историей культурологическую мысль XIX и XX вв., стало неокантианство (табл. 10).
Таблица 10
Неокантианство
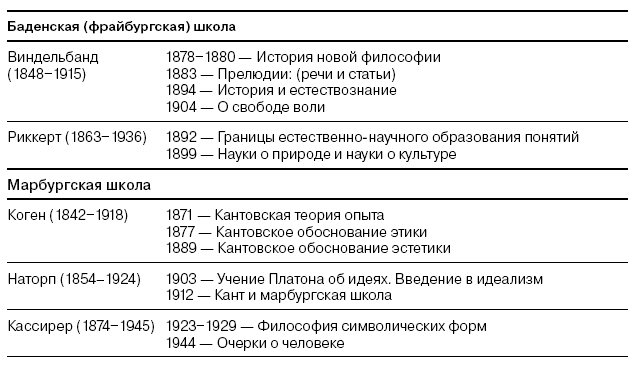
Если кантианство первой волны в своей культурфилософии использовало в основном идеи «Критики способности суждения», то неокантианство опирается на весь ресурс наследия великого мыслителя. Довольно быстро течение разделяется на две школы: марбургскую (Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер) и баденскую (фрайбургскую) (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Марбургская школа пыталась развить трансцендентальный метод Канта и расширить его применение от естествознания и математики до всех областей культуры. (На основе синтеза неокантианских методологий Кассирер создаст философию символических форм, о которой речь пойдет позже.) Баденская школа, опираясь на практическую философию Канта, стремилась построить методологию «наук о духе», специфика которых виделась в ориентации на мир ценностей и описание индивидуальной предметности без генерализирующих приемов (идиографический метод; основные термины неокантианства см. в табл. 11).
Виндельбанд, противопоставляя номотетическим (т. е. законополагающим) естественным наукам идиографические, утверждает, что человеческий интерес и любая оценка всегда относятся к «единичному и однократному». Подведение под общие законы ведет к утрате оснований единичного явления. Поэтому идиография сохраняет единичное, но придает ему общезначимость, соотнося с ценностями. Философия, утверждает Виндельбанд, не должна ни описывать, ни объяснять оценки. Этим занимаются психология и история культуры. Предмет философии – «правила оценки», задаваемые природой той или иной ценности и сущностью нормативного сознания. Критицизм, подчеркивает Виндельбанд, возникший сначала из проблемы науки, невольно получил более широкое значение философии культуры, даже стал философией культуры по преимуществу. Осознав законы творческого синтеза в акте оценки, «культура познала самое себя, ибо в глубочайшем существе своем она и есть не что иное, как этот творческий синтез».
Следуя за Виндельбандом, Риккерт полагает целью истории как науки изображение при помощи «индивидуализирующего» метода неповторимых, но значимых событий, а целью естествознания – конституирование общих принципов бытия. Признавая равноправие естествознания с его генерализацией и истории с ее индивидуализацией, он все же склоняется к тому, что история имеет дело с самой действительностью, хотя и познает ее лишь в одном аспекте. Естествознание имеет дело с природными объектами, препарируя их при помощи абстракций. История же работает с культурными объектами, которые в силу их индивидуальности более адекватны ее методу. Выделить культурное из природного можно при помощи понятия «ценность» (Wert).
Ценности – это внеэмпирическая область смыслов. Ценность нельзя назвать ни объективной, ни субъективной; она не «существует» в том смысле, в котором существуют вещи в физическом мире, – она «значит». Само действие по отнесению к ценности не имеет ничего общего с констатацией факта. Здесь проявляется свободная воля личности: по существу, мы имеем дело с актом творчества, с самополаганием личности как ответственной за смысл. Мировое целое есть сочетание действительности с ценностью, сущего и должного, бессмысленного существования и несуществующего смысла. Здесь нет предмета для специальных наук, и только философия может пытаться разрешить загадку этого сочетания. Культура, по Риккерту, есть «совокупность объектов, связанных с общезначимыми ценностями», из чего следует, что она является непосредственным предметом философии. Философия всегда есть философия культуры.
Таблица 11
Термины неокантианства
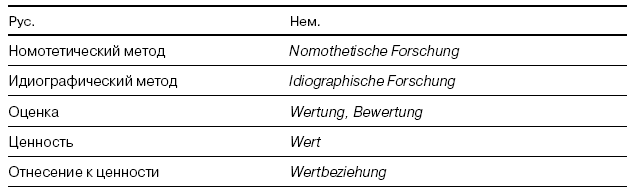
Философия архитектуры в Германии на рубеже XVIII–XIX вв.
От неокантианства к Зиммелю (Из лекционного курса)
Философия архитектуры в Германии на рубеже XVIII–XIX вв.
Судьба архитектурной рефлексии тесно связана с дискурсом о пространстве, который приобрел особую интенсивность вместе с рождением Нового времени, его науки, искусства и философии. Декартов концепт двух субстанций – протяженности (res extenso) и мышления (res cogitans) – надолго стал парадигмой постановки проблемы и одного из ключевых ее решений. Вместо античного (да и средневекового) космоса с его живой и разнородной топикой в культуру приходит бесконечное, изотропное, гомогенное пространство природы, мыслимой в пределе как совершенный механизм. В столкновениях ученых умов высвечиваются два образа экстенсии: а) безлично-объективная нейтральная среда (Ньютон и большинство физиков) и б) измерение, воображаемое субъектом для организации опыта (Гоббс, Локк и такие его наследники-эмпирики, как Юм). Наиболее ярко эти образы проявились в коллизии Ньютон – Лейбниц. С одной стороны – абсолютное пространство Ньютона, безразличное к своему корпоральному содержанию и ничего, кроме системы отсчета, ему не дающее. (Но – не стоит забывать – насыщенное религиозной семантикой: для ньютоновского Бога пространство является сенсориумом, чувствилищем всех вещей.) С другой стороны – пространство Лейбница, которое (как и время) является лишь «хорошо обоснованным феноменом», моментом в развитии монады, которая порождает свой собственный мир. Лейбниц синтезирует эмпирико-психологическую трактовку пространства и теологический объективизм Ньютона. В его изощренной философии пространства (если отважиться на рискованные аналогии – теории с барочными эстетическими коннотациями) экстенсия не является удобной фикцией, как у эмпириков: она понимается как обязательная ступень развития субстанции-монады. Но она и не является внеположенной для мира сценой событий, как у последователей Ньютона. В случае Лейбница радикальная грань между res extensa и res cogitans оказывается относительной. Проблема, впрочем, заключалась в том, что такая концепция требовала принятия монадологии Лейбница, со всеми ее идейными последствиями. Для просвещенческой культуры XVIII в. это было уже невозможной жертвой.
Особую ветвь пространственного дискурса дает эстетическая мысль немецкого Просвещения. С выходом в свет труда Винкельмана «Мысли о подражании произведениям греческой живописи и скульптуры» (1755) начинается длинная цепь немецких попыток увидеть в пространственных искусствах воплощенную программу мировой истории. Нетрудно увидеть у Винкельмана латентную полемику с устоявшимися системами эстетических ценностей. Сама античность для Винкельмана становится каноном, задающим ритм и смысл истории; и хотя наглядным воплощением античного принципа у него является скульптура, очевидно, что Винкельман мыслит архитектуру, скульптуру и градостроительство как целостный ансамбль.
Антитезисом идеям Винкельмана стало учение Лессинга, доказавшее «от противного» актуальность разворачивающейся темы. Лессинг пытается ограничить власть античного канона, для чего создает свою теорию различения пространственных и временных искусств. В «Лаокооне» (1766) он проводит границу между литературой и зрительными искусствами, показывая, что мир пластической красоты не в состоянии выразить подвижную реальность мира человеческой воли, действия, истории. Это может сделать «поэзия» (т. е. совокупность вербальных искусств), которая в состоянии передать временную последовательность, имеет возможность разбивать свое повествование на части и фрагменты и не прикована так прочно к «идеалу красоты». Лессинг жестко противопоставляет пластике актуальные, несущие историческую миссию принципы вербальности (поэзия, т. е. на современном языке – литература) и перформативности (театр).
Гердер стоял у истоков литературно-эстетического движения «Буря и натиск». У штюрмеров появляется новый идейный синдром, который не раз проявит себя в истории: индивидуалистическая критика цивилизации, культ непосредственности, самовыражения и соединение всего этого с преклонением перед стихией народного, фольклорного, традиционного. Именно в этом контексте появляется интерес к национальной архитектуре и ее миссии, что со временем приводит к монументальным идеологическим программам Шинкеля и Кленце. Показательно, что и будущий космополит Гёте в годы штюрмерской молодости был адептом национальной самобытности. В народной поэзии и готической архитектуре («О немецком зодчестве», 1772) он видел противовес оцепеневшей нормативности современной культуры и власти. Преодолев штюрмерство, Гёте приступает к выработке новой системы ценностей. В работе «Простое подражание природе, манера, стиль» (1789) он различает три заглавных типа творчества, которые относятся друг к другу как два полюса к середине. «Простое подражание природе» воспроизводит явления в меру своего мастерства, не чувствуя духа целого; «манера» выражает особенность художественной индивидуальности автора, жертвуя конкретными деталями и подчиняя их общему замыслу; «стиль» проникает в саму сущность вещей, не выходя за пределы «видимых и осязаемых образов». «Стиль» оказывается таким соединением противоположностей, которое возводит их на более высокий уровень, где объективное и субъективное примиряются.
Стоит заметить, что, хотя архитектура занимает зрелого Гёте-теоретика сравнительно мало и примеры «стиля» он черпает из других источников, «Фауст» пронизан архитектурными символами, которые играют роль культурных прафеноменов (здесь уместно воспользоваться натурфилософским термином Гёте именно в шпенглеровском смысле). Если мы выстроим ряд архитектурных композиций трагедии (готическая лаборатория Фауста – средневековый город – барочный императорский дворец – античный храм – средневековая крепость – утопический город на берегу), то без труда увидим, что архитектурный шифр показывает нам логику пути Фауста и совмещает ее с историей европейской цивилизации. В этот ряд мы имеем право встроить и последовательность горных ландшафтов, которые оформлены Гёте как архитектурный конструкт (пещера – Брокен – Пеней – горный хребет – скала святых отшельников). Особенно значим двусмысленный символ города «на воде», который перекликается с платоновским «котлованом». Очевидно, что в сознании поэта были и современные ему титанические проекты, и Петербург: город-фантом с его наводнениями. Архитектурные фантазии Гёте – это модели духовной морфологии личности, общества и истории, и это весьма показательно для складывающегося нового архитектурного мышления.
Вернемся к философскому сюжету. Параллельно с развитием эстетической интуиции пространства как динамичной и историчной среды происходит настоящая философская революция в понимании пространства, осуществленная Кантом в период с 1770 (диссертация) по 1781 г. («Критика чистого разума»). Кант утверждает, что пространство (как и время) – это не свойство эмпирического мира и не отвлеченное понятие, а чистое созерцание. Это настоящий оксюморон для традиционной мысли: ведь если мы имеем дело с созерцанием, то у него должно быть опытное, фактуальное содержание, а если с чистой формой – то она не имеет права непосредственного наглядного усмотрения предмета. Тем не менее Кант строит свою систему именно на этом учении и утверждает, что пространство и время являются объективными чувственными формами для явлений, но не имеют силы для вещей самих по себе. Именно поэтому возможна геометрия как наука и поэтому предметом науки может быть только то, что ею (геометрией) сконструировано в ответ на сигнал извне, от вещи в себе. Косвенно из этого следует и возможность неевклидовых геометрий для физического мира, который не совпадает с миром чистых наглядностей, где царствует Евклид.
Новое понимание пространства хорошо высвечивается проблемой, которая нам может показаться смешной, но весьма волновавшей Канта: почему правую перчатку нельзя надеть на левую руку? В чем заключаются основания различия сторон в пространстве? Полное описание руки при помощи понятий даст для правой руки тот же набор признаков, что и для левой. Ту же задачку задают нам зеркальные изображения. Логически они тождественны, но ведь различие правого и левого – вполне реально. Одним из имплицитных следствий этого парадокса является, по Канту, неотчуждаемость от пространства нашей субъективности; причем субъективности креативной, т. е. такой, которая не может получить чувственный предмет «извне», пока не синтезирует его с чистой способностью созерцания. Вот как пишет об этом М.К. Мамардашвили: «…то, что Кант называет формой созерцания или представлением пространства и времени, не суть понятия о пространстве и времени, не суть также и некоторые смутные предпонятийные ощущения пространства и времени, но есть пространство и время активности, пространство и время мысли. Не мысль о чем-то, а пространство и время мысли. <…> Пространство и время есть наши пространственность и временность в мире, присутствие в мире в качестве понимательной материи этого мира. Они суть пространство и время активности, которую мы сознаем. <…> В пространстве опыта предмет внешен самому себе, а для меня интуитивен, поэтому Кант называет пространство и время интуициями. Интуитивен, то есть непосредственно различителен. Иными словами, я там, а не он во мне. Пространство и время не есть галлюцинации в сознании, не есть какие-то прирожденные рамки нашего сознания, но наше там присутствие. Пространство и время суть термины нашего там в мире присутствия»[84].
Важно понять, что Кант открывает именно объективность (или – интерсубъективность) пространства, коренной особенностью которого является небходимость активного синтеза предметности и невозможность внешней «данности» каких бы то ни было связей. Этот поворот имел большее значение для немецкого архитектурного дискурса, чем собственно эстетические суждения Канта о зодчестве в третьей «Критике». В § 51 (О делении изящных искусств) Кант вводит аналогию искусства со способом выражения, которым люди пользуются в речи, чтобы как можно более полно сообщать друг другу понятия и ощущения. «Это выражение состоит в слове, жесте и тоне (артикуляции, жестикуляции и модуляции). Только сочетание этих трех видов выражения исчерпывает способность говорящего к сообщению, ведь благодаря этому мысль, созерцание и ощущение передаются другим одновременно и совокупно. Таким образом, имеется только три вида изящных искусств: словесное, изобразительное и искусство игры ощущений (как впечатлений внешних чувств)»[85]. Изобразительные искусства он делит на пластику и живопись, к пластике же относит ваяние и зодчество. «Первое телесно изображает понятия о вещах так, как они могли бы существовать в природе (но, как изящное искусство, принимает во внимание эстетическую целесообразность); второе – это искусство изображать понятия о вещах, которые возможны только через искусство и форма которых имеет определяющим основанием не природу, а произвольную цель – изображать ради этого замысла, но в то же время эстетически целесообразно. В зодчестве главное – это определенное применение порожденного искусством предмета, и этим как условием эстетические идеи ограничиваются»[86]. До этого в § 14 Кант вскользь замечает, что в изобразительных искусствах, включая зодчество, суть – это рисунок, а потому в них нравится только то, что нравится благодаря форме[87]. Эти кантовские рассуждения не слишком инструктивны, но стоит заметить, что сочетание прикладного характера и способности играть с чистыми «гештальтами» несколько возвышает роль архитектуры в пластике, поскольку делает ее менее зависимой от копирования природы и в этом смысле – не столько утилитарной, сколько «практичной» (каковым термином Кант обозначает моральное действие).
Окончательный разрыв со старой парадигмой архитектурной теории произошел в концепции раннего Шеллинга. В «Системе трансцендентального идеализма» (1800) Шеллинг показывает, как «я», преодолевая раскол на теоретическую и практическую деятельность, становится сознательной творческой силой. Опираясь на идеи Канта, Шиллера, Фихте и романтиков, Шеллинг трактует эту новую реальность как искусство, которое вправе и в силах примирить сознательную и бессознательную стороны «я», природу и свободу, мораль и склонность. Свобода требует сообщества свободных субъектов, целесообразные действия которых создают историю. Но история как объективный процесс есть необходимость, противоречащая свободе «я». Чтобы снять это ограничение, «я» должно найти способ соединить свободу и необходимость, что возможно только в сфере искусства (которое понимается достаточно широко, как универсум творчества).
В «Философии искусства» (1802–1803) этот комплекс идей получает систематическое раскрытие, причем архитектуре посвящен необычно большой блок текста (§ 105–118). Главный творческий субъект искусства – бессознательно творящий «гений». Гений примиряет конечность и конкретность чувственности с бесконечным, но бесплотным разумом. Если природа могла все конечное рано или поздно включать в бесконечное, то гений может заключить бесконечное в конечном: в этом – тайна красоты.
В связи с этим Шеллинг развивает свое учение о символе как оптимальном соединении общего и особенного. Можно проявить особенное в общем: это Шеллинг называет схемой. Можно общее увидеть в особенном: это аллегория. Если общее и особенное слиты в одно, это символ. Символ для Шеллинга есть высшая степень выраженности абсолюта. Выделяя три основные формы искусства – музыку, живопись и пластику, Шеллинг особо отмечает именно пластику: «пластика выявляет свои идеи посредством реальных телесных предметов, тогда как музыка изображает в материи лишь неорганическую сторону (форму, акциденцию), а живопись – чисто органическое как таковое, сущность, чисто идеальную сторону предмета. Пластика представляет в реальной форме одновременно и сущность, и идеальную сторону вещей, следовательно, вообще высшую неразличимость сущности и формы»[88]. Именно поэтому она может быть носителем символического начала. «Пластика по существу своему символична. Это непосредственно следует из того, что она не изображает только форму (в этом случае она была бы схематичной), не изображает она также только сущность, или идеальное (в этом случае она была бы аллегоричной), но она изображает и то и другое в безразличии; ни реальное тут не означает идеального, ни идеальное – реального, но и то и другое абсолютно едины»[89].
Прибегая к излюбленному романтиками приему логического структурирования части как целого (можно сказать, как фрактала), Шеллинг делает пластику концентратом искусства. «Пластика сама по себе включает в себя
все прочие формы искусства как особенные, или: она в свою очередь есть в себе самой и в обособившихся формах музыка, живопись и пластика. Это явствует из того, что пластика представляет по-себе-бытие всех остальных форм искусства – то, из чего другие формы вытекают как особенные формы. Музыка и живопись в отдельности также заключают в себе снова все единства. Так, в музыке ритм есть музыка, гармония есть живопись, мелодия – пластическая часть, однако музыка включает в себя эти формы не как обособленные художественные формы, но как свои собственные единства. Точно так же и живопись. Но я утверждаю, что в пластике, как целокупности всех форм изобразительного искусства, эти формы снова выступают также и обособленными друг от друга». Как обособленные формы они дают архитектуру, барельеф и пластику. Отсюда у Шеллинга – небычная дефиниция архитектуры: «Неорганическая форма искусства или музыка в пластике дает архитектуру».
Свои аргументы он строит на «доказанном в натурфилософии» возвращении организма к неорганическому в продуктах художественного инстинкта животных. Но в отличие от животных-строителей у людей неорганическое само по себе не может иметь символического значения, его надо получить через искусство. Именно пластика, поскольку она творит в сфере неорганического, «должна породить нечто внешнее, имеющее отношение к человеку и его потребностям и все же от него независимое и прекрасное само по себе, а так как это может осуществиться лишь в архитектуре, то и явствует, что пластика поэтому должна стать архитектурой»[90]. Музыка же есть вообще неорганическая форма искусства. Позиционно архитектура внутри пластики – это стадия схематизма. Отсюда – еще один аргумент: «Мы уже ранее доказали, что в природе, науке и искусстве на их различных ступенях прослеживается путь от схематического к аллегории и от нее к символическому. Первоначальный схематизм заключен в числе, где оформленное, особенное символизируется через форму или через само всеобщее. Потому то, что принадлежит области схематизма, подчинено в природе и искусстве арифметическим определениям; итак, архитектура, как музыка в пластике, следует необходимо арифметическим отношениям; поскольку же она есть музыка в пространстве, как бы застывшая музыка, эти отношения оказываются также и геометрическими отношениями»[91].
Эти крылатые слова о «застывшей музыке» стали очень популярны в свое время. Но важно понять их не как красивую метафору, а как конкретный морфологический анализ, который задает и архитектуре, и музыке радикально новый контекст некой социально-духовной миссии искусства.
В этом контексте уже невозможны производные классификации и «перемена мест слагаемых».
Так, например, плохо удается инверсия этого мотто. Ал. В. Михайлов, посвятивший тезису специальную статью, делает интересное замечание: «У Шеллинга это было суждение об архитектуре. Но уже когда Брентано, обращаясь к Шинкелю, размышляет над архитектурой и музыкой, это суждение внутренне меняет свою направленность – это уже не суждение об архитектуре, в которой „застыла музыка“, но суждение о музыке, об ее архитектонике, которая растворяется, и тает, и вновь собирается в целое во временном движении музыкального произведения. <…> Для XIX в. <…> задачей было не осмысление архитектуры как музыки, но как раз обратное – осмысление музыки как архитектуры, т. е. как своей особой пространственной конструкции. Именно это и было задачей самой злободневной! Поскольку в начале XIX в. <…> было естественно представлять себе музыку лишь как нечто льющееся, скользящее и бесследно ускользающее. <…> Это кажется теперь весьма односторонним, потому что здесь не учтено, что музыка строит свое здание смысла, создает архитектонику целого, что пространство побеждает в ней время! Фишер же спустя полвека <…> уже мог подвести итоги достигнутого музыкальным опытом в это время <…>; он мог сравнивать архитектуру и музыку как противоположным образом осуществляющиеся конструкции. Высказывание „Архитектура – застывшая музыка“ он сопоставлял с другим – „Музыка – тающая архитектура“. Но можно без труда понять, почему это второе, не менее „парадоксальное“, суждение не было удержано памятью культуры: если первое было загадкой, заданной художественному сознанию эпохи, если первое говорило в свое время (и очень своевременно!) об архитектуре, а на деле загадывало загадку о музыке, то второе полвека спустя было уже разгаданной загадкой, загадкой с ответом, которая и не могла поэтому никого взволновать»[92].
Для того чтобы включить архитектуру в динамику движения к символу, Шеллингу важно доказать, что утилитарность не мешает архитектуре быть изящным искусством: «Что касается архитектуры, целесообразность для нее – форма проявления, но не сущность; и в той мере, в какой архитектура составляет из формы и сущности нечто единое, причем делает эту связанную с пользой форму вместе с тем формой красоты, она возвышается до изящного искусства. Всякая красота вообще есть неразличимость сущности и формы – изображение абсолютного в особенном. <…> если искусство вкладывает в эту форму выражение абсолютной сущности, то центр тяжести переносится на самое эту неразличимость формы и самой сущности, но никоим образом не на форму самое для себя, и тогда особенное отношение или особенная связь этой формы с пользой и потребностями совершенно отпадает, поскольку она вообще рассматривается лишь в тождестве с сущностью»[93]. Однако «выражение абсолютной сущности» не дается архитектуре просто и непосредственно. Для этого она, по Шеллингу, должна осуществить несколько необычную процедуру «подражания самой себе».
«Только становясь выражением идей, образом универсума и абсолютного, архитектура может оказаться свободным и изящным искусством. <…> Органический образ имеет непосредственное отношение к разуму ввиду того, что он есть его ближайшее явление и, собственно, тот же разум, но созерцаемый реально. К неорганическому разум имеет лишь косвенное отношение, именно через организм, составляющий его непосредственную плоть. Таким образом, первая связь архитектуры с разумом никогда не имеет непосредственного характера, и так как она может быть выявлена лишь через понятие организма, то это вообще связь через понятие. Но коль скоро архитектура должна быть абсолютным искусством, необходимо, чтобы она и сама по себе, без опосредования составляла тождество с разумом. <…> Если бы архитектура могла стать изящным искусством непосредственно путем выражения понятия цели, то было бы непонятным, почему этой возможности нет и у прочих искусств, почему наряду с архитекторами не могли бы, например, существовать и художники одежды. <…> коль скоро она не может стать абсолютно независимой, ибо в конечном счете всегда опять-таки соприкасается с пользой, она станет изящным искусством только в том случае, если вместе с тем окажется независимой от самой себя, как бы потенцией и свободной имитацией себя самой. Тогда, достигнув вместе с видимостью также реальности и пользы, но без того, чтобы иметь их в виду как пользу и реальность, архитектура становится свободным и независимым искусством»[94]. В такой игре с утилитарностью, своего рода функционализме «в квадрате», можно увидеть мостик, ненароком переброшенный Шеллингом к современной эпохе.
Ученик Шеллинга К.-В.-Ф. Зольгер в диалоге «Эрвин» (1815) дополняет философему «застывшей музыки» несколькими новыми моментами. Он полагает, что «в архитектуре в известном смысле претворяется то, что является исходным материалом драматического искусства»[95]. И драма, и архитектура не задают нам идей и идеалов (как живопись и скульптура), но окружают нас художественной действительностью, порождают наше собственное настроение, которое при восприятии произведений живописи и скульптуры являлось чем-то производным. «Может быть, поэтому настоящее драматическое представление в театре не может обойтись без прекрасного архитектурного оформления»[96]. Здесь, конечно, дело не столько в сценографии, сколько в концепте среды, в которой сбывается прямой контакт действа, переживания и структуры. Понимание связи душевного и телесного выглядит проще, чем у Шеллинга, но звучит важный мотив непосредственной явленности душевного и телесного в их чистых (не связанных с конкретным «сообщением») формах, которые нельзя отбросить и заменить чем-то другим: «для того чтобы такое разделение, где душа и тело лишь взаимно включают в себя друг друга, все-таки не отторгло их друг от друга, тело как таковое, как совершенная и закономерная мысль, раскрывается в архитектуре, а в музыке – чистая, не связанная с телом душа как реальное бытие, доступное восприятию»[97].
Собственно романтическая архитектурная мысль не идет дальше этих построений; возможно, даже делает шаг назад к штюрмерским переживаниям. Характерен пассаж из Ф. Шлегеля о Кёльнском соборе. Формы и украшения собора, пишет он, почерпнуты из растительной природы. «Цветок – это растительная форма, которая в качестве убранства природы стала прообразом всех украшений, в том числе и человеческого искусства»[98]. Поэтому «сущность готического искусства состоит в природоподобном богатстве и бесконечности внутреннего формирования <…> Готическое зодчество имеет смысл, и притом высший, и если живописи большей частью приходится довольствоваться лишь слабыми <…> намеками на божественное, то зодчество <…> может как бы непосредственно представить и воплотить бесконечное простым воспроизведением богатства природы…»[99]. Шлегель акцентирует религиозный и национальный характер готики, добавляя момент материала: отличие камня от мрамора, обусловившее «предельное культивирование искусства украшения».
В случае с гегелевской эстетикой, напротив, мы сталкиваемся с радикальным шагом вперед (или, во всяком случае, дальше). В Эстетике Гегель рассматривает, как художественно прекрасное разворачивается в мир осуществленной красоты, истинно прекрасного, которое есть «получившая свою форму духовность»[100]. В истории искусства он выделяет три стадии, соотнося их со способами воплощения Идеи в материи: 1) символическое искусство; 2) классическое искусство; 3) романтическое искусство. Первая стадия исторически была пройдена Древним и средневековым Востоком. Символическое искусство еще не позволяет Идее обрести адекватную форму. Форма доминирует над содержанием и представляет собой его внешнюю среду, что и является сутью символизма. Этот принцип наиболее полно выражен архитектурой.
Классическое искусство достигает единства содержания и формы. Эта стадия представлена античностью. Античное искусство индивидуализирует Идею, дает ей оптимальное пластическое выражение в материале. Идея в этом случае выступает как «идеал». Принцип идеала наиболее полно выражен скульптурой. Однако очеловечивание идеала, нарастание случайной конкретности привело к деградации классического искусства.
Романтическое искусство (от конца Средневековья до начала XIX в.) состоит в доминанте духовного содержания над чувственной формой. Его оптимально воплощают живопись, музыка и поэзия. Идея, полностью подчинившая себе форму, как в этом случае, становится разрушительной силой, поскольку искусство не существует без чувственной образности. Романтическая стадия искусства также исчерпывает себя. Современный мир, утверждает Гегель, не нуждается более в искусстве как высшей форме познания абсолюта, оно не соответствует более «духу времени» и должно уступить место другим формам. При этом Гегель не торопится ставить точку в истории развития современного искусства и намечает – не слишком ясно – следующую, гуманистическую стадию искусства. Чтобы понять схему, надо учесть, что, во-первых, в триадах Гегеля первая ступень всегда сохраняется в последующих и, во-вторых, что высшая ступень всегда есть в каком-то смысле возвращение к первой. Архитектура становится неотъемлемой частью романтической формы. Если архитектура дала храм, а скульптура – статую божества, то третий шаг, говорит Гегель, дает общину[101], предстоящую этой статуе в храме, т. е. внутреннюю, индивидуализированную духовность, которая не есть ни абстракция, ни духовная телесность. Происходит обособление от чувственного материала; скульптурное единство божества с собой в скульптуре распадается на множество внутренних жизней, а это и есть романтическая художественная форма[102].
Подобно Новалису и Шеллингу, Гегель любит фрактальные схемы, и архитектура у него в своем историческом микрокосме также содержит три стадии художественного. Это 1) собственно символическая, или самостоятельная, архитектура; 2) классическая архитектура, которая формирует индивидуальную духовность и лишает зодчество самостоятельности; «вокруг реализованного духовного смысла воздвигается художественно сформированная неорганическая среда»[103]; 3) романтическая (мавританская и готическая) архитектура. Для архитектуры, отмечает здесь Гегель, этот «фрактал» более важен, чем для скульптуры и поэзии, оставляющих для других форм узкое поле деятельности. Архитектура же есть искусство «во внешнем элементе», и поэтому здесь важно, что внешнее в соответствии с тремя формами: 1) получает значение в самом себе (символическая архитектура); 2) трактуется как средство для достижения чуждой цели (классическая); 3) в этой подчиненности показывает себя вместе с тем самостоятельным (романтическая)[104]. (Детальной морфологии этих архитектурных типов Гегель посвящает добрых 60 страниц своей «Эстетики»[105].)
Гегель впервые собирает те элементы нового архитектурного мышления, в их логико-исторической связи и взаимообусловленности, о которых шла речь выше, и помещает их в контекст своей истории Духа. Он изображает историю архитектуры как величественный экзистенциально-напряженный сюжет, создав, по сути, новый, небывалый тип эстетического нарратива. По ходу дела он создает богатый инструментарий анализа конкретных феноменов архитектуры. В его случае с особой отчетливостью видно, что произошел поворот от традиционного архитектурного мышления к новой парадигме единой информационно-исторической среды, изнутри движимой самосознанием социума (общины). Вполне логично, что, подытоживая свое системное Введение, Гегель прибегает к архитектурной метафоре и называет осуществленную идею прекрасного «пантеоном искусства», добавляя, что «его архитектором и строителем является творящий самого себя дух прекрасного, завершен же этот пантеон будет лишь в ходе тысячелетней работы всемирной истории»[106].
Не стоит удивляться той быстроте, с которой эта парадигма выпала из реальной истории, уступив место союзу позднего романтического витализма с позитивизмом. Это поддается объяснению с точки зрения исторической морфологии культуры. Здесь интереснее будет взглянуть на новые идейные мотивы, хорошо высвеченные Шопенгауэром. Архитектуре посвящены многие фрагменты его текстов[107]. Лейтмотивом является понимание архитектуры как манифестации мировой воли на ее первых ступенях. «Если мы обратимся теперь к рассмотрению архитектуры просто как искусства, помимо ее утилитарных целей, когда она служит воле, а не чистому познанию и, следовательно, уже не является искусством в нашем смысле, – то мы можем приписать ей только одно стремление: довести до полной наглядности некоторые из тех идей, которые представляют собой низшие ступени объектности воли, а именно тяжесть, сцепление, инерцию, твердость, эти общие свойства камня, эти первые, самые простые, самые приглушенные зримые явления воли, генерал-басы природы, а затем, наряду с ними, свет, который во многих отношениях предстает их противоположностью. Даже на этой глубокой ступени объектности воли мы уже видим, как ее сущность выражается в раздоре: ведь собственно борьба между тяжестью и инерцией составляет единственный эстетический материал искусства архитектуры, задача которого – самыми разнообразными способами выявить с полной ясностью эту борьбу»[108].
Архитектура помещается Шопенгауэром не столько в измерении прекрасного, сколько в измерении возвышенного в кантовском смысле, которое открывает шлюзы бессознательной природной силе: «…чтобы понять архитектурное произведение и эстетически насладиться им, необходимо непосредственно и наглядно знать его материю в ее весе, инерции и сцеплении, и наше удовольствие от такого произведения сразу же уменьшилось бы, если бы мы обнаружили в качестве строительного материала пемзу, ибо оно показалось бы нам тогда чем-то вроде декорации. <…> Все это доказывает, что архитектура действует на нас не просто математически, а динамически и через нее говорят нам не просто форма и симметрия, а упомянутые основные силы природы, эти первые идеи, низшие ступени объектности воли»[109].
Шопенгауэр не отрицает, что соразмерность здания и проистекающие отсюда функции способствуют красоте. «Но все это имеет лишь второстепенное значение и необходимость, а вовсе не составляет главного, потому что даже симметрия нужна не безусловно, ибо ведь и руины прекрасны»[110]. Новаторски звучит у него тема света: «Совершенно особое отношение у произведений архитектуры к свету <…> Хотя все это основано преимущественно на том, что только яркое и сильное освещение вполне проявляет все части и их взаимоотношения, но я, кроме того, думаю, что одновременно и наравне с тяжестью и инерцией архитектура предназначена раскрывать и совершенно противоположную им сущность света. А именно свет, поглощаясь, задерживаясь, отражаясь большими, непрозрачными, резко очерченными и многообразно сформированными массами, раскрывает этим во всей чистоте и ясности свою природу и свойства, к великому наслаждению зрителя, потому что свет – это самая отрадная из вещей как условие и объективный коррелят самого совершенного наглядного способа познания»[111].
Поскольку, по Шопенгауэру, материя как таковая не может быть выражением идеи, архитектура по сути безыдейна. Поэтому ее эстетический эффект – это состояние освобожденности субъекта от власти воли: «эстетическое наслаждение при виде красивого и удачно освещенного здания заключается не столько в восприятии идеи, сколько в неотделимом от этого восприятия субъективном корреляте его, т. е. оно состоит преимущественно в том, что при таком зрелище человек освобождается от присущего индивиду способа познания, служащего воле и следующего закону основания, и возвышается до чистого, безвольного субъекта познания; другими словами, наслаждение состоит в чистом созерцании, освобожденном от всякого страдания воли и индивидуальности. В этом отношении противоположностью архитектуры и другим полюсом в ряду искусств является драма, сообщающая познание самых значительных идей, поэтому в эстетическом наслаждении ею объективная сторона решительно преобладает»[112]. Это противопоставление архитектуры драме весьма характерно: мы видели, что предшествующие мыслители пытались иногда найти точку их сближения в социальной воле, но для Шопенгауэра именно она является источником страданий, пока не преображается «квиетивом» чистой морали.
Заслуга архитектора, по Шопенгауэру, в том, что он, ограничивая утилитарность, блокирует волю и выключает ее из аффективной динамики. Причем именно исходная полезность архитектуры, невозможность отбросить ее продукты позволяет ей сохраниться в качестве искусства. «Создания архитектуры в противоположность произведениям других искусств очень редко возводятся для чисто эстетических целей, напротив, последние подчиняются другим, чуждым искусству, утилитарным целям. Именно в том и состоит великая заслуга художника-архитектора, чтобы все-таки провести и осуществить чисто эстетические замыслы, несмотря на их зависимость от посторонних соображений <…>
Но если в этом отношении архитектура, в силу требований необходимости и полезности, должна подвергаться большим стеснениям, то, с другой стороны, именно они служат для нее и мощной опорой, потому что при больших размерах и дороговизне своих созданий и при ограниченной сфере своего эстетического воздействия она совсем не могла бы удержаться в качестве искусства, если бы не занимала одновременно прочного и почетного места среди человеческих рукоделий в качестве полезного и необходимого ремесла. Отсутствие последнего и есть именно то, что мешает поставить рядом с архитектурой как ее сестру другое искусство, хотя в эстетическом отношении оно, собственно, полностью соответствует ей: я имею в виду искусство гидравлики. Ибо то, что делает архитектура для идеи тяжести там, где последняя является в соединении с инерцией, то гидравлика делает для этой же самой идеи там, где к ней присоединяется текучесть, т. е. бесформенность, величайшая подвижность и прозрачность. С пеной и ревом низвергающиеся со скал водопады, тихой пылью рассеивающиеся катаракты, стройные колонны фонтанов раскрывают идеи текучей, тяжелой материи именно так, как создания архитектуры развертывают идеи инертной материи»[113].
Если мы соберем работающие в этих текстах концепты воедино, то перед нами предстанет впечатляющая картина поворота к новой архитектурной эстетике, порывающей и с традицией, и с немецкой классикой: силы Природы – Руины – Свет – Вода – Субъект – Отсутствие драматизма – почти непреодолимая Утилитарность. Эти агенты в архитектуре суть продукты борьбы Воли и Представления, которая и составляет смысл ее эстетического аспекта. Показательно у Шопенгауэра изменение знакового для немецкой классической эстетики соотношения музыки и архитектуры, о чем уже шла речь в связи с Шеллингом. Музыка для Шопенгауэра – идеальное воплощение Воли; ее специфика не структурность и темпоральность, но иррациональная манифестация бессмысленной Воли. Для него уже все художественные объективации воли – по сути материализованная музыка, и поэтому говорить о какой-либо коррелятивности музыки и архитектуры не приходится. Шопенгауэр со временем становится более востребованным и влиятельным теоретиком, чем «классики». Однако уже с конца XIX в. мы видим, как шаг за шагом происходит переоткрытие актуальных ресурсов именно классической немецкой эстетики.
(Из лекционного курса)
Поворот к новой философии культуры начинается с неокантианства. Предыдущий период можно обозначить несколькими «измами». Первый – эпоха редукционизма, т. е. попытки свести пространство высших смыслов к «позитивному», фактически данному. В этом – главная программа XIX в. Второй «изм» – попытка блокировать представление об абсолюте и показать, что все относительно, поскольку объяснимо через разного рода эмпирические контексты: исторический, психологический, социальный, экономический… Это релятивизм. Еще один дополнительный к редукционизму «изм» – экстернализм: стремление объяснить построение теории внешними причинами (например, потребностями эпохи или характером автора). Противоположный метод – интернализм, который пытается описать внутреннюю логику процесса без учета контекстов. Частично избавиться от этих «измов» с большим трудом удалось лишь к началу XX в. (хотя они и сейчас являются одной из альтернативных моделей объяснения), и период, о котором пойдет речь, это время, когда всем обманчиво убедительным методам впервые удалось что-то противопоставить.
Попытка редуцировать идеальное к конкретно-предметному и историческому – это сильная методология, которая действенна и сейчас. Она возникла в 30-40-е годы XIX в., когда ушло поколение тех, кого вдохновляли создатели трансцендентального метода с его интуицией единства исторического и логического, – Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель. При всем различии версий этой интуиции предполагалось, что историческое – это необходимый момент развития Разума, который кодирует «идею» на языке «интересов», вовлекая тем самым маленьких людей в большую историю. Новое поколение сказало, что сама идейная конструкция в любом ее виде порождена интересами. Все идеальное – превращенная форма интересов, попытка перевести земное, конкретное на язык возвышенного. Главная задача интеллектуала – демонтировать и разоблачить скрытые в идеях интересы. Радикальный тезис, который прозвучал в 1830-1840-е, гласил, что идеального как такового вообще нет, а есть только культурная техника зашифровки интересов в идеях с целью навязать другим то, что выглядит как общезначимая идея, но по сути – всего лишь классовый, групповой, личный интерес. «Разум», таким образом, оказывается источником полезных фикций. Шопенгауэр был первым, кто решительно заявил: мир есть фиктивные представления, порожденные реальной волей, которой эти представления нужны для самоутверждения. Эта схема бесконечно воспроизводилась и в 1830-1840-е годы (с вариациями Конта и Фейербаха), и позже, вплоть до французского постструктурализма, вооруженного методами Фрейда и Маркса. Особняком в этой традиции стоит датский мыслитель Керкегор, который полагал, что основой бытия является не некая позитивная сущность, а чистое (и потому бессмысленное) существование. Керкегор из этого тезиса сделал столь радикально религиозные выводы, что эпоха его отвергла и забыла вплоть до конца века.
Логично, что именно неокантианцы первыми показали: эта весьма убедительная для реалистически настроенной эпохи модель «забуксовала». Ведь кантовский трансцендентальный мир был своего рода системой методов соединения опыта с понятием, порождающего через взаимодействие практического и теоретического весь действительный мир. Редукция идеального к реальной основе становится бессмысленной в такой парадигме, поскольку реальное есть не данное, а созданное. И уже Кант показал, что в конечном счете эта активность воплощает себя в культуре. Это не «отражение» объективной реальности, а теоретическое конструирование, моральное действие, эстетическое переживание, историческое проектирование, в результате которых реальность появляется как интерсубъективность человеческого и объективность природного мира. Кант все эти виды активного творчества соединяет в некий универсум культуры, о чем и вспомнили неокантианцы, когда позитивные методы показали, что они скорее радикально упрощают задачу, чем решают ее. Две школы неокантианства – каждая со своей спецификой – начиная с 1870-х годов выпускают ключевые публикации, завершившие эру позитивизма. Нам в первую очередь интересна баденская, юго-западная школа, которая развивает учение о ценностях и о двух типах наук. Тут впервые появляется новая философия культуры. Первым был Вильгельм Виндельбанд с его программными статьями, а затем Генрих Риккерт развил эти установки в системное, тщательно продуманное учение. Влияние неокантианцев было значительным: обе школы – это университетские центры, где училось много талантливой молодежи, в том числе и из России. (В России как раз в это время появляется захваченная философскими идеями молодежь, и несколько студенческих поколений прошли через неокантианскую школу. В Марбурге, кстати, учились Пастернак и Андрей Белый.)
Понятие «метод» для новой неокантианской модели принципиально. Кант говорит, что объекты не даны нам в чистом виде, они создаются методом (путем, т. е. meta hodos) использования трансцендентального аппарата. Главный тезис Виндельбанда, который развил Риккерт, заключался в том, что нет двух изначально разделенных миров – культурного и природного. Есть один и тот же мир фактов, который мы формируем двумя методами и превращаем в два разных мира. В сущности, метод есть не что иное, как беспрерывная деятельность по артикуляции, структурированию миров. Одну и ту же вещь можно поместить в мир культуры и мир природы. Соответственно, Виндельбанд говорит, что существуют два способа описания феномена: номотетическое, которое задает общие законы мира (так ведут себя естественные науки), и идиографическое (от греч. idios – частное, отдельное), изображающее частное, отдельное, особенное, которое нельзя свести к абстрактному закону. (Необязательно – единичное: иногда в учебниках некорректно пишут, что идиографическим методом описывается единичный, неповторимый факт. Но если он совсем неповторимый, то от него никакого толку нет. Даже неповторимый факт искусства на самом деле повторим, потому что мы его переживаем, интерпретируем, транслируем.) Исторические события, творения духа – все это такая область, которая необъяснима теми же законами, какими мы объясняем природу. Риккерт именует эти методы немного по-другому: номотетический он называет иногда генерализирующим, а идиографический – индивидуализирующим. Применяя эти два метода, мы можем разделить универсум на мир культурно-духовных событий и мир закономерно повторяющихся природных фактов.
Следующий теоретический шаг делает Риккерт: он вводит понятие ценности. Утверждается, что есть объекты, которые существуют, а есть те, которые «имеют значение» (Geltung; Wert – значимость, ценность), но не существуют как налично данные вещи. Мы сейчас в подобных случаях употребляем слово «виртуальное» (лат. virtus). Geltung – это то, чему мы приписываем ценность независимо от того, на каком материальном субстрате она реализуется. В результате у фактов природы появляется дополнительная значимость, некая ценность, Wert. Метод естественных наук, наоборот, стремится взять идеальное и ценностное в скобки, чтобы это не мешало анализировать нейтральные причинные механизмы. Wertfrei, как называют иногда это неокантианцы, – «бесценностный» метод.
То, благодаря чему появляется культура, это, напротив, конституирование и приписывание событиям ценности. Ценности – это искусство, религия, этика, социальные нормы, которые регулируют отношения… (Риккерт, обобщая, выделяет шесть основных групп ценностей). Важно, что мы, приписывая факту ценность, осуществляем определенный тип деятельности, в результате чего появляется объективное (но не абсолютное) значение. Объективность заключается в том, что ценность значима для многих субъектов (потенциально – для всех) и может передаваться по определенным правилам: я не просто выдумываю что-то, но могу по правилам рационального дискурса убедить других в том, что это и в самом деле – ценность, а не произвол моей фантазии или воли. Механизм кантовской гносеологии объясняет, откуда берется такая возможность: идеальное является потенциально общезначимым и необходимым, и поэтому, если метод работает в данном направлении, мы будем придавать ценности объективную значимость.
Подчеркну, что здесь мало простой конвенции: люди не могут взять и договориться о том, чтобы нечто было ценностью. Такого конвенциализма неокантианцы не предполагают: изначально я создаю то, что вправе претендовать на согласие. В чистом виде Кант описал это в случае с искусством. Никто не обязан соглашаться со мной, что нечто прекрасно, и не обязан то же самое переживать, но когда создается произведение искусства, то в нем заложена эта потенция коммуникации; претензия на то, что другие будут со мной согласны, а уж там – как получится. Но для культуры именно это и важно: с претензией на что я создаю ту или иную структуру.
Вторая школа, марбургская (Коген, Наторп), была более заинтересована естественными науками, и она ищет метод естественных наук. Но именно из нее вырос Кассирер – один из главных философов культуры. Интересно, что Кассирер, анализируя способ, каким порождаются понятия о естественном мире, пришел к идее, что и над культурным, и над природным началом стоит нечто общее, некая активная творческая морфема: символ (в частном случае – миф). И естественные конструкты, а равно и культурные можно рассмотреть как продуцирование на основе фактов некого мифа.
В 1880-е, 1890-е годы появляются мыслители, которые, уже испытав влияние неокантианства, не совсем довольны таким жестким разделением ценностного и природного, культурного и естественного и т. д. Из этих мыслителей для нас самые интересные и важные – Дильтей и Зиммель. Собственно, с них начинается современная философия культуры. Есть, правда, трудность в реконструировании их доктрины. Дильтей так и не успел завершить итоговых работ: многое осталось во фрагментах или недописанным. Зиммель писал чаще всего гениальные, но не очень системные эссе, а его большие книги обычно посвящены великой личности; им много написано про Гёте, про Рембранта, про Канта. Тем не менее попробуем реконструировать хотя бы контуры их учений.
Хронологически первым был Дильтей. Он прошел свой теоретический путь, как отмечают исследователи, по вехам трех ключевых понятий. Начинал он с «психологии». Психология была в его время новорожденной наукой, ее только-только изобрели в 1860-е годы, и она сразу была позиционирована как естественная, а не философская наука. Но Дильтею казалось, что психология может стать базой для объяснения не только душевной жизни, но также истории и культуры, потому что она соединяет потенциал естественной науки (связь причин и следствий) и личностный характер своего предмета. Дильтея особенно волновало то, что XIX в. утратил ощущение живой индивидуальности, с одной стороны, и ощущение мирового целого – с другой. Если представлять сверхзадачу его мира мышления, то это – попытка выявить две утраченные ценности и каким-то образом их соединить.
В раннем периоде своего творчества он пытается создать такой психолого-биографический метод, который помог бы нам понять великих людей и их деяния в контексте своей эпохи. Дильтей был очень заинтересован исследованием литературы, искусства; он пишет книгу о Шлейермахере, о молодом Гегеле. Довольно много у него написано о религиозной жизни ранней Европы Нового времени, о Реформации, о гуманизме. Ему кажется, что в великом человеке можно выявить какие-то ключевые переживания (Erlebnis) и пояснить, почему они стали значимы для эпохи, попытаться вжиться в них, осуществить Einfühlung (правда, сам Дильтей редко употреблял это выражение). Однако последующие интерпретаторы его метода говорят о необходимости вжиться изнутри в мир не обязательно великого – любого человека, чтобы его понять. Как это проверить? Дильтей прекрасно понимает зыбкость критериев «вчувствования», поэтому он отнюдь не предлагает нам просто вживаться в чужой мир, а пытается построить правила интерпретации этого мира, которые имели бы общее значение.
Наука о правилах понимания уже была, и называлась она «герменевтика». В Средние века необходимо было найти объективные критерии того, что мы правильно понимаем Священное Писание. Это дело серьезное: ведь тут речь идет о спасении, о вечной жизни. Так возникает целая наука (да и искусство) экзегетики (разъяснения) и герменевтики (понимания). Потребность в этом искусстве резко обострилась в эпоху раннего протестантизма, потому что для протестантов нет другого пути к вере, кроме как через Писание: ни традиции, ни авторитет клира здесь не помогут, каждый должен читать и понимать сам.
Затем романтик и мыслитель протестантской традиции Шлейермахер создает уже не богословскую, а философскую науку о том, как устроен любой акт понимания. Он, конечно, заинтересовал Дильтея, на новом уровне ставящего все тот же вопрос: какие бы ни были правила толкования, нужен критерий, по которому можно проверить сами правила. Наиболее интересный шаг, который он делает, это попытка представить, что герменевтика не метод перехода от непонимания к пониманию, а переход от первичного понимания, которое есть с самого начала, к более содержательным его стадиям: от состояния к процессу.
Если искать предшественников Дильтея, то можно вспомнить платоновский диалог «Теэтет», который ставит вопрос, что такое истина. Платон нам виртуозно показывает, что истину мы знаем с самого начала, иначе мы не могли бы даже поставить этот вопрос. Мы не знаем, чем ее содержательно наполнить, но что значит истина, мы знаем. Платон открыл возможность первичного понимания. В каком-то смысле Декартово когито тоже имеет к этому отношение, потому что любая возможность любого знания заложена в самосознании. В самосознании чего? Мы ведь даже о себе можем ничего не знать, но самосознание мы, тем не менее, осуществляем и затем начинаем сопоставлять с ним более содержательные акты познания. Дильтей превратил эти философские интуиции в учение о некоторых культурных механизмах и процессах.
Как мы выясняем, поняли мы что-то или не поняли? Для этого, говорит Дильтей, существует бесконечная коммуникация. Она бесконечна, потому что состоит из цепочки предварительных проектов и их коррекции, возможной благодаря общению. Скептик может сказать: если у нас нет окончательной точки опоры, значит нет и критерия понимания, но Дильтей так не считает. Как и для неокантианцев, не конечное состояние, а процесс является для него энтелехией понимания, поскольку он рождает субъектность более высокого порядка: личность, способную к бесконечному развитию и бесконечному общению с другими личностями. В отличие же от неокантианцев (ранних, по крайней мере), он полагает, что акт понимания идентичен для естественных и гуманитарных наук; т. е. герменевтика – это не только понимание одной души другой или понимание исторического факта современником или, наоборот, не современником. Естественно-научное понимание – частный случай такой же интерпретации. Просто в этом случае, по Дильтею, «мой „партнер“ молчит. Я сам задаю вопросы и сам же за него отвечаю». Это открытие Дильтея (или переоткрытие старой истины) объясняет, почему Сократ любил беседы, а Платон писал диалоги вместо того, чтобы написать внятный трактат, как это уже делал Аристотель. Они были уверены, что система «вопрос – ответ» – это и есть мышление. Причем когда я сам себе задаю вопросы, интериорно мыслю, – это все-таки второсортное мышление, а настоящее мышление – это когда я что-то обсуждаю вслух с другими. Здесь к мысли присоединяется жизненная ситуация и личная ответственность за понимание. Не так ли в античной Греции работали и демократические процедуры принятия решений, и судебная система, и институт Дельфийского оракула. А гераклитовские фрагменты разве не так построены? Это и была у греков стихийно сложившаяся герменевтика.
Дильтей, таким образом, понял, что наивный редукционизм XIX в. с его стремлением превратить собеседника в вещь, которой можно располагать, – это не работающий для объяснения культуры метод. Необходима герменевтика бесконечного диалога. Но это лишь первый этап понимания. Второй – это попытка определить, на что можно опереться в процессе выяснения отличия удачной интерпретации от неудачной. Уже Шлейермахер нашел такой способ и назвал «герменевтическим кругом». Он достаточно прост: я сначала беру части, из них складываю целое, но потом, узнав целое, опять возвращаюсь к частям и прочитываю их сквозь призму целого. Проделав это, я понимаю, что целое опять изменилось, и этот круг начинает вращаться. Он вообще не должен останавливаться: это и есть адекватная интерпретация.
Дальше Дильтей пытается сделать следующий шаг, желая понять, что же такое искомое целое. Мы знаем априори, что целостность – это Zusammenhang, совокупность. Иногда Дильтей говорит «Totalität» – тотальность. Фактически тотальность дана нам в процессе жизни. Жизнь – это всегда есть стихийно складывающаяся тотальность. Во второй период своего творчества Дильтей переходит к новому концепту – к концепту жизни в широком смысле этого понятия. Беду всех прошлых методов понимания он видит в том, что они для понимания объекта должны были его умертвить, превратить в мертвую, пассивную структуру. А реальная ситуация – даже в естественных науках – это всегда многоконтекстный диалог людей друг с другом и с предполагаемым целым, в которое они встраиваются. Именно по этому поводу Дильтей и произносит свою афористичную фразу о том, что в естественных науках мы объясняем, а в науках о духе мы понимаем. Это совершенно разные процедуры. Объяснить – значит поместить факт в сетку общих понятий, а понять – значит воспроизвести внутренне то, как чужое «я» видит мир. Действие по воспроизведению на самом деле и есть ключевой момент: это не идея, не картинка, а именно способ, которым люди что-то делают, умственно в том числе.
Мы здесь вправе вспомнить еще одного мыслителя – Дж. Вико, который сказал, что наука о делах человеческих возможна потому, что у нас есть представление о том, как делается человеческий мир: усилиями воли, мысли, поставленными целями. Важно, что я знаю, как это делается, и реконструирую это же в других. И все же, если я строю науку, я должен научиться хотя бы временно отличать понятое от непонятого. И Дильтею в последний период своего творчества понятие жизни уже кажется не очень функциональным. Оно хорошо тем, что описывает эти пресловутые контексты, по отношению к которым все остальное – уже деление на части, но искомый нами критерий отличения понятого от непонятого здесь отсутствует.
Дильтей переходит к понятию духа, казалось бы скомпрометированному XIX веком. Для него это теперь синоним слова «культура». В самом деле, в отличие от «души», о «духе» говорят тогда, когда появляются его определенные объективации, позволяющие ограничить психологический произвол. Теперь у Дильтея появляется новый идейный союзник – Гегель, на которого он отныне часто ссылается. В 1883 г. Дильтей пишет «Введение в науки о духе». Как всегда у него, эта работа осталась недописанной, но это уже начало новой эпохи. С этого момента он пытается выстроить некую универсальную структуру самопонимания культуры, индивидуумов.
Почти перед смертью Дильтея, в 1910 г., появляется его работа «Строение исторического мира в науках о духе» („Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften“). Такова поздняя формулировка герменевтического предмета. (Ранняя формулировка его задачи выглядела как написание «критики исторического разума», на манер Канта.) Именно этот вариант оказался чрезвычайно влиятельным. В 1920-е годы Хайдеггер прочел поздние работы Дильтея и был потрясен. Да и не только он. Работа открыла новые горизонты и новые возможности. Например, возможность сблизить герменевтику с феноменологией, которую успел в конце жизни осознать и сам Дильтей. Есть еще один документ его поздней теоретической эволюции Дильтея: переписка с графом Йорком фон Вартенбургом, опубликованная после смерти Дильтея. Из переписки, в которой Йорк не уступает в интеллектуальной силе Дильтею, хорошо видно, что идеи нового понимания исторической темпоральности пропитывали атмосферу эпохи. (Хайдеггер цитирует переписку в своей книге «Бытие и время».) В 1890-е годы у Дильтея был острый спор с психологами. Один из классиков психологии, Г. Эббингауз, темпераментно объяснил Дильтею, что его герменевтика – это бесперспективная псевдонаука. В то же время граф Йорк подталкивает его к иному решению. С его точки зрения, псевдонаука – это как раз современная психология с ее утратой чувства историчности: надо не отказываться от истории, а, наоборот, пойти дальше и посмотреть, что делает историю историей, а не просто цепочкой событий.
Поздний Дильтей лозунгом своего метода делает триаду «переживание – понимание – выражение». Переживание, чтобы стать фактом культуры (идеей, текстом, поступком, институтом), должно получить знаковую оболочку. В этом случае оно становится выражением – посредником, который допускает участие в себе субъектов переживания и ставит предел произволу толкований. Отсюда начинается движение к тому, что Дильтей назвал «универсальной историей»: к такому измерению историчности, в котором интегрирующей силой являются не абстрактные универсалии, а сама целевая деятельность агентов истории. Поскольку она идентична во всех субъектах «универсальной истории», открываются перспективы искомой «науки о духе». Гегелевский «объективный дух», интерпретированный в категориях «выражения» и «значения», становится также категорией Дильтея.
В итоге Дильтей так представляет себе цепочку интерпретаций: 1) есть «переживание», первый уровень, или уровень целостности, поскольку он имеет дело с жизненным миром (мы здесь имеем право воспользоваться концептом позднего Гуссерля, так как само аналогичное представление есть у Дильтея); 2) переживания становятся «выражениями» благодаря знаковым системам, которые закрепляют значимые переживания и делают их транслируемыми; 3) «понимание» объясняет, каким образом переживание так связано с выражением, что мы в состоянии этот комплекс передавать другим. Итак, Дильтей весьма далеко отходит от своих ранних опытов по вживанию в иной духовный мир. Теперь перед нами – именно наука: наука о культуре, которая предлагает вместо растворения в «чужом» интенсифицировать «свое» и тем самым достигнуть «объективности» духа, не редуцируя дух к природе. Другими словами, вместо того чтобы стремиться к культуре как к некой объективной эрзац-природе, нужно включить природное в историческое, сделать культуру открытой и потому не субъективной системой. Здесь Дильтей, несомненно, осуществил прорыв.
Второй создатель новой философии культуры – Зиммель. Он начинал как неокантианец; вместе с Максом Вебером и Дюркгеймом создал новую социологию. Но осуществляя революцию в социологии, он понял, что средой и почвой для всех социальных и индивидуальных феноменов является культура. Зиммель убеждается, что в процессе рождения культуры работают три силы, а именно: 1) природа, независимая от культуры; 2) дух, который выдвигает вопреки природе свои ценности и идеалы, и 3) продукт взаимодействия природы и духа – это культура как застывшая форма, которая фиксирует каждую стадию их взаимодействия. Поскольку эти силы постоянно побеждают друг друга и пересматривают заключенные соглашения, то в итоге получается история культуры. Ситуация эта драматична, а строго говоря, даже трагична: именно так ее описывает Зиммель. Как известно, отличие трагедии от драмы в том, что в драме сталкиваются добро и зло, а в трагедии добро сталкивается с добром, и в этом – безвыходность ситуации. Но, по Зиммелю, именно так устроена эта триада, потому что все эти силы имеют свою правду: в природе – жизнь, в духе – ценности, а в культуре – формулы их временного примирения. Современный мир, как пишет Зиммель, это уже борьба не с временными договорами между означенными силами, а с самим принципом договора. Об этом рассказывает его работа «Конфликт современной культуры».
Вторая важная интуиция, о которой Зиммель начинает писать уже в 1890-е годы, – это применение на практике того идиографического метода, о котором неокантианцы только писали, но который сами почти не реализовали. Зиммель показал, как это сделать. Он первым начинает писать о том, о чем философы культуры не писали никогда (может быть, только Монтень в этом отношении как-то сопоставим с Зиммелем): о руинах, о женской моде, о спорте, о приключениях и т. д. Зиммель издал сборник эссе, который назвал «Философская культура» (иногда неправильно переводят как «Философия культуры»), и показал в нем, что через микроанализ микрофеноменов можно увидеть очень большие и очень серьезные процессы и морфемы. Это был настолько новаторский подход, что он остался почти незамеченным. Но теперь мы видим, что это – гениальные очерки описания культурных морфем. Первым таким зиммелевским опытом были не эссе, а солидная книжка, вышедшая в 1900 г., – «Философия денег». Это совсем не политэкономическая работа, а рассказ о том, как знаковая система денег становится символом и шифром, через которые можно прочесть эпоху с ее предпочтением абстракций живым человеческим отношениям.
Освоение Зиммелем новых для культурфилософии тем связано с его версией философии жизни. В каком-то смысле он делает шаг назад, к Шопенгауэру, уже полузабытому в начале XX в. Шопенгауэр учил, что изначальная воля реализует себя в материи (жизнь) и в идеальных формах (культура). Шопенгауэр подчеркивал, что культурные формы не имеют другого смысла, кроме как самоструктурирование жизни, которая не хочет быть бесформенным континуумом. Воля хочет волить все в большей и большей степени, и для этого она должна себя, как это ни парадоксально, ограничить формами. Формы помогают воле и жизни стать силой более высокого порядка, но они же ее в какой-то момент начинают ограничивать: когда они становятся старыми и косными, жизнь начинает с ними борьбу.
Если для Шопенгауэра интересней рассматривать этот сюжет на биологическом материале, то Зиммель видит его в культуре, особенно – в ее малых формах. Здесь надо учесть и влияние на него Маркса. (Дильтей просто не заметил Маркса, но для Зиммеля был важен не только Маркс, но и целый круг мыслителей, использовавших некоторые идеи Маркса.) Во-первых, Маркс изобрел жанр рассказа о том, как производительные силы меняют производственные отношения. Для Зиммеля это вполне «рифмовалось» с Шопенгауэровой историей манифестаций воли. Во-вторых, Марксу принадлежала идея товарного фетишизма, т. е. наполнения вещи символами социально-экономических отношений. В-третьих, у раннего Маркса была идея отчуждения продуктов труда и процесса труда от труженика. Зиммель, не особенно ссылаясь на Маркса, исследует все эти процессы символических воплощений смыслов и воли в культуре. Это и заставило его изучать очень конкретный материал: моду, любовь, женское движение, деньги.
В отличие от всех прошлых философов жизни, Зиммель говорит, что никакого развития в мире форм нет: каждый раз жизненная энергия оформляется здесь и сейчас в данных формах, но потом жизнь радикально меняется, и эти неразвивающиеся формы становятся ненужными. Жизнь даже не всегда с ними борется; она может их обходить, игнорировать, а когда становится достаточно сильной, просто сметает их. В какой-то момент формы начинают терять свою главную функцию: они не артикулируют жизнь, а мешают ей. И это уже трагедия современной – да и всякой – культуры, потому что примирить эти две силы невозможно: дух и жизнь разнородны. Специфическая же проблема современности, по Зиммелю, в том, что наша культура находится в тупике, потому что она начинает уничтожать сам принцип формы. Раньше она боролась с устаревшими формами, но теперь сам принцип формы мешает жизни. Здесь у Зиммеля очень тонкий социологический и культурфилософский анализ болезней современности. Он видит, что непосредственное выражение жизни оказывается достаточно сильным, а иногда и самодостаточным. Зиммель, в отличие от всех романтиков и неоромантиков, считает, что это плохо. Он – один из немногих, кто жестко критикует принцип непосредственности, тогда как весь XIX в. – это критика лицемерной, фальшивой культуры и воспевание непосредственности во всех видах: от культа наивной простоты до культа гения.
Зиммель увидел большую трагедию в том, что непосредственность рано или поздно начинает уничтожать не только устаревшие формы, но и все формы культуры. Он показывает, что борьба непосредственного за самоутверждение оказалась успешной, потому что ее импульс совпал с ослабеванием культурных форм: они выдохлись, устарели, а культура, вместо того чтобы искать новые, сказала, что можно обойтись и без них. Происходит тонко отмеченное Зиммелем расслоение на два полюса. На одном полюсе – формы культуры, которые стали еще сильнее; они усложнились, дифференцировались, возвысились, но и герметически замкнулись; они стали работать сами на себя. Это замкнутый мир высокопрофессиональных культурных игр. Что-то подобное культура знала уже в эпоху александрийства в античности, или в эпоху поздней схоластики, но там все-таки была потребность в обновлении, а вот теперь, по Зиммелю, ее нет: элитный мир просто замкнулся в себе и живой культуре он больше не нужен.
На другом полюсе – культура низкая, массовая, она начинает работать сама на себя, не нуждаясь в высоких образцах. Но здесь приходит в действие, если употребить не зиммелевское мотто, принцип энтропии. Побеждает наиболее вероятное состояние; сложное и насыщенное энергией уступает простому, рассеивающему энергию и т. д. Значит, эта эпоха непосредственности будет вырождаться и преимущественно выбирать те системы, где нужно меньше энергии и труда, интеллекта, формы и где больше прямого выплеска эмоциональной энергии. Зиммель считает, что это очень опасно; и не потому, что плохо (плохое можно пережить, регенерируя формы), а потому, что эта система на самом деле жизнеспособна; она может работать, расколов элиту и низы, достаточно долго. Тут работает новая сила, которой, как кажется Зиммелю, раньше не было: это работа эффективных абстракций, опустошающая мир. Принцип непосредственности, как ни странно, прекрасно работает с формами. Просто ему нужно их опустошить и дальше работать так, чтобы они ему не мешали и ни к чему не обязывали.
Зиммель подробно описывает, как жизненно-личностно-интимные отношения становятся формальными в семье, в любви, в искусстве. Скажем, если взять всего лишь имитацию искусства, при том что она престижна и пользуется успехом, то какая разница, настоящее перед нами или нет. Функционально это будет работать точно так же. Поэтому, если искусно сымитировать чей-то талант, славу или успех, все механизмы культуры заработают, а главное – труда и гениальности это и не потребует. Таким образом происходит вымывание живого содержания из структур, но с сохранением самих структур, которые для эпохи непосредственности еще удобнее. Поэтому «философия денег» становится здесь ключевой.
Для Зиммеля деньги – идеальный символ таких отношений. Важным оказывается не производство, связанное с жизнью и реальными потребностями, т. е. товарное производство, а производство денежное, производство знаков, которые меняются на знаки и под которые в силу эффективности этого процесса подстраивается все остальное. Если в денежном эквиваленте моя деятельность дает успех, то я доволен и могу даже обманывать себя, считая, что сейчас сделаю нечто ради денег, но благодаря этому получу возможность что-то делать свободно. По Зиммелю, так не получается, потому что символический мир пустых знаков не пассивен: он распространяется, становится сильнее и опустошает мир.
У Зиммеля нет рецептов от этой болезни. Во многом он солидарен с тем направлением, которое развивалось тогда в Англии, – это эстетическо-социологическое направление Уильяма Морриса, Раскина и др. Они говорили, что нужно вернуться к ручному труду, к ремеслу, к маленьким формам производства, где эстетическое связано с личным и, главное, связано еще с маленькими хозяйственными потребностями общины. Это был своего рода утопический эстетический феодализм. Но во времена Зиммеля данное направление не было достаточно сильным. Единственное, на чем настаивает Зиммель, это то, что надо оборонять островки личного, живого, человеческого, еще не затронутые отчуждением. Поэтому Зиммель дорожит субкультурами, где живое все-таки способно себя оборонять. (Эту тему Зиммеля подхватит потом левая культуркритика XX в. от франкфуртской школы до постструктурализма.) По этой же причине он – феминист, считавший, как и многие феминисты той эпохи, что женщина лучше, чем мужчина, сопротивляется разрушительной работе абстракции в союзе с непосредственностью. Зиммелевские диагнозы и прогнозы предшествуют длинной чреде культуркритических учений XX в., но, как представляется, особенно значимым было его открытие (или возрождение, если учесть Гёте) морфологического метода интерпретации культуры, который расширил горизонты для дальнейшего развития философии культуры, в том числе для Шпенглера.
Философия культуры в России XIX–XX вв.
Науки о культуре получили свою версию и в России XIX в. Временем рождения рефлексии о культуре в России можно признать 30-40-е годы XIX в., когда в ходе полемики славянофилов и западников и под влиянием европейского консервативного романтизма формируется своеобразная религиозная историософия, апеллирующая к метафизике «духа истории» и «духа народа». Описывая влияния и заимствования, надо учитывать всю довольно пеструю идейную «топографию» тогдашней Европы: историософскую мистику, немецкую спекулятивную философию, либеральный и консервативный дискурс, политическую мысль радикального и реформаторского социализма, культурнационализм. Русские интеллектуалы 1830-1840-х годов очень внимательно следили за умственными коллизиями Европы, поскольку постепенно переходили от ученичества и подражания к полемическому диалогу. В силу этого без отклика не оставалось ни одно сколько-нибудь значимое направление.
Среди протагонистов спора в первую очередь можно упомянуть имена П.Я. Чаадаева, А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, К.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина. Показательно, что доминируют здесь славянофилы, для которых культурная среда есть способ ограничения индивидуального произвола. Западническая мысль пока сравнительно мало интересуется культурным универсумом: для нее значима не культура, а цивилизация как итог прогресса. Концепт культуры практически не встречается в теоретических построениях этих течений, но в них просматривается состав будущей науки[114], уже востребованы универсалии нового типа, которые не выводимы ни из исторической фактологии, ни из социального, ни из политического словаря предшествующих дискуссий. Так, хомяковские категории «кушитства» и «иранства» при всей их очевидной фантастичности предполагают новую предметность для исторической мысли: метаэтнический культурный тип и телеологию истории. Однако надо признать, что здесь мы имеем дело не с культурологией, а именно с историософией. Одержимость историцизмом, вообще свойственная первой половине XIX в., в данном случае облекается в одежды учения о сакральной миссии того или иного культурного (или этнокультурного) типа. Следует учесть также, что формирование этих воззрений и укорененной в них культурной рефлексии проходило в России на фоне политического созревания самосознания гражданского общества и создания идейно насыщенных трудов по русской истории и культуре (Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, кн. В.Ф. Одоевский, В.С. Печерин,
A. И. Герцен, Т.Н. Грановский, Н.А. Полевой, Н.И. Надеждин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский), и потому историософский формат в этой атмосфере был более чем естественным.
Но тематическая связь культуры, веры и истории не была в русской историософии случайной, или акцидентальной: такая трехчастная формула вытекала из самой сути духовных поисков эпохи. Это было отмечено
B. В. Зеньковским: «Та идея, которая была руководящей в философском творчестве А.С. Хомякова, – построение цельного мировоззрения на основе церковного сознания, как оно сложилось в Православии, – не была ни его личным созданием, ни его индивидуальным планом. Как до него, так и одновременно с ним и после него – вплоть до наших дней – развивается рядом мыслителей мысль, что Православие, заключая в себе иное восприятие и понимание христианства, чем то, какое сложилось на Западе, может стать основой нового подхода к темам культуры и жизни. Это рождало и рождает некое ожидание, можно сказать, пророческое устремление к новому „зону“, к „эпохальному“ пересмотру всей культуры»[115]. «Новый „эон“ мыслился не как синтез Православия и западной культуры, но как построение нового культурного творческого сознания, органически развивающегося из самых основ православно-церковной установки. Не без оттенка утопизма славянофилы жили верой, что все подлинные ценности Запада окажутся „уцелевшими“, хотя в своих корнях они окажутся связаны совсем иной духовной установкой»[116]. То, что Зеньковский называет «построением нового культурного сознания», соотносится не только со славянофильскими идеями. Выходя из их круга, мы обнаруживаем весьма широкий идеологический спектр – от консервативного европеизма Чаадаева и Пушкина до радикализма Герцена и Бакунина, но в нем присутствует все та же установка на усмотрение новой предметности (культуры как универсума объективного духа) и понимание триединой связи культуры, религии и исторической динамики.
Контраст с эпохой историософии позволяет говорить о появлении философии культуры (культурфилософии) в России последней трети XIX в. Кристаллизация нового направления была обусловлена и перенасыщенностью ментального «раствора», и европейскими влияниями. Что до последних, то надо отметить формирование позитивистской культурологии (Конт, Тэн, Бокль) и интерес к культурной среде со стороны самой науки (политэкономии, социологии, этнографии, психологии, языкознания). Представление о детерминирующей роли естественной и социальной среды, свойственное позитивизму, оказало на русскую мысль весьма активное (хотя и не всегда позитивное) воздействие. Возникает на Западе и оппозиция позитивизму, наиболее четко оформившаяся в 1880-е годы в символизме и околосим-волистских течениях. В 1890-е годы аналоги этой оппозиции появляются в России (чем и было инициировано становление Серебряного века). Но указанные влияния лишь играли роль катализатора. Имманентная логика развития русской мысли также вела к осознанию новой – культурологической – предметности. Не стоит забывать и о роли александровских реформ, которые требовали от интеллигенции уже не келейных размышлений и салонных дискуссий, но выработки действенного мировоззрения, готового взять ответственность за судьбу культуры и государственности.
Как и на Западе, в России превращение культурфилософской публицистики в научную дисциплину осуществилось усилиями позитивной науки. Заметную роль сыграло отечественное языкознание, которое уже в 1850-1860-х годах развило самостоятельное ответвление немецкой мифологической школы и гумбольдтианской теории языка (Ф.И. Буслаев, А.Н. Пыпин, А.Н. Веселовский, А.А. Потебня, А.А. Котляревский). Сложившийся в лоне этого направления образ языка как безличной смысловой стихии, предопределяющий через речь, миф и фольклор схемы мышления и поведения, показал возможность объективного научного анализа духовной культуры. Происходит становление социологии культуры, теоретической историографии культуры (В.И. Герье, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, А.С. Лаппо-Данилевский, Н.В. Теплов). Кроме того, упомянутые выше российские историки вбросили в общественное сознание колоссальный систематизированный материал, весьма провоцирующий культурологические обобщения.
«Государственная школа» в правовой и исторической мысли (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, В.И. Сергеевич, А.Д. Градовский, П.Н. Милюков) концептуализировала историческое взаимодействие общественных институций и поставила вопрос о взаимном опосредовании в культуре утилитарного и нормативно-идеального начал. Особо надо отметить роль Чичерина, в трудах которого был осуществлен синтез правовой тематики с культурфилософской: это обусловило рождение богатой плодами правовой ветви русской философии, блистательно продолженной в XX в. такими религиозными мыслителями, как С.Н. и Е.Н. Трубецкие, Б.П. Вышеславцев, П.И. Новгородцев, И.А. Ильин, Б.А. Кистяковский.
При всем том – как это ни парадоксально – ключевую роль в кристаллизации русской культурологии сыграли естественные науки. Мыслители, которые попытались разработать в этой области знания научный метод, были по своему образованию и ментальности естествоиспытателями. Н.Я. Данилевский получил степень магистра ботаники на естественном факультете Петербургского университета, занимался почвоведением, экономикой, статистикой, работал директором ботанического сада, исследовал рыбное хозяйство Волги и Каспийского моря. В своем главном культурологическом труде «Россия и Европа» (завершен в 1869, издан в 1871) он критикует понятие мировой цивилизации и ее прогресса, выдвигая учение о «культурно-исторических типах» (египетский, китайский, греческий, римский и т. п.), которые существуют по законам биологической популяции, проходят все естественные этапы роста от рождения до смерти и при этом не передают свое наследие другим типам. Особое внимание Данилевский уделил германо-романскому и славянскому типам: первый находится в состоянии умирания, второй – в стадии молодости и собирания сил вокруг России как центра. Отсюда следует, что присоединение к Европе не может принести славяно-русскому типу ничего, кроме неприятностей и помех. После юношеского увлечения фурьеризмом Данилевский, видимо, принимает православное мировоззрение, однако естественное богословие, которое он развивал в ходе критики дарвинизма, высвечивает скорее некоторый натуралистический деизм.
К.Н. Леонтьев окончил медицинский факультет Московского университета. В качестве батальонного лекаря участвовал в Крымской войне, затем работал домашним врачом. Несомненно, что этот ранний период много значил и для дальнейшей его жизни – жизни литератора, дипломата, публициста, монаха. Начиная с работы «Византизм и славянство» (1875), бывшей в известной мере откликом на книгу Данилевского, Леонтьев создает ряд философско-публицистических произведений, в которых развивает свою теорию культуры. (При жизни автора они издавались лишь раз, в 1885–1886 гг., в двухтомнике «Восток, Россия и славянство».) По Леонтьеву, культуры суть аналоги биологических организмов. Как таковые они развиваются по естественным законам, проходя периоды зарождения, расцвета, старения и распада, или, иначе говоря, от «первичной простоты» к «цветущей сложности» (это эстетический максимум культуры) и наконец ко «вторичному смесительному упрощению».
Леонтьев – самый сложный по духовным составляющим мыслитель своего времени. Биологический детерминизм дополняется у него радикальным эстетизмом: жизненная сила, оформленная красотой, – главный для Леонтьева критерий состоятельности культуры. В то же время не подлежит сомнению его искренняя верность православным идеалам: переживания 1871 г. привели Леонтьева к обращению в религию и стремлению к монашескому постригу. Но и бесконфликтной его веру назвать нельзя: он остро переживал несовместимость веры и культа красоты, делая, впрочем, однозначные выводы: «Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, то есть самую жизнь… Что же делать? Христианству мы должны помогать, даже в ущерб любимой нами эстетике…» Леонтьев практически не нашел союзников в интеллектуальной среде своего времени: ни неославянофилы, ни политические консерваторы, ни церковь, ни философия не могли принять его причудливый синтез византийской модели православия, крайнего этатизма и эстетизма. Но провоцирующее влияние его мысли было (и остается) очень значительным.
Л.И. Мечников, брат великого биолога, учился в Петербургской медико-хирургической академии, в дальнейшем переключился на географию и активно сотрудничал с Э. Реклю. С 1877 г. начинают выходить его труды, развивающие концепцию географического детерминизма. В 1898 г. издается русский перевод его французской книги «Цивилизация и великие исторические реки» (переиздан в более полном виде в 1924 г.). Здесь Мечников выдвигает теорию определяющей роли водных пространств, в соответствии с которой мировая история движется от речного периода, породившего четыре великие древние цивилизации, к морскому, известному, в частности, средиземноморской культурой, и далее – к океаническому, который начинается с открытия Америки и закончится созданием глобального социально справедливого мира. Религиозный аспект культуры был для него лишь одним из факторов, предопределенных стадией развития цивилизации. Труды Мечникова остались в свое время незамеченными, и лишь во второй половине XX в. ему уделили достойное внимание.
К этому же натуралистическому направлению можно с оговорками отнести Федорова и Розанова, которые не были профессиональными естествоиспытателями, но исходили из интуиции ценностной первичности витального начала и доверия к бессознательной мудрости живой материи. Н.Ф. Федоров с 1870-х годов начинает проповедовать оригинальное учение о культуре как «общем деле», сердцевиной которого является воскрешение предков силами объединенной науки. Прослеживается определенное влияние его личности и его идей на Л.Н. Толстого и В.С. Соловьева в 1880-е годы. Федоров активно пользуется лексикой и образным строем православия, хотя, пожалуй, деятельность его сторонников правильнее было бы позиционировать как еретическую секту.
В.В. Розанов становится заметной фигурой в контроверзах русской интеллигенции в 1890-е годы. Важнейшие публикации этого времени: «Место христианства в истории» (1890), «Легенда о Великом инквизиторе» (1894), «Религия и культура» (1899). Философия жизни и культуры, развиваемая Розановым, не поддается однозначным квалификациям (что во многом обусловлено уникальным жанрово-стилевым модусом, выработанным зрелым Розановым: перед нами – исключающие систему импрессионистические заметки и опыты). В целом она пронизана протестом против умерщвляющих абстракций культуры и воспеванием своеобычности тварного органического мира. Характер религиозности Розанова – трудноразрешимая проблема. Духовный преемник Достоевского, он доводит трагическую экзистенциальную диалектику своего учителя до последней границы, да и, пожалуй, переступает ее. Своеобразный пантеизм Розанова с его центральными темами – жизнь души, быт, пол, семья – не мог не столкнуться с христианством: и в самом деле, Розанов иногда представляется апологетом язычества, часто яростным критиком «исторического христианства» и Церкви как института, но в то же время он никогда явным образом не дистанцируется от православия.
То, что размышления о культуре превращаются в наукоподобный жанр именно в рамках философствующего натурализма, в целом понятно. Интуиция органической формы вместе с научным методом и позитивистской установкой могли собрать в целое основные культурологические темы: морфология духа, символ, знак, тип, традиция, история, интерпретация… Однако при этом с неизбежностью размывались интуиции сверхприродного Абсолюта, метафизической реальности, этической сердцевины личности, трансцендентно Иного… Предотвратить этот крен смогла другая линия культурфилософии, становление которой также пришлось на 1870-е годы. Русская литература (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский) и русская философия (В.С. Соловьев, Б.Н. Чичерин) предлагают альтернативную стратегию понимания культуры. При всех очевидных различиях представители этого направления едины в ощущении неразложимости культуры на мирские и природные начала. Сверхмирное начало ощущается ими так же остро, как витальный субстрат культуры «натуралистами». Даже Толстой – с его неоруссоизмом, яростной критикой цивилизации и плохо совместимой с христианством религиозностью – отличается от «натуралистов» ясным осознанием того, что жизнь и культура нуждаются в этическом и религиозном оправдании.
Представляется, что особую роль в рамках этого направления сыграло творчество В.С. Соловьева. Соловьевское «Оправдание добра» (последняя версия – 1899), этот грандиозный философский эпос, может рассматриваться, кроме прочего, и как оправдание культуры в свете ее религиозного предназначения. Часть третья («Добро через историю человечества»), составляющая больше половины объема книги, посвящена рассмотрению институтов человеческой культуры (личности, семьи, нации, общества, почитания предков, права, экономики, войны, государства, церкви) в их истории и в их внутренней взаимосвязи и взаимопомощи. Картина будет еще более впечатляющей, если мы дополним ее материалами активной полемики Соловьева с его современниками: Данилевским, Леонтьевым, Розановым, Чичериным, Толстым, Достоевским, Федоровым, Антонием (Храповицким) и др. Соловьев впервые решительно отходит как от позитивистской, так и от эстетской абсолютизации культуры. Он предлагает рассмотреть культуру как элемент полемической оппозиции «Культура и (или) Вера».
Так, в «Трех разговорах» Политик (представляющий собой тип современного либерала-скептика) и Дама (олицетворение здравого смысла) затевают спор о культуре как средстве избегать войны и конфликтов. «Вы ведь хотели сказать, – резюмирует Дама, – что времена переменились, что прежде был Бог и война, а теперь вместо Бога культура и мир?» Политик, соглашаясь, дает определение культуры как «минимума рассудительности и нравственности, благодаря которому люди могут жить по-человечески». Новый поворот разговору сообщает г-н Z (выразитель точки зрения Соловьева): смысл его иронических замечаний в том, что релятивизм и нежелание воевать за истину суть «симптом конца». Эта тема, в свою очередь, и позволяет логично включить в текст знаменитую «Краткую повесть об Антихристе» с рассказом о последней войне человечества. Культура как мирская прагматичность оказывается прологом к апокалипсису.
Как бы мы ни оценивали ту или иную идею Соловьева, очевидно, что в целом перед нами – систематизированный опыт отсечения крайностей и поиска золотой середины: синтеза веры, нравственности и разума. Культура для Соловьева оказывается тем символическим универсумом, в котором происходит воплощение и накопление всего, что служит этому синтезу. Неудивительно поэтому, что именно Соловьев подытожил результаты эпохи генезиса культурфилософии и сыграл для последующей эпохи роль идейного камертона. Соловьеву удалось сформировать своего рода теоретический канон, который открыл поле многообразных вариаций.
Становление самобытной философии культуры в России совпало с общим изменением в ментальной атмосфере конца XIX в.: с поворотом от позитивизма к метафизическим ценностям. В целом XIX в. был безраздельно подчинен позитивистской парадигме с ее принципом детерминирующей роли естественной и социальной среды. Эта установка вряд ли может быть названа бесплодной: ведь в ее русле возникли сильные и оригинальные концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, Л.И. Мечникова, целого ряда отечественных историков и социологов. Но по крайней мере одна общая черта этих учений выявила их диссонанс с глубинными устоями русской культуры: для всей этой идейной констелляции совершенно неуместным было понятие идеала. Витализм (или, если угодно, органицизм) этого направления, как правило, усматривал в культуре волю к власти, но отнюдь не стремление к идеалу (если только не принимал последнее как «полезную иллюзию»). Однако на рубеже веков происходит заметная «смена вех». Если говорить о филиации идей, то на поворот оказывает влияние мощный импульс творчества Вл. Соловьева. Но правильнее было бы видеть этот процесс в предельно широком и разнородном контексте оживления всей духовной жизни предвоенной России.
Путь, пройденный в XX в. российской культурологической мыслью, со всеми его изломами и перерывами, обусловленными пережитой Россией исторической трагедией, характерен направленностью на восстановление духовных истоков и связью «своего» наследия с актуальной европейской традицией. Показательна в этом отношении последовательность программных сборников, представленных российскими интеллектуалами нового чекана как обозначение некоего нового пути: «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918). По некоторым статьям сборника «Проблемы идеализма» хорошо видно, как происходит переоценка культурных ценностей. Так, в неожиданном ракурсе предстает тема «сверхчеловека», осмысленная в контексте этики Ницше С.Л. Франком[117]. По мысли Франка, «сверхчеловек <…> знаменует собою и означает высшую степень духовного развития человечества, высшую степень расцвета, на которую способны содержащиеся в современном человеке духовные зародыши»[118]. «Воцарение сверхчеловека не есть торжество человеческого счастья <…> это есть торжество духовной природы человека, осуществление всех объективноценных его притязаний»[119].
Кн. С.Н. Трубецкой, рассматривая в своей статье появившуюся в XIX в. гуманитарную дисциплину «история философии» как некую «метафилософию», приходит к выводу, что существование философии в истории, нередуцируемое к каким-то итоговым интегральным истинам, – это не свидетельство слабости философии, а, напротив, источник ее особой культурной мощи. По мнению С.Н. Трубецкого, «процесс развития философской мысли тесно связан с общим процессом исторического культурного развития», а «различия и противоречия отдельных философий свидетельствуют об истинности самой философии в них, о ее неподдельности и правдивости» и «коренятся в самой природе человеческого разума»[120].
Хронологический путь от «Проблем идеализма» к «Вехам» был заполнен работой культурологической мысли. Показательна в этом отношении статья П.Б. Струве и С.Л. Франка «Очерки философии культуры»[121], вышедшая в конце 1905 г. – как раз в середине дистанции между знаковыми для России сборниками. Авторы далеки от соловьевской «ветви», но для них уже естественно в борьбе с нигилизмом и утилитаризмом указать, что тем «чужда идея богочеловечества, идея воплощения абсолютных ценностей духа в земной жизни и ее средствами – идея, лежащая в основе философского понятия культуры»[122], дать определение культуры как «совокупности абсолютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и составляющих его духовно-общественное бытие» и добавить, что это «истинное сошествие на землю духа святого в трудах и завоеваниях всего человечества»[123].
Последовавшее включение этих тезисов в аксиоматику русской религиозной философии культуры говорит о том, что поворот к новому видению культуры в сознании небольшой, но элитной группы интеллигенции уже произошел. Программная фраза Гершензона в предисловии к «Вехам» – «общей платформой является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития»[124] – хорошо показывает характер веховского поворота к новому пониманию смысла культуры. Веховцы противопоставили своим оппонентам не очередной выбор правильной «пользы», ради которой можно жертвовать идеалами в пользу идолов (такова функция идеологии), но свое видение принципиального различия пользы и абсолютной ценности. Определенный таким образом смысл культуры стал теоретическим рубежом не только для России, но и для европейского Нового времени: «вехой», обозначившей начало его конца.
За «Вехами» последовало десятилетие бурного расцвета и окончательного формирования российской культурологии. В этот период уже можно говорить о достаточно определившихся направлениях. Христианская метафизика культуры развивалась С.Н. Трубецким, В.И. Ивановым, Н.О. Лосским, С.А. Аскольдовым, С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердяевым, С.Л. Франком, П.А. Флоренским, В.Ф. Эрном, Л.П. Карсавиным, Г.П. Федотовым, А.Ф. Лосевым; «эзотерическая» линия представлена Д.С. Мережковским и А. Белым; в контексте социально-гуманитарных наук тему культуры раскрывали Н.И. Кареев, П.Н. Милюков, Ф.Ф. Зелинский, И.М. Гревс, А.С. Лаппо-Данилевский, П.Б. Струве, Е.В. Спекторский, П.М. Бицилли, Г.Г. Шпет, Ф.А. Степун. В литературно-публицистических формах тема трактовалась В.В. Розановым, Л.И. Шестовым; культурологические аспекты права изучались наследниками чичеринской традиции Е.Н. Трубецким, П.И. Новгородцевым, Б.А. Кистяковским, Б.П. Вышеславцевым, И.А. Ильиным.
В 1922 г. процесс христианского осмысления культуры русской интеллигенцией поневоле приобретает другие социальные формы: из сферы публичной дискуссии он перемещается в кабинетное (в лучшем случае) пространство. Эпоха насильственно заканчивается высылкой значительного числа участников процесса в Германию и эмиграцией в Чехословакию и Францию. В эмиграции создаются итоговые, более обстоятельные и спокойные, более академичные произведения, многие из которых сейчас мы можем назвать шедеврами. Особое внимание стоит обратить на короткий период – двадцатилетие с 1902 по 1922 г., – когда в экстремальных условиях русская интеллигенция делает вывод о том, что деструктивная критика культуры и ее абсолютизация – это два тупиковых пути.
Необходим постоянный диалог с мирской культурой как тем пространством, где происходит процесс испытания христианского сознания, испытание веры, ее воплощение в мирскую реальность. Русские интеллигенты не хотят отказываться от опыта Нового времени, от опыта свободы, который доказал, что индивидуальный дух автономен и не подчиняется внешним причинам, если сам того не захочет. Но вместе с тем эти мыслители подчеркивают, что законы культуры находятся в симфоническом согласии с основными истинами христианской религии.
Период 1920-х – начала 1930-х годов богат интересными процессами и замыслами, большинство которых коренится еще в предреволюционном десятилетии. Из столкновения классических и постклассических традиций в гуманитарной мысли и в художественном творчестве рождаются проекты создания гуманитарных дисциплин, вооруженных строгими методами и корреспондирующих с естественными и точными науками. Как правило, проекты были коллективными и имели социальное оформление в виде кружков или даже государственных институтов. Основными концептуальными оболочками этих процессов стали конструктивизм, формализм, структурализм. Можно упомянуть такие выдающиеся интеллектуальные центры, как Московский лингвистический кружок, действовавший в 1915–1924 гг. (В его составе были, в частности, Н.И. Жинкин, В.М. Жирмунский, Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, Г.Г. Шпет, Р.О. Якобсон, Б.И. Ярхо.) Далее, ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка), или Русская формальная школа (середина 1910-х – середина 1920-х), – группа литературоведов, постулировавших точное изучение формальных приемов творчества. Среди членов школы – Е.Д. Поливанов, Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум, Р.О. Якобсон. ВХУТЕМАС (Высшиехудожественно-технические мастерские), где преподавали А.Е. Архипов, В.В. Кандинский, Л.М. Лисицкий, К.С. Мельников, П.В. Митурич,
A. М. Родченко, В.Е. Татлин, В.А. Фаворский, П.А. Флоренский. ГАХН (Государственная академия художественных наук), организованная в 1921 г. (до 1929) с целью систематизировать исследования в области истории и теории всех видов искусства. В ГАХН работали Г.Г. Шпет, В.В. Кандинский, А.Г. Габричевский, А.Ф. Лосев, К.С. Малевич, А.М. Эфрос.
Большой вклад в культурологию внесли направления, которые выросли из поисков филологии, фольклористики, медиевистики 1920-х годов. Это труды М.М. Бахтина о формах и жанрах литературы, о народной культуре Средневековья, Б.Я. Проппа о поэтике волшебной сказки, О.М. Фрейденберг о мифологии, М.И. Стеблина-Каменского о скандинавском Средневековье и др. После культурного коллапса 1930-1950-х годов все это богатое наследие стимулировало появление в 1960-е годы культурологического направления, которое характеризуется опорой на семиотику и структурный анализ, вниманием к социально-психологической антропологии различных культурных эпох, тщательной проработкой конкретного исторического материала. Особо надо сказать о тартуско-московской (или московско-тартуской) семиотической школе, получившей мировую известность в 1960-1980-х годах. Школа развивала традиции русских формалистов и структурализма, выпускала весьма влиятельные «Труды по знаковым системам». (Ее лидеры: Ю.М. Лотман, А.М. Пятигорский, Б.М. Гаспаров, Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров, В.А. Успенский, В.А. Успенский, А.Н. Жолковский.)
Начиная с 1990-х годов в обстановке интенсивных реформ высшей школы культурология формируется как учебная и научная дисциплина, на которую возлагали задачу интегрировать гуманитарные «общечеловеческие» ценности, прививать новые гуманистические ценности на опыте мировой культуры и тем самым занять в высшем образовании опустевшее место «идеологических» дисциплин. В создании нового научного направления особо активное участие принимало блестящее поколение гуманитариев, сформировавшееся в 1960-е, 1970-е годы и стяжавшее со временем мировую известность. В работах С.С. Аверинцева, Л.М. Баткина, В.В. Бибихина, B. С. Библера, Н.В. Брагинской, Р.А. Гальцевой, М.Л. Гаспарова, А.Я. Гуревича, И.Е. Даниловой, Вяч. Вс. Иванова, Г.С. Кнабе, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, М.К. Мамардашвили, Е.М. Мелетинского, Ал. В. Михайлова, Г.С. Померанца, А.М. Пятигорского, И.Б. Роднянской, О.А. Седаковой, А.А. Тахо-Годи, Н.И. Толстого, В.Н. Топорова, В.А. Успенского (список заведомо неполон) широкий спектр проблем филологии, семиотики, философии, истории, культурной антропологии объединялся вокруг сверхзадачи, которую можно сформулировать как попытку разгадать метаязык культуры и понять ее внутреннюю целесообразность. После некоторого спада 2000–2005 гг., возможно обусловленного сменой поколений и исчерпанностью накопленных ресурсов, намечается – с осторожностью заметим – «положительная динамика». Во всяком случае, одним из главных результатов прошедшего двадцатилетия стала уверенность в том, что культура в целом действительно может быть предметом современной науки – как в ее эмпирической версии (культурология), так и в метафизической (философия культуры), и хотя культурология как наука еще не вполне сформировалась, но предмет ее уже прояснен и изучается содружеством гуманитарных наук.
Культурфилософия Вл. Соловьева об антиномии права и нравственности
Культ и культура в творчестве Вячеслава Иванова
Мир как театр в сознании Серебряного века
«Вехи» о религиозном смысле культуры
Культура как идеал в русской мысли Серебряного века
(О сборнике «Проблемы идеализма»)
Духовный смысл войны в русской философии Серебряного века
А.Ф. Лосев как философ культуры Лосев и Гёте
М.К. Мамардашвили как философ культуры
С.С. Аверинцев как философ культуры
Г.С. Кнабе как философ культуры
Т.В. Васильева как философ культуры
Л.М. Баткин как философ культуры
Культурфилософские работы А.А. Тахо-Годи в свете «истории понятий»
Культурфилософия Вл. Соловьева об антиномии права и нравственности
Знаменитая в свое время полемика Вл. С. Соловьева с Б.Н. Чичериным о соотношении права и нравственности на первый взгляд не принадлежит к тем великим спорам, которые, единожды возникнув, проходят через всю историю философии. Да и сейчас эта тема представляется скорее заархивированной, чем активизированной. Однако наблюдаемое в последние десятилетия «сгущение» философского дискурса вокруг проблемы глубинной сущности права побуждает еще раз взглянуть на этот поединок и попытаться понять, почему в русской философско-правовой мысли прояснение связи права и нравственности стало на какое-то время задачей, решаемой интенсивно и темпераментно.
Если не считать отдельных экскурсов в разных работах, Соловьев представляет свою правовую философию дважды: на раннем этапе творчества – в «Критике отвлеченных начал» (гл. XV–XXII); на последнем этапе – в «Оправдании добра» (гл. XVII и XIX) и в небольшой, но, по сути, итоговой книге «Право и нравственность». Чичерин не обошел вниманием ни ту, ни другую версию: первым ответом была его книга «Мистицизм в науке», вторым – работа «О началах этики». Соловьев также в обоих случаях не медлил с реакцией, и она была, при всей запальчивости тона, корректным и содержательным анализом позиции оппонента. Для нашей темы важно второе столкновение: в «Критике отвлеченных начал» Соловьев еще придерживается формалистического понимания права, хотя (под некоторым влиянием Шопенгауэра) уже говорит о минимуме нравственных требований в праве; для позднего же периода нравственные аспекты права становятся предметом особого позиционирования. Соловьев утверждает, что стремление ограничиться формальным пониманием права приводит к утрате его действительного содержания. Любое же задание содержания с необходимостью вносит элемент нравственной оценки. Право поэтому не может трактоваться как абсолютное начало, вполне независимое от нравственности.
Связь между правом и нравственностью особенно очевидна при их различении. Основные моменты различия таковы: 1) право есть минимум нравственности, и в этой ограниченности – его сила, поскольку минимум необходим для сохранения принципа человечности; нравственность же не ограничена в своих требованиях и стремлении к совершенству; 2) право требует безусловной реализации минимального добра в действительности, нравственность требует лишь движения к идеальному максимуму; 3) право допускает принуждение, нравственность его избегает. Из этого различия видно, что право и нравственность не самодостаточны и нуждаются во взаимном дополнении. Нравственность наполняет право личностным (а значит, в пределе – религиозным) смыслом; право защищает медленную эволюцию нравственности от натиска реального сегодняшнего зла. Как таковое, оно – необходимый посредник между брутальной силой природы и духовным Царством Божиим[125]. Конфликты же между правом и нравственностью, которые Соловьев отнюдь не отрицает, объясняются различными состояниями правового и нравственного сознания и устраняются вместе с должной их координацией.
В предисловии к «Праву и нравственности» Соловьев четко ориентирует свое учение в идейном пространстве того времени. «Признавая между правом и нравственностью внутреннюю существенную связь, полагая, что они неразлучны и в прогрессе и в упадке своем, мы сталкиваемся с двумя крайними взглядами, отрицающими эту связь на прямо противоположных основаниях. Один взгляд выступает во имя морали и <…> отвергает право и все, что к нему относится, как замаскированное зло. Другой взгляд, напротив, отвергает связь нравственности с правом во имя последнего, признавая юридическую область отношений как совершенно самостоятельную и обладающую собственным абсолютным принципом. Согласно первой точке зрения, связь с правом пагубна для нравственности; согласно второй – связь с нравственностью в лучшем случае не нужна для права, <…> Как безусловный отрицатель всех юридических элементов жизни высказывается <…> граф Л.Н. Толстой, а неизменным защитником права, как абсолютного, себе довлеющего начала, остается <…> Б.Н. Чичерин»[126].
Соловьев указывает этой оппозицией только те моменты, которые важны для его самоопределения. Он не упомянул о том, что осталось на пройденном им пути: о преодоленном славянофильстве, о классическом правовом либерализме, от которого он мягко отмежевался даже в тексте посвящения труда В.Д. Спасовичу (прообразу Фетюковича, так зло изображенного в «Братьях Карамазовых»). Таким образом, он оставляет две крайности, нотируя свою концепцию как своего рода третий путь. При всей логической прозрачности текста этого трактата в нем есть «струна в тумане», которая не артикулирована словесно, но слышна как некий суггестивный мотив.
Современники почувствовали загадку этого «третьего пути», чем отчасти и объясняется достаточно высокий градус полемики. Правовой пафос Соловьева был для них достаточно очевиден. Так, П.И. Новгородцев, которого, пожалуй, нельзя назвать безусловным сторонником соловьевской позиции, в своем благожелательном очерке отмечает: «В такое смутное для юридической науки время следует в особенности ценить всякую попытку, направленную к тому, чтобы отстоять идеальную сущность права, и такая попытка принадлежит Владимиру Соловьеву»[127]. «…Соловьев не только защищал, но и отстоял идею права против тех ее искажений, с которыми он боролся»[128]. (Характерно, что Новгородцев, перечисляя оппонентов Соловьева, умолчал о его споре с Чичериным.)
Однако было у современников и ощущение угрозы идее права, смутно излучаемой соловьевской доктриной. В критиках оказываются не только профессионалы-юристы – Чичерин, Шершеневич, Коркунов, но и Е. Трубецкой, бывший и правоведом, и философом соловьевского направления. Трубецкой в «Лекциях по энциклопедии права» пишет по поводу «полной несостоятельности изложенного воззрения»: «… право отнюдь не может быть определено как minimum нравственности. Все, что можно сказать, это только то, что право как целое должно служить нравственным целям. Но это – требование идеала, которому действительность далеко не всегда соответствует, а нередко и прямо противоречит»[129]. (Правда, несколькими страницами ниже оказывается, что «несостоятельность» не такая уж полная и размежеваться с Соловьевым не так просто[130].)
Анджей Балицкий в своем кратком очерке либеральной правовой мысли в России замечает, что «положение о принудительной реализации определенного минимума добра было выдвинуто Соловьевым в противовес „нравственному субъективизму“ Льва Толстого <…>. Но в действительности это означало также разрыв с классическим либерализмом, который сводил роль права к определению границ индивидуальной свободы. Согласно Соловьеву, требуемый правом минимум добра включает обеспечение всем людям „достойного существования“^.. >. Выполнение этих требований предполагало, разумеется, разные ограничения индивидуальной свободы. Например, из „права на достойное существование“ Соловьев выводил и такой постулат: право на защиту естественной среды обитания человека и запрет на бесконтрольное „завоевание“ природы энергичными, но бессовестными предпринимателями»[131]. Балицкий считает, что главным итогом спора Чичерина и Соловьева стал некий синтез их позиций в новой версии русской либеральной мысли: в «социальном либерализме», который отверг соловьевскую утопию государства как «всеобщей организации нравственности» с ее рискованным мессианизмом, но принял идею «права на достойное существование» как условия «честной игры», снимающей фактическое неравенство условий социального старта для субъектов правовой свободы. Балицкий убедительно показывает результат этой компромиссной формулы на примере концепций Новгородцева, Кистяковского,
С. Гессена. Но все же нас не покидает ощущение, что какая-то линия спора остается «неснятой». Собственно, она представлена и Балицким: «Чичерин критиковал Соловьева не за идею правового обеспечения элементарных правил общежития <…>, но за стремление превратить право в инструмент реализации нравственного идеала, за увлечение идеей земного спасения в Истории. <…> Чичеринская критика Соловьева была прежде всего критикой правовых методов реализации в общественной жизни нравственного идеала»[132].
Можно признать, что какая-то часть чичеринских возражений уходит после адекватных разъяснений Соловьева. Так, Чичерин настаивает на том, что разница между нравственностью и правом является не количественной, а качественной. Но Соловьев (отвечая Шершеневичу и Чичерину) показывает, что «минимум» в контексте его мысли – это скорее количественная метафора. Окончательная же формула права у Соловьева звучит так: «Право есть исторически подвижное определение принудительного равновесия между двумя нравственными интересами: формально-нравственным интересом личной свободы и материально нравственным интересом общего блага»[133]. Неоднократно Соловьев подчеркивает, что необходимость принудительного добра он понимает в том же ключе, что и Чичерин, относя его исключительно в правовую сферу (впрочем, понимаемую именно как «окраина добра»).
Формула Соловьева «Право есть свобода, обусловленная равенством» также вызывает активный протест Чичерина: равенство в этом контексте, утверждает он, юридически некорректно; кроме того, если у всех одно право, то правовая система не работает, ее надо стратифицировать, чтобы сделать действенной. Соловьев разъясняет: «равенство» здесь употреблено в смысле естественного права; любое лицо есть носитель права; свобода ограничивается другой, равной ей свободой. Потом Соловьев смягчает это «равенство» старинным римским suum quique, понятием «равновесия»[134].
Острее другое возражение Чичерина: сближение права и нравственности позволяет нравственности пользоваться принудительными мерами, а праву – обосновывать себя нравственными аргументами. Это одинаково разрушительно в обоих случаях. Юридическая императивность в сфере морали ликвидирует свободу совести и делает государство последним арбитром в делах нравственности, а значит – распорядителем во всех личностных глубинах человека. В моральном родстве с Соловьевым оказываются, по Чичерину, коммунисты и иезуиты, пропагандисты принудительного братства и насильственного спасения[135]. Чичерин в связи с этим вспоминает Торквемаду и дает ряд весьма впечатляющих характеристик тоталитарно-теократического деспотизма, системы «наибольшей репрессивности и наименьшей продуктивности». Вольно или невольно, он внес этим свой вклад в эсхатологический жанр, в котором царствовал его оппонент[136].
Надо отметить, что отчасти мрачность картины, нарисованной Чичериным, объясняется его заведомым неприятием теократических идей Соловьева. Между тем они позволили бы, пожалуй, несколько снизить «уровень угрозы». Речь – о теме трех высших служений (первосвященническое – царское – пророческое), которую Соловьев обозначил еще так: «Личные представители нравственной организации человечества». Ранняя, собственно теократическая версия темы представлена в гл. XI труда «Россия и Вселенская Церковь» (1889), где в заголовке дана еще одна любопытная нотация темы: «Три таинства прав человека». Поздняя, предельно смягченная версия приведена в конце «Оправдания добра» (гл. XIX, XX). Здесь Соловьев пишет: «Нормальная связь церкви и государства нашла бы для себя и существенное условие и наглядное, реальное выражение в постоянном согласии их высших представителей, первосвятителя и царя, причем второй полноту своей власти освящал бы авторитетом первого, а первый осуществлял бы свою авторитетную волю не иначе как через полновластие второго. <…> Всякие внешние обязательные ограничения в принципе, или идеале, несовместимы с верховным достоинством первосвятительского авторитета и царской власти. Но чисто нравственный контроль со стороны свободных сил народа и общества для них не только возможен, но и в высшей степени желателен. В древнем Израиле существовало третье верховное служение – пророческое. <…> Рядом с носителями безусловного авторитета и безусловной власти должны быть в обществе носители безусловной свободы. Такая свобода не может принадлежать толпе, не может быть атрибутом демократии. <…> Право свободы основано на самом существе человека и должно быть обеспечено извне государством. Но степень осуществления этого права есть именно нечто такое, что всецело зависит от внутренних условий, от степени достигнутого нравственного сознания. Действительным носителем полной свободы, и внутренней и внешней, может быть только тот, кто внутренно не связан никакою внешностью, кто в последнем основании не знает другого мерила суждений и действий, кроме доброй воли и чистой совести.
Как всякий первосвятитель есть только вершина многочисленного и сложного сословия священнослужителей, которыми он связан с полнотою мирян, как, далее, и царская власть осуществляет свое призвание в народе лишь чрез сложную систему гражданских и военных служений с их личными носителями, так и свободные деятели высшего идеала проводят его в жизнь общества чрез множество более или менее полных участников их стремлений»[137].
В такой редакции это учение, шокировавшее когда-то современников Соловьева, не выглядит абсолютно несовместимым с позицией Чичерина. Персонализм Чичерина опирается на идеал неприкосновенного ядра личности, из которого функционально проистекают и гражданское общество, и право, и мораль. С точки же зрения Соловьева, индивидуализм как таковой не может быть носителем высших истин: он обязательно будет подчиняться законам социального эгоизма, и поэтому необходим сверхчеловеческий ориентир, чтобы человек мог быть индивидуумом. Соловьев борется с двумя крайностями. С одной стороны, это крайность морального субъективизма; другая крайность, столь же опасная, это попытка найти счастье на земле, в социальной организации. Соловьев предлагает синтез: справедливость на земле есть организованное милосердие, которое не может быть организовано без власти, без меча, без авторитета императора. Страшной опасностью будет попытка государства выполнить позитивно-содержательную роль. Тогда будет нарушен принцип трех властей, государство возьмет на себя роль первосвященника, а это великий грех.
Чичерин также развивал идею примата правильно понятой государственности и настаивал не только на праве государства применять силу, но и на его обязанности это делать, при самом строгом запрете на применение силы какому-либо другому социальному субъекту. Он и Соловьев солидарны в том, что сила может быть применена, когда она бывает связана с законом, правом и духовным освящением; и этим они противостояли основному потоку русского политического сознания, распавшемуся в полемике по этой теме на две части: одна утверждала, что применять силу имеет право не только государство, но и класс, морально справедливая группа людей или партия; другая – что применять силу не имеет права никто (толстовство и т. п.). Формула Чичерина и Соловьева: монополия государства на применение силы. Конечно, природа государственной власти понималась ими по-разному, но эти две точки зрения не так уж трудно примирить, ибо чичеринскую концепцию права, как гарантию личностных свобод, можно вписать в нормативную деятельность императора в соловьевской триаде. (В трудах Вышеславцева и Ильина такое примирение было отчасти достигнуто.)
Не стоит сглаживать противоречия, так как перед нами все-таки две разные модели государства. Чичерин был твердо уверен, что реализовать его идеалы можно только в рамках развития либерализма под эгидой конституционной монархии. Все остальные варианты чреваты политическими опасностями, ибо не будет социальной гарантии защиты прав человека. Соловьев несколько ближе к славянофилам, он считает, что формальная демократия себя исчерпала и слепое следование ее схемам приведет к прямо противоположным результатам, поскольку вместе с крахом политического индивидуализма рухнет сама идея прав человека. Здесь позиции Соловьева и Чичерина непримиримы.
А.С. Ященко, один из самых последовательных апологетов правовой теории Соловьева, пишет: «Может быть, попытки практического осуществления теократического идеала и привели Соловьева, как некогда и Платона, к разочарованию; но сама идея, что политическая власть свой авторитет извлекает не от воли подчиняющихся ей, а от той цели разума и блага, которым она призвана служить, остается верной. Власть политическая обосновывается не на преходящей воле человеческой, а на божественном принципе нравственного совершенства. Только такая теократическая точка зрения дала возможность Соловьеву уйти от идейной убогости утилитарного и эгоистического демократизма, остаться независимым политическим мыслителем и подняться на истинно платоническую высоту политического созерцания, и мы не видим в произведениях Соловьева, чтобы у него когда-либо произошло крушение теократического идеала. Никогда он не оправдывал власть как волю многоголового зверя»[138].
Если отвлечься от слишком однозначной политической интерпретации Соловьева, то можно согласиться с замечанием автора: сближение нравственности и права в свете теократической модели предстает и как решение Соловьевым вопроса об источнике власти, и как система защиты от узурпации власти тем или иным «отвлеченным» началом. Такая радикальная связка права, морали и религии, несомненно, была чревата большим идейным риском, о чем и свидетельствует реакция современников. Но похоже, что элемент вызова (если не скандала) сознательно вводится Соловьевым в свой творческий арсенал, в чем-то дополняя и его стройные схемы, и его эпическое повествование, и тяготение к «золотой середине».
Косвенный свет на полемическую тактику правового дискурса у Соловьева бросает его теория сознания (в «Теоретической философии»). Здесь он также с азартом обрушивается на своих старых недругов: на позитивистский индивидуализм и славянофильский принцип общинности. По какому праву, восклицает он, можем мы спрашивать в философии «чье сознание?», предполагая, что нужно отдать сознание в частную или общинную собственность? Откуда догматическая уверенность в безотносительном и самотождественном бытии единичных существ? Доказывая в споре с Лопатиным (столь же мудрым и уравновешенным, как Чичерин), что сознание человека является «ничейным», что картезианство, кантианство и гегельянство привели к субъективистской узурпации «я», Соловьев также находится на грани скандала (и ереси), но зато поражает своего главного врага – смертоносную «отвлеченность».
И все же кажется, что этим спор Чичерина и Соловьева не исчерпывается. Есть в этой полемике еще какой-то пульсирующий «нерв», который беспокоил современников, пробуждал ощущение угрозы. Вообще восприятие Соловьева своей эпохой было, мягко говоря, неоднозначным. Вспышки гнева мы встречаем не только у Чичерина, Леонтьева, Толстого, чье оппонирование более или менее естественно. Взять, к примеру, заметки В.О. Ключевского по поводу одного выступления Соловьева, на которые обратил внимание в свое время А.В. Гулыга[139]. «Десертный оратор. Дон Жуан философии. <…> Не будит, а будирует мысль <…> Наполовину припадок неясной воспаленной мысли, наполовину риторическая игра словами»[140]. А в этом пассаже уже маячит образ соловьевского Антихриста из «Трех разговоров»: «В средневековом миросозерцании признавался Христос без христианства; в соловьевском новейшем – истинное христианство без Христа торжествует, созидаемое неверующими»[141].
В неприятии Соловьева современниками есть своя система, и один из ее моментов – реакция (у каждого своя) на осознанное принятие и исполнение Соловьевым своей роли, смысл которой он не озвучил, но эффект от которой заметен: почти для всех «равных» он оказался «чужим» (как сейчас – в статусе классика – почти для всех он «свой»). В контексте нашей темы можно обратить внимание на то, каким «чужим» оказалось его позиционирование по отношению к Канту: ведь кантовская философия права была для всех участников спора безусловной точкой отсчета. Правовому кантианству Соловьева в последние годы было посвящено несколько интересных работ, но, на мой взгляд, особо выделяется многоаспектный и яркий труд Э.Ю. Соловьева[142]. Автор с большой проницательностью выявил не всегда очевидные мотивы правовой мысли Соловьева, удачно очертил его особое место в либеральной традиции[143] и его критический пафос. Однако трудно вместе с автором увидеть в Соловьеве чистого кантианца[144]. Дело даже не в том, что кантианство у Вл. Соловьева было опосредовано гегельянством (а то и шопенгауэрианством). Важнее другое: и в тех случаях, когда Вл. Соловьев напрямую опирается на Канта, и в тех, когда он обращается к категорическому императиву, которому он был верен, как рыцарскому девизу, ощущаются какие-то особые «настройки», которые дистанцируют Вл. Соловьева от Канта[145]. Но и говорить о «непонимании» Канта Вл. Соловьевым было бы, пожалуй, опрометчиво.
Важную подсказку мы находим в книге Н.В. Мотрошиловой[146]. В разделе «Отношение к Канту в русской философии» разбирается борьба Вл. Соловьева со «скептицизмом» Канта, его понимание «вещей в себе» и его своеобразные коррективы к Канту. Обнаруженные здесь фигуры соловьевского метода чтения Канта и для нашей темы оказываются ключом. «Соловьев рассуждает последовательно не тогда, когда он, поправляя Канта, опирается на его же тезисы, а когда он решительно утверждает на месте символа вещей самих по себе совсем некантовское основание – „метафизическое существо“ как абсолютную основу всех явлений. Отсюда, как я полагаю, проистекает и решительность этой соловьевской замены, и очевидное беспокойство, что все вышло как-то „не по-кантовски“. У Канта „явление“ и „вещь сама по себе“ соотносительны лишь генетически. У Соловьева же они соотносительны принципиально, содержательно, категориально. Поэтому Соловьеву „удобнее“ сделать шаг назад к традиционному пониманию и „переименовать“ вещь саму по себе в „сущее в себе“. <…> Соловьев не замечает того, что он в известном смысле возвращается назад к докантовской постановке проблемы. Ведь для Канта проблема не в том для него ясном и приемлемом обстоятельстве, что через явление устанавливается отношение к другому <…>. Проблемой для Канта стало то, что иначе чем через явления мы никогда не можем установить это отношение, а значит вещи, как они есть сами по себе <…> никогда нам не даны.
Соловьев как бы снимает внутреннюю драму философии, следовавшую у Канта за его исходным трансценденталистским тезисом, – снимает тем, что учреждает изначальную прилаженность явлений и вещей самих по себе <…>. Это очень важно для теологически и онтологически ориентированной философии Соловьева. Но, по моему мнению, „преодоления“ Канта у Соловьева не происходит по той простой причине, что коренная, истинно кантовская, принципиально новая для философии проблема подменяется более традиционной для философии тематикой явления и сущности <…>. Внутреннюю драму философии, зафиксированную Кантом <…> Соловьев как бы снимает тем, что „благостно“ стирает все несоответствия, противоречия, догматические коллизии познания в гарантированном самой абсолютной сущностью ее „прямом и целостном“ самообнаружении»[147]. Отмеченный тут «шаг назад к традиционному пониманию» нельзя считать недоразумением (что подчеркнуто и автором). Здесь мы имеем дело с личной стратегией Соловьева. В каком-то смысле вся посткантовская философия была «шагом назад», но в каждом отдельном случае смысл этого реверса был различен: одно дело – отступление Фихте и Шеллинга (вооружившись новым методом – к истокам метафизики), другое – Фейербаха и Маркса (от ненужной сложности к соблазнительной простоте). Случай Соловьева весьма непрост. С одной стороны, он – вместе с эпохой – делает шаг от абстрактного к витальному[148], с другой – ставит под вопрос аксиомы самой эпохи. Это не только шаг назад (разумеется, не в версии Фейербаха etc.), но и шаг в сторону, к тем связям мышления с верой и делом, которые, может быть, уже – вне домена философии. Способ, которым Соловьев связывает право и нравственность, также принадлежит этой стратегии и в ее свете выглядит именно как антиномия. Антиномия права и нравственности заключается в феноменальности права и ноуменальности нравственности, и решается она Соловьевым, как положено антиномии, соединением взаимодополняющих миров в творческом действии. Как было показано, такое решение выглядит в свете классической культурной парадигмы Нового времени как тревожащий и рискованный эксперимент, но ведь и время этой парадигмы заканчивается. Вопросы, которые ставят сегодняшние планетарность человечества, проблемность морали и права, диверсификация культурных миров, заставляют заботиться о принципах будущей интеграции, в частности внимательнее всмотреться в коллизии спора, привлекшего наше внимание.
Культ и культура в творчестве Вячеслава Иванова
Проблема соотношения вероисповедной и светской культуры никогда не исчезала из сферы умственных забот не только церковных мыслителей, но и всех, кто так или иначе брал на себя ответственность за духовные судьбы христианского мира. Подводя в 1956 г. относительные итоги очередного цикла размышлений и споров об этой проблеме, прот. Георгий Флоровский так определяет основную антиномию: либо христиане должны выйти из мира, в котором, помимо Христа, царит другой хозяин, и создать отдельное общество, либо им надо преобразовывать внешний мир в соответствии с законом Евангелия[149]. Сам он, исходя из понимания акта божественного искупления как задания человеку продолжить и исполнить свою роль в творении, решал антиномию в пользу преобразования мира и культуры. За этим решением стояла выстраданная историческими испытаниями традиция русского богословия культуры. Об одном из самых идейно богатых элементов этой традиции – о культурфилософии Вяч. И. Иванова – хотелось бы напомнить.
Уже первыми публикациями Вяч. Иванов вместе со своим поэтическим голосом принес в культуру Серебряного века и новые идеи. Остро пережитая мыслителем проблема преодоления индивидуализма, поиски оснований для «вселенской общины», т. е. социума нового типа, и связанная с этим критика бюргерской культуры – весь этот идейный узел и вся его мучительная перекличка с национальным комплексом вины интеллигенции перед народом – оказались созвучными настроениям начала века и были выражены в статьях Иванова чеканными формулами. К тому же солидную опору в научных трудах Вяч. Иванова получили поиски реального взаимодействия церкви и культуры, организационно оформившиеся в университетских центрах к 1902–1903 гг. В отличие от смутных интуиций Дм. Мережковского, работы Иванова затрагивали действительные глубины европейской духовной истории и античной культуры, понимаемой как «ветхий завет язычников» (прежде всего в культе бога Диониса), и обнаруживали возможности синтеза умозрения и откровения. Существенным оказалось и то, что Вяч. Иванов сохранил в своих работах ценности славянофильства, боровшегося не с Западом, а с западничеством. Любовь к славянской архаике и вера в особое предназначение Руси сочетались в его поисках с осознанием единой судьбы мировой культуры вообще и христианского мира в частности.
В 1909 г. вышел первый сборник статей Вяч. Иванова «По звездам», который подводил итоги начального периода его теоретического творчества. В центре сборника оказались работы, посвященные новому пониманию символа. Ивановская теория символа и по своей исторической роли, и по объективному содержанию выходила далеко за рамки не только эстетики декаданса, но и литературно-эстетического направления в целом. Собственно, здесь были заложены основы мировоззрения нового типа, которое разветвилось в позднейших работах. Символ в понимании Иванова – это не аллегория как оболочка смысла, не понятие как точный знак или языковая условность, не произвольный образ фантазии, но – особый тип реальности, данный в двуединстве образа и смысла, причем так, что эти полюса не могут иметь самостоятельной значимости друг без друга, осуществляются друг через друга и нуждаются в особом типе сознания, которое могло бы стать местом их встречи и посредником. Такое понимание символа не допускало расплывчатого импрессионизма ни в восприятии, ни в мысли: вещь должна была постигаться и во внешней отчетливости, и во внутренней структурности. Но столь же недопустимой была остановка внимания лишь на потустороннем мире: вещь являет собой высший прообраз, который фактом явления и освещает и освящает ее.
Характерно, что уже в первом сборнике программа такого символизма прямо или косвенно увязана с рядом других тем. Отношение личности к личности, отражение «я» в «Ты», предчувствие «органической эпохи», которая должна сменить эру атомистической разобщенности, особая роль искусства в приближении этой эпохи – все названные темы естественно объединялись вокруг интуиции символической реальности. Один из любимых девизов философа – «от реального к реальнейшему!» – хорошо выражает суть этой концепции.
Наиболее весомые результаты философских размышлений Вяч. Иванова в послевоенный период собраны в двух изданиях: «Борозды и межи» (1916) и «Родное и вселенское» (1918). Здесь перед нами и публицистические заметки, и эстетические опыты, и эссе, и фундаментальные исследования по русской литературе. Но можно выделить и ведущую тему – это религиозное самоопределение народа и личности, их взаимообусловленный выбор перед лицом великих исторических потрясений. Эстетические мотивы в этих сборниках не отходят на задний план – слишком важна, по Иванову, преображающая и спасающая сила искусства, чтобы о ней забыть, – но они как бы вплетаются в действительность современной истории.
В это же время Вяч. И. Иванов создает два поэтических произведения, насыщенных философскими идеями: мелопею «Человек» (1915–1919, изд. в 1939) и трагедию «Прометей» (1915). Если «Прометей», при всей его литературной сложности, моноидеен (это трагедия ограниченной ценности действия и безусловной ценности жертвы), то «Человек» – одно из самых многослойных и глубоких литературных творений XX в. В его поэтических мифологемах сконцентрировано повествование и об истории человечества, и о драме индивидуальной души: дарованная человеку Богом способность сказать «я есть» может привести или к тупику самоутверждения, или к преображению тварной природы и обретению истинной свободы через утверждение «Ты есть», к которому приходит человек. Самообретение через самоотрицание ради Высшего – такова одна из главных идей мелопеи.
Важные плоды 1920–1921 гг. – «Переписка из двух углов», где в диалоге с М.О. Гершензоном даются емкие формулировки понимания смысла мировой культуры, и «Дионис и прадионисийство», где подводятся итоги многолетних исследований греческой трагедии. К этому времени, как можно заметить, уже окончательно складывается содержание культурфилософии Иванова и его понимание соотношения культа и культуры становится системно-целостным. Религиозный культ мыслится как сердцевина любого явления культуры, даже если исторические связи между ними по тем или иным причинам разорваны или забыты. В «Переписке из двух углов», возражая М.О. Гершензону, который сетовал на груз застывшей бесплодной культуры и призывал сбросить его, чтобы вернуться к личной вере и живой душевной жизни, Иванов утверждает, что культура становится оковами лишь при отсутствии веры, которая не только выводит за пределы культуры, но и сохраняет ее, поскольку способна оживить своей памятью культурные смыслы. «Человек, верующий в Бога, ни за что не согласится признать свое верование частью культуры; человек же, закрепощенный культуре, неизбежно сочтет последнее за культурный феномен <…> и никогда не согласится с верующим, что его вера есть нечто культуре внеположное, самостоятельное, простое и первоначальное, непосредственно связующее его личность с бытием абсолютным. Ибо для верующего его вера по существу отдельна от культуры, как отдельна от нее природа, как отдельна любовь»[150]. Сбросить груз культуры без динамики, которую задает вера, – это значит просто заменить один груз на другой, поскольку «…жить в Боге значит уже не жить всецело в относительной человеческой культуре, но некоею частью существа вырастать из нее наружу, на волю. Жизнь в Боге – воистину жизнь, т. е. движение; это духовное возрастание, лестница небесная, нагорный путь. <…> Без веры в Бога человечество не обретет утерянной свежести. Напрасно сбрасывать с себя устарелые одежды, нужно скинуть ветхого Адама»[151].
Именно в поисках формулы взаимного обогащения культа и культуры Вяч. Иванов построил свою теорию символизма, которая стала синтезом религиозных, экуменических, эстетических и философских поисков начала века. Как показала «Переписка из двух углов», символизм оказался гораздо более широкой основой для цельного мировоззрения, чем это можно было подумать о его ранних литературных формах: в эпоху распада связей и кризиса традиционных ценностей теория Вяч. Иванова раскрыла возможность, не закрывая глаза на действительность, увидеть высший смысл событий, объединяющий различные типы цивилизаций единым духовным стержнем. Конечно, мечта Вяч. Иванова об «органической эпохе» в значительной мере оказалась утопией, но связанная с этим критика индивидуализма и бюргерского гуманизма внесла свой вклад в выработку новой системы гуманитарных ценностей. Архаичный «байронический» индивидуализм с точки зрения этого подхода должен уступить место новому пониманию достоинств и предназначения человека. Та диалектика человеческого «я» и божественного «Ты», которую раскрывает Вяч. Иванов в поэме «Человек», по сути является положительной программой религиозного гуманизма в понимании мыслителя.
Чтобы лучше понять идею взаимопроникновения культа и культуры, стоит рассмотреть ее в контексте символистской концепции, выработанной Ивановым в эпоху сотрудничества с журналами «Аполлон» и «Труды и дни» (1910–1916). В докладе «Заветы символизма» Иванов писал: «„Внутренний канон“ означает внутренний подвиг послушания во имя того, чему поэт сказал „да“ <…> Поэт найдет в себе религию, если он найдет в себе связь. И „связь“ есть „обязанность“. В терминах эстетики связь свободного соподчинения значит: „большой стиль“. Родовые, наследственные формы „большого стиля“ в поэзии – эпопея, трагедия, мистерия: три формы одной трагической сущности. Если символическая трагедия окажется возможной, это будет значить, что „антитеза“ преодолена: эпопея – отрицательное утверждение личности, чрез отречение от личного, и положительное – соборного начала; трагедия – ее воскресение. Трагедия всегда реализм, всегда миф. Мистерия – упразднение символа, как подобия, и мифа, как отраженного, увенчание и торжество чрез прохождение вратами смерти; мистерия – победа над смертью, положительное утверждение личности, ее действия; восстановление символа, как воплощенной реальности, и мифа, как осуществленного „Fiat“ – „Да будет!..“»[152]
Для оппонентов Иванова – Брюсова, Городецкого и Мережковского, ориентированных на французскую «стихию» символизма, это выглядело покушением на свободу личного вдохновения поэта. Для гётеанца Иванова анархия вдохновения должна быть иерархически подчинена аристократической идее служения. Стоит обратить внимание на то, что диалектика символа, мифа и мистерии изображена Ивановым как развитие «большого стиля». Постулируя внутренний канон, он восстанавливает в правах и внешний канон, что также являлось совсем не тривиальным тезисом. В свое время идеологи Просвещения развязали войну против культуры рациональных канонов («риторической» культуры, как ее привыкли сейчас называть) в пользу культуры аффектов, предполагающей непосредственное и искреннее самовыражение. В конце XIX в. маятник качнулся в обратную сторону: идея формы и канона вновь стала видеться (немногим первопроходцам) как условие творческой свободы. Иванов, с его первоинтуицией союза аполлинийского и дионисийского начал, решительно защищает канон, в котором он усматривает способ выявления realiora в реальном. Поэтому он с чистой совестью отвергает обвинения в подчинении искусства религии. Он поясняет Городецкому: «Слово „религия“ употребляется в статье в смысле внутренней связи, находимой художником в своей личности и символичной в мире своих символов, а не в смысле извне принятого культа; но и в объясненном смысле религия принимается не как закон, сверху наложенный на творчество, а как имманентная искусству вообще, в символизме же еще и определенно выявленная душа художественного творчества»[153].
В статьях журнала «Труды и дни» Иванов эксплицирует эти идеи и доводит их до программных формулировок. Работа «Мысли о символизме» вместе с экскурсом «О секте и догмате» выстраивает аналогию истинного (т. е. не французско-декадентского) символизма с ортодоксальной верой и неистинного – с ересями, из коих две главные – ересь общественного утилитаризма (Мережковский) и ересь «искусства для искусства». Обе ереси суть отклонение от вертикали, связывающий Бога и Человека, уход к горизонтали, к плоскости поверхностного эстетизма и приземленного утилитаризма. В чем же «истина правого эстетического исповедания»? В том, что символизм должен быть утвержден, «как принцип всякого истинного искусства»[154].
Искусство, по Иванову, сбывается в случае отношения художественного объекта к двойному субъекту, творящему и воспринимающему; и потому от соучаствующего восприятия зависит, символическим ли станет произведение или нет. Символ (состоявшееся искусство) не отъединяет посвященных от профанов, а соединяет творца и захваченную, преображенную им публику: «…символизм – не творческое действие только, но и творческое взаимодействие, не только художественная объективация творческого субъекта, но и творческая субъективация художественного объекта»[155]. Иванов подчеркивает именно те духовные силы символизма, которые роднят его с религией: способность создать тип личности, открытый излучениям абсолютного; способность преодолеть как наивную веру в самодостаточность земного мира, так и стремление убежать из него в «башню из слоновой кости». «Символизм связан с целостностью личности, как самого художника, так и переживающего художественное откровение. Очевидно, что символист-ремесленник немыслим; немыслим и символист-эстет»[156].
В статье «Манера, лицо и стиль» идея внутреннего канона развернута в эстетическую доктрину, что позволяет с ее точки зрения провести диагностику духовных недугов современности. Иванов пользуется введенным Гёте различением между 1) простым подражанием природе; 2) манерой и 3) стилем. В манере проявляется индивидуальность творца, его личное восприятие явлений; в стиле познается объективное существо вещей. Стиль поднимает индивидуальность до точки зрения, доступной целому роду. Как положено в хорошей триаде, «3» является синтезом «1» и «2»: безликая имитация природы и субъективный произвол манеры возвышаются до единства в способности стиля индивидуально видеть всеобщее. В то же время «2» представляет собой творческую середину между «1» и «3», обогащяясь их энергиями.
Эту гётевскую концепцию Иванов существенно трансформирует. Он не принимает во внимание простое подражание природе, разбивая «2» и «3» на новую триаду. Первым шагом триады становится манера: нахождение собственного отличительного тона, внешнего своеобразия. Второй шаг – это обретение художественного лица. Здесь уже можно говорить о том, что художник нашел себя и сказал свое слово в искусстве. Но далее начинает действовать таинственная динамика: «Между найденным образом творческого воплощения и принципом формы внутреннего слова порой вскрывается неожиданная противоположность: морфологический принцип художественного произрастания может вести организм к непонятной ему самому метаморфозе»[157]. Этот импульс может привести к разным исходам: к превращению манеры в маньеризм, разрыву с искусством, переходу в запредельные области, граничащему с безумием. Сила, спасающая художника в его поисках нового морфологического принципа, – это стиль.
Иванов подчеркивает, что обретение стиля дается жертвой[158]. Для того чтобы найти лицо, нужно пожертвовать манерой; чтобы найти стиль, необходимо, хотя бы отчасти, отказаться и от лица, поскольку стиль – это объективная и опосредствованная форма, которая достигается преодолением тождества между личностью и творцом. Но и попытка напрямую, минуя способность живого лица к самоограничению, прорваться от манеры к стилю приводит к стилизации, так же как попытка остановиться на стадии манеры приводила к маньеризму. Достигнутый уровень стиля выводит художника в измерение объективного[159] и нормативного: «Для художника, обладающего стилем, существуют две данности: внешнего восприятия и внутренней реакции на восприятие; сам же он, поскольку художник, чужд обеих и свободно располагает тою и другой, не отожествляясь с собственным субъективным я. Его деятельность становится нормальною, поскольку он, отвергаясь единоличного произвола и уединяющего своеначалия, свободно подчиняется объективному началу красоты, как общей категории человеческого единения, – и вместе впервые нормативною, поскольку то, что утверждается в его творчестве, вытекая из подчинения общей норме, приобретает характер объективной ценности»[160].
Но и это еще не предел: своего рода энтелехией всего морфологического движения Иванов делает большой стиль, который «требует окончательной жертвы личности, целостной самоотдачи началу объективному и вселенскому или в чистой его идее (Данте), или в одной из служебных и подчиненных форм утверждения божественного всеединства (какова, напр., истинная народность)»[161]. Неспособность к большому стилю – это, утверждает Иванов, болезнь нашего времени. Его удел – эстетический анархизм, эклектизм, становление без цели. Автор иллюстрирует этот диагноз блестящим и точным пассажем о современной музыке. То же, считает он, можно отнести к ближайшему родственнику музыки – к лирической поэзии. Но – с существенной оговоркой: слово по природе своей не может быть алогично, поэтому здесь болезнь века иногда проявляется только в скрытой форме. Мы не докажем наличие в лирике явного психологического анархизма и атомизма, но можно выявить в ней «лицемерие бездушного эклектизма», порожденное все тем же отсутствием внутреннего принципа, стиля. «Чтобы избежать его, мы не знаем другого средства, кроме подчинения внутренней личности единому, верховному, определяющему принципу. Это есть внутренний канон. <…> При этом – пусть хорошо заметит читатель – под религией понимается не какое-либо определенное содержание религиозных верований, но форма самоопределения личности в ее отношении к миру и Богу»[162]. Имплицированные в понятии большого стиля требования народности и соборности получают, таким образом, окончательную религиозную характеристику.
Стоит также обратить внимание на опубликованный сравнительно недавно менее заметный, однако любопытный для понимания ивановской теории жанра и стиля документ, который можно отнести к 1913 г.[163]Иванов попытался ответить на резкий выпад критика, обращенный, видимо, против Андрея Белого и обвиняющий некоторых авторов журнала в «„штемпелеванной мистике“, застывшей в рациональных схемах». Реагируя на требование Брызгалова сохранить свободу искусства, исключить из поэзии все «догматическое», Иванов утверждает: «Вся история искусств учит нас, что искусство остается свободным как искусство, когда делается всецело ancilla religionis, и легко теряет свою свободу, когда художник ищет какой-то собственной религии, когда он хочет быть „свободным“ глашатаем, напр[имер], религии обществен [ного] равенства и братства, или морали; или других „идей“. <…> Тот, кто окончательно обрел свою веру, или миросозерцание, свой закон, или подчинился всецело, может не бояться за свободу своего искусства. Он будет постольку свободен, поскольку талантлив. Фидий не ищет своего божества, подобно Ксенофану или Анаксагору. Он находит описание Зевса у Гомера, вдохновляется им, как это было бы невозможно неверующему, и соединение гения с верой делает то чудо, что, простой исполнитель заказа из Олимпия, он создает прототип Зевса равно для искусства и для религии. Это ли не свобода искусства? Это нечто большее, нежели свобода: это его самодержавная власть»[164].
Далее автор несколько отвлекается от полемики и «обращается к друзьям» с «вполне назревшим» вопросом: умещается ли в символизме символика? Под символикой понимается «запас статич[еских] и как бы кристаллизованных] символов, исторически связанных с известными величинами определенной] догматической системы»[165]. Вот его ответ: «Символика относится к свободному мистическ[ому] символизму, как священство к пророчеству. То и другое имеют дело с тайнами, но тогда как первое их хранит, другое надеется овладеть ими; то глядит назад, это вперед. Между ними не мыслимо только восполнитель[ное] соединение], но и желательно. Об этом свидетельствуют все великие произведения мистико-символ[ического] искусства»[166]. Брызгалов призывает избегать профанации религиозных символов и разделить сферы искусства и веры. Иванов, как видим, стремится сохранить связку художественной и сакральной сферы, утверждая нераздельность формы и содержания. «Если церковь или данная доктри[на] дают тем или иным художникам догматы и символику, даже, наконец, налагают на них начало догматико-символического авторитета, они могут сочетать эту символику со своим свободным символизмом, не изменяя искусству. Все дело в том, как они это сделают. И фальшь будет сказываться только в дурном художественном] выполнении, в неорганическом] слия[нии] формы и содержания. <…> Символика не есть фальсификация символа. Фальсификация символа есть его извращение. Фальсификация] в символизме есть кощунство. Черная месса – максимум символической фальсификации. Всякая же мертвенность худож[ественного] созда[ния] не есть фальсификация символа, а просто плохое искусство. <…> Оставим содержание в покое; будем требовать одного: органического] синтеза формы и содержания»[167].
Приведенные материалы – и теоретические, и полемические – интересны еще и тем, что Иванов здесь раскрывает сакральную энергию культуры изнутри эстетической сферы, собственно, не выходя за ее пределы. Но тем более убедительны его возражения против стремления расщепить культуру на самодостаточные элементы и поместить религию в один из таких сегментов. Совсем не случайно то, что идейными союзниками Иванова оказываются деятели позднего Просвещения и романтизма: именно в эту эпоху появляются первые опыты возвращения культуре ее культовых корней и ей соответствует примечательная черта Серебряного века – поиски духовного родства. Пожалуй, она отличает его даже от «золотого» пушкинского, который более уверенно чувствовал себя среди европейской родни и свои первые грезы о всемирной миссии России прямо заимствовал из общеевропейского арсенала идей – из романтической философии. Теперь же, в начале XX в., сам кризис европеизма подсказывал, что выход из тупика надо искать в возвращении к каким-то забытым первоначалам, память о которых хранится скорее у «провинциалов», чем у «авангарда».
Неудивительно, что среди духовной родни Серебряного века снова оказались немецкие романтики. Сближал характер эпохи: атмосфера революции и общеевропейской войны (хотя последовательность явления этих братьев-демонов была разной). Сближало чувство пробуждения древних символов и мифов, предчувствие нового понимания христианства. Оба движения в основе имели своего рода эстетическую революцию, и оба прежде всего сформировали беллетристическое сознание как зерно, из которого выросли и художественные, и политические, и религиозные ценности. Оба феномена сходны и своим восстанием против бюргерства или (если употребить более привычное, но провоцирующее идейную путаницу выражение) своей антибуржуазностью. Из этого корня растет интерес к сверхличностному и доличностному, к аристократическому героизму, но также к стихийному, бессознательному, народному… И отсюда же – интерес к архаическим или маргинальным формам общности людей, будь то крестьянская община, эстетский кружок или революционное подполье. Наконец, интерес к Мифу, который больше, чем бюргерское Понятие, подходил для роли соборного объединителя человечества.
Показательна в этом контексте статья Иванова «О Новалисе» (1913?), которая наметила поворот к аксиологическому переосмыслению Средних веков в свете нового религиозного осмысления культуры. Своего рода средним звеном – и хронологически, и по существу – между йенцами и русскими мыслителями оказался Ницше. Новалис как бы предчувствует Ницше и формулирует против его идей впечатляющие заклинания (их цитирует в своей статье Вяч. Иванов); Иванов же, опираясь на интуиции Новалиса, преодолевает Ницше через переосмысление его дионисийства. В статье Иванова поучительна сама по себе манера прочтения Новалиса: с удивительной чуткостью Иванов видит «свое» и додумывает за Новалиса многие мысли, которые напрямую не вычитываются из текста, но, будучи выраженными в слове читателя-комментатора, возвращаются в текст источника на правах его органичного смыслового ответвления.
Например, проблема индивидуума (которая не была столь важной для Новалиса, но чрезвычайно волновала Иванова), благодаря интерпретирующему пересказу Ивановым идей Новалиса, показывает свою действительную эволюцию от неявных предпосылок критики замкнутого в себе «я» у романтиков – к трагедии расщепленного культурой сознания, пережитой
XX в. Интересно и то, как Иванов-интерпретатор проецирует содержание своих написанных или зреющих произведений («Анима», «Человек») на текст Новалиса, избегая при этом как смешения смысловых пластов, так и разноголосия. Программа спасения европейского духовного наследия, изложенная Ивановым в полемике с Гершензоном, с ее принципом истолковывающего преемства, нашла в статье о Новалисе необычайно выразительную форму воплощения. Иванов подчеркивает, что, в отличие от созерцательности Гёте, Новалис характерен действенностью своего идеала. Идеал этот – творчество как теургия. Культура в таком случае приобретает евхаристический смысл, поскольку приобщает падшую часть творения к божественным смыслам. Новалису удалось «наметить первые пути такого мистического сознания, которое, основываясь на цельном самоутверждении свободной личности, позволяет ей расти корнями в лоно Мировой Души, а ветвями в Небо, которое сочетает имманентное богочувствование вселенского тела с положительной религией трансцендентных человеку сущностей, которое, стремясь к браку Христа с личной Душой, молится о браке Его с Землею и заставляет верить, что, хотя в отдельные, отмеченные мгновения, вспыхивает мистическая Роза на Кресте Земли»[168].
Стоит пояснить, что в теоретической лексике Иванова концепты «Земли» и «Тела» означали не только природное и витальное начала, но зачастую и культуру как овеществленную часть истории духа; своего рода плоть, подверженную (как и всякая плоть) риску утраты изначально гармоничной связи с душой и духом[169]. В данном очерке не случайно было акцентировано стремление Иванова найти идейных союзников в былых эпохах. Дело в том, что его учение о неразрывности культа и культуры предполагает исключительную роль Памяти в восстановлении утраченных связей, что и осуществляет Иванов, обращаясь к духовным коллизиям XVIII–XIX вв. Вряд ли есть еще в русской поэзии и философии такая, как у Иванова, концентрация на анамнесисе, на платонически понимаемой Памяти. Вяч. Иванов делает понятие анамнесиса едва ли не центральным в своем учении о «предвечной памяти Я», посредством которой Нетварная Премудрость учит человека превращать средства вселенской разлуки – пространство, время и инертную материю – в средства единения и гармонии[170]. Анамнесис позволяет Иванову опереться на тех деятелей позднего Просвещения и романтизма, которые стремились снять антиномию разума и аффектов, восстановив интегральную роль культа. Мы видим, что идея «внутреннего канона», выдвинутая Ивановым, работает так же, как гётеанские модели «стиля» и «эпической поэмы», как теургийный «магический идеализм» Новалиса. В русской культуре несомненным союзником Иванова оказывается Пушкин, что показано в анализе «романа в стихах», предпринятом великим символистом[171]. Жанр, открытый Пушкиным, трактуется Ивановым как цельный символ мироустройства, сверенный с «внутренним каноном». Представляется, что не только непосредственное содержание мыслей Иванова о культе и культуре, но и его герменевтический метод «припоминания» об идейных предках могут быть вполне актуальными.
Мир как театр в сознании серебряного века
Метафора «мир – это театр» представляется сейчас настолько естественным ходом воображения, что ее проще отнести в разряд тривиальностей, чем сделать предметом специального изучения. Между тем она – как и всякий образ, моделирующий устройство универсума, как своего рода фрактальная метафора, усматривающая целое в части, – имеет свою неординарную историю, в которой отражается ментальный стиль той или иной эпохи. Так, в художественном сознании Серебряного века происходит своеобразная инверсия этого символа. Театр начинает рассматриваться как лаборатория, моделирующая жизненные стратегии, а театрализация самой жизни – как способ жизнестроительства. Перевернутая таким образом метафора служит одним из способов размежевания эстетики и практики театральных миров в России начала XX в.
Для того чтобы детализировать и аргументировать это положение, рассмотрим вначале различные аспекты нашей «театральной метафоры» в античной культуре, обратившись к исследованию А.А. Тахо-Годи[172]. В работе выделены несколько модификаций модели игры как объяснения космической и человеческой жизни. «Во-первых, это стихийная, неразумная игра вселенских сил, изливающая преизбыток своей энергии на человеческую жизнь, входящую в общий природный круговорот мировой материи. Во-вторых, жизнь универсума и человека есть не что иное, как сценическая игра, строжайше продуманная и целесообразно осуществленная высшим разумом. Обе эти тенденции не исключают одна другую, а сосуществуют вместе, корригируют друг друга, часто нерасторжимы и даже тождественны. Доказательством их слиянности является роль Случая-Тюхе, апофеоза алогичной стихии и вместе с тем божественного, неведомого людям замысла, который блистательно разыгрывает театральные представления (правда, только в плане человеческой жизни, личной и общественной), не смея конкурировать с трагедией, поставленной на бескрайних просторах сценической площадки вселенной космическим демиургом»[173].
Здесь мы встречаем по крайней мере три уровня своеобразной театральности: играющие стихии космоса, трагедийная постановка демиурга и театр случая. Как показано у А.А. Тахо-Годи, эти три уровня взаимопроникающе связаны. Так, космический масштаб смеха гомеровских олимпийцев, по сути, играет роль аплодисментов после развязки поставленных ими же земных драм. Гераклит говорит об игре ребенка-Диониса, вовлекающего в свою забаву весь космический «век»[174]. «Кукольный театр» Платона и политические перформансы его утопии также выражают не только режиссуру власти, но и справедливую иерархию бытия. Здесь, впрочем, мы видим конфликт идеальной драмы и реальной жизни: «…человеческая трагедия, разыгрываемая в наилучшем из государств, несоизмерима с трагедией, созданной искусством. Эта последняя изгоняется из гражданского обихода, что Платон находит вполне естественным, ибо трагедия жизни выше трагедии вымысла»[175]. Платон беспощаден к драматургам: они прямые конкуренты власти, поскольку истинная трагедия может быть воплощена только на одной сцене – в действительной жизни.
Тюхе оказывается посредницей между безличным организмом космоса и справедливостью идеального полиса, но весьма показательно, что исполняется это посредничество в театрализованной форме, в виде трагикомедии случая. Этот гештальт европейская культура сохраняла с удивляющей непрерывностью – от Фортуны, нашедшей у Данте место в христианском мироздании[176], до гегелевской «хитрости Разума» (List der Vernunft).
Чего мы не встречаем в составе античной театральной метафоры, так это способности человека самому создавать драматический «текст»: и фабулы, и маски уже даны божественным хорегом. Что-то новое, не вполне «античное», пожалуй, чудится в поведении Нерона. Говоря о художественно-артистической деятельности Нерона, Г.С. Кнабе замечает: «Все это не исчерпывалось бытовыми обстоятельствами или литературными вкусами, но было сознательно создаваемой идеологией, единым строем жизни и культуры, получившим в исследовательской традиции наименование „неронизма“». «Поддержка оказывалась в основном римскому городскому плебсу, люмпенизированному и готовому в обмен способствовать той зыбкой атмосфере легкомысленно скандального произвола, то веселого, то жуткого, которую распространял Нерон. Атмосфера эта призвана была воплотить новую систему ценностей, которой, по замыслу Нерона, надлежало сменить традиционно римскую». Ключевое понятие новой системы, по Г.С. Кнабе, выражалось греческим словом «агон» – состязание. «Агональная реформа» Нерона создавала новый социальный мир: «постоянно появляясь перед бесчисленными толпами, неизменно выходя победителем из любого состязания, увенчанный всеми возможными и невозможными венками и наградами, Нерон все больше превращался в глазах народа в царя и бога, носителя власти сакральной и абсолютной»[177]. Альтернативная театральность Нерона нотирует появление новой (пока – эксцессивной) версии тождества театра и жизни, но очевидно и то, что ее «культурное время» еще не пришло.
Эпоха модернитета вновь востребовала древнюю гному о театре. Показательно, что Новое время трижды оживляет к ней интерес: в начале, в середине и в конце формирования своей культурной парадигмы. Сначала это рефлексия маньеризма и барокко, достигающая пика у Шекспира и Кальдерона[178]. Затем – театрально-педагогические утопии Лессинга, Гердера, Гёте и Шиллера. В них театральная игра становится лабораторией реальной культуры и школой жизни[179]. Поворот символистской эпохи от позитивизма к метафизике дает третий импульс старой метафоре. Эдмон де Гонкур пишет в 1879 г.: театральное искусство «обречено на то, чтобы самое большее лет через пятьдесят сделаться грубым развлечением, не имеющим ничего общего с литературой, стилем, остроумием, и превратиться в нечто такое, что займет место среди упражнений дрессированных собак и выступлений марионеток, произносящих тирады. Через пятьдесят лет книга убьет театр»[180].
Однако именно в это время театр оказывается в числе наиболее чутких к новому веянию видов искусства. Столкновение позитивизма и метафизики привело – среди прочего – к открытию смыслопорождающего действия. На заре Нового времени театр участвовал в создании культуры субъект-объектного мира. Структурированное в этом процессе театральное пространство – оцепеневший в созерцании темный зал, один на один, без хора, без мифа, перед освещенной сценой – вполне отвечало программе модернитета. Теперь Созерцание столкнулось с Событием, и театр самой своей природой оказывается призванным к художественному оформлению этой коллизии. Символическая среда последней трети XIX в. была насыщена подобными конформатами, но специфика театра в контексте времени была в том, что новое переживание принципа театральности опережало реформу собственно театра: вживание в архаические и экзотические культуры, легко переходящее в игру эпохами и стилями; переосмысление античной трагедии у Ницше; театрализация романа у Достоевского; мистериальная опера Вагнера; наконец, театрализация политики, впервые опробованная европейским гражданским обществом… Естественно, что рефлексия о новой театральности приходит позже – таков закон «совы Минервы», но зато театроведческая мысль имеет дело уже не с домашними проблемами эстетики, а с анализом эпохального сдвига культуры.
Для Серебряного века формула «мир – это театр» может служить одним из индикаторов выявления более общих интуиций. Ниже избраны и представлены те ее преломления, которые кажутся наиболее «говорящими». В значительной мере тема была инициирована Вяч. Ивановым: прежде всего его трактовкой мифа о Дионисе и его пониманием сущности греческой трагедии. В статье «Предчувствия и предвестия» (1906) он утверждает, что театр должен перестать быть «зрелищем». «Театральная рампа разлучила общину, уже не сознающую себя, как таковую, от тех, кто сознают себя только „лицедеями“. Сцена должна перешагнуть за рампу и включить в себя общину, или же община должна поглотить в себе сцену. Такова цель, некоторыми уже сознанная; но где пути к ее осуществлению?»[181]
Для Иванова «перешагнуть рампу» значит не просто создать коллективную субъектность переживания (как это делали еще режиссеры праздников Французской революции) или вовлечь зрителя в игру-импровизацию (как это делал романтический театр). Речь идет о способе высвобождения репрессированной стихии мифа и превращении ее в особый тип прямого действия. «Нет сомнения, что будущий театр, каким он нам представляется, оказался бы послушным орудием того мифотворчества, которое, в силу внутренней необходимости, имеет возникнуть из истинно символического искусства <…> Поэтому божественная и героическая трагедия, подобная трагедии античной, и мистерия, более или менее аналогичная средневековой, прежде всего ответствуют предполагаемым формам синтетического действа. Но формы эти более гибки, нежели то может казаться с первого взгляда. Политическая драма всецело вливается в них и даже впервые чрез них приобретает хоровой, т. е. в символе всенародный, резонанс»[182]. Иванов видит в мистериальном театре путь к преображению политической (вне мистерии – профанной и опасной) стихии. При этом он специально подчеркивает политические (или, точнее, метаполитические) смыслы этого деяния. «И только тогда, прибавим, осуществится действительная политическая свобода, когда хоровой голос таких общин будет подлинным референдумом истинной воли народной»[183].
Между тем эстетические смыслы приглушаются или вовсе берутся в скобки. «Эти изменения, несомненно, предполагают отречение сцены как от бытового реализма, так в значительной степени и от вожделений театральной „иллюзии“. <…> Кажется, и бытовой реализм, и сценическая иллюзия уже сказали свое последнее слово, и их средства до дна исчерпаны современностью. Во всяком случае, предвидя новый тип театра, мы не отрицаем ни возможности, ни желательности сосуществования других типов, как уже известных и нами использованных, так и иных, еще не развившихся из устарелых или стареющих форм»[184]. Иванов таким образом отстраняется от столь актуальных для того момента стилевых споров. Вслед за Брюсовым он считает «ненужной правдой» веризм Станиславского, но и символизм рассматривает лишь как материал для будущего «синтетического действа». Борьба с отвлеченной художественностью и «либерализмом форм» становится одним из лейтмотивов его театрального дискурса[185].
Позже Иванов в статье «Эстетическая норма театра» (1916) даст этому метафизическое обоснование: «Театр внеположен эстетике. Эстетика имеет дело с одною красотой. Добро и истина, две другие ипостаси святого единства, имманентно соприсутствуют истинному сиянию красоты, но их выявление не относится к сфере эстетической. В театре открыто выявляется вся триада, потому что театр не ограничивается определенною категорией форм, но имеет своим художественным материалом целостный состав человека и стремится к произведению целостного события в некоей совокупности душ. Красота утверждается в нем, как в художественном произведении; истина в непререкаемом логизме действа, – логизме, без которого действа вовсе нет, а есть только забава и праздное зрелище. Наконец, всякое творческое слияние душ может совершаться лишь на почве добра»[186].
В этой сверхэстетичности Иванов видит исключительность театра и его историческую миссию, тогда как эволюцию романа, при всей ее эпохальной значимости, он оставляет в измерении искусства: «…роман дожил через несколько веков новой истории и до наших дней, всегда оставаясь верным зеркалом индивидуализма, определившего собою с эпохи Возрождения новую европейскую культуру <…> но роман будет жить до той поры, пока созреет в народном духе единственно способная и достойная сменить его форма-соперница – царица-Трагедия, уже высылающая в мир первых вестников своего торжественного пришествия»[187]. Это рассуждение Иванова позволяет ретроспективно понять и несколько загадочный гегелевский мотив «конца искусства»: в обоих случаях речь идет об исчерпании в романе (в «буржуазном эпосе») эпохи индивидуализма и приходе эпохи практического коллективного действа (только Гегеля эта мысль не приводит в дионисийское опьянение). Еще одна перекличка с Гегелем напрямую выводит нас к метафоре «мир – театр». В работе «О существе трагедии» (1912) Иванов на языке диалектики определяет итоговый смысл трагического: «Целью искусства диады будет показать нам тезу и антитезу в воплощении; перед нашими глазами развернется то, что Гегель назвал „становлением“ (Werden); искусство станет лицедейством жизни»[188].
Иную версию отождествления жизни и театра дает А. Белый. Во многом она сформирована полемикой с Вяч. Ивановым[189]. В статье «Театр и современная драма» (1908) Белый с неожиданной трезвостью выступает против мистериального театра. «Когда же нам говорят теперь, что сцена есть священнодействие, актер – жрец, а созерцание драмы приобщает нас таинству, то слова „священнодействие“, „жрец“, „таинство“ понимаем мы в неопределенном, многомысленном, почти бессмысленном смысле этих слов. Что такое священнодействие? Есть ли это акт религиозного действия? Но какого? Перед кем это священнодействие? И какому богу должны мы молиться? Приглашают ли нас вернуться к тем примитивным религиозным формам, из которых развилась драма, или нет, все это остается покрытым мраком неизвестности»[190].
Это простое, в сущности, соображение радикально меняет перспективу понимания театральности: мистерии не нужно изобретать, поскольку существует невыдуманная церковь, но жизнь можно осмыслить и преобразить театральностью. Статья, собственно, и начинается с описания сущности драмы как стихии, неизбежно перерастающей в жизнь. «Воображение соприкасается с жизнью: жизнь становится воображением, воображение – жизнью. Форма искусства стремится здесь расшириться до возможности быть жизнью и в буквальном, и в переносном смысле слова»[191]. «Самую жизнь должны претворять мы в драму»[192]. Здесь общесимволистский принцип жизнестроительства приобретает некоторую весомость и конкретность: ведь содержание драмы в этом случае не безличный миф с его непредсказуемостью и непрозрачностью по отношению к единичному лицу, а личная судьба, выстраиваемая ответственным автором. Однако очевидна и цена такой метаморфозы принципа «театр – жизнь»: это отказ от интегральной силы мифа и возвращение то ли к ненавистному «буржуазному» индивидуализму, то ли к механическому коллективизму.
Еще одна версия темы, заметно отстоящая от первых двух, задана М. Волошиным в его статьях «Организм театра» (1910) и «Театр как сновидение» (1912). Для Волошина в триаде элементов театра «актер – поэт – зритель» ключевой фигурой является зритель: «Противоположные устремления драматурга и актера должны быть слиты в понимании зрителя, чтобы сделаться театром. Зритель – такое же действующее лицо в театре, как и они. От его талантливости и от его бездарности всецело зависят глубина и значительность тех тез и антитез, широта тех размахов маятника, которые он может претворить и синтезировать своим пониманием»[193]. «Театр осуществляется не на сцене, а в душе зрителя. Таким образом, главным творцом и художником в театре является зритель»[194].
Характерно, что идее режиссерского театра Волошин противопоставляет критику режиссерской гипертрофии: «Режиссер по своему положению в театре является носителем замысла драматурга, руководителем творчества актера и пониманием идеального зрителя. Он тот, для кого театр является таким же простым искусством, как лирика для поэта и картина для живописца. Он объединяет в себе триаду театра. Поэтому в эпохи процветания театра, т. е. полной гармонии элементов, режиссер не виден <…>
Но если начинается разлад между зрителем, актером и автором, то режиссер силою вещей выдвигается на первое место. <…> Нервность, изобретательность и талантливость современных режиссеров больше, чем все иные признаки, свидетельствуют о разладе театра»[195].
Тайну зрительского творчества Волошин видит в особом рецептивном состоянии, которое он отождествляет со сновидением. «Театр – это сложный и совершенный инструмент сна. История театра глубоко и органически связана с развитием человеческого сознания. Сперва кажется, что с самого начала истории мы застаем человека обладающим одним и тем же логическим – дневным сознанием. Но мы знаем, что был же когда-то момент, когда „обезьяна сошла с ума“, чтобы стать человеком. Космические образы древнейших поэм и психологические самонаблюдения говорят о том, что наше дневное сознание возникло постепенно из древнего, звериного, сонного сознания. Грандиозные, расплывчатые и яркие образы мифов свидетельствуют о том, что когда-то действительность иначе отражалась в душе человека, проникая до его сознания как бы сквозь туманную и радужную толщу сна. <…> Основа всякого театра – драматическое действие. Действие и сон – это одно и то же»[196].
В самом деле, психология знает, что сознание и действие находятся в своего рода обратной зависимости. Волошин делает следующий ход: чистое действие требует выключения сознания, т. е. погружения в сновидение. Здесь и сокрыта великая очистительная сила искусства: оно «перемещает реальности» и позволяет освободиться от звериных импульсов в измерении воображения. Это, казалось бы, близко ритуальному очищению ивановского мистериального театра, но субъект очищения диаметрально противоположен соборному человечеству Иванова. У Волошина это коллективное подсознание, которое видит катартические сны. (Беда русской театральной культуры, по Волошину, в том, что она не «доросла» до своих снов и видит чужие.)
В свете этой теории Волошин предрекает великое будущее кинематографу как силе, очищающей от главной болезни века – от пошлости повседневности. «Эта сторона очистительных обрядов всегда останется за кинематографом. Но когда власть над сновидениями всех городов Европы перейдет из рук Патэ и Гомона <…> в руки предпринимателей более изобретательных, художественных и безнравственных, то у кинематографа откроются новые возможности. Он сможет воскресить искусство древних мимов и освободить старый театр от бремени мелкого очистительного искусства фарсов, обозрений и кафешантанов, которое ему пришлось принять на себя в городах. Тогда для театра драматического останется прежняя его область сновидений воли и страсти. С этой точки зрения значение кинематографа может быть благодетельно для искусства»[197]. Пожалуй, из всех театральных пророчеств Серебряного века сбылось именно это.
Наконец – версия Н. Евреинова, которая вобрала в себя многое из того, о чем шла речь. Слово «жизнь» в нашей формуле Евреинов истолковывает с космологической широтой. «Человеку присущ инстинкт, о котором, несмотря на его неиссякаемую жизненность, ни история, ни психология, ни эстетика не говорили до сих пор ни слова. – Я имею в виду инстинкт преображения, инстинкт противопоставления образам, принимаемым извне, образов, произвольно творимых человеком, инстинкт трансформации видимостей Природы, достаточно ясно раскрывающий свою сущность в понятии „театральность“»[198].
Евреинов выводит «инстинкт трансформации» из самой биологической реальности, из природы живого (посвящая много страниц и целые труды рассмотрению театральности в мире животных и растений). Поэтому для него нет проблемы создания нового театра. Театр не надо выдумывать, он уже есть, и надо только отдаться стихии игры (что, впрочем, нетривиальная задача в мире культуры, где, не устает возмущаться Евреинов, от театра все время требуют, чтобы он был чем-то другим). «Преэстетизм театральности – вот лозунг, одним ударом сталкивающий с мели тонкой эстетики застрявший корабль нашего театра вместе с экипажем, завороженным песнями ее предательских сирен <…> И какое мне (черт возьми!) дело до всех эстетик в мире, когда для меня сейчас самое важное – стать другим и делать другое, а потом уже хороший вкус, удовольствия картинной галереи, подлинность музея, чудо техники изысканного контрапункта!..»[199]
Призыв «отеатралить жизнь» не стоит, однако, полностью отождествлять с духом карнавала, охватившим какую-то часть Серебряного века. Действительно, эта стихия дала невероятное разнообразие театрализованных форм коммуникации[200]. Но Евреинова интересует бытийно-природная первооснова, доэстетическая субстанция театра: «…именно в эволюции человеческого духа развитие чувства театральности постоянно предшествует развитию эстетического чувства. Этому учит нас история культуры, это именно подсказывает нам и анализ обоих чувств, в результате которого признание большей тонкости и сложности остается за эстетическим чувством. <…> Театральное искусство уже потому преэстетического, а не эстетического характера, что трансформация, каковой является по существу театральное искусство, примитивнее и доступнее, чем формация, каковой по существу является эстетическое искусство. И я думаю, что в истории культуры именно театральность была некоего рода пред-искусством, понимая последнее в общепризнанном смысле»[201].
Евреинов здесь утверждает онтологию игры, пожалуй, даже более радикально, чем Хёйзинга. Ведь у Евреинова театральная игра – не ослабленный вариант серьезного дела, а его метафизический источник, поскольку в основе жизни в широком смысле лежит способность к трансформации. Евреинов, со свойственным ему пафосом безоглядной и безответственной игры, выглядит большим индивидуалистом, чем другие совопросники Серебряного века. Но ведь можно увидеть здесь и крайний радикализм поклонения метаморфозам природной стихии, и радикальную свободу от социальных масок… Зыбкость границ и позиций – вполне в духе той эпохи. Во всяком случае, мотто Евреинова «Не быть самим собой!» – это не бюргерский индивидуализм.
Четыре рассмотренных здесь толкования метафоры «жизнь – театр» выглядят как оппозиции, но можно увидеть и корневую интуицию: если классическая версия оценивает мир с оттенком субмиссии, говоря, что мир это всего лишь театр, то Серебряный век склонен к сублимации; это настроение ближе Плотину с его пафосом воплощения Блага[202], но в целом оно далеко и от античной статики, и от барочной динамики. Театральная сущность жизни и культуры, усмотренная мыслителями Серебряного века, дает им надежду стать творцами своей самости и своей истории, а не исполнителями от века предначертанной драмы.
«Вехи» о религиозном смысле культуры
Публицистическая критика, встретившая «Вехи» шквалом откликов и оценок, с самого начала отметила неслучайность замысла и композиции сборника, его стремление к системности и полноте «покаяния» как в отношении отрицания, так и в отношении утверждения идеалов. Обращали внимание даже на символичность семерки – числа авторов, представляющего своего рода полноту спектра. Так, А. Пешехонов репрезентирует сборник следующим словами: «Г. Бердяев взялся опорочить русскую интеллигенцию в философском отношении. Г. Булгаков должен был обличить ее с религиозной точки зрения. Г. Гершензон принял на себя труд изобразить ее психическое уродство. Г. Кистяковский взялся доказать ее правовую тупость и неразвитость. Г. Струве – ее политическую преступность. Г. Франк – моральную несостоятельность. Г. Изгоев – ее педагогическую неспособность»[203]. Дм. Мережковский в газетной статье «Семь смиренных» пишет: «Для Бердяева спасение русской интеллигенции в „религиозной философии“; для Франка – в „религиозном гуманизме“; для Булгакова – в „христианском подвижничестве“; для Струве – в „государственной мистике“; для Изгоева – в „любви к жизни“; для Кистяковского – в „истинном правосознании“; для Гершензона – в старании сделаться „человеком“ из „человекоподобного чудовища“»[204].
Тема культуры также является для «Вех» одним из ключевых лейтмотивов, и – в манере цитированных критиков – идейный спектр «Вех» можно было бы представить следующим образом: Бердяев видит смысл культуры в служении абсолютной ценности; Булгаков призывает беречь религиозные корни культуры; Гершензон видит спасение культуры в восстановлении творческого личного самосознания; Кистяковский отстаивает формальные аспекты культуры; Струве выявляет мистические аспекты культурных институтов; Франк защищает объективные ценности культуры от нигилизма; Изгоев подчеркивает жизнеутверждающую сущность культуры.
«Вехи», проникнутые историко-эсхатологическими предчувствиями, пытаются вернуть понятию «культура» утраченное религиозное измерение. Развернутые формулировки дает С.Л. Франк: «<…> русскому интеллигенту чуждо и отчасти даже враждебно понятие культуры в точном и строгом смысле слова. <…> Русскому человеку не родственно и не дорого, его сердцу мало говорит то чистое понятие культуры, которое уже органически укоренилось в сознании образованного европейца. <…> Это понятие опять-таки целиком основано на вере в объективные ценности и служении им, и культура в этом смысле может быть прямо определена как совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей. С этой точки зрения культура существует не для чьего-либо блага или пользы, а лишь для самой себя; культурное творчество означает совершенствование человеческой природы и воплощение в жизни идеальных ценностей и в качестве такового есть само по себе высшая и самодовлеющая цель человеческой деятельности. Напротив, культура, как она обычно понимается у нас, целиком отмечена печатью утилитаризма. <…> Но исключительно утилитарная оценка культуры столь же несовместима с чистой ее идеей, как исключительно утилитарная оценка науки или искусства разрушает самое существо того, что зовется наукой и искусством»[205].
Франк полагает, что утилитаризм и вытекающая из него духовная нищета жизни убивают «инстинкт культуры»; культура воспринимается как «метафизический антипод» тому, что автор называет нигилистическим морализмом (имея в виду абсолютизацию земных интересов и превращение их в квазимораль, квазирелигию). Тем самым делается необходимостью не просто отрицание культуры, но активная война с ней: «<…> борьба против культуры есть одна из характерных черт типично русского интеллигентского духа; культ опрощения есть не специфически толстовская идея, а некоторое общее свойство интеллигентского умонастроения, логически вытекающее из нигилистического морализма»[206].
Франк, учитывая влиятельность социалистической мифологии, иллюстрирует многообразие форм войны с культурой феноменом ненависти к богатству. «<…> Материальная обеспеченность есть лишь спутник и символический показатель духовной мощи и духовной производительности. В этом смысле метафизическая идея богатства совпадает с идеей культуры как совокупности идеальных ценностей, воплощаемых в исторической жизни. Отсюда, в связи с вышесказанным, ясно, что забвение интеллигенцией начала производительности или творчества ради начала борьбы и распределения есть не теоретическая ошибка, не просто неправильный расчет путей к осуществлению народного блага, а опирается на моральное или религиозно-философское заблуждение. Оно вытекает в последнем счете из нигилистического морализма, из непризнания абсолютных ценностей и отвращения к основанной на них идее культуры»[207].
Мысли С.Н. Булгакова о культуре можно рассматривать как конкретизацию франковского понятия «абсолютных ценностей». Свою предельную ценность культура обретает, обращаясь к заложенным в ходе истории религиозным основам. «В настоящее время нередко забывают, что западноевропейская культура имеет религиозные корни, по крайней мере наполовину построена на религиозном фундаменте, заложенном средневековьем и реформацией. Каково бы ни было наше отношение к реформационной догматике и вообще к протестантизму, но нельзя отрицать, что реформация вызвала огромный религиозный подъем во всем западном мире, не исключая и той его части, которая осталась верна католицизму, но тоже была принуждена обновиться для борьбы с врагами. Новая личность европейского человека, в этом смысле, родилась в реформации (и это происхождение ее наложило на нее свой отпечаток), политическая свобода, свобода совести, права человека и гражданина были провозглашены также реформацией (в Англии); новейшими исследованиями выясняется также значение протестантизма, особенно в реформатстве, кальвинизме и пуританизме, и для хозяйственного развития, при выработке индивидуальностей, пригодных стать руководителями развивавшегося народного хозяйства. В протестантизме же преимущественно развивалась и новейшая наука, и особенно философия. И все это развитие шло со строгой исторической преемственностью и постепенностью, без трещин и обвалов. Культурная история западноевропейского мира представляет собою одно связное целое, в котором еще живы и свое необходимое место занимают и средние века, и реформационная эпоха, наряду с веяниями нового времени»[208].
Булгаков подчеркивает, что религиозные основы суть именно «корни», т. е. питательная система, и потому суть дела не меняется в результате временной победы тех или иных оппонентов веры. «<…> Дерево европейской культуры и до сих пор, даже незримо для глаз, питается духовными соками старых религиозных корней. Этими корнями, этим здоровым историческим консерватизмом и поддерживается прочность этого дерева, хотя в той мере, в какой просветительство проникает в корни и ствол, и оно тоже начинает чахнуть и загнивать. Поэтому нельзя считать западноевропейскую цивилизацию безрелигиозной в ее исторической основе, хотя она, действительно, и становится все более таковой в сознании последних поколений»[209].
Атеистическая стратегия интеллигенции отвергается Булгаковым не только как духовно ложная, но и как не понимающая самого устройства культуры, в которой механическая замена одного элемента другим приводит к катастрофе. «Ошибочно думает интеллигенция, чтобы русское просвещение и русская культура могли быть построены на атеизме как духовном основании, с полным пренебрежением религиозной культуры личности и с заменой всего этого простым сообщением знаний. Человеческая личность не есть только интеллект, но прежде всего воля, характер, и пренебрежение этим жестоко мстит за себя. Разрушение в народе вековых религиозно-нравственных устоев освобождает в нем темные стихии, которых так много в русской истории <…>»[210].
П.Б. Струве обогащает тему политическим аспектом. Ключевое понятие его статьи – «отщепенство» – имеет как социально-политическую, так и религиозную грань. «Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему»[211]. «<…> Для интеллигентского отщепенства характерны не только его противогосударственный характер, но и его безрелигиозность. Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-нибудь другого мистического или религиозного начала, а во имя начала рационального и эмпирического»[212]. Религиозным отщепенчеством объясняет Струве и ту личную безответственность, готовность к растворению в стихийности, которая, по его мнению, присуща русскому политическому радикализму. «После христианства, которое учит не только подчинению, но и любви к Богу, основным неотъемлемым элементом всякой религии должна быть, не может не быть вера в спасительную силу и решающее значение личного творчества или, вернее, личного подвига, осуществляемого в согласии с волей Божией. Интересно, что те догматические представления новейшего христианства, которые, как кальвинизм и янсенизм, доводили до высшего теоретического напряжения идею детерминизма в учении о предопределении, рядом с ней психологически и практически ставили и проводили идею личного подвига. Не может быть религии без идеи Бога, и не может быть ее без идеи личного подвига»[213].
Весьма интересно рассуждение Струве об усвоении радикалами религиозной формы без соответствующего содержания. Здесь автор пророчески усматривает опасность раскрепощения страшных разрушительных сил. «Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, не имеет отношения к политике. Однако только по-видимому. Не случайно, что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, легкомысленна в политике. Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения – словом, тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания.
Это противоречие, конечно, свойственно, по существу, всякому окрашенному материализмом и позитивизмом радикализму. Но ни над одной живой исторической силой оно не тяготело и не тяготеет в такой мере, как над русской интеллигенцией. Радикализм или максимализм может находить себе оправдание только в религиозной идее, в поклонении и служении какому-нибудь высшему началу. Во-первых, религиозная идея способна смягчить углы такого радикализма, его жесткость и жестокость. Но кроме того, и это самое важное, религиозный радикализм апеллирует к внутреннему существу человека, ибо с религиозной точки зрения проблема внешнего устроения жизни есть нечто второстепенное. Поэтому, как бы решительно ни ставил религиозный радикализм политическую и социальную проблему, он не может не видеть в ней проблемы воспитания человека. Пусть воспитание это совершается путем непосредственного общения человека с Богом, путем, так сказать, надчеловеческим, но все-таки это есть воспитание и совершенствование человека, обращающееся к нему самому, к его внутренним силам, к его чувству ответственности»[214]. Эти мысли по-особому звучат в свете всего, что мы знаем о тоталитарных экспериментах культуры XX в., отличительной чертой которых было, в частности, прямое внедрение квазирелигиозного мифа в общественное и личное сознание, минуя то, что Струве называет «воспитанием», т. е. минуя обращение к свободному сотрудничеству с «внутренними силами» человека.
Тема культуры у Н.А. Бердяева может показаться узкой по сравнению с масштабными схемами предыдущих «веховцев»: он ведет речь о философской культуре, но довольно быстро и он переходит к предельным обобщениям. Из его оценки приземленного интеллигентского утилитаризма видно, что без признания абсолютных духовных ценностей нет культуры. «Прежде всего бросается в глаза, что отношение к философии было так же малокультурно, как и к другим духовным ценностям: самостоятельное значение философии отрицалось, философия подчинялась утилитарнообщественным целям. Исключительное, деспотическое господство утилитарно-морального критерия, столь же исключительное, давящее господство народолюбия и пролетаролюбия, поклонение „народу“, его пользе и интересам, духовная подавленность политическим деспотизмом – все это вело к тому, что уровень философской культуры оказался у нас очень низким, философские знания и философское развитие были очень мало распространены в среде нашей интеллигенции»[215]. Вне абсолютных ценностей путь ведет «к разложению общеобязательного универсального сознания, с которым связано достоинство человечества и рост его культуры»[216].
Но и сами абсолютные ценности, по Бердяеву, нуждаются в еще более глубокой укорененности. Критикуя утилитарный гуманизм, он пишет: «<…> Ложно направленное человеколюбие убивает боголюбие, так как любовь к истине, как и к красоте, как и ко всякой абсолютной ценности, есть выражение любви к Божеству. Человеколюбие это было ложным, так как не было основано на настоящем уважении к человеку, к равному и родному по Единому Отцу; оно было, с одной стороны, состраданием и жалостью к человеку из „народа“, а с другой стороны, превращалось в человекопоклонство и народопоклонство. Подлинная же любовь к людям есть любовь не против истины и Бога, а в истине и в Боге, не жалость, отрицающая достоинство человека, а признание родного Божьего образа в каждом человеке. Во имя ложного человеколюбия и народолюбия у нас выработался в отношении к философским исканиям и течениям метод заподозривания и сыска»[217]. Задолго до Саррот и Рикёра Бердяев говорит о наступившей «эре подозрения», которая обесценивает усилия культуры.
Существенно обогащает веховскую «культурологию» апология права, предпринятая Б.А. Кистяковским. «Духовная культура состоит не из одних ценных содержаний. Значительную часть ее составляют ценные формальные свойства интеллектуальной и волевой деятельности. А из всех формальных ценностей право, как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную роль»[218]. Отсутствие правосознания, как показала история, оказалось одним из самых разрушительных дефектов интеллигентской ментальности. Парадоксально, что при этом процветала и создавала теоретические шедевры государственно-правовая ветвь русской философии. Но статья Кистяковского, показывающая беспомощность права в случае его неукорененности в личном социально-этическом сознании субъекта, оказалась и объяснением парадокса, и неуслышанным предупреждением.
В статьях М.О. Гершензона и А.О. Изгоева высвечивается экзистенциально-психологический аспект культуры. Личное сознание, живая самость, заинтересованность в жизни и (отнюдь не мелочь!) вкус к добротному профессионализму понимаются как неотчуждаемые элементы культуры. Характерно, что и эта тема оказывается идейным оружием против агрессивно-суицидного героизма, который разоблачается в большинстве веховских работ. Так, Изгоев пишет: «Нередко делаются попытки отождествить современных революционеров с древними христианскими мучениками. Но душевный тип тех и других совершенно различен. Различны и культурные плоды, рождаемые ими. „Ибо мы знаем, – писал апостол Павел (2-е поел, к Коринфянам, гл. 5), – что, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный“. Как известно, среди христианских мучеников было много людей зрелого и пожилого возраста, тогда как среди современных активных русских революционеров, кончающих жизнь на эшафоте, люди, перешагнувшие за тридцать пять – сорок лет, встречаются очень редко, как исключение. В христианстве преобладало стремление научить человека спокойно, с достоинством встречать смерть и только сравнительно редко пробивали дорогу течения, побуждавшие человека искать смерти во имя Христово. У отцов церкви мы встретим даже обличения в высокомерии людей, ищущих смерти»[219].
Программная фраза Гершензона в Предисловии к «Вехам» – «Общей платформой является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития» – хорошо показывает характер веховского поворота к новому пониманию смысла культуры. «Веховцы» противопоставили своим оппонентам не очередной выбор правильной «пользы», ради которой можно жертвовать идеалами в пользу идолов (а именно этим занимается идеология), а свое видение принципиального различия пользы и абсолютной ценности.
Культура как идеал в русской мысли серебряного века
(О сборнике «Проблемы идеализма»)
Европейская философия XIX в. была по большей части сформирована позитивистской программой с ее поклонением детерминизму среды и природной каузальности. Не избежала этого умонастроения и русская философия. Но на рубеже XIX и XX вв. происходит радикальная «смена парадигмы»; значительная группа мыслителей возвращается к глубинным ценностям русской культуры: прежде всего – к представлениям о господстве идеалов над интересами. Философами этого направления создается серия сборников, оформивших новую идейную программу: «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918).
Рассмотрим некоторые мотивы первого сборника, хорошо высвечивающие те усилия, которые понадобились, чтобы преодолеть инерцию позитивистских «очевидностей». В статье С.Л. Франка в контексте осмысления этики Ницше неожиданной стороной поворачивается тема «сверхчеловека». «В идее сверхчеловека выражено убеждение в верховной моральной ценности культурного совершенствования человека, в результате которого, как мечтает Ницше, должен появиться тип, настолько превосходящий современного человека по своим интеллектуально-моральным качествам, что его надо будет признать как бы особым биологическим видом, „сверхчеловеком“. Правда, самый образ сверхчеловека фантастичен и утопичен до пес plus ultra, но у Ницше он служит, по его собственным словам, лишь „тем безумием, которое должно быть привито людям“ для внушения им – и каждой личности в отдельности, и целому обществу – сильнейшей жажды морального и интеллектуального совершенствования, приближающего их к этому образу»[220].
Внук раввина, скорее всего, не знал того, что вполне мог знать внук пастора: в богословской лексике протестантизма эпитет «сверхчеловек» иногда применялся к Христу. Звучащий в таком случае обертон можно истолковать по-разному – как богоборчество Ницше или как тайный знак почтения, но Франк, во всяком случае, почувствовал, что речь идет о сакральных предметах, а не о замене одной версии гуманизма другой. «Безумие, которое должно быть привито людям» также вызывает в памяти слова апостола Павла: «…мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие [mōria]» (1 Кор. 1:23. Ср. также: 1 Кор. 2:14). «Мориа» (нелепость, безумие) – обычный риторический прием для проповедей позднего Ницше, но необычный для позитивистского дискурса XIX в. И Франк – в высшей степени чуткий читатель – понимает характер сообщения, посланного Ницше: это что угодно, но не пропаганда расслабленного декадентского аморализма.
«Сверхчеловек <…> знаменует собою и означает высшую степень духовного развития человечества, высшую степень расцвета, на которую способны содержащиеся в современном человеке духовные зародыши». В идее сверхчеловека, утверждает Франк, «постулировано верховное и автономное значение культурного прогресса, морально-интеллектуального совершенствования человека и общества, вне всякого отношения к количеству счастья, обеспечиваемому этим прогрессом. Воцарение сверхчеловека не есть торжество человеческого счастья, удовлетворение всех личных субъективных влечений и вожделений людей; это есть торжество духовной природы человека, осуществление всех объективно-ценных его притязаний»[221].
Любопытно, что Франк употребил в своем толковании сверхчеловека словосочетание «культурный прогресс», совершенно нерелевантное для идейного мира Ницше, но значимое для умонастроения сборника «Проблемы идеализма» с его борьбой за автономию культурных идеалов, не сводимых ни к моральной утилитарности, ни к сциентистскому объективизму. Ницше оказался неожиданным союзником раннего Франка в поисках метафизики культуры именно потому, что позволил ощутить религиозный смысл культуры – нечто дотоле психологически невозможное для молодого радикального интеллектуала, еще не порвавшего с марксизмом.
Еще одно характерное наблюдение Франка-читателя над «аристократизмом» Ницше: «Любопытен в этом отношении отзыв Ницше об общественной организации церкви. Он отдает ей преимущество перед государственной организацией, и именно по следующим соображениям: „Не забудем, что представляет из себя церковь в противоположность всякому государству': церковь есть прежде всего такая организация господства, которая обеспечивает высший ранг за более развитыми духовно людьми и верит в могущество духовности настолько, что не пользуется более грубыми средствами силы; уже одно это делает церковь во всяком случае более благородным учреждением, чем государство“(„Радостная наука“, отрывок 358). Надо знать общее отношение Ницше к церкви, чтобы понять, какое глубокое уважение Ницше ко всему духовно-высокому и к духовному господству, в противоположность господству силы, обнаруживают эти слова»[222]. То, что творчество атеиста Ницше оказалось ферментом для религиозного сознания, – не случайность, а давно отмеченный историками философии эффект этого причудливого явления европейской мысли. В частности, Ясперс писал в свое время: «Его борьба против христианства отнюдь не означает стремления просто выбросить его на свалку, отменить или вернуться в дохристианские времена: напротив, Ницше желает обогнать его, преодолеть, опираясь на те самые силы, которые принесло в мир христианство – и только оно»[223]. И далее: «Заключить союз с Ницше против Ницше, самостоятельно провести его поединок с самим собой – единственный, видимо, верный путь для нас»[224]. Но особенность рассмотренного казуса в том, что в сознании Франка, толкующего Ницше, по одну сторону баррикад оказываются разобщенные в XIX в. духовные силы: вера, культура, воинствующий идеал.
Реабилитация понятия идеала, возвращение ему статуса значимого элемента культуры составляет нерв всего сборника. Приведем еще один пример такой «метанойи» с близкими Франку выводами, но с контрастно-иным материалом. В статье кн. С.Н. Трубецкого рассматривается появившаяся в XIX в. гуманитарная дисциплина «история философии» как некая «метафилософия» и делается вывод о том, что существование философии в истории, нередуцируемое к каким-то итоговым интегральным истинам, – это не свидетельство слабости философии и не аргумент в пользу скептицизма, но, напротив, источник ее особой культурной мощи. С опорой на Канта автор показывает: «Если природа нашего разума полагает ему границы в его познании, то она же заставляет его вечно стремиться к истине вне этих границ, и отказаться от такого стремления значило бы отречься не от субъективной личной мечты, а от подлинного идеала разума, органически свойственного ему по самой его природе»[225]. С опорой на Гегеля автор утверждает, что в истории философии развивается конкретный разум человечества, а не отвлеченные категории, и потому если в философских учениях получает преимущественное развитие какой-либо частный момент, то он все же стремится к целостному пониманию истины и по-своему дает ее образ: «Процесс развития философской мысли тесно связан с общим процессом исторического культурного развития <…> Отдельные учения поэтому <…> суть все же исторические моменты познания Истины и не могут рассматриваться как чисто логические моменты в движении какой-то безличной мысли»[226].
Факт раздробленности философии во времени на индивидуальные авторские версии – аргумент, который обычно направлялся против притязаний философии на общезначимое знание, – Трубецкой оборачивает в пользу философии, указывая на способность истории сохранить личностный аспект идеала: «Различия и противоречия отдельных философий свидетельствуют об истинности самой философии в них, о ее неподдельности и правдивости. Изучая их, мы убеждаемся в том, что эти различия и противоречия не случайны и не сводятся к простым особенностям умственного склада отдельных мыслителей, но что они коренятся в самой природе человеческого разума, в его отношении к конечному предмету его познания»[227].
В истории философии Трубецкой видит убедительное доказательство совместимости идеального, индивидуального и исторического. Более того, их взаимной востребованности и необходимости для того, чтобы отразить «всеединую Истину». По чеканной формулировке Трубецкого «философия, будучи идеальной образующей силой, является вместе с тем величайшей освобождающей силой человечества, снимающей с него оковы духовного рабства, указывающей ему путь истинной свободы»[228]. По Трубецкому, именно это позволяет оценить и практическое – в высшем смысле слова – значение философии: философия представляет идеал целостного знания. «Пусть она является наукой идеальной, – именно поэтому практическое, направляющее действие ее было так велико и сказывалось не только в области знания, в области всех прочих реальных наук, но и во всех тех областях человеческого действия, которые определяются идеями, принципами, общими разумными началами»[229]. История философии «учит нас тому, что идеал истины, которому служит философия, есть реальная образующая сила», причем сила, как ниже поясняет автор, «действующая через собирательную мысль человечества»[230].
Когда М.О. Гершензон в Предисловии к «Вехам» уверенно говорит, что «общей платформой является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития», он опирается на духовный опыт интеллигенции, накопленный со времени «Проблем идеализма». Этот первый из эпохальной «трилогии» сборников прочерчивает спасительный маршрут между Сциллой «служения пользе» и Харибдой «подчинения объективной необходимости». Эти позитивистские призраки, морочившие русскую интеллигенцию, исчезают при свете восстановленных представлений об «идеале». Авторы, по словам П.И. Новгородцева, приходят «к радостному признанию абсолютных начал». Это далеко не триумфальный финал, это – начало пути на историческую Голгофу русской мысли. Но неотменяемые результаты осуществленного прорыва остаются впечатляющими и сейчас.
Духовный смысл войны в русской философии серебряного века
Размышляя вскоре после войны о всплеске национализма в исторической науке и называя его иронически «военной гомилетикой» и «военной поэзией», Й. Хёйзинга утверждает: «Мир позднее захочет отречься от огромной массы печатной продукции, выходившей начиная с 1914 г., – вот только когда позднее?»[231] Прошло уже сто лет, и мы видим, что отречения по-настоящему и не было. Более того, в этой продукции оказались не только вирусы шовинизма, но, возможно, и какие-то «витамины», важные для сегодняшней культуры. Опыт русской мысли также важен в этом отношении.
Уже со времен Вл. Соловьева и Ницше культура перестает восприниматься европейской мыслью как заповедник мирного сосуществования разных точек зрения и жизненных укладов. Постепенно, к началу XX в., приходит неформальное осознание того довольно тривиального обстоятельства, что признание ценности влечет ответственность за нее, а значит, борьбу и – в крайнем случае – войну. Как водится, маятник интеллектуальных настроений качнулся к другому экстремуму: в моду вошло опьянение романтикой войны и силы. Для русской мысли, которая в тот период осваивала относительно новый для себя формат – философию, эта тема становится крайне востребованной в период вступления в мировую войну Опыт решения антиномии войны и мира в этих условиях представляется весьма поучительным и не утратившим актуальности.
В своей статье «О поисках смысла войны», опубликованной в конце 1914 г. в журнале «Русская мысль», С.Л. Франк пишет: «Мировая война, которая была навязана государству извне, против его воли, еще в гораздо большей мере явилась неожиданностью для общественного мнения и в известном смысле застала врасплох сложившееся и господствовавшее умонастроение интеллигентных кругов общества. В Германии общественное мнение десятилетиями упорно и систематически воспитывалось в идее войны, в понимании необходимости и национальной важности войны <…> идея войны была идеей привычной, понятной, популярной, укорененной в самих основах миросозерцания; и события показали, что и резко оппозиционные круги немецкого общества в этом отношении не составляли исключения. Совсем иначе в России. По множеству причин, которых мы не будем касаться, война представлялась среднему русскому мыслящему человеку чем-то ненормальным, противоестественным, несовместимым со всеми привычными идеями и потому чем-то почти невозможным. <…> Независимо от всех наших рассуждений и мыслей эта война сразу и с непоколебимой достоверностью была воспринята самой стихией национальной души как необходимое нормальное, страшно важное и бесспорное по своей правомерности дело. Но это разногласие между непосредственным национальным чувством и господствующими понятиями нашего мировоззрения – разногласие, духовные плоды которого вряд ли еще сказались теперь во всей своей значительности, – поставило нас перед насущно необходимой и для большинства мучительно трудной задачей идейного оправдания войны, отыскания ее нравственного смысла. <…> С объективной точки зрения вопрос этот сохраняет свою значительность, есть подлинная историко-философская проблема, конечно, совершенно независимо от того, по каким причинам он привлекает к себе внимание»[232].
Эта обширная цитата хорошо резюмирует целую эпоху дискуссий о смысле войны, открытую Соловьевым и завершенную публицистикой Первой мировой. Если брать еще более широкий диапазон, то единый идейный сюжет тянется от либерализма и непротивленчества второй половины XIX в. до информационной войны ОСВАГа. Действительно, отмеченная Франком морально-психологическая готовность Запада к войне выковывалась как раз тогда, когда Россия жила еще позитивистской верой в рациональный прогресс и романтической верой в идеалы гуманизма. В Британии – поэзия имперской миссии; в Германии – пафос борьбы за «жизненное пространство»; в Австрии – обида из-за утраченного могущества. К этому надо прибавить уверенность радикального интернационала в праве на насилие; сказки социал-дарвинистов о борьбе за существование в природе; теории геополитиков, евгеников, ницшеанцев о естественной и здоровой воле к власти и преобладанию. Странным, но не случайным было соседство этой идеологии с пацифизмом, миротворческой деятельностью и другими многообразными проявлениями «квиетива воли». Все это создавало специфическую атмосферу позднепозитивистской эпохи, которую уже тогда внимательные наблюдатели (тот же Ницше) воспринимали как зарницы будущей грозы. Разумеется, можно и в России найти коррелятивы этих явлений (например, в учениях Данилевского, Леонтьева, Толстого), но в целом преобладала верно отмеченная Франком атмосфера беспечности и ожидания «неба в алмазах».
Неожиданным диссонансом прозвучал голос Вл. Соловьева. Его статья «Смысл войны», опубликованная в 1895 г., возродила православную идею «святого воинства», которая в то время существовала вряд ли более чем на уровне религиозной лексики и, уж конечно, не была предметом дискуссии для интеллигенции. После краткого обзора мировой военной истории и моральных антиномий войны Соловьев делает вывод: «Военная и всякая вообще принудительная организация есть не зло, а следствие и признак зла. Такой организации не было и в помине, когда невинный пастух Авель был убит по злобе своим братом. Справедливо опасаясь, как бы то же самое не случилось впоследствии и с Сифом, и с прочими мирными людьми, добрые ангелы-хранители человечества смешали глину с медью и железом и создали солдата и городового. И пока Каиновы чувства не исчезли в сердцах людей, солдат и городовой будут не злом, а благом»[233].
Однако Соловьев не считает, что нужно пассивно примиряться с необходимым злом войны. Между исторической необходимостью войны и ее отрицанием со стороны отдельного человека есть связка: обязанность этого человека относительно того государства, которым обусловливается не только существование, но и прогресс человечества. Если бы, рассуждает Соловьев, государство было совершенным воплощением общественного порядка, то было бы достаточно простого исполнения его законных требований. Но так как оно само постепенно совершенствуется, то единичное лицо обязано в пределах своих способностей деятельно участвовать в политическом прогрессе. Единичное лицо носит в себе сознание совершенного идеала Царства Божия; это сознание получено им не от государства, а свыше, но осуществить этот идеал нельзя без посредства государства, и отсюда вытекает прямая обязанность содействовать государству словом убеждения или проповедью «в смысле наилучшего исполнения им его предварительной задачи, после исполнения которой, но не раньше, и само государство, разумеется, станет излишним. Такое воздействие лица на общество возможно и обязательно по отношению к войне, как и во всех других областях государственной жизни»[234].
Соловьев предлагает решить антиномию военного насилия через исторический компромисс двух измерений бытия, к которым принадлежит человек, т. е. за счет временного союза естественно-природного и нравственно-духовного. «Война была прямым средством для внешнего и косвенным средством для внутреннего объединения человечества. Разум запрещает бросать это орудие, пока оно нужно, но совесть обязывает стараться, чтобы оно перестало быть нужным и чтобы естественная организация разделенного на враждующие части человечества действительно переходила в его нравственную, или духовную, организацию»[235].
Статья Соловьева, похоже, вызвала раздражение большей части интеллигенции. Характерен отклик Л.Н. Толстого на статью А.Л. Волынского в «Северном вестнике» за 1895 г., в которой автор дает отповедь «мракобесу» Соловьеву: «Сейчас прочел вашу заметку о соловьевском „Смысле войны“ и почувствовал радость сознания того, что есть единомышленный орган. Кроме вас никто не скажет этого и нигде, кроме как в вашем журнале, а сказать это было необходимо. И мне это было очень радостно и захотелось высказать вам это. И заметка написана прекрасно. Хотелось бы сказать, что она слишком зла, но в глубине души, к сожалению, одобряю и злость. Уж очень скверно то, что написал Соловьев»[236]. Толстовское «никто не скажет этого» оказалось опрометчивым: осуждение было почти единодушным. Но уже через пять лет общественная реакция на «Три разговора», в которых Соловьев развил идеи «Смысла войны», будет заметно иной. Мыслящие люди встревожены быстро меняющейся социальной атмосферой и внутри, и вовне страны: голос Соловьева звучит теперь как пророчество.
В «Трех разговорах» соловьевская мысль о войне определяется вызывающе просто: война не есть безусловное зло и мир не есть безусловное добро; возможна и бывает хорошая война, возможен и бывает дурной мир. Аргументы этой работы отличаются от «Смысла войны» в основном лишь диалогической подачей, но финальная часть текста дает теме неожиданный поворот. «Политик» (представляющий собой тип современного либерала-скептика) и «Дама» (олицетворение здравого смысла) затеивают спор о культуре как средстве избегать войн и конфликтов.
«Дама. <…> Вы ведь хотели сказать, что времена переменились, что прежде был Бог и война, а теперь вместо Бога культура и мир. Так ведь?
Политик. Пожалуй, приблизительно так.
Дама. Вот и отлично. Что такое Бог – я хоть и не знаю, и объяснить не могу, но чувствую. А насчет этой вашей культуры у меня и чувства никакого нет. Так вот вы мне объясните двумя словами, что это такое?
Политик. Из чего состоит культура, что в ней содержится, – это вы и сами знаете: все те сокровища мысли и гения, которые создавались избранными умами избранных народов.
Дама. Да ведь это все не одно, а совсем разное. Тут и Вольтер, и Боссюэ, и Мадонна, и Нана, и Альфред Мюссэ, и Филарет. Как же это все в одну кучу свалить и эту кучу себе вместо Бога поставить?
Политик. Да я и хотел сказать, что о культуре в смысле исторической сокровищницы нам нет заботы. Она создана, существует, и слава Богу. Можно, пожалуй, надеяться, что еще будут новые Шекспиры и Ньютоны, но это не в нашей власти и практического интереса не представляет. Между тем есть в культуре другая сторона, практическая, или, если хотите, нравственная, и это есть именно то, что в частной жизни мы называем вежливостью или учтивостью. Это может казаться маловажным на поверхностный взгляд, но оно имеет огромное и единственное значение именно потому, что оно одно может быть всеобщим и обязательным: нельзя ни от кого требовать ни высшей добродетели, ни высшего ума или гения, но можно и должно требовать от всех учтивости. Это есть тот минимум рассудительности и нравственности, благодаря которому люди могут жить по-человечески. <…>»[237]
Новый поворот разговору сообщает г-н Z (выразитель точки зрения Соловьева). Смысл его иронических замечаний в том, что релятивизм и нежелание воевать за истину суть «симптом конца». Эта тема, в свою очередь, и позволяет логично включить в текст знаменитую «Краткую повесть об Антихристе» с рассказом о последней войне человечества. Если в работе «Смысл войны» Соловьев в своей аргументации не выходит за рамки социально-исторической проблематики, то в «Трех разговорах» он сообщает проблеме сакральный аспект, как бы связывая драматургией диалога в одну цепь первую битву архангела Михаила и последнюю битву человечества с Антихристом. Поиск смысла войн земной истории ставится тем самым в зависимость от смысла Священной истории.
«Три разговора» оказались своего рода ключом к решению антиномии войны для последующих споров, которые локализовались в промежутке между выходом в свет сборника «Проблемы идеализма» (1902) и высылкой группы ученых в Германию (1922). Для нашей темы важно также отметить работу С.Л. Франка и П.Б. Струве «Очерки философии культуры» (1905), в которой осторожные выводы «Проблем идеализма» формулируются очень радикально.
Для авторов уже вполне естественно в борьбе с нигилизмом и утилитаризмом указать, что последним «чужда идея богочеловечества, идея воплощения абсолютных ценностей духа в земной жизни и ее средствами – идея, лежащая в основе философского понятия культуры»[238], дать определение культуры как «совокупности абсолютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и составляющих его духовно-общественное бытие» и добавить, что это – «истинное сошествие на землю духа святого в трудах и завоеваниях всего человечества»[239]. Последовавшее включение этих тезисов в аксиоматику русской религиозной философии культуры говорит о том, что поворот к новому видению культуры в сознании небольшой, но элитной группы интеллигенции уже произошел. Именно так понимаемая культура становится ценностью, ради которой может вестись война. Трагически концентрированный духовный опыт Серебряного века подсказал, что выход из идейного тупика связан с толкованием Абсолюта не как внешней оболочки мира, не как максимальной аксиологической ценности, не как того, что стоит над миром, а как того, что присутствует здесь и теперь, ежемоментно, в нашей конкретной жизни; и присутствие Абсолюта здесь и теперь выражается в том, что человек малыми или большими делами, философскими или практическими, входит в реальную мистическую историю, берет на себя обязательства перед ней – в том числе долг войны и жертвы – и становится личностью.
Своего пика русские споры о смысле войны естественным образом достигают в 1914 г. Как и все поворотные точки истории, мировая война не только консолидировала общество, но и расколола его сознание на партийные и идейные толки. Так было и со спором о войне. Одна (немногочисленная) фракция упорствовала в непротивленчестве, другая была охвачена националистическим вдохновением, третья искала смысл войны в метафизических глубинах. Интересна в этом контексте эволюция настроений и мотивов в публицистике Н.А. Бердяева.
В одном из первых откликов на грянувшую катастрофу, в статье «Война и возрождение», автор захвачен пафосом культурной миссии России в этих исторических событиях. Он полагает, что существует неотвратимая диалектика истории, совершающаяся через жертвы: мир может быть завоеван лишь через «разряжение злой энергии». Но еще важнее то, что мировая война покажет народам невозможность войн. «Технические усовершенствования войны ведут к самоотрицанию и преодолеют самую возможность войны гораздо скорее, чем мирные проповеди. Мировая война не может долго продолжаться: она явит такое страшное истребление культурных стран, такое разорение, которого не выдержат народы»[240].
Зато опыт мировой войны приведет к религиозному углублению жизни, которое будет очищением и для России, и для всей Европы. Соблазн «милитаристического империализма» рухнет, его идея окажется «одержимостью», а мировое освобождение от его «гнетущей фикции» будет мировым возрождением. В статье «Футуризм на войне»[241] подчеркивается фатальная роль европейской техники в отчуждении от бытийных корней и развязывании войны. Похожую риторику нетрудно найти и в современной Бердяеву немецкой публицистике. (Яркую зарисовку этого умственного настроения дает Томас Манн в конце главы XIV «Доктора Фаустуса»: спор молодых людей о культурной миссии Германии быстро сворачивает к теме вырождения Европы и естественного конфликта с Россией.) Но в работах 1917–1925 гг. последовательно нарастает мотив необходимости внутреннего морально-гражданского преображения России, без которого ни победа над немецким империализмом, ни партийная борьба, ни наследие православия не смогут остановить опасность новых войн.
Наиболее близким соловьевской версии оказался, как представляется, С.Л. Франк. В цитированной выше статье он подводит итоги полемики 1914 г. и высвечивает коренную антиномию войны. «Оправдать войну – значит доказать, что она ведется во имя правого дела, что она обусловлена необходимостью защитить или осуществить в человеческой жизни какие-либо объективно-ценные начала. Но объективно-ценные значит: ценные одинаково для всех. Таким образом, оправдать войну – значит найти такие ее основания, которые были бы обязательны для всех»[242].
Однако, подчеркивает Франк, война не дает устоять на точке зрения самоограничения и уважения к позиции противника. Как и Соловьев, он уверен, что культура «учтивости» несовместима с пафосом борьбы за истину, мобилизующим все жизненные силы: «Без веры в абсолютную, объективную нравственную ценность, а не только относительную, утилитарноэгоистическую ценность своей цели психологически невозможны ни то самоотвержение и напряжение действенной воли, которое необходимо
в столь трудном и мучительном деле, как война, ни – что еще важнее – моральная ответственность за участие в бедствиях, которые несет с собой война». Поэтому опорой решения проблемы может быть не только наличие общечеловеческих интересов, но и готовность их утвердить: «Оправдать войну можно, лишь приведя такие аргументы, с которыми противник обязан был бы согласиться»[243]. Франк, таким образом, предлагает не столько противопоставить себя «злому противнику», сколько найти общую с ним основу и противостоять злу, которым одержим противник.
В частности, из этого следует, что националистическое решение антиномии войны неверно: «всякое оправдание войны, смысл которого сводится к тому, что сама сущность одной из борющихся сторон признается выражением абсолютного блага, а другой – выражением абсолютного зла, заранее должно быть признано ложным»[244]. «Такая концепция, которая находит источник зла в самой основе национального духа противника, не может быть ничем иным, как ложной абсолютной санкцией своего субъективного пристрастия»[245]. Франк полагает, что такова ошибка «славянофильской концепции войны» С.Н. Булгакова и В.Ф. Эрна. При этом Франк не считает, что одержимость злом – это историческая случайность и вина отдельных людей. В поведении современной ему Германии он видит злую волю, «за которую ответственна вся нация, и не только в ее нынешнем поколении»[246]. В данном отношении он принимает подход Вяч. Иванова и кн. Е.Н. Трубецкого, которые ищут духовные источники этой злой воли.
Итоговые формулы Франка воспроизводят соловьевское «да» войне, при условии что это война за святыни, а не за эгоистические интересы. «Отыскание смысла войны, в чем бы оно ни заключалось, должно быть подчинено общему требованию, чтобы та правда, во имя которой ведется война, была действительно общечеловеческой, равно необходимой не только нам, но и нашему противнику»[247]. «Мы должны искать идею войны только в том, что смогут и должны будут признать и сами наши противники, когда у них раскроются глаза и они поймут то заблуждение мысли и воли, в которое они впали»[248]. «Война идет не между Востоком и Западом, а между защитниками права и защитниками силы, между хранителями святынь общечеловеческого духа <…> и его хулителями и разрушителями…»[249]
В свете изложенного попытаемся сформулировать общий мотив дискурса о войне, сложившийся в этой ветви русской философии: духовные плоды войны и ее моральное оправдание возможны только в том случае, если битва с врагом будет перенесена из внешней исторической эмпирии во внутреннее (душевное и культурное) пространство, в котором будут обретены (или восстановлены) такие абсолютные ценности, которые можно предложить и своему врагу как основу мира. Идейные ресурсы, накопленные в споре о войне, не остаются втуне и в последующие эпохи русской мысли. Можно указать – с известной произвольностью выбора – на пропагандистские публикации ОСВАГа, на знаковый сборник «Из глубины», на статьи и книги, осмысляющие трагедию революции и гражданской войны, на классический труд И.А. Ильина «О сопротивлении злу силою». Это направление мысли, которое сейчас обрело уже статус определенной интеллектуально-моральной традиции, являет нам важный опыт защиты культуры с «открытыми глазами», с осознанием неизбежной трагичности столкновения правды войны и правды мира.
А.Ф. ЛОСЕВ КАК ФИЛОСОФ КУЛЬТУРЫ
В обширном наследии А.Ф. Лосева большинство текстов имеет прямое отношение к истории или теории культуры. Между тем нет ни одной работы, непосредственно посвященной теории (в частности – философии) культуры[250]. Практически отсутствуют исследования творчества А.Ф. Лосева, в которых теория культуры была бы титульной темой[251]. Одно из объяснений этого парадокса заключается в особом (чтобы не сказать – уникальном) нарративном и жанровом характере текстов философа. Поэтому, прежде чем говорить о теории культуры А.Ф. Лосева, необходимо реконструировать ее с учетом всех извивов контекста, каковым является корпус сочинений философа. Но эта работа еще впереди, и требует она совместных усилий. Здесь же речь пойдет о некоторых принципиальных координатах, прочерченных Лосевым в размышлениях о культуре. Представляется, что их необходимо учитывать в любой версии искомой нами философии культуры.
Несколько слов об источниках реконструкции. Конечно, прежде всего это первое «восьмикнижие» философа: работы 1920-х годов, в которых разработан теоретический каркас «феноменолого-диалектического» метода. Для нашей темы важно отметить, что «диалектика» Лосева дана здесь и в рафинированном виде («Философия имени»), и в ее воплощении в культурной среде. Так, «Музыка как предмет логики» и «Диалектика художественной формы» анализируют наиболее общие формы и динамику воплощения смысла в искусстве; «Диалектика мифа» проясняет вероисповедный смысл культуры; оба «античных» тома детально выстраивают и живописуют отдельно взятый исторический тип культуры.
Следующим по значимости надо признать цикл работ по истории эстетики 1960-1990-х годов: к основному корпусу «Истории античной эстетики» надо добавить «Эллинистически-римскую эстетику», «Эстетику Ренессанса» и, кроме того, по тем или иным причинам несостоявшийся том по истории эстетических учений, фрагментарные рукописи которого были опубликованы в разных изданиях[252]. Слово «эстетика» не должно заслонить от нас истинный смысл этого цикла: изображение европейского культурного мифа в его истории.
Наконец, надо выделить особняком стоящие работы, которые – иногда существенно, иногда в важных деталях – проясняют лосевское понимание культуры. Таковы, в частности: очерк античной философии истории, дающий ценный материал для уяснения представлений Лосева о культурных типах диахронии[253]; «Философия культуры» – беседа с Д.В. Джохадзе[254]; поздние работы о символе и мифе[255]; наконец, недавно открытая читателю художественная проза, которая освещает ландшафт душевного мира Лосева, живую стихию его мысли. Эта выборочная сводка источников сделана еще и для того, чтобы напомнить о многообразии тем и жанров, в которых растворена культурфилософская тематика. Однако можно поговорить и о константах.
За точку отсчета возьмем предельно простые формулировки текста «Философия культуры».
«– Что такое культура?
– Культура есть предельная общность всех основных слоев исторического процесса <…>.
– Как же вы характеризуете отношение культуры к отдельным слоям и областям исторического процесса, ту общность, которая, по-вашему, и создает культуру?
– Я уже сказал, что это есть отношение общего и частного или общего и единичного. Но мы понимаем отношение общего и единичного всегда только диалектически. Общее не оторвано от единичного, но является законом его возникновения; и единичное не оторвано от общего, но всегда является тем или иным его проявлением и осуществлением. <…>
– Но что же тогда тип культуры?
– Тип культуры есть система взаимных отношений всех слоев исторического процесса данного времени и места. Эта система образует неделимую целостность в качестве определенной структуры, которая наглядно и чувственно-предметно выражает ее материальную и духовную специфику, являясь основным методом объяснения всех слоев исторического развития – как в их теоретическом противопоставлении, так и в их последовательно-историческом развитии.
– А тип античной культуры?
– Тип античной культуры есть предельная обобщенность природно-человеческой телесности в ее нераздельности с ее специфически жизненным назначением»[256].
Здесь «предельная общность» культуры соотнесена с взаимосвязью общего и единичного. За этой внешне простой и для того времени идеологически корректной схемой стоит принципиальное для Лосева понимание культуры как лестницы нисхождения абсолютного в инобытие и восхождения индивидуального к абсолюту. Каждая ступень этой иерархии полагается своим особым типом отношения с высшим и низшим уровнями, что и создает ее – этой ступени – особую, собственную смысловую форматуру. Отсюда ясно, насколько важно интеллектуальное искусство воссоздания того или иного типа культуры. Собственно, тип является единственно возможной исторической «оптикой», через которую можно усмотреть траектории движения к общему и единичному. Здесь – одна из причин пристрастия Лосева к предельно коротким, логически четким и пластически наглядным дефинициям культурных типов. Ведь эти формулы суть элементарные модули целого строения мировой культуры, и Лосев, как нетрудно заметить, не ограничивается обычным вытягиванием этих модулей в некие хронологические «бусы», но создает из них весьма сложные мета-исторические конфигурации.
В данном тексте это осторожно помечено в определении задач философии культуры: «Философия культуры есть постановка и решение проблемы о том, а) как соотносятся между собою отдельные слои исторического процесса, б) как они все вместе относятся к их предельной обобщенности, то есть к их исторически обусловленному и каждый раз специфически доминирующему первопринципу, в) как этот первопринцип данной культуры относится к первопринципам других, хотя бы ближайших, культур, г) как необходимо характеризовать все слои исторического процесса в свете этого первопринципа»[257]. «Доминирующий первопринцип» – ключ к данному фрагменту. Лосев подсказывает нам, что типология культур подчинена некоему интегральному принципу и это, в свою очередь, требует выхода из измерения культуры в иное, более высокой степени общности.
В свете сказанного – на фоне соотнесения со «всеобщим» – данная в этом же тексте характеристика советской культуры не выглядит тривиальной. «Исходная интуиция (принцип) нашей культуры – интуиция коллектива, понимаемого как живой организм. <…> Далее, наш интеллект отнюдь не пассивно созерцателен, каким он был в эпоху рабовладения. Он имеет своей целью переделывать действительность, а это значит бороться со всеми препятствиями, которые мешают свободно-трудовому коллективу, то есть создавать необходимую для него мирную обстановку, которая действительно обеспечивала бы нормальную и бесперебойную жизнь трудящихся. Наконец, что касается предельного обобщения, которое в рабовладельческом обществе принимало облик прекрасного чувственно-материального космоса и блаженного олимпийского самодовления, то это предельное обобщение является для нас <…> прежде всего тем бесклассовым обществом, которое не пассивно-созерцательно, а активно-деятельно оградило себя от всякого посягательства на свое совершенное состояние, будь то эксплуатация одного человека другим или какие-нибудь космические неожиданности. <…> Трудовая активность и борьба за решительное преодоление всего, что может препятствовать ей изнутри и извне, – вот в чем отличие нашей культуры от пассивно-созерцательной односторонности рабовладельческой формации»[258]. Другими словами, некий «живой организм» сметает все препятствия и создает «мирную обстановку» для «бесперебойного» труда и ограждает себя от всяких посягательств на свое «совершенство» извне и изнутри. Однако будут «космические неожиданности». Интонации Щедрина и Платонова здесь не назовешь непреднамеренным эффектом. И «Котлован», и финал «Фауста», и ожидаемое Хайдеггером и Э. Юнгером пришествие Рабочего не будут в данном случае надуманными параллелями.
Морфологическое портретирование культур превращено у Лосева в настоящее искусство. Изучение логической структуры мышления эпохи слито со вниманием к социальности, к исторической динамике; анализ мыслительных форм доводится до сжатой формулы, анализ исторической психологии доводится до портрета, а в результате оказывается, что то и другое – неразрывные части некоего целого. Многие культурфизиогномические портреты (такие, как знаменитая характеристика Сократа в «Истории античной эстетики») могут быть без колебаний включены в хрестоматию русской прозы. Обращает на себя внимание сам метод исследования, соединяющий кропотливую эмпиричность и глобальность теоретических обобщений. Да и сам мыслитель неоднократно подчеркивает важность этого подхода, говоря о типологии и «конкретной выразительной, физиогномической морфологии» как о задаче современной философии и всей науки[259].
Однако культурная типология Лосева осуществлялась с такой виртуозностью, что заслонила другую координату его метода. Чтобы прочертить ее, обратим внимание на критику Лосевым Шпенглера, основателя морфологии культуры, сформулированную еще в 1930 г.
Лосев пишет о «гипертрофии исторической физиогномики»: «Я разумею отсутствие в концепции Шпенглера осознанного диалектического метода. <…> Шпенглер настолько увлечен и пленен именно этой самой физиогномикой, настолько ярко чувствует он своеобразие и индивидуальную несводимость лика каждой культуры, что он не стесняется утверждать прямо абсолютную разорванность всемирно-исторической культуры человечества, полную независимость и изолированность каждой культуры, полную непереводимость ее на язык всякой другой культуры. Это учение можно объяснить только слишком тонко развитым чувством своеобразия каждой культуры. Эта яркость восприятия отдельных культур помешала Шпенглеру представить ряд человеческих культур как нечто целое, как жизнь единого всечеловеческого организма. Эти же самые свойства построений Шпенглера помешали ему также и дать диалектику как всемирной истории, так и каждой культуры в отдельности. Диалектика обнаружила бы единство тех категорий, которые входят в структуру каждой культуры; и диалектика показала бы, что каждая культура отличается от всякой иной только своеобразием в комбинации и акцентуации тех или других категорий, общих для культуры вообще. Так и в отношении античности Шпенглер не проделал той философско-исторической и логической работы, которая показала бы трансцендентальную связь всех основ, определяющих собой строение античной культуры. <…> Замечательные наблюдения и потрясающие обобщения Шпенглера все-таки не в силах заменить этой работы, которую проделывал, напр., Гегель. И как ни ярки картины отдельных культур у Шпенглера, это все-таки есть действительно физиогномика, но не философия истории. У Гегеля античность есть диалектическое понятие. У Шпенглера она – физиогномически точно восстановленная картина. И эти две концепции, несмотря ни на какие усилия обоих гениальных авторов, никогда не смогут заменить одна другую и сделать одна другую ненужной. Их надо соединить. И их легко соединить, если не упускать ни на минуту из глаз всего своеобразия как физиогномического, так и диалектического метода»[260].
Этот чрезвычайно важный пассаж вводит второе измерение культуры – соотнесение особенного типа выраженного смысла с абсолютным смыслом. Для читателя, незнакомого с лосевской диалектикой (но, может быть, знакомого с современной культурологией, искушенной в описании неповторимости и своеобразия культурных ментальностей), постулирование единства категорий, которые входят в структуру каждой культуры, может показаться рассудочным схематизмом. Однако речь здесь о том «единстве», которое открыл платонизм и переоткрыл немецкий трансцендентализм; о единстве, восходящем к Абсолютной личности и строго требующем предельной индивидуализации каждой ступени восхождения. Здесь Гегель (а точнее, весь арсенал немецкой спекулятивной диалектики) вступает не только как элемент диады, подлежащей синтезу. Гегель – особенно в «Феноменологии духа» – и сам осуществляет синтез просвещенческой культурантропологии и историзма с диалектическим мифом о саморазвитии абсолюта.
Одним из достижений немецкой философской революции был символизм как метод[261]. Ключевые открытия здесь были сделаны Кантом в его третьей «Критике» в рамках концепта символической гипотипозы и учения о символе. И Лосев берет на вооружение этот метод, соединяя его с наследием спекулятивно-диалектической ветви кантианства.
Символизм, по Лосеву, единственный путь спасения от тех противоречий, в которых запуталась западноевропейская культурная традиция. Символизм – это точка зрения мышления, признающего наличие источника явлений, но источника неисчерпываемого и не сводимого ни к каким явлениям (апофатизм), утверждающая, что этот отличный от своих явлений источник в них все же различными способами проявляется. Если мы разорвем символизм (являемость) и апофатизм (сокрытость), то получим или агностицизм, или позитивизм. Вот классическая лосевская формулировка, которая прочерчивает означенную связь с немецким символизмом. «Только символизм спасает явление от субъективистического иллюзионизма и от слепого обожествления материи, утверждая тем не менее его онтологическую реальность, и только апофатизм спасает являющуюся сущность от агностического негативизма и от рационалистически-метафизического дуализма, утверждая тем не менее его универсальную значимость и не сводимую ни на что реальную стихию»[262].
Но для понимания философии культуры Лосева еще важней концепт «мифа», каковым является символ, доросший до статуса «магического имени» и развернувшийся в культурно-историческое или трансцендентное событие. Это учение, разработанное в «Диалектике мифа», вводит категорию «абсолютной мифологии»[263] как предельной точки отсчета для понимания всех «относительных мифологий», каковые и составляют реальную ткань эмпирической истории. Удачное резюме по этому поводу сделано В.П. Троицким. В «Диалектике мифа» «рассматриваются все мыслимые типы „относительных мифологий“ (им находятся содержательные „дублеты“ из истории культуры) <…> и эта аналитическая работа настойчиво подводит к тому, чтобы приступить наконец к последовательному описанию устроения „абсолютной мифологии“, содержащей все базовые структурные категории в равновесии их „акцентуации“, в их синтезе. Полученная таким образом, а вернее сказать, фактически строго выведенная „абсолютная мифология“ есть собственно христианское мировоззрение…»[264].
Таким образом, в философии культуры Лосева мы можем обнаружить по крайней мере две координаты исследовательского поля. Условно говоря, это горизонталь культурной морфологии с ее «физиогномической» типологией и вертикаль категориального восхождения к Абсолютной личности, созданная «феноменолого-диалектическим методом». На горизонтали располагается темпоральная цепочка «относительных мифологий»; на вертикали – иерархия моментов, служащих исполнению («энергии») «абсолютного мифа». Возможно, имеет смысл введение третьей координаты, своего рода «сагиттали», которая задает нам измерение по принципу «ближе – дальше». Это будет координата личностно-жизненного аспекта культуры.
Без учета «сагиттали» картина лосевской культурологии, пожалуй, будет обеднена. Ведь многое поясняется не только динамикой чистых форм, но и индивидуальной судьбой, пафосом личного творчества, морального выбора…
С этой точки зрения полезно перечитать и встроенные в теоретические работы Лосева «портреты», и его прозу, и автобиографические заметки, и даже лишенные на первый взгляд экзистенциального аспекта работы о художественной форме (ведь их составным элементом является акт воплощения смысла через личностный миф художника). То, что указанный аспект культуры не остался без теоретического оформления, хорошо иллюстрируется одной поздней работой Лосева, которая дает аксиоматику личностного творческого акта[265]. Для нашей темы здесь важны особенно две первые аксиомы: аксиома самодовлеющей предметности и аксиома агенетической доказательности. В них показана невозможность редукции творческого акта к внеличностным детерминирующим системам.
В поисках других оправданий предложенной системы координат полезно было бы обратиться к фрагменту замысла Лосева об истории эстетических учений[266]. У этого текста есть определенные преимущества. Лосевская типология античной культуры изучена достаточно хорошо[267], типология Ренессанса предельно полемична и потому сопротивляется нормативному описанию, типология же Нового времени, с одной стороны, провоцирует культуркритику, а с другой – генетически содержит близкие Лосеву идеи символизма и трансцендентализма. Лосев в этом тексте показывает, как в исторических судьбах классицизма и неоклассицизма проявлена великая когнитивная драма чувственности и рассудка, как она трансформируется в плодотворный диалог романтизма и трансцендентализма, как этот диалог становится разрушительным (раздел 8 главы о романтизме – «Одна замечательная антитеза в недрах немецкого романтизма» – содержит культурологически виртуозный анализ противоположности и скрытой «близнечности» Шопенгауэра и Гегеля) и как эта «относительная мифология» обеспечена личностным ресурсом культуры.
Решусь наметить полемику со статьей С.С. Аверинцева, которая в целом, несомненно, принадлежит к числу лучших работ о А.Ф. Лосеве[268]. Автор, подытоживая, пишет: «Мысль Лосева <…> была одержима императивом жесткого, неумолимого единства, по закону которого самомалейшие черты „целостного лика“ и „мировоззренческого стиля“ должны диалектически выводиться из некоего исходного принципа <…> Отмеченная тенденция мысли Лосева очевидным образом связана и с гегелевско-шеллинговской выучкой, и с влиянием Шпенглера». Тенденция эта «грозит отнять у истории столь присущий ей элемент подвижного и непрерывно находящегося в движении равновесия, элемент живого противоречия с самой собой, а равно и различенность ее уровней, взаимосвязанных, но не единообразной жесткой связью». «Императив абсолютной жесткости связей между смыслом и формой, между верой, культурой и социальным устроением требует своего»[269]. А именно: он, справедливо полагает Аверинцев, требует той же «фактуры мысли», что и в арсенале тоталитаризма.
Но ведь именно этой «абсолютной жесткости связей» и не было в учении Лосева: это, надеюсь, следует из данного раздела. «Императив жесткости» не был порождением тоталитаризма. Он возник в ходе попыток Просвещения превратить метафизику в науку, но в то время был предельно смягчен рядом факторов (теорией случайности, историзмом, антропоцентризмом). Настоящий экстернализм возникает в XIX в., а завершает свое развитие в витализме Шпенглера и – как трагифарс – в тоталитарной идеологии. Однако «гегелевско-шеллинговская выучка», которая у Аверинцева связана через союз «и» со шпенглерианством, как раз и стала у Лосева теоретическим основанием для развенчания как Шпенглера, так и марксизма (в «Диалектике мифа» – с беспрецедентной яростью). Диалектика Гегеля и диалектика марксистских псевдогегельянцев – это, по сути, омонимы. У них мало общего. Лосев наследует диалектику Платона и Гегеля, «открытую систему», которая предполагает недетерминированное включение человека в божественные замыслы, личностную интерпретацию всего предданного свободному сознанию и интерсубъективный диалог. Сложное учение о цепочке символической коммуникации божественного и человеческого, нетварного и тварного, которое и составляет нерв лосевских размышлений о культуре, конечно, может в его текстах затеняться яркими филиппиками, но именно через это учение мы должны понимать творчество Лосева и его место в беспощадных умственных коллизиях века.
Среди работ Алексея Федоровича Лосева нет исследований, специально посвященных Гёте, но имя веймарского мудреца встречается в его трудах отнюдь не случайно. Попытаемся выяснить, вокруг какой темы сосредоточены соответствующие пассажи. С этой целью полезно осуществить некоторую хронологическую инверсию: сначала рассмотреть его поздние тексты с их ясными, лапидарными (иногда – обманчиво простыми) формулировками, а затем в их свете взглянуть на идеи «Диалектики художественной формы» как ключевой для нашей темы работы.
Вначале обратимся к фрагменту замысла Лосева об истории эстетических учений[270]. Его сквозной сюжет состоит в столкновении двух великих творческих способностей: чувственности и рассудка. В полемике классицизма и романтизма эти силы находят примирение (что и воплотил в своих зрелых творениях Гёте), но вместе с распадом идеалов Просвещения они становятся непримиримой оппозицией, тяготеющей к взаимной аннигиляции.
Сосредоточимся на лосевской формуле XVIII в. – в той мере, в какой она следует из соответствующих разделов указанного текста. Ключевым тезисом является характеристика эстетики той эпохи как синтеза рационализма и эмпиризма. Обычно эта схема применяется к истории философии, причем роль создателя такого синтеза отводится Канту. Лосев, однако, сместив точку синтеза к концу XVII – началу XVIII в., высвечивает процессы поиска, которые зачастую ускользают от взгляда историков. «<…> Эстетика уже не понимала рассудок и чувственность в таком разрыве. Субъект здесь мыслился как живая объединенность того и другого, часто даже прямо как цельное живое существо, которое, будучи перенесенным на объективный мир, создавало одушевленную вселенную»[271]. Действительно, здесь одной фразой очерчен стержневой мотив века: поиск живой посюсторонней индивидуализированной целостности. Лосеву удалось выделить в своей формуле морфологический остов мира Просвещения. Поскольку эстетика интересна еще и тем, что она позволяет высветить самосознание эпохи, Лосев не упускает из поля внимания ее «культурпрограммную» сущность. «Цельное живое существо» – это своего рода энтелехия, которая, как дает понять автор, идеально воплощена в творчестве Гёте. Еще один лосевский тезис-ключ к морфологии века: понятие «середина». Анализируя английскую эмпирико-психологическую эстетику и немецкую штюрмерскую эстетику, которые – каждая по-своему – уклонялись от принципа прекрасного как посредника между способностями человека, Лосев подчеркивает, что наиболее гармоничным воплощением этого принципа стали теории Винкельмана, Лессинга, Гёте и Шиллера. Особенно наглядным становится понимание Лосевым функциональной роли «середины», когда он дистанцирует от означенной группы мыслителей Гердера, не сумевшего освоить эту великую интуицию[272]. Гёте же рассматривается как мыслитель, воплотивший этот принцип с предельной силой.
Характеристика Гёте в данном контексте, пожалуй, принадлежит к числу лучших лосевских портретов-дефиниций: «Остро и тонко очерченная форма вещи, которая в то же самое время является и жизненно действующей, пульсирующей органической ее сущностью, или, другими словами, резко очерченная и жизненно пульсирующая морфология всего бытия, – вот то углубление и расширение эстетического миропонимания Винкельмана, которое мы и должны считать естественным завершением всей винкельмановской эстетики у Гёте»[273]. Нетрудно заметить, что этот очерк «рифмуется» с лосевской характеристикой античной классики, которая дана в его трудах рядом родственных дефиниций. Это позволяет сообщить привычному образу Гёте-эллиниста дополнительное измерение: показать античный элемент его эстетики как звено в исторической непрерывности, но отнюдь не как реставрацию почтенного прошлого.
Почему в этом случае мы сталкиваемся с «углублением и расширением» эстетики Винкельмана? Видимо, потому, что пресловутые «благородная простота» и «спокойное величие» остаются характеристикой классики, но в случае Гёте – собираются вокруг «пульсирующей морфологии бытия», не такой уж простой и спокойной, поскольку форма появляется в результате победы над остро и лично пережитым хаосом. Даже Шиллер является отклонением от этого абсолютного центра. В пассаже, посвященном Шиллеру, выделяется формула «эстетический историзм»[274], которая глубоко и точно позиционирует эстетику и культурологию Шиллера по отношению ко всем направлениям просветительской мысли. Такой тип историзма тоже дает нам «пульсирующее бытие», однако этот пульс представляет собой не морфологию личности, а синтаксис истории; не идеал, а характер. Данный путь не ведет ни к индивидуализму, ни к брутальному национализму, но Гёте уже видит в этой тенденции некую угрозу и развивает (также в полемике со штюрмерством и ранним романтизмом) контрмотив: рассуждения о «мировой литературе» и «мировой культуре».
Раздел о Гёте Лосев завершает характеристикой «Фауста» с точки зрения гётеанской версии классицизма: «Пережив в молодости со всей немецкой литературой период „бури и натиска“, а затем в течение долгих десятилетий винкельмановскую эстетику, Гёте обнаружил несвойственное классикам, а тогдашним романтикам свойственное, только в малой степени, глубокое понимание судеб европейской культуры Нового времени в своем знаменитом „Фаусте“. Изобразив правду вечного стремления в I части этой трагедии, Гёте мастерски показал в ее II части, каким образом брачный союз феодального рыцаря Фауста с винкельмановски понимаемой античной Еленой создает революционную стремительность Евфориона, как эта Елена улетает на небо, оставив только свои внешние покровы, и как, наконец, одинокий престарелый Фауст находит утешение только в жизненной и технической помощи людям. В этом произведении Гёте не только показал историческую необходимость винкельмановской античной красоты для возрожденческой Европы, но также и ограниченность, историческую обреченность этой красоты в связи с восхождением буржуазной цивилизации. Здесь тоже необходимо находить завершительную роль Гёте как теоретика классицизма Нового времени»[275].
Указывая на «обреченность красоты», Лосев несколько сдвигает гётевские акценты, приближая смысл эпизода с Еленой к гегелевскому концепту «конца искусства». Но у Гёте сюжет с Еленой не так однозначно пессимистичен. Замысел Фауста в контексте трагедии весьма прозрачен: чтобы достичь искомого совершенства в здешнем мире, ему нужно соединить два духовных мира, античный и новоевропейский, или, как он его называет, северный мир (готико-романтический). Это та проблематика, которую разрабатывал веймарский классицизм в последние пять лет XVIII в., и Гёте подводит итог его исканиям именно в третьем акте второй части «Фауста». Можно ли соединить два этих мира? Если – да, то плодотворно ли будет это соединение? Важно, что речь идет не о любовной связи, как в случае с Маргаритой, но о браке, т. е. о законном, глубоком, естественном и плодотворном союзе. (Учитывая пропитанность «Фауста» гностическими и алхимическими мотивами, уместно будет назвать такой брак сизигией.) В узкосюжетном контексте это выглядит менее торжественно – как интрига и попытка Мефистофеля свести наконец Фауста и Елену, дать ему искомое счастье.
К этому центральному событию – к эксперименту с Еленой – ведут все предшествующие сюжетные нити. Особенно важны две катастрофы, связанные с «вечной женственностью»: трагедия Маргариты и драма Гомункула. В первом случае победа Фауста стала гибелью Гретхен. Во втором – триумф Галатеи стал гибелью (хотя и далеко не бесплодной) искусственного человека. Союз с Еленой стал отчасти третьей катастрофой: брак вместо синтеза даст освобождение энергии распада. Но и назвать его неудачей вряд ли можно, хотя бы потому, что античная пластическая красота, как показывает Гёте, соединилась с музыкой германской поэзии; пространство красоты получило измерение исторического времени.
Этот результат вряд ли аннулируют дальнейшие события трагедии. Но все же это трагедия, и Лосев прав, усматривая обреченность той земной гармонии, которую пытается выстроить Фауст. Интересное свидетельство оставила М.А. Тахо-Годи, вспоминая о гётеанских беседах А.Ф. Лосева и Б.И. Пуришева и обращая внимание на то, что, в отличие от собеседников, большинство исследователей не видят связи между замкнутыми в себе актами второй части «Фауста». По Лосеву же, связующим звеном становилась философия европейской истории. «А.Ф. это замечательно объясняет одной фразой: когда Гёте построил философию европейской истории, когда он увидел этот европейский прогресс, то он под конец сам его испугался, увидев, к чему этот прогресс приводит. Последний акт второй части – это трагедия человека, железного хода истории, разрушения гуманизма. Все это предопределяет трагический финал пятого акта „Фауста“. Постепенное движение к этой развязке – это еще одна связующая нить между двумя частями „Фауста“»[276].
Субъект как живая объединенность рассудка и чувственности (таково, по Лосеву, одно из главных открытий Гёте) – это в философском тезаурусе Алексея Федоровича не что иное, как символ. О Гёте в этом отношении сказано следующее: «Чисто чувственная и созерцательная данность всякого факта была для него сразу и явлением единичным, и родовой общностью, так что, будучи в этом смысле символистом, он совершенно не имел никакой надобности и даже никакой охоты выдвигать учение о символе как принципиальное философско-эстетическое понятие»[277]. Этот стихийный символизм особо ценен для Лосева, и потому в книге «Проблема символа и реалистическое искусство»[278] творчеством Гёте иллюстрируются самые разные аспекты символа: символика цвета[279], символический потенциал понятия и «теория символа как общности, разлагаемой в бесконечный ряд» (на примере «Фауста»)[280]. Особенно интересен здесь анализ истории образа Прометея, в рамках которого гётевский Прометей объясняется как символ художника, создателя и художественного творчества вообще[281].
В книге «Проблема художественного стиля»[282], материалы которой восходят к наработкам 1920-1930-х годов, Лосев рассматривает хрестоматийную статью Гёте «Простое подражание природе, манера, стиль» (1788) и констатирует, что «Гёте характеризует в ней стиль не столько с художественной, сколько с общежизненной и, вообще говоря, онтологической точки зрения»[283]. Лосева как автора «Диалектики художественной формы» и «Философии имени» весьма интересует такой поворот в истории понимания стиля. Не чинясь, он критикует то, как реализован гётевский концепт: «…то единственное, что нам представляется здесь основным и центральным, – это учение о соединении объективного и субъективного метода. Однако нельзя сказать, что это соединение обрисовано у Гёте в категориальном смысле слова убедительно. Ведь нужно найти такое бытие или такую жизнь, где субъект и объект уже не противостояли бы друг другу, но объединялись бы в одно органическое целое. Что же это за органическое целое? Нам представляется, что у великого Гёте здесь имеется большая неясность. Ведь выйти из сферы субъекта, не впадая опять в отвлеченную сферу объекта, это значит войти в пределы такого бытия, где действительно уже по самому существу невозможно разделять субъект от объекта»[284].
Неясность или недоговоренность, с которой мы действительно сталкиваемся здесь у Гёте, Лосев предлагает преодолеть следующей конъектурой: «Нам представляется, что таковым является общественное бытие, или, говоря шире, социально-историческое бытие, или, говоря еще шире, космическое бытие. Насколько можно предполагать, Гёте признавал стиль только за такими художниками, которые умеют отразить именно социально-историческое или космическое бытие с теми или другими его ступенями, с тем или другим его обобщением, в тех или иных его проявлениях. Другими словами, – обладает ли данное художественное произведение стилем или им не обладает, это определяется у Гёте не просто его какой-нибудь структурой, но именно достаточно широкой социально-исторической моделью»[285].
То, как Лосев «достроил» мысль Гёте, может вызвать возражения педантов, но нельзя не признать, что с этой точки зрения становится понятным «стиль» такого шокирующего своей внешней хаотичностью произведения, как «Фауст». То есть мы имеем дело со стилевой формой, которая изоморфна высвеченной в произведении реальности. «Чтобы данное художественное произведение обладало стилем, для этого, по Гёте, вероятно, необходимо и соответствующее содержание, а именно содержание достаточно обобщенное и широкое, достаточно внушительное по своей глубине и по своему богатству. <…> Стиль, по Гёте, это есть достаточно глубокая содержательность художественного произведения, т. е. такая, которая уже выходила бы за пределы и субъекта, и объекта, но изображала бы собою такую жизнь и такое бытие, которое не только выше всякого отдельного субъекта и всякого отдельного объекта, но даже лежит в их основе, их осмысливает и их оформляет в их раздельности, как и в их единстве»[286]. Мы узнаем в этой характеристике столь важную для Лосева онтологическую категорию, как миф. Истинный миф Гёте, таким образом, это не аллегории и символы, а Стиль.
Гётеанские темы А.Ф. Лосева, рассмотренные здесь на примере поздних текстов, фокусируются в «Диалектике художественной формы» – в первую очередь в Примечаниях, где дана сжатая история западной эстетической мысли от греков до XIX в. В веймарском классицизме, рассмотренном в соответствующем разделе, Лосев выделяет две составляющие: «гёте-шиллеровский платонизм с кантианскими привнесениями» и «гётевский мистический спинозизм». Толкование гётеанского классицизма, в свою очередь, позволяет Лосеву осуществить сопоставление классического и романтического как типов мировоззрения: «[Романтизм] это – субъективистически индивидуалистическая, потенциальная бесконечность пантеизма. Классицизм же есть соборно-космическая, актуальная бесконечность идеи. Таким образом, романтическое и классическое мироощущение, искусство, философия, романтическая и классическая эстетика противоположны друг другу до полной полярности»[287]. Лосеву эта полярность нужна для того, чтобы заложить исторический фундамент своей теоретической конструкции: «…насколько яркой представляется мне противоположность этих типов с точки зрения опытно-мифологической, настолько категорически выставляю я тезис о существенном тождестве конструктивно-логической системы этих двух опытов и двух мифологий»[288].
Классицистская эстетика как мифология – это концепт, принципиально важный для понимания лосевского подхода к наследию Гёте. Классицизм как «соборно-космическая, актуальная бесконечность идеи» – это по сути лосевского пафоса вершина духовного развития Просвещения. Хотя для истории диалектики это лишь одна из двух полярных составляющих. Вспомним, впрочем, что Гёте учил на основе полярностей совершать «восхождение», их преодолевающее и синтезирующее. Для Лосева такое восхождение – сам Гёте, причем даже в свой ранний период. «Ясно, что, как поэт, Гёте уже был таким универсалистом, который должен быть в то же время и крайним индивидуалистом, и таким индивидуалистом, который должен быть и крайним универсалистом. У него такая бесконечность, которая в то же время есть и конечность, и такая конечность, которая необходимым образом есть в то же время и абсолютная бесконечность. И т. д. и т. д. Словом, это – такой именно опыт, который должен и который только и может породить из себя диалектику»[289].
Для Лосева, не стоит забывать, настоящая диалектика – это платонизм, имплицитно содержащий в себе возможность гегелевского пути. Диалектика марксистская по отношению к ней – почти омоним, хотя именно это позволяет Лосеву вести свою виртуозную игру с советской цензурой. С учетом сказанного мы имеем право видеть вслед за Лосевым в диалектике Гёте возрождение истинного платонизма. «Делая общее заключение о философии Гёте, надо сказать, что к началу 90-х годов он не дал диалектических схем, хотя во многих отношениях и способствовал появлению диалектики. Во-первых, тут базой было интенсивнейшее чувство мистического антиномизма. Во-вторых, тут устанавливались некоторые весьма важные феноменологические категории (напр., целого и части, совершенства как функции бесконечного в конечном, интеллектуально-оптического первообраза и подражания ему всего сущего и пр.), результатом чего было трактование искусства и природы как живой интеллектуальной мощи, созерцаемой в законченных формах. Гёте далеко было до диалектики, но все это – та почва, на которой не замедлила появиться и настоящая диалектика. Вырожденчество просветительского „эмпиризма“ и „рационализма“, узкое и зашибленное, убогое мировосприятие 18-го века, духовное растление и мелкота салонного философствования не могли, конечно, быть почвой для диалектики. Диалектика – цельное и конкретное знание, и это очень тонкое и глубокое знание, чтобы оно могло зародиться в абстрактной и плоской метафизике просветительства. Она требует такого же цельного, конкретного, глубокого и тонкого опыта. И вот он нарастает у Шиллера и Гёте и – празднует свою победу в романтизме 90-х годов и начала 19-го в.»[290]
Для полноты картины необходимо также учитывать глубокую связь важнейших концептов «Диалектики художественной формы» – таких как «середина», «абсолютная адеквация», «первообраз» – с эстетикой Гёте, исполненной в его творческой энтелехии. Так, например, Лосев говорит, что художественное сбывается в том случае, если есть полное, исчерпывающее соответствие того, что выражается, и того, что воплотилось в процессе выражения[291]. Он называет это «абсолютной адеквацией» смысловой предметности (т. е. того, что всегда идет от высших слоев диалектического процесса) и ее воплощения в инобытии.
Для обычного сознания мысль о том, что в художественном произведении происходит не частичное выражение чего-то, а полная адеквация двух уровней, – это мысль весьма необычная. Между тем на ней Лосев настаивает по следующим соображениям. Для него важно различить «языческую» античную диалектику и ту, которая в христианскую эпоху – от патристики до Николая Кузанского – осваивала новый тип понимания самоотрицания Единого: тип, чуждый поэтапного ослабления эманации. Диалектике Нового времени, основанной на этом типе, свойственно представление о таких моментах в бытии, в которых высшее выразилось во всей полноте. Это не только сферы божественного, где властвует догмат о двойной природе Христа. Лосев показывает, что и в мире феноменов тоже есть такие моменты, где нельзя обойтись без признания абсолютности совпадения идеального и фактуального. Из этой лосевской установки следует необычный и сильный тезис о том, что энергия эйдосов в какой-то момент должна найти не косвенное, а прямое воплощение, в котором происходит взаимное исчерпание того, во что эйдос воплотился, и смысла, который явился через воплощение. Как поясняет Лосев, любое (не только великое) произведение искусства дает нам некий художественный факт, который мы не имеем права сводить ни к определенному смыслу, отдельно от него существующему, ни к той материи, в которой этот смысл воплотился. В связи с этим Лосев провокационно остро, как часто у него бывает, подчеркивает, что в настоящем искусстве невыразимое всегда выражено: если есть невыразимое, значит, просто не сбылось искусство.
Из принципа абсолютной адеквации следует принцип обязательной целостности произведения искусства, т. е. понимание его как уникального события. Из чего далее следует весьма экстравагантный вывод Лосева о том, что любое художественное произведение – это живое существо[292]. В контексте его диалектики это более понятно, потому что для Лосева жизнь – любое состояние материи, к которому прикоснулось излучение Единого: материя как бы заставляет себя организоваться вокруг этой точки прикосновения и воспроизводить Единое в той мере, в какой это возможно. Единое со своей стороны диалектически осваивает материю. Когда же смысл осваивает свое инобытие, получается живое существо, у которого есть свой центр, свое квази-«я», свое «тело» и определенная внутренняя биография этого «я», потому что, по некоторым замечаниям Лосева, художественное произведение не застывает и не исчезает после его создания – там продолжается внутренний диалог его формы и содержания. Внешняя оболочка этого процесса – исторические интерпретации произведения. Сама внешняя биография возможна благодаря внутренней, с ее постоянной динамикой, обусловленной тем, что любой шаг Единого по лестнице духовных имен порождает новый тип жизни. Отсюда – любимое лосевское выражение, которое воспринимается как метафора, о том, что диалектика – это не описание жизни, а сама жизнь. Но в данном случае это не риторика, а фиксация системного момента в проявлении энергии эйдоса, превращающего состояние инобытия в художественное произведение. Творчество Гёте и его концепт формы как «живого чекана» идеально иллюстрируют это сложное лосевское построение.
Столь же показательный момент – учение о первообразе – одна из самых оригинальных новаций Лосева в «Диалектике художественной формы»[293]. В данном случае нельзя объяснять лосевский «первообраз» только гётевским «прафеноменом», но надо признать эти концепты ближайшими родственниками. У Лосева «первообраз» – это наглядно данная сущность или смысловая предметность, которая является источником всех своих возможных воплощений в рамках художественной формы. Парадокс в том, что этот первообраз появляется не вне художественного произведения, как некий образец, а как одна из его функций. Исходная категория во всех построениях книги – это «выраженность». Художественная форма – то состояние высшего смысла, когда он выражен, экспрессивно воплощен. Но любая выраженность смысла сразу задает нам два полюса. Первый – конкретное выражение в образах, в идеях, а если говорить в совокупном смысле – именно в символе, потому что символ позволяет существовать этому смыслу как единичности. И второй полюс – эта же данная выраженность, но выявляющая свой первообраз, указывающая, как пульсирует некий центр художественного произведения, который по всем законам апофатики остается невыраженным.
Здесь очень важно, что перед нами не динамика отображения внешней реальности. Первообраз – это странный элемент художественного целого, который не детерминирует произведение, но функционально возникает только тогда, когда образ себя воплотил в материале; это обязательный полюс абсолютного, который возникает в любом произведении искусства. Сознает сам автор это высвечивание первообраза или нет, совершенно неважно, утверждает Лосев. Это, если угодно, более сложная ретроспективная версия «прафеномена», которая и логически, и генетически связана с интуициями Гёте.
Это всего лишь несколько примеров. Но сказанного достаточно, чтобы представить, как в лосевскую диалектику художественной формы встроены парадоксальные, вызывающие, провоцирующие учения, которые отнюдь не являются традиционными, но глубинно перекликаются и с немецкой классикой, и с платонизмом. Не будет преувеличением сказать, что Гёте оказался в этом дерзком и выдающемся предприятии одним из главных союзников Лосева.
М.К. Мамардашвили как философ культуры
В 1990 г. в журнале «Латинская Америка» была опубликована беседа с Мамардашвили, получившая название «Другое небо»[294].
С самого начала был сформулирован вопрос, задавший модальность всему разговору: «Какое содержание вкладывает в понятие „культура“ современная философия?»[295] От судеб латиноамериканской культуры речь довольно быстро перешла к некой духовной патологии, которая обнаружилась в деяниях иезуитов, в теологии «освобождения», у большевиков… Мамардашвили определяет ее как «материализацию абсолютных понятий»[296]Другими словами – как попытку превратить идеалы, метафизические и религиозные понятия в «наглядные образования» и в руководство к прямому действию по воплощению идеала в жизнь здесь и сейчас. Мамардашвили дает не только диагноз, но и этиологию болезни: она возникает «в силу отсутствия традиции отвлеченной культуры»[297]. «…За этим стоит, конечно, фундаментальное, где-то в метафизике заложенное, изначальное извращение. В частности, оно проявляется в том, что абсолютно отсутствует понимание и даже допущение символического характера понятий, определенного рода понятий, отсутствует понимание того, что они вовсе не указуют на какой-либо предмет, который можно было бы осуществить»[298].
«…Культуру можно определить и так: культура есть владение тем, чем нельзя владеть предметно, вещно и потребительски»[299]. Чтобы показать, к каким потерям приводит предметно-вещное отношение к культуре, Мамардашвили выбирает два предиката: «формальное» и «символическое». Если демократия, замечает он, полагается неким реальным состоянием, которое должно быть реализовано и чему может помешать только чья-то злая воля, то ее «формальность» мыслится как недостаток, как отсутствие демократии. Но культура демократии учит как раз тому, что демократия есть лишь форма и ее нельзя опредметить и распределить. «Стоит только в демократию внести какое-то содержательное определение, то есть материализовать его, как демократия разрушится. Она станет частной. Ибо всякое содержание, какое бы оно ни было громадное, оно – частное, конечное и ограниченное, даже весь космос, космос как предмет, он ограничен. Вы внесли содержательное определение, и все. И на следующий день вы проснулись в недемократическом обществе»[300].
Целью закона является закон; целью права – право. «…Право есть создание ситуации поиска права правовыми способами. Это тавтология. Живая тавтология. Вот тогда мы говорим о правовом состоянии. Не тогда, когда в эмпирических случаях все правильно делается и всем по заслугам или по вине воздается. Этого может не случиться»[301]. Еще один неслучайный пример, приведенный автором, – «испанское понимание чести». «…Честь не есть некоторое реализованное построение. Оно никогда не может быть реализовано. Честь есть состояние человека, способного держать противоположное, раздирающее в разные стороны. Дух одно, тело – другое»[302].
Обобщая характер абсолютных понятий, Мамардашвили замечает: «Особенность этих понятий состоит в том, что они указуют на какую-то апорию, фундаментальную неразрешимую апорию, разрешением которой является состояние человека, который держит две стороны этой апории»[303]. «Они говорят не о предметах, эти понятия, указывающие на оппозиции, а о состоянии человека, способного удерживать лук Гераклита. Если помните, есть такая старая метафора. Только напряженный лук посылает стрелу, стрелу истины. Ну, в общем, просто, конечно, – только человек, знающий, что мысль не властна над реальностью, может мыслить истинные реальности. А стоит только допустить, что эта оппозиция разрешима и задача человека в том, чтобы разрешить эту оппозицию в реальности, – и появляются утопии социальные. <…> Но раз мы ввели указание на человека, который совершает какое-то усилие, – на вершине или на седле волны этого усилия держится какое-то состояние в мире или вокруг этого человека, а не в предмете, – то мы уже ввели понятие личности и тем самым понятие истории»[304].
Мы легко узнаем здесь любимую мыслительную схему Мамардашвили: духовное усилие – некое удержанное человеком состояние – личность – историческое время. Но на этот раз данная цепочка была инициирована особой исходной интуицией: осознанием невозможности опредметить специфические состояния духа, которые включают в себя оба полюса неразрешимой апории. Эти состояния порождают символическую реальность, реальность «духовных иносказаний», которая в состоянии разомкнуть плотную однородность эмпирического мира. Отсюда и парадоксальное утверждение: «только человек знающий, что мысль не властна над реальностью, может мыслить истинные реальности». Но отсюда же и другой – также нетривиальный – вывод о том, что культура сама по себе не гарантирует рождение этих символических состояний. Культура может оставаться в измерении безличной инерции, и тогда мы имеем дело с сомкнувшимся временем, с непройденным путем от «усилия» к «истории».
Мамардашвили усматривает в истории некую «аномальность» на фоне привычно-нормального внеисторического состояния. Но именно эта аномалия позволяет осуществлять то, что названо им «контактом». Контакт – это личностный акт понимания, возможный только «внутри истории». Но доисторическое, или «мифологическое», прошлое пребывает рядом, и исторический человек с ним может встретиться. Речь здесь, конечно, не о встрече современности с архаикой. Мамардашвили больше озабочен встречей двух современных ментальностей, одна из которых не прошла через рождение личностно-исторического. «…У меня такое ощущение, что темнейшие проблемы осложнены тем, что мы встретились со своим собственным внеисторическим прошлым, мифологическим прошлым…»[305]Драматичность встречи в том, что контакт внеисторического и исторического невозможен, хотя в обоих случаях мы можем иметь дело с полноценными культурами. Мамардашвили вводит в связи с этим свое различение культуры и цивилизации. «Вообще я считаю, что контакт между культурами невозможен. То, что мы называем контактом, есть то, что условно можно назвать цивилизацией – не в смысле уничижительного различия цивилизации и культуры. Я, наоборот, считаю, что культур много, а цивилизация – одна. Она же и есть контакт. А в строгом смысле между культурами контакта быть не может. Тем более с культурами, которые возникали не на оси мировых религий»[306].
И тут Мамардашвили сталкивает читателя с еще одним парадоксом: из усмотренного следует, что концепция самобытности культур – расизм наоборот. Приводя в качестве достаточно случайного примера ритуальный танец индейца, который, глядя на солнце, делает определенные шаги по земле, находясь внутри условного замкнутого конуса, автор восклицает: «Ведь обязательно среди этих делающих шаг и смотрящих на солнце будет кто-то, кто захочет сделать шаг, выводящий его из этого круга, шаг, после которого он увидит другое солнце, то есть шаг, трансцендирующий окружающую, родную, свою собственную культуру и среду ради ничего. Не ради другой культуры, а ради ничего. Трансценденция в ничто. А это вообще-то, в действительности, и есть живой центр пульсации всего человеческого мироздания – событие такого рода, такого рода акт. Это и есть первичный метафизический акт. Он неотъемлем от человеческой конституции. Значит, если я защищаю права этого племени шагать именно так, как они шагают, я сворачиваю шею тому возможному и скрывающемуся среди них «иксу», который может прорвать этот горизонт»[307]. «Таким образом, защита своеобычности оказывается иногда отнятием прав на свободу и другой мир»[308].
Когда Мамардашвили говорит о праве человека, инкорпорированного в свою культуру, увидеть «другое Небо», он – что не редкость в его речах и текстах – держит в сознании еще и новозаветную (в данном случае – апокалиптическую) коннотацию, без всяких, впрочем, подсказок читателю. Но здесь она почти лишена религиозной ауры: ведь речь идет об измерении универсальности, в которое выходит человек (выходит из культуры, поскольку «универсальных культур быть не может»[309]), делая своего рода следующий шаг после выхода в «историческое» и попадая в «вечное настоящее»[310], которое также называется здесь «измерением возможного человека»[311]. Чтобы пояснить эту неочевидную связь «настоящего» и «возможного», Мамардашвили вновь возвращается к теме овеществления символического и дает новое определение культуры: «Культура – это способность деяния и поведения в условиях неполного знания»[312]. Неполное знание, поясняет он, это универсальное, которое непредставимо, но символически обозначено. Бескультурье требует знания и обладания, тем самым уничтожая свой предмет, превращая его в проекцию своей воли. Культура учит жить без материализации непредставимого, но взамен дает живую реальность.
С.С. Аверинцев как философ культуры
Казалось бы, научная проза С.С. Аверинцева – благожелательно открытая вниманию читателя, неагрессивная, литературно темперированная, не перегруженная специальной терминологией – не должна иметь препятствий для понимания. Но в какой-то момент читатель открывает не вполне комфортную для него истину: автор ждет от него неформального акта вникания в тему, без концептуальных подсказок и заранее известных правил игры в тот или иной «изм». Но это трудно – ведь читатель, по ехидному замечанию Гегеля, ищет «понятия», как ленивый ищет стула. Аверинцев же как раз этого поспешного приклеивания ярлыка принципиально избегает. Постоянный рефрен его работ – выражения типа: «будем, однако, осторожны», «попытаемся заново удивиться», «попытаемся увидеть как бы заново» (выписанные в данном случае из наугад открытой статьи). Поэтому слова «метод», «школа», «направление» и т. п., которыми мы обычно пытаемся зафиксировать своеобразие авторского научного стиля, оказываются бесполезными.
Взять хотя бы заглавие этого текста. Неудивительно, если что-то подобное вызвало бы в свое время возражение Сергея Сергеевича. Скорее всего, предикат «философ культуры» своей дисциплинарной определенностью спровоцировал бы вежливый протест Аверинцева: ведь он напрямую связывал свой труд с цехом филологии и глубоко отрефлексировал это в хрестоматийной уже статье[313]. Но вот одно из данных там разъяснений сущности филологии: «Ее строгость состоит не в искусственной точности математизированного мыслительного аппарата, но в постоянном нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возможности человеческого понимания. Одна из главных задач человека – понять другого человека, не превращая его ни в поддающуюся „исчислению“ вещь, ни в отражение собственных эмоций. Эта задача стоит перед каждым отдельным человеком, но также перед каждой эпохой, перед всем человечеством. Филология есть служба понимания и помогает выполнению этой задачи»[314].
Не возлагается ли здесь на филологию миссия, которая слишком масштабна для какой бы то ни было науки? Не прочерчено ли здесь с философским размахом поле сотрудничества всех духовных способностей человека? Но отвечая «да», мы понимаем, что осуществленная здесь передача филологии функций философии есть акт философский; акт, обусловленный очередной исторической трансмутацией философии и ее способностью к обновлению. Вот подтверждающее наблюдение искушенного читателя аверинцевских текстов: «Не концепции, но тексты и голоса: в этом своем качестве филология – вопреки интеллигентски-позитивистскому предрассудку, распространенному в России и на Западе, – обнаруживает как бы неожиданную близость, между прочим, и к философии». «Парадокс филологии <…> заключался, собственно, в том, что не философия, но филология оказалась в последние советские десятилетия даже философски более чуткой и более подготовленной к восприятию и осмыслению отдельных, региональных онтологий исторического опыта прежних (и самых разных) эпох – другого сознания, чужого слова. И это сделало филологию также более чуткой и подготовленной к восприятию сдвигов в современном восприятии – и не только в искусстве»[315].
Однако, даже если мы отстоим право на номинацию «философия культуры», это не слишком облегчит задачу интерпретации исследовательского стиля Аверинцева. Еще одно препятствие – отсутствие каких бы то ни было доктринально-методологических лозунгов и связанное с этим отсутствие устойчивого терминологического инструментария; отсутствие «дискурса», вместо которого – гибкий, лексически богатый, узнаваемый стиль. Это, конечно, сбивает с толку. Мы привыкли реагировать на «фирменные» концепты и фразеологизмы, по которым выявляется дискурс бахтинской или тартуско-московской школы, структурализма, витализма, школы «Анналов». Мы знаем, какие методологические правила предлагаются этими дискурсами, чего от них ждать и как всему этому учиться. Но в работах Аверинцева ничего такого нет, и возникает ощущение, что научиться тут ничему нельзя: такое мастерство не транслируется. Представляется все же, что и это было слишком простым решением. В исследовательской манере Аверинцева высвечивается арсенал приемов, которые автор не стремится превращать в секрет маэстро для избранных адептов. Давать систематическое описание этих научных принципов еще рано: попробуем сделать черновой набросок (прибегая по необходимости к изложению «своими словами»).
Ключевой постулат всей исследовательской практики Аверинцева – видение культуры как взаимодействия трех относительно независимых элементов: природы, человека и духа. Это трипарциальное деление далеко не тривиально. Европейская философия культуры формировалась начиная с XVIII в. в поле просветительского мифа о человеке и его культуре как продуктах дифференциации или эволюции природы. После хронологически короткого восстания немецкой трансцендентальной философии позитивизм XIX в. опять воспроизводит этот миф, а витализм XIX–XX вв. дает его новую редакцию. В свете этой установки культура предстает или бессознательной объективностью, руководимой внеположными ей силами, или порождением субъективного творческого произвола. В универсуме
Аверинцева культура порождена сложной игрой-борьбой трех означенных стихий, в которой человеку как посреднику между двумя объективными мирами природы и духа досталась роль связующего звена, роль силы, предназначенной к тому, чтобы «безличное – вочеловечить» и «несбывшееся – воплотить». Поэтому для Аверинцева категорично неприемлема идея культуры как локального организма, сформированного пространственно-временной средой и не допускающего действительного контакта с другими культурными организмами. Так, отдавая должное гениальной интуиции Шпенглера, тщательно вычленяя значимые моменты его учения, Аверинцев с редкой для него жесткостью называет все остальное бессмыслицей и абсурдом[316]. Культура едина в силу универсальности единящей силы духа и неотчуждаемости от человека стремления к сверхприродному смыслу. Из этой аксиомы следует другой исследовательский принцип Аверинцева: запрет на объяснение культурного явления внешними факторами.
Эту установку можно обозначить как «интернализм». Историки науки иногда называют интернализмом объяснение той или иной концепции ее внутренней логикой и взаимодействием с другими концепциями, а экстернализмом – объяснение через внешние силы (среда, интерес, психология, социальные отношения и т. п.). Мастерски реконструируя историческую среду и проявляя при этом чудеса полигисторства и эмпатии, Аверинцев никогда не прибегает к «игре на понижение», к редуктивному объяснению высшего через низшее или побочное. Стоит заметить, что интернализм предъявляет большие требования к технике анализа культуры: необходимо не только проследить филиацию идей, но и выявить не предусмотренные замыслом автора или логикой полемики (а то и вовсе скрытые) импликации, которые, тем не менее, рано или поздно оказываются действующими факторами культуры. Аверинцев владел этой техникой виртуозно, причем, как правило, осуществлял свои исследования на сугубо интересном для него кросс-культурном уровне. Нетрудно догадаться, что искусство интерпретатора и переводчика, которому Аверинцев отдал так много сил, было для него отнюдь не творческой параллелью, но составной частью этой техники, позволяющей изнутри увидеть устройство культуры как смыслосозидающей машины.
Далее о том, что можно было бы назвать «принципом перекрестка». Для топики трудов Аверинцева характерен выбор эпох, позволяющих наблюдение за теми сложнейшими процессами, которые происходят в области пересечения путей культуры. Уже простое (если такое бывает) взаимодействие культур высвечивает их внутреннюю форму; пересечение же – будь то конфликтное столкновение, революционный поворот или эволюционная смена эпох – активизирует и обнаруживает все механизмы культурной форматуры. Это позволяет Аверинцеву продемонстрировать фантастическую «разрешающую способность» своей научной оптики. Неудивительно, что ближайший к нам по времени «взрыв сверхновой» – рождение христианства в контексте средиземноморско-европейской культуры – приковывает внимание Аверинцева с особой силой, поскольку затрагивает и интересы ученого, и самосознание христианина. В свете сказанного понятно, почему ряд статей, посвященных феномену «перекрестка», относятся к вершине мастерства Аверинцева[317].
Следующий принцип назовем «принципом трансфокации». Культурология требует от исследовательского взгляда искусства в надлежащий момент менять фокусировку, масштаб, план и т. п. Для нее это важнее, чем для других наук гуманиоры, поскольку парадоксальным образом позволяет увидеть единство тенденции или формы на разных взаимопроясняющих уровнях. Для Аверинцева это естественный и послушный инструмент, а главное, инструмент очень ценный, поскольку исследователь уверен: нет такой детали, в которой не явлено было бы целое; нет такой универсалии, в которой не содержалась бы формула порождения ее сингулярностей. С одинаковым интересом он всматривается и в эпохи мировой культуры[318], и в рифмы капитана Лебядкина, и в судьбы христианства XX в., и в манеру ранневизантийских неоплатоников выбирать для своих созерцаний «привилегированные» буквы алфавита. Иногда в связи с этим говорят о фрагментарности творчества Аверинцева, не понимая, что здесь мы как раз сталкиваемся с решительной установкой на интегральность видения культуры, которая обеспечивается умением найти эффективную и каждый раз индивидуальную траекторию движения по уровням общности. Не случайно Аверинцев любил жанр энциклопедической статьи. Гипертекст энциклопедии, собственно, и задает соположенность в одном информационном поле разномасштабных явлений.
Для следующего принципа нашел меткие слова Томас Манн: «аристократическое чувство формы». «Аристократическое», потому что мещанский утилитаризм старого Нового времени утратил способность видеть смысл в креативной силе формы. Эту интуицию приходилось отстаивать в последние века Европы снова и снова – и со все меньшим успехом. Пост-шпенглеровская философия культуры в некоторых своих направлениях реабилитировала форму, и Аверинцев, бесспорно, принадлежит к наиболее радикальным защитникам онтологического смысла формы. Для подтверждения достаточно привести следующий пассаж: «Так называемая форма существует не для того, чтобы вмещать так называемое содержание, как сосуд вмещает содержимое, и не для того, чтобы отражать его, как зеркало отражает предмет. „Форма“ контрапунктически спорит с „содержанием“, дает ему противовес, в самом своем принципе содержательный; ибо „содержание“ – это каждый раз человеческая жизнь, а „форма“ – напоминание обо „всем“, об „универсуме“, о „Божьем мире“; „содержание“ – это человеческий голос, а „форма“ – все время наличный органный фон для этого голоса, „музыка сфер“»[319].
«Классическая форма <…> задает свою меру всеобщего, его контекст – и тем выводит из тупика частного»[320].
Наконец, «принцип середины». Речь – не об умеренности, а об аристотелевской середине: о способности находить в ситуации выбора полярные, одинаково разрушительные крайности и определять точку стояния (а то и акробатического балансирования) в центре, в спасительной середине. Здесь сходятся две темы, единство которых в личности Аверинцева много говорит о нем. Одна – умение исследователя видеть культурную динамику как гераклитовскую гармонию лука и лиры, а также умение видеть в спектре научных методов соблазнительные и комфортные «края», к которым тяготеет сознание, нуждающееся в простоте и определенности. Другая – личная позиция ученого, которого общество рано или поздно спрашивает не о вечном, а о «злобе дня». Аверинцев здесь неуклонно придерживался мотто любимого им Честертона: стоять можно под одним углом, падать – под бесконечно многими. Плата за стояние в «середине» была немалой. «Находясь на позициях смыслового центра, Аверинцев должен не устраивать одних – как либерал и модернист, других, напротив, – как рафинированный обскурант, не желающий понять запросов времени»[321].
Завершая, замечу, что стоит обратить внимание на жанровые предпочтения Аверинцева: это поможет сделать еще один шаг к пониманию его наследия. Чаще всего мы встречаемся с многоуровневым описанием конфликтов культурных миров и форм их разрешения. Не реже – с портретированием эпохи или субъекта, с воссозданием их голосов, с эвокацией их исторического образа или даже миссии. Но мы не встретимся с плавным, организованным некой фабулой повествованием о ходе событий, будь то события исторической эпохи или этапы систематического раскрытия авторской концепции. Жанры Аверинцева: портрет и конфликт. Если воспользоваться античной схемой: лирика и драма. Но эпоса нет. Аверинцев высказывал сожаление (не исключено, что в какой-то мере ироническое) о том, что он не стал автором Книги, которая была бы его авторской эмблемой. Во всяком случае этот жанр и правда плохо совместим с его писательским миром.
Но дело здесь, пожалуй, не в неприятии «больших нарративов», к чему призывали постструктуралисты. И не в императиве «идиографии», который выдвинули неокантианцы для наук о духе. Эпос неуместен в рождающемся сейчас новом культурном поле с его специфической «сетевой» организацией. Конечно, его можно реанимировать – назло и вопреки; или же – для того чтобы создать идеологический миф. Но ведь заинтересованный исследователь не должен терять контакта со своим временем как с естественной точкой отсчета. Аверинцев, как правило, концентрируется на двух антиномичных аспектах культуры: на статике традиции и на динамике творчества. Через их взаимоограничение он декодирует послания культуры. Поэтому Аверинцеву необходимо было пожертвовать эпическим нарративом (если потребность в нем была), жанром, который стремился бы к естественному «снятию» лиро-драматического видения. Если мы посмотрим на логику жанрового развития культурфилософии Серебряного века, то найдем схожие секвенции. Близкий Аверинцеву пример: эволюция Вяч. Иванова, эпические импульсы которого завершались такими новациями, как небывалый жанр мелопеи. Аверинцев не был первопроходцем, он – наследник, а именно: наследник сокровищ Серебряного века. Но в сокровищницу эту он, как достойный наследник, внес опыт свидетеля конца модернитета, особую ценность которому придает феноменальный дар толкователя глубинных смыслов культуры.
Г.С. Кнабе как философ культуры
метаморфозы культурологии также могут быть свидетельствами культурных сдвигов и эпохальных веяний. Г.С. Кнабе отмечает две существенные мутации в науках о культуре за последние полтора столетия: 1) столетие 1850–1950 гг. перенастраивает научную оптику с истории «больших» событий и институтов на описание и понимание устоев и обыкновений жизни малых групп и индивидов; 2) с 1950 г. начинается реабилитация открытой прошлым столетием «Жизни» в качестве предмета, равнодостойного высокой «Культуре» и даже имеющего перед ней определенные преимущества, как живой субстрат («Повседневность») перед своими застывшими и отчужденными формированиями[322]. Собственно, истоки этого процесса – в XVIII в. Рождение принципа историзма, интуиции культурного релятивизма и плюрализма, интерес к индивидуальности и ее творчеству, к эстетическому, к бессознательному, внимание к экономической и социальной подоснове истории, успехи таких наук, как археология, востоковедение, сравнительная лингвистика, антропология, педагогика, – все это создает предпосылки для рождения (внутри Просвещения и рядом с ним, в качестве контрпросвещения) нового видения связи человека, общества и природы. Именно здесь коренится тот конфликт Жизни и Разума, который в ходе Нового времени будет шаг за шагом решаться в пользу Жизни, как бы ни толковалась эта универсалия.
Однако не наметилась ли некая тенденция к обратному движению культурного маятника? Не выявила ли «игра на понижение» пределов своих возможностей? Долгое время витальная доминанта в культуре имела своего оппонента в виде структурализма (того или иного толка) или же скептически настроенной аналитики. Но такой «теневой кабинет» только доказывал легитимность самой ситуации разделения начал разума и жизни на конфликтный бином. С какого-то момента (не позже послевоенных 1920-х) и в культуре, и в ее рефлексии ощущается исчерпанность ценностей «лебенсфилософи»; нарастает потребность в новом синтезе (не позже послевоенных 1960-х); появляются спорадические, но вполне осознанные попытки противопоставить так называемому постмодернизму новый «договор о сотрудничестве» с европейской классикой. «Вектор культуры направлен на преодоление культурой самой себя, своих собственных границ. Современная ситуация обнажает корневую связь культуры с бытием, культурологическая проблематика естественным образом перерастает в онтологическую»[323]. Если наблюдение М. Блюменкранца справедливо – а я думаю, что это так, – то и философия культуры должна дать нам материал для размышлений над этим процессом.
Я предлагаю вчитаться в небольшую работу Георгия Степановича Кнабе «Энтелехия культуры»[324], которая вышла в 1993 г. и вызвала в сознании тогдашней гуманитарной общественности довольно значимый резонанс. Однако ее теоретические импликации так и остались невостребованными, да и автор редко пользовался введенным им термином, хотя сам концепт развивал и продолжает развивать со впечатляющим разнообразием мыслительных приемов и тематического материала. Для начала – небольшой обзор истории понятия. Энтелехия (греч. entelecheid) – это слово, выдуманное Аристотелем: в греческом языке его не существовало, и точное его разъяснение было проблемой уже для древних. Из этимологии и аристотелевского контекста достаточно ясно, что речь идет о некоем целеобладании и воплощении цели в индивидуально очерченной предметности. Обе основные интерпретации «энтелехии» – как обладание завершенностью (entelōs echein) и как содержание в себе цели (telos en heautō echein) – могут быть совмещены и предполагают внутреннюю работу цели (процесс), приводящую к исполнению и воплощению (результат). Аристотелевский ресурс этого понятия возрождается великими философами по крайней мере трижды: Лейбницем в его «Монадологии», Гёте в его натурфилософских размышлениях и Гуссерлем в «Кризисе европейских наук»[325].
Задержимся немного на цитатах из Гуссерля: эти темы из «Кризиса…» нам еще пригодятся. Энтелехией Гуссерль называет историческое выявление универсального разума: «Если человек существо разумное (animal rationale), то лишь в той мере, в какой разумна вся его человеческая общность – скрыто ориентированная на разум или открыто ориентированная на пришедшую к себе самой, ставшую для себя явной и отныне в силу сущностной необходимости сознательно руководящую человеческим становлением энтелехию. Философия, наука была бы тогда историческим движением выявления универсального разума, „врожденного“ человечеству как таковому. Так было бы в действительности, если бы до сих пор еще не завершенное движение оказалось энтелехией, подлинным и правильным способом осуществляющей свое чистое воздействие, или если бы разум на деле стал полностью осознанным и явным для самого себя в свойственной его существу форме, т. е. в форме универсальной философии, развертывающейся в последовательных аподиктических усмотрениях и аподиктическим методом нормирующей самое себя»[326]. Идею истины Гуссерль считает «…таким изобретением, которое возводит или призвано возвести человека на новую ступень в новой историчности человеческой жизни, чьей энтелехией является эта новая идея и поставленная в соответствие ей философская или научная практика, методика научного мышления нового вида»[327].
Общность, ориентированная на руководящую человеческим становлением энтелехию, – это, по сути, и есть культура. Будучи не только вдумчивым читателем, но и весьма компетентным переводчиком Гуссерля, Г.С. Кнабе, конечно, вбирает эти идеи в свой концепт энтелехии. Но в том приложении к конкретному материалу, которое мы находим у Г.С. Кнабе, «энтелехия» приобретает модус особого культурального метода, каковой стоит разобрать и оценить.
Ключевая проблема науки о культуре – это сравнимость разнородных культурных феноменов, или артефактов: если мы научимся эти феномены сравнивать, значит, такая наука возможна; если нет – значит, невозможна. Но беспроблемное сравнение осуществимо лишь в случае относительной однородности явлений: не составляет большого труда сравнить теории одной науки или произведения одного жанра и т. п. Однако значительно больше в культуре принципиально гетерогенных, разнородных феноменов, и это делает построение научного знания о культуре крайне рискованным предприятием: сравнение и обобщение продуктов физики, литературы, политики и т. п. грозит субъекту этой операции произволом и авантюрой (при том что фактически все эти сферы волшебным образом взаимодействуют и влияют друг на друга). Еще обиднее то, что, казалось бы, близкие явления отделены друг от друга столь же радикальной границей: скажем, интуитивно ясная близость импрессионизма живописного и музыкального не может быть доказана с логической убедительностью в силу совершенной разнородности сенсорики и семиотики этих видов искусства. Но все же, как представляется, выход из лабиринта культуры существует. Обратим внимание на то, что предмет искусства наделяется при своем рождении не только прагматическим смыслом, но и некой дополнительной значимостью, предполагающей представление (чаще всего неявное) о «целом» и его смысле. Любой артефакт подспудно содержит в себе не только утилитарное решение конкретной задачи, но и момент интерпретации мира. Этот момент и составляет специфическую добавочную значимость артефакта, позволяющую мыслить культуру как целое.
Эта «программа» достраивания реальной части до своего виртуального целого может быть специально зафиксирована и описана на первом своем этапе как особая, несомая артефактом «внутренняя форма», культурная морфема. Данному принципу посвящена специальная работа Г.С. Кнабе[328], в которой на материале предметного мира Древнего Рима показана эта, по его выражению, «трудноуловимая субстанция», определенная как «принцип восприятия различных сторон жизни через некоторый общий образ-понятие»[329]. Для Древнего Рима таким «образом-понятием» Г.С. Кнабе полагает «общее представление об изменчивой поверхности, облекающей постоянную основу», для XVII в. – корпускулу, для XIX – «поле напряжения»[330].
Весьма существенен комментарий автора к этим типам «внутренных форм». «Механизм формирования и передачи таких внутренних форм совершенно неясен. Очевидно, что объяснять их совпадение в разных областях науки или искусства как осознанное заимствование нельзя. Полибий едва ли задумывался над тем, обладает ли философски-историческим смыслом декор на его мебели, Дефо не читал Спинозу, Максвелл не размышлял над категориями звукового строя языка. Если такое знакомство и имело место – Расин, по всему судя, знал работы Декарта, – все же нет оснований думать, что художник или ученый мог воспринять его как имеющее отношение к его творческой работе. Вряд ли можно также, не впадая в крайнюю вульгарность, видеть во внутренней форме культуры прямое отражение экономических процессов и полагать, будто монадология Лейбница порождена без дальнейших околичностей развитием конкуренции в торговле и промышленности. Дело обстоит гораздо сложнее, оно требует раздумий и конкретных исследований. Пока что приходится просто признать, что в отдельные периоды истории культуры различные формы общественного сознания и весьма удаленные друг от друга направления в науке, искусстве, материальном производстве подчас обнаруживают очевидную связь с некоторым единым для них образом действительности и что такой образ составляет малоизвестную характеристику целостного культурного бытия данного народа и данной эпохи»[331].
Действительно, трактуемая автором тема, как ни странно, остается «малоизвестной характеристикой». Особенно если мы учтем, что высвеченные «образы-понятия» весьма далеки – если воспользоваться ближайшими ассоциациями – и от «прафеноменов» Шпенглера, и от «архетипов» Юнга[332]. Здесь нет речи ни о фатальной детерминации культуры некой чувственной формулой, ни об объективации каких-то «подпочвенных» структур: «внутренние формы» порождены самой культурой; они не являются выражениями или симптомами каких-либо экстернальных сил; они динамичны, интенциональны и телеологичны, т. е. ориентированы на некую цель, и потому можно различать менее удачное и более удачное искомое решение[333]. Загвоздка в том, что мы не можем сформулировать саму задачу; но ведь мы и не являемся архитекторами культуры, ее, так сказать, «программистами»: мы – более или менее искусные «пользователи», удачи которых становятся неизвестным нам образом элементами самообновляющейся «программы».
Артефакты могут быть различными, но их идеальное восполнение, достройка их до целостного универсума – это мир, единый для всех. Разные же проекты одного и того же универсума вполне могут сопоставляться. Исходя из этого, нам следует предположить, что «внутренние формы» культуры должны участвовать в процессах онтологически более высоких, в своего рода сборке морфем в сложные синтагмы. Сделав же такое допущение, мы можем теперь с большей точностью настроиться на волну темы «энтелехия».
Время от времени культура являет нам свои цели как сбывшиеся, осуществившиеся: скрытый телос становится так или иначе выявленным и исполненным в процессе разворачивания самого творения и его интерпретации. Г.С. Кнабе нашел термин для нотирования этого феномена – энтелехия. Авторское определение энтелехии звучит так: «приоткрывшаяся сознанию энергия тяготения сущего к форме»[334]. Эта латинского чекана дефиниция очень хорошо показывает, о чем идет речь. В каждой креатуре заложено тяготение к тому, чтобы стать чем-то, приобрести форму; но это встреча именно двух реальностей: формально-общему нужна плоть, оно без нее неполноценно, и в ней оно пытается индивидуализироваться; аморфная плоть культуры нуждается в смысле и приобщается к нему через форму. Их встреча в определенной онтологической точке порождает событие энтелехии. Достаточно чуткий акцептор культуры может пережить эту эпифанию как очевидность и достоверность, но для наук о культуре вопросы здесь только начинаются. «В энтелехии осуществляется принцип диалога: более общее, исходное и как бы рассеянное начало обретает пластическую завершенность и самодостаточную самостоятельную данность таким образом, что исходное начало в акте энтелехии не исчерпывается, оно продолжает действовать, и между ним и его воплощением устанавливается определенное двуголосие. <…> Кроме того – ив этом состоит второй вывод, – с энтелехией связаны некая неполная проясненность, ускользание от логической ясности и четкой однозначности, ставящие восприятие этого феномена на грань аналитического познания и внутреннего переживания и придающие диалогу между изначально всеобщим и воплощенно конкретным особые черты»[335].
Отметим, что речь идет не об отношении материи и формы, которое описывало бы хорошо нам знакомое когнитивное отношение континуума явлений и понятийной определенности, «хоры» и «эйдоса», а об отношении формы, эйдоса со своим особым воплощением, которое лишает форму однозначности, но сообщает ей метарациональную конкретность. «Двуголосие» и «ускользание» от дефинирующего рассудка составляют специфику энтелехии.
Опираясь на пассаж П.А. Флоренского из работы «Троице-Сергиева лавра и Россия», Г.С. Кнабе выстраивает иерархию типов трансляции культурных смыслов: поверхностно-случайные подражания; реальносодержательные исторические воздействия; подлинно глубокая связь в акте энтелехии. В последнем случае речь, по словам П.А. Флоренского, идет «о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада <…> при отсутствии поражающего глаз внешнего сходства». Специфичный для П.А. Флоренского натурфилософский мотив «родового склада» для мысли Г.С. Кнабе оказался, как представляется, непродуктивным, но в «музыке» энтелехии автор усмотрел глубокую проблему. (Стоит вспомнить, что Блок называл «музыкой» не только «дух времени», но и примерно то, что мы называем «морфологией культуры».)
Предпринимая попытку описать энтелехию как «устойчивую объективную структуру», Г.С. Кнабе выделяет три ее формообразующих свойства. «Первое состоит в том, что культурный импульс, поступающий извне в духовную субстанцию времени и обретающий в ней конкретно-историческую форму, не имеет определенного, точно выявляемого источника (в отличие от первых двух форм культурного взаимодействия, от подражаний и „исторических воздействий“, где такой источник, как правило, есть). <…> Вторая отличительная черта культурных феноменов, возникающих из энтелехии более широких и длительных культурных состояний, заключается в том, что они характеризуют не столько мировоззрение и творчество художника, мыслителя, общественного деятеля, сколько мироощущение круга, социума, времени, настроение и тон, сквозящие в фактах культуры, скорее, чем сами эти факты. <…> Наконец, третья особенность, которая отличает феномены культуры, возникшие из энтелехии более широких и как бы разреженных культурных субстанций, состоит в том, что эти феномены очень скоро перестают восприниматься в качестве изначально инородных, полностью усваиваются данной национальной традицией и становятся ее органической составной частью, в противном же случае утрачивают черты и характер энтелехии и не могут рассматриваться в качестве таковой»[336]. Странно сказать: получается, что энтелехия ниоткуда не приходит, никому не принадлежит и ничего не приносит. Между тем именно эти ее свойства помогают нам несколько освободиться от «аполлинийского сна»[337] культурной инерции и увидеть в истории культуры не только паутину филиаций.
Начнем с того, что концепция Г.С. Кнабе вполне соответствует научному критерию проверяемости: действительно, все три черты энтелехии могут быть обнаружены в европейской культуре, если мы рассмотрим историю-переживание не античного, избранного автором, а какого-либо другого принципа. Скажем, энтелехия Средневековья начинает неожиданно конденсироваться в XVIII в. из контрпросвещенческой атмосферы не столько в виде влияний и подражаний (этого как раз почти не было), сколько в виде настроения и аксиологического сдвига, источник которого установить и документировать не представляется возможным. Если готический роман действительно содержал элементы готики (хотя бы в случае Хораса Уолпола), а масонство – элементы средневековой символики и ритуалов, то вряд ли можно йотировать как средневековые (без долгих комментариев) позднебарочные конструкции Б. Неймана или И.С. Баха, настроение «бумажной архитектуры» Пиранези, колорит мистификаций Макферсона, общий интерес к фольклору и к национальному своеобразию… Между тем настроенный на дух эпохи исследователь не может не почувствовать, что в культуру Европы возвращаются понемногу, «на голубиных лапках», забытые мотивы: чудо, тайна, авторитет, иерархия, символ, традиция. Если же говорить об «изначальной инородности», то как ни трудно зафиксировать соответствующую границу, но мы ощущаем, что пиетистская эмоциональность в какой-то момент от религиозного сентиментализма переходит к средневековому переживанию служения, дарения и благодарения; что Фауст Клингера и Гёте уже не историческая маска; что мальтийская утопия Павла I – не просто антинаполеоновский тактический прием. И эти события не похожи на спонтанную рецепцию, они принадлежат уже самоопределению национальной культуры. Статья Новалиса «Христианство, или Европа» (1799), еще встреченная друзьями с недоумением (а то и возмущением), прочерчивает, тем не менее, радикальный рубеж и сама может быть названа энтелехией долго насыщавшейся духовной среды.
Но кроме того, принцип энтелехии весьма креативен, если мы применим его не только к интеркультурным отношениям, но и к морфологии отдельно взятого культурного цикла. Так, например, естественно и привычно выделение в эпохе биоморфных стадий роста: зарождение – расцвет – увядание. Так же хорошо освоено искусствоведением (и применимо в культурологии) выделение стадий архаики – классики – модернизма – авангарда. Но при этом часто теряется специфика верхней точки развития, своего рода акме большой эпохи, каковое имеет свои весьма важные и много говорящие морфологические особенности.
Чтобы недалеко ходить, обратимся к тому же XVIII в. Короткий период (с большой долей условности: 1760–1815 гг.) исполнил латентные программы XVI–XVIII вв. с такой энергией события, что он несомненно оказывается энтелехией всего Нового времени. Моцарт, Кант, Вольтер, Руссо, Дидро, Стерн, Пушкин, Смит, Габриель, Гердер, Лавуазье, Бюффон – это не просто реестр гениев, но и определенная смысловая констелляция с присущей ей стилевой морфологией и даром синтеза противоположностей, каковые окажутся весьма летучим и трудноописуемым продуктом культуры. Косвенным подтверждением того, что мы имеем дело с особой культурной морфемой, является и модус отсутствия: мы не находим в этом пантеоне энтелехию живописи и религии. Казалось бы, в живописи между Ватто и Шарденом должен появиться некто, равнодостойный Моцарту в музыке. Но время живописи как формообразующей культурной силы, видимо, прошло, и эпоха не «исполняется» в этой стихии. (О религии даже не приходится говорить.)
Еще один косвенный аргумент: возможность видеть излучения энтелехии не только в шедеврах и подвигах, но и в больших течениях, и в «малых делах». Рождение принципа прав человека, новой педагогики, принципа историзма, сферы публичных дискуссий, появление новых наук (антропология, этнография, психология, культурология), политическая стратегия жирондистов и отцов американской революции – все это дает основание для усмотрения энтелехийной ауры эпохи. Да и ее самосознание чувствительно к этой теме: не есть ли оппозиция Gleichnis – Ereignis в финале «Фауста» историософское продолжение темы энтелехии из натурфилософии Гёте? Но если осуществленная выше индукция может убедить кого-то в том, что мы встретились с энтелехией Нового времени, то рациональная вербализация содержания этого события наверняка вызовет протест: и это также значит, что мы имеем дело со вторым (по счету Г.С. Кнабе) признаком энтелехии. Акме XVIII в. несет в себе признаки «вышеумной» сущности (если еще раз одолжиться словом у П.А. Флоренского).
Наконец, если перейти к более высокому уровню генерализации, мы можем рассмотреть и то итоговое культурфилософское сообщение, которое несет нам концепт энтелехии. Автор говорит: энтелехии «<…> позволяют ограничить поле так называемых заимствований, уточнить их характер и не преувеличивать их роль в диалоге культур. В энтелехии мировое непосредственно обретается в национальном; материальный контакт того и другого на уровне влияний и заимствований возможен, но не является ни обязательным, ни главным; диалог культур оказывается здесь снятым – он есть, раз происходит взаимодействие разнородных сущностей, и его уже нет, поскольку их разнородность уступает место единству»[338]. «Энтелехия культуры есть реальное преодоление коренных противоречий, культуре имманентных, – между коллективно-бессознательным началом и индивидуальным разумом, мировым и национальным, между исторической традицией и современностью. Противоречия эти в энтелехии, разумеется, не упраздняются, но сталкивающиеся в них силы, нераздельные и неслиянные, предстают в том виде, который соответствует сущности культуры, – в рациональной и, следовательно, познаваемой форме»[339].
Ключевой тезис в этом резюме – разнородность, уступающая место единству. Нас уже приучили видеть в культуре бесконечные диалоги, партикулярные или индивидуальные неповторимости, требующие искренней или смиренной корректности. И если шпенглеровский тезис о культурах «без окон и дверей» нам уже не кажется таким убедительным, как во времена триумфа «лебенсфилософи», то представление о мировом разуме все еще кажется неуклюжим архаизмом или агрессивно-корыстным «большим нарративом», который надо разоблачить или высмеять. Но куда девать и как не замечать эту таинственную силу, которая то неспешно роет подземные связи культуры, как хороший крот, а то открывает ее единство в ослепительной очевидности энтелехии? Противоречия субстанциально единой мировой культуры, не упраздненные, а переведенные в форму разума, – вот то, что усмотрел в синтезе энтелехии Г.С. Кнабе.
Т.В. Васильева как философ культуры
Поздние культурфилософские работы Татьяны Вадимовны Васильевой, которые стали итоговыми, хотя по сути своей были началом нового периода творчества, позволяют реконструировать особое авторское видение античности. Его можно локализовать как часть того обширного (уже ставшего историей, хотя и до сих пор плодоносящего) движения отечественной гуманитарной мысли 1960-1980-х годов, которое стремилось к возвращению культурной памяти, реставрации чувства причастности к европейской культуре. Можно говорить и об особом чекане античной темы, немаловажной для этого движения, в работах С.С. Аверинцева, М.Л. Гаспарова, Г.С. Кнабе, В.Н. Топорова, Н.В. Брагинской и др. То, что в этом движении есть нечто «родное», хорошо видно на фоне «вселенского». Культурфилософское осмысление античного мира («антикософия», если угодно) на Западе пришло во времена Ницше к модели двуликой аполлоно-дионисийской античности, в которой за декорациями Космоса было спрятано буйство и безумие Хаоса. Означенная двойная модель продолжает доминировать в XX в. Неоромантическое сознание может при этом искать в ней «страшную», неантропоморфную архаику или безличную судьбу бытия (Шпенглер, Хайдеггер); тоталитарное (скажем, фильмы Роома или Рифеншталь) – культ тела, здоровья, полисной солидарности, рационального расчета; культурутопическое (например, Йегер) – педагогический проект; культурностальгическое (например, Рильке, Мандельштам) – исконную подлинность; авангардное – чистую форматуру (Пикассо)… Но инвариантом остается образ дегуманизированной античности, оба лика которой одинаково дистанцированы от «просто человека».
То новое, что в этот сюжет принесли конкретные исследования наших антиковедов-культурологов, можно определить – если не пугаться оксюморона – как «регуманизацию античности». Античность «с человеческим лицом» – это мир живых, ищущих, спорящих, страдающих людей. Людей, ищущих своей «идентичности» – напряженно, но безуспешно, поскольку в своем роде они были первыми. Людей нормальных, но возведших эту нормальность в степень антропологического шедевра, что и позволило развернуть спектр их достижений от нормативности до идеала. Нетрудно заметить, что одним из мотивов в поисках такой античности было нежелание отдавать ни логос, ни миф древности в руки идеологов тотального благолепия[340].
Труды Васильевой в этой замечательной плеяде выделяются своей нацеленностью на разгадку античной философии: двойной дар – талант филолога и философа – позволил ей одинаково глубоко погружаться и в стихию становления философского языка, и в хитросплетения диалектики. Для Васильевой ключом к античной мудрости неизменно оказывается Платон. В двух ее главных книгах, о которых сейчас пойдет речь, «Платон» – это не столько тема, сколько символ предела становления нашего видения античности. Тем, кто хочет понять «античный проект» Васильевой, советую читать ее книги в порядке их издания. Особенно это важно для двух первых и самых фундаментальных монографий.
В «Афинской школе»[341] предпринимается попытка сделать шаг назад от выполненной и оформленной мысли к той языковой стихии, из которой она родилась. Свой замысел автор поясняет так: «Говоря о языке древнегреческой философии классического века, в отличие от языка поэзии, например языка официальных документов, языка рынка или мастерских, мы постараемся проследить то, что, собственно, правильнее было бы назвать ее логосом, а именно способ формирования мысли не просто в словесном выражении, но и внутри бурно развивающейся словесности, которая выработкой новых жанров и существенным преобразованием старых отвечала стремительному расширению кругозора и усложнению духовной организации человека той эпохи»[342]. Подчеркнем: речь здесь идет не о «словесном дизайне», не об изучении лексики, стиля, лингвистической формы философии, но – именно о ее содержании, которое ускользает или, в лучшем случае, подвергается многоуровневой аберрации, если мы пытаемся отвлечься от того, как было сказано то, что сказано.
Хайдеггер, пожалуй, погорячился, когда оценил словосочетание «греческая философия» как плеоназм: не бывает-де негреческой философии. Но он прав в том, что отвлечься от культурно-языкового поля, в котором возникла философия, нельзя. Так же как нельзя перевод греческой философии на другие языки считать освобождением мысли от исторически случайной словесной оболочки. По этому поводу Васильева замечает: «Единый логос греческой философии подвергся расчленению на „дух“ и „букву“. Буквой оказывался греческий текст, духом – реконструированная „система“ философии Платона и Аристотеля. Таким расчленением науке удалось преодолеть то, что духовной культурой нового времени давно уже ощущалось в Платоне <…> как досадный недостаток: отсутствие единого, планомерного, последовательного изложения философии как системы миропонимания»[343].
Если не «система», то что? В своих монографиях Васильева предлагает сменить культурную оптику, увидеть греческую философию так, как позволяют это сделать аутентичные «настройки», реконструируемые благодаря подсказкам языка и художественной формы. Среди открытий, сделанных автором на этом пути, я бы выделил – как самое показательное – одно. Идеальное, эйдетическое, о котором в первую очередь мы думаем, воспроизводя учения Платона и Аристотеля, коренится не в нашей способности отвлекаться от частного в пользу общего, а в нашей (весьма загадочной) способности создавать это общее как человеческую коррективу к безличному космическому порядку. Начиная с Сократа философия усматривает в понятии не отражение природного порядка, но креативное событие, за которое человек несет ответственность. До Сократа «областью аналогий были природные, родовые или политические связи. Сократ отрыл для философского языка область творческой деятельности человека»[344].
Действительно, самоопределение мышления, к которому стремится Сократ, необходимо связано с установлением границы, которая как таковая обнаруживает и себя, и свою противоположность. Манифестируя свое «незнание», отказывая рассудку в обладании знанием, Сократ выносит источник содержания мысли за пределы рассудка, но ее форма – понятие – тем отчетливее выявляет свою значимость. «Человек вообще» не может получить знание даже при смиренной готовности его принять. Чтобы иметь содержание, он должен стать формой – в этом морально-логическое предназначение человека. Без «пробы», поставленной сознанием индивидуума, содержание не станет знанием. В этом смысле следует понимать и человеческий характер Сократа, как бы воплощающего дельфийского Аполлона-Диониса в своем синтезе страсти и рассудочного света.
Сократ усматривает неотчуждаемое величие разума в том, что он может от видимости перейти к реальности самосознания, а став самим собой – открыть иное. Реальность, о которой можно сказать «есть», – это уже не безличная природа и не абстрактная идеальность, а живое сознание. Подлинная действительность трактуется как действенное существование, содержащее в себе смысл или направленное на него. Связанный с этим переход Сократа от детерминизма к телеологии может показаться шагом назад, поскольку происходит косвенное возрождение преодоленного первыми философами антропоморфизма. На самом деле здесь конституируются основы метода, ставшего новым типом рациональности; метода, названного Платоном диалектикой. Отступлением философии с завоеванных позиций может представиться отказ от фисиологии и антропологии, но и здесь Сократ делает шаг вперед, находя бытие в независимой от них реальности. По существу, перед нами философская революция, характер которой разгадан автором как «мудрость демиурга», как парадигма деятельности мастера-ремесленника: ведь «переход от идеи к вещи знаком демиургу, как никому»[345]. Нельзя, разумеется, сказать, что этот переход от детерминизма к телеологии не был ранее замечен интерпретаторами. Но характерно, что каждый раз, когда эта истина переоткрывается, мы обнаруживаем какую-то важную историко-философскую мутацию, а то и революцию, как во времена немецкого трансцендентализма. Это говорит о том, что затрагивается некий жизненно важный нерв платонизма. Метод толкования Афинской школы, предложенный Васильевой, занимает в этой цепи переосмыслений свое особое место: эффективным инструментом здесь оказался «аргумент от языка», неспешное и вдумчивое прочтение, не упускающее возможности декодировать образно-художественные средства греческой речи.
Впрочем, в греческом «священном безумии» поэзии понятий есть и своя система. И об этом – вторая книга Васильевой [346]. «Путь к Платону» (как, пожалуй, и большинство поздних работ автора) имеет два жанровых измерения. С одной стороны, это введение в философию Платона, со всеми присущими пропедевтике стилистическими приемами, облегчающими первые шаги читателя в сверхсложном мире текстов одного из главных мыслителей мировой философии. С другой стороны, это творческое подведение итогов развития платоноведения второй половины XX в., в результате которого современная гуманитарная наука внесла существенные коррективы в устоявшийся образ Платона. (Нельзя не заметить: изобретательное соединение этих жанров создает своеобразную стилистическую атмосферу, в которой с равным увлечением могут пребывать и студент, и многоопытный специалист.)
Эту книгу, пожалуй, по достоинству смогут оценить или читатели, совсем не знающие Платона, поскольку перед нами действительно «путь к Платону», приглашение к знакомству, сделанное просто и ненавязчиво, или же искушенные знатоки истории интерпретаций Платона, которые поймут, в чем оригинальность, если не дерзость, автора. Заезженное цитированием высказывание Уайтхеда о том, что западная философия – это подстрочные примечания к Платону, не так уж далеко от истины. Но справедливо и обратное: платонистика отражает ситуацию в современной ей философии. Платонистику XX в. можно охарактеризовать как капитуляцию философии перед позитивными науками (прежде всего филологией) и проецирование на проблему норм науки Нового времени, с их канонизацией системности, линейности, дедуктивности, редуктивизма, психологизма. Предложенный в книге подход к толкованию Платона предполагает радикальный отказ от принятых в платонистике нашего века методологических и герменевтических установок. Васильева призывает отойти от привычных попыток примирить противоречия платоновских текстов посредством биографического метода (будь то биография Платона или Академии), стилометрического, «тюбингенского» и т. п., поскольку общий недостаток этих подходов – нежелание довериться самой философской логике текстов Платона и предположение, что все объясняется тем, что Платон сначала думал одно, а потом – другое.
Достойно удивления то, что автору удалось при небольшом объеме книги вместить в нее ряд серьезных новаций, которые легко может заметить профессиональный интерпретатор Платона. Опираясь на исследования платоновского корпуса и «неписаного учения» Платона тюбингенской школой, Васильева, тем не менее, не вторит им и убедительно показывает, что центр «платоновского вопроса» не в проблеме аутентичности корпуса текстов, а в неисчерпанной теме и неразгаданной загадке «идеи».
Новизна того метода, который обнаруживается в книге Васильевой, на мой взгляд, – в трех ведущих принципах: 1) осуществляется попытка отвлечься от исторической персоны Платона и переключить внимание на целостную систему диалогов, т. е. на устройство корпуса произведений и – в чем особая оригинальность данного подхода – на «лицо» этого корпуса, на тот смысловой центр, излучениями которого являются конкретные тексты, по-разному репрезентирующие центр, но не исчерпывающие его. (Называя свой метод «гипокритикой», автор бросает вызов пресловутой «гиперкритике» с ее технической, скорее следовательской, чем исследовательской, дотошностью и недоверием к авторскому слову.) «Довасильевская» платонистика считала, видимо, такой метод недостаточно объективным и зависимым от философской позиции исследователя. Однако Васильева смело возвращается к установке Гегеля на то, что понять философию может только философия, и с блеском доказывает, что попытки изъять собственно философскую работу из интерпретации наследия Платона приводят к изначальному искажению всей исследовательской «оптики»; 2) предлагается посмотреть на платоновский корпус «телеологически», обращая внимание на то, чему и как служат конкретные тексты, какую задачу выполняют; это позволяет найти эстетические и дидактические «оси» корпуса, вокруг которых организуется хаотичная – на первый взгляд – разноголосица текстов; 3) вырабатывается «динамический» принцип продвижения по созвездию диалогов, и принцип этот противопоставляется традиционной линейности даже в ее наиболее гибких вариантах. Автором убедительно показано, что корпус диалогов неслучайным образом подобен космологической модели Платона и предполагает циклическое движение мысли с периодическими изменениями аспектов. Такое движение рассматривается не как техническое средство, а как единственно адекватный способ существования мысли, направленной на Эйдос и Благо.
Решимость перейти наконец от внешнего анализа диалогов к философствованию, открывающему «устройство» платоновского корпуса, является «скандально»-революционным моментом данного метода. Дело не в том, что в XX в. отсутствовали философские усилия читателей Платона, а в том, что процесс философствования рассматривался как средство и отрывался от словесной формы, найденной Платоном. Этим грешил даже современный «диалогизм» с его приматом психологической коммуникации. В свете метода, предложенного Васильевой, по-новому видится результат «тюбингенского» метода, который предлагал реконструировать «неписаную» философию Платона, предназначенную, в отличие от беллетризованных диалогов, для узкого круга посвященных. Васильева реабилитирует «писаную» философию Платона и именно в нее встраивает те эзотерические схемы, которые выявили тюбингенцы.
В результате предложенного пересмотра интерпретационных установок «недостатки» литературной формы платонизма превращаются в ее философские достоинства. Перед нами альтернативная по отношению к традиционному рационализму Нового времени (а не псевдоальтернативная, как в постмодернистском мышлении) модель философствования. В книге много конкретных оригинальных толкований платоновских построений, но при всей их ценности, как мне кажется, они особо интересны тем, что демонстрируют, как доверие к предложенным Платоном «правилам игры» позволяет преодолевать тупики современной платонистики.
Книга возбуждает естественное, но несколько подавленное вековой академической ученостью желание понять, что же, собственно, хотел сказать Платон. «Не аутентичность корпуса составляет сегодня существо платоновского вопроса, – утверждает автор, – но историческая уникальность платоновского идеализма и прежде всего – как это ни парадоксально – философский смысл той платоновской интуиции, которая стоит за центральным словом всего корпуса, а впоследствии и всей европейской философии – за словом „идея“»[347].
Композиция книги выстроена не без драматургии. В семи главах автор последовательно совершает «восхождение» к вершинам платоновской мудрости. Рассказывается о жизни и сочинениях Платона, о его политическом учении, излагается его теория познания и представления о душе человека, анализируется знаменитое учение об идеях и – примерно к последней трети текста – прорисовывается новое понимание систематичности платоновской философии.
Последние разделы книги радикально ставят вопрос об адекватном современном прочтении Платона, об «исторической уникальности» платоновского идеализма, в котором до сих пор неразрешенной загадкой остается наиболее, казалось бы, обсуждаемая и эксплуатируемая интуиция – идея. Здесь уже подготовленный читатель осознает новый подход к корпусу сочинений Платона, который предполагает не искусственное сглаживание противоречий, а движение читательского внимания по циклическим траекториям, намеченным самим Платоном и центрированным вокруг ключевых тем его творчества: Благо – Единое – Бытие.
Стоит еще раз отметить оригинальный подход к проблеме систематичности философии Платона, которую Васильева предлагает решать изменением способа чтения диалогов: с ее точки зрения, следует воспроизводить подсказанный самим Платоном метод кругового воспроизведения темы в разных аспектах. Дело здесь не только в эффекте «герменевтического круга», но и – в первую очередь – в том, что философская истина рождается и возрождается всякий раз заново в постоянно обновляющемся персонально-социально-космическом контексте. Перед нами – понимание философии как открытой системы, которая имеет абсолютно жесткий центр в знании о бытии эйдосов, но в то же время является открытой и динамичной сферой бесконечно воспроизводящегося толкования этого знания в диалогическом пространстве.
Несомненно, книга «Путь к Платону» является одним из самых значительных событий отечественной гуманитарной науки последнего десятилетия. Есть верная культурологическая примета: если появляются радикально новые прочтения Платона, значит, жди больших перемен. Это предчувствие мне кажется впечатляющим читательским итогом исследования, которое – отважусь сказать – стало рубежом не только в отечественной платонистике.
Характерно, что в обеих монографиях автор оказался на шаг впереди интеллектуальной моды: во времена, когда стремились свести мысль к языку, Васильева показывает, как язык порожден культурой мысли; позднее, когда модным стало сведение мысли к «культуре», она показывает, как мысль воплощает себя в культуре текстов.
Наконец, обе книги сделаны красиво. В том смысле, в котором математики говорят о красивом решении задачи. И красиво написаны – в обычном смысле этого слова. (Не стоит, по-моему, репрессировать этот эпитет хотя бы сейчас, во времена узаконившего себя уродства.) Надо отдать должное и художественному дару автора: кроме научности, есть в этих книгах и своя магичность. С первых страниц завораживают интонации «посвящения» в тайны платоновского учения, и дальнейшее содержание не разочаровывает, открывая читателю мир живой мысли, которая нашей надломленной современности говорит, может быть, больше, чем благополучному Просвещению или восторженному Ренессансу.
Читатель, который одолеет насыщенный и напряженный дискурс этих двух книг, будет вознагражден двумя последними – посмертными – публикациями Васильевой. Его ждет настоящий праздник высокой игры со смыслами, интуициями, прозрениями, неповторимыми особенностями и загадками античной культуры. В основе «Комментариев к курсу истории античной философии» [348] – лекции, которые в течение ряда лет читались автором в МГУ и РГГУ. Книга действительно является учебником, но в нетривиальном смысле. Это не свод устоявшихся знаний, а опыт современного прочтения духовного завещания античности. Васильева учит вдумываться в «послания», которые исходят от древней мудрости, вслушиваться в голоса античных мыслителей, улавливая неочевидные интонации и смыслы. В книге рассказывается об учениях Платона и Аристотеля, Сократа и Лукреция, о хайдеггеровской интерпретации античности и понимании свободы в греческой культуре. Стоит особо указать на выделяющуюся теоретической глубиной статью «Беседа о логосе в платоновском „Теэтете“». Но все это пестрое и яркое содержание книги скреплено центральной интуицией – уверенностью в неисчерпанности и актуальности античной философии, в пространстве которой можно полноценно существовать и сегодня.
Непредвзятое прочтение текстов свежим взглядом нашего современника, обостренным к тому же профессиональными навыками филолога-классика и опытного переводчика, позволяет автору найти неожиданные повороты в толковании давно известных и заученных философских мотивов. Сопряжение прециозного филологического анализа, глубоких философских интуиций с прямым диалогом автора и читателя делает этот труд очень современным по духу и форме. В приложении даны впечатляющие образцы достаточно специального научного анализа некоторых аспектов философии Лукреция и Платона, и это представляется мудрым композиционным решением: основной текст ничем не отягощается и оставляет читателя в пространстве сюмпосиона, беспечной «игры в бисер». «Комментарии» отличает блистательное стилевое мастерство, которое само по себе служит студентам прекрасным уроком создания гуманитарного текста, играющего смысловыми перекличками и скрытыми возможностями как русского, так и греческого языка.
Сборник статей, объединенных темой «Хайдеггер и античность», открывает нам Васильеву как мастера углубленного, артистичного и личностно окрашенного толкования философского текста[349]. Личное – ив том, что Хайдеггер – это целая эпоха для наших гуманитариев-шестидесятников, и в том, что автор и его герой одинаково озабочены спасением таинства античности от профанации, и в том, что они – люди одного переводческо-толковательского цеха (блистательные переводы Васильевой «Кратила» и «Теэтета» дают право на такое родство). В этой книге, как выразилась Васильева, ее «персональный Хайдеггер». Персонифицирование здесь проявилось весьма разнообразно: большинству статей присуща нескрываемая эмпатия, никогда, впрочем, не нарушающая дистанцию, продиктованную здравым смыслом; статья «Божественность под игом бытия» сделана в манере Хайдеггера и представляет собой единство пастиша и интерпретации; приложенный к книге перевод трактата Аристотеля «О небе» – «тур де форс» уже опытного переводчика – выполнен в «герменевтическом ключе» Хайдеггера. Автор дает запоминающуюся формулу такого подхода: «Это также и судьба античного наследия в двадцатом веке, пример того, как вклинивается греческая мысль, если есть решимость ее понять, в собственную картину мира философа и, напротив, как одушевляет творческая интуиция неравнодушного читателя самые затертые тексты, сообщая обычным герменевтическим приемам новую глубину, расширяя поле ассоциаций, уточняя исторически оправданные семантические толкования»[350].
То, что удалось рассмотреть Васильевой в глубинной форматуре античности и передать нам с таким неповторимым мастерством, можно йотировать простыми словами: античный мир – ничем не заменимая школа самосоздания разума. Но эта истина – не из тех, которые можно положить в карман и доставать по мере необходимости. Она требует причастности и призывает к ответу.
Л.М. Баткин как философ культуры
Для образованного читателя творчество Леонида Михайловича Баткина в первую очередь ассоциируется с рядом блистательно выполненных культурно-исторических портретов европейских гениев и с глубокими размышлениями над идеей личности, которые придают этой галерее философский смысл. Но я предпочту начать разговор с другой темы: с работ об «онтологии истории», которые, как мне кажется, высвечивают стержневые принципы, ведущие мышление Л.М. Баткина[351]. В этих работах автор вместо унитарной «Истории вообще» предлагает нам увидеть четыре последовательных Истории, соединенных отнюдь не тривиальной связью.
Первая история – это разрозненные очаги первобытности, жестко детерминированные природной средой, но уже в своих «микрособытиях» содержащие исторический процесс. Вторая – это история традиционных обществ, начинающаяся с рождением древних цивилизаций. Человеческие общности в этом периоде укрупняются и сгущаются, но вместе с тем углубляются различия, приобретая черты уникальных своеобразий, а не однообразных серийных различий. Это – расколотые на большие культурные миры общности, каждая со своей исторической скоростью, со своей «температурой». Но они уже связаны Всемирностью и могут измеряться «по одной всемирной линейке». Двумя онтологическими полюсами человеческой истории явно становятся Всемирность и Уникальность, скрытые в Первой истории как потенция. Третья история – это Новое время: беспрецедентная модернизация, связанная со становлением раннего капитализма и крупных национальных государств, и нарастающий процесс глобализации. Разнородные и разнохарактерные элементы переусложненной Второй истории уступают место более простым и динамичным моделям, для их структурных связей характерны линейность и схематичность. Но у Третьей истории появляется свой тип сложности: резче выявляется неравномерность истории, конфликтнее и сложнее складываются отношения традиционализма и вестернизации. После Второй мировой войны начинается подготовка к Четвертой истории – истории объединенного человечества, способного к коллективным разумным решениям.
Важно, что в предложенной Л.М. Баткиным модели мы имеем дело именно с разными Историями, которые не выстраиваются в однозначную последовательность и не могут быть описаны языком одной аксиологии. При больших переходах меняются «правила игры», причем эта смена не выводима из событий предыдущей эпохи. Поэтому меньше всего на данную модель похож просвещенческий идеал прогресса. Парадоксальным образом принцип всемирности истории прочно привязан к той ломаной линии, которую автор называет, уклоняясь от прогрессистской терминологии, историческим движением «в будущее». Всемирность как раз и обнаруживается благодаря цивилизационным разрывам, которые не позволяют обществу застыть в локальной среде и темпоральной нише. Поэтому, как полагает историк, в каждой эпохе и даже в значительном временном интервале можно найти «системный вектор перемен», выводящий в следующую эпоху. Векторы эпох нельзя механически сложить в прямую линию, поскольку они радикально меняются при эпохальных переходах, но, сопоставляя и изучая их ряды, можно обнаружить «резюмирующий и сквозной вектор».
Острота проблемы в том, что «всемирность истории тоже исторична»[352]. Этот тезис решительно отличает историософию Л.М. Баткина и от теорий прогресса, и от постструктуралистской борьбы с «большими нарративами». Инерция логических клише склоняет к тому, чтобы под «всемирным» понимать родовую общность смыслов и целей, распределяя всю динамику и конфликтность между видовыми ячейками, но данная концепция предлагает нам увидеть источник беспокойства в самом «всеобщем», которое не дано априорно, а только задано и потому открыто историчности в неизмеримо большей степени, чем любая его «особенная» часть.
Если прогресс понимать как реализацию некой программы, то в версии Л.М. Баткина мы имеем дело со способностью истории к бесконечному самопрограммированию, константами которого являются только ценности Всемирного и Уникального. Эта версия также вполне избавляет нас от страхов перед «большими нарративами»: ведь сама сингулярность, индивидуальная особенность потому и обособилась от общего, что смогла каким-то образом перебросить мостик ко всеобщему и сделаться его местоблюстительницей. «Большой нарратив», таким образом, является главным условием существования и перспективной задачей инидивидуального. И поскольку нет никакой содержательной предданности этого «нарратива», Всемирное и Уникальное оказываются его единственными источниками, обреченными на бесконечную историчность.
Л.М. Баткину смешна расхожая формула «история не имеет сослагательного наклонения». Разумеется, только в этом наклонении она и существует. Но само присутствие в сослагательности «если» говорит нам о неотъемлемости исторической логики. В связи с этим Л.М. Баткин специально обращает внимание на антиномию необходимости и свободы в истории. Он усматривает в истории постоянные разрывы не только тотальной, но и локальной детерминации, предпочитая понимать качественные переходы к новому как внезапные мутации. Каузальная необходимость, конечно, связывает события, но порождает их свобода воли. «Свобода воли – это предикат зрелого сознания, а не его утраты. <…> Человек, действующий не по размышлению над ситуацией, несвободен, но, впрочем, и не подчиняется неизбежному. Он – вне напряженной дихотомии и неразрывности этих понятий»[353]. Если так, то ничего утопического в возможности совпадения свободы с исторической необходимостью нет: в истории нарастает необходимость свободы. По Л.М. Баткину, в Четвертой истории неизбежность сознательного выбора совпадет со свободой и станет центром текущих событий. Не думаю, что нас должен смущать такой категоричный оптимизм: мы ведь потому и живем пока только в Третьей, что больше полагаемся на необходимость, чем на свободу. Переходя к следующей теме творчества Л.М. Баткина, вместо резюме вновь вспомним его ключевой тезис об историчности всемирной истории, поскольку он нам еще пригодится.
Нет более очевидной точки соединения Всемирного и Уникального, чем исторически значимая личность. Поэтому затронутая выше тема гармонично «рифмуется» с главным сюжетом творчества Л.М. Баткина, с исследованием образа и самоизображения европейского человека, преимущественно в эпохи культурно-исторических поворотов. С этим же связана и его неординарная философия личности, которую я рискну представить следующим образом. Европейская культура создает особый исторический тип субъектности: это индивид, способный «жить в горизонте регулятивной идеи личности»[354]. Индивид становится личностью, когда держит ответ за себя и свои ценности только перед собой. Самоопределение индивида – это и утверждение избранных им оснований жизни, и выработка своего мировоззрения, и признание права других людей также быть личностями. В этом – суть новоевропейского «я», не сводимого ни к каким типам общности. «Такое Я напрямую воплощает всеобщность в форме особенного»[355].
Понятия «личность» и «индивидуум» не идентичны. Индивидность, отдельность перерастают в индивидуальность (в рамках той или иной культуры), когда человек сознает свою единичную особенность и ценность. Личностью же индивидуум становится, когда эта его особенность выражается в свободе и независимом самоопределении. В этом случае индивидуальное не замыкается в себе, культивируя свою единичность – будь то непохожесть или особый лад типичности, но требует свободы в других и ищет с ними диалога. Именно в этом модусе открытой коммуникации проявляется всемирность, универсальная значимость нового типа. Такой чекан индивидуальности и есть личность: он рожден только новоевропейской культурой, принципиально отделяет ее от традиционалистских культур и продолжает свое не законченное пока становление.
Эта аксиоматика теории личности, построенной Л.М. Баткиным, получает конкретное и художественно яркое воплощение в серии штудий «Я-сознания». Исследователь выбрал в истории культуры те персоны, которые стали, говоря на лейбницевский манер, «живым зеркалом вселенной»; монадой, отразившей универсум эпохи. Но отнюдь не за счет безликой типичности, а благодаря культивируемой своеобычности. К тому же все его герои так или иначе осуществляют рефлексию, интересны сами себе и каким-то образом становятся сотрудниками исследователя. С феноменальным мастерством историка-эмпирика (чтобы не сказать «историка-детектива») Л.М. Баткин выявляет в документах и свидетельствах исторического самосознания признаки рождения небывалого еще типа «высокой индивидуальности», личности как энтелехии европейской и мировой истории.
Уже в ранней работе о Данте[356] заметна эта нацеленность Л.М. Баткина на тайну личности. Полемизируя с крочеанской установкой на изъятие Данте из эмпирического контекста, автор, напротив, делает когерентность гения с эпохой максимально плотной. Но в результате Данте вовсе не растворяется в историческом времени. Эффект – прямо противоположный: мы и в самом деле видим «его время»; то, которое Данте вобрал в себя и сделал гранью своего «я». В поздней ретрактации автор несколько разочарован тем, что Данте у него однобоко изображен как «дитя городской итальянской коммуны», что не показан «целостный тип сознания»[357]. Но читатель без труда заметит в этой, конечно отмеченной обязательным тогда социологизмом, книге интенции зрелого Баткина: умение сделать экзистенциальное «я» призмой исторических противоречий и решений.
В дальнейшем, начиная с работы «Итальянские гуманисты» и «Итальянское Возрождение…»[358], поле исследования разрастается и охватывает диапазон от Августина – прародителя современного «высокого индивидуализма» – до Руссо. По существу, перед нами – цикл, впечатляющий идейной целостностью и в то же время максимальной конкретностью исследуемого материала. Важным элементом цикла стала книга о Леонардо[359], получившая международную известность. Именно здесь, на примере итальянского Возрождения, Баткин демонстрирует свое понимание категории «исторически уникального типа культуры».
Тип культуры, как полагает автор, определяется и моделируется во всех аспектах ее представлениями об «идеальном месте отдельного человека в мире». Но это не что иное, как ее образ «личности». Работа, проделанная в этом отношении Возрождением, кажется автору настолько архетипической, что он называет Ренессанс «моделью культуры по преимуществу»[360]. Темпераментный полемист, Баткин критикует оппонирующие ему модели Возрождения: его «традиционную идеальность и респектабельность» и наделение этой эпохи «чертами сомнительного демонизма». Возможно, самой примечательной методологической особенностью книги стал оказавшийся эффективным прием «фильтрации» пестрого исторического материала через категорию «варьета» («разнообразие»).
Но главной работой цикла (и, возможно, главной работой автора) стала книга «Европейский человек…»[361], содержащая фундаментальный блок теоретических построений и серию очерков о «великих», исполненную с выдающимся профессиональным мастерством историка и блеском литератора. Книга (и предшествующие публикации ее частей) стала большим событием нашей «гуманиоры» и инициировала немало полезных дискуссий. Пожалуй, я бы особо отметил финал раздела о Макьявелли, в котором проницательно изображены антиномии перехода от возрожденческого индивидуализма к персонализму Нового времени. В частности, лаконично, но глубоко проведенная тема «личность как поступок» дает результаты, сопоставимые с «философией поступка» Бахтина[362].
Своего рода завершение этого цикла работ о «европейской личности» – книга о Руссо[363], цель которой – «понять эпохально-переломное значение Руссо, прежде всего его „Исповеди“, для становления принципиально нового, т. е. нетрадиционалистского индивида»[364]. Это, действительно, безоговорочно важная для цикла работа. Написана она с горячей личной симпатией к французскому философу, но это не жанр ЖЗЛ. Баткин продолжает разгадывать формулу единства индивидного и макроисторического самосознания, которая в случае Руссо дана с уникальной интенсивностью, противоречивостью и со всемирным эхом этого явления. Вот как об этом говорит автор: судьба Руссо «была сформирована не только политическим и прочим радикализмом воззрений Руссо, а прежде всего тем, что он был первым в истории человеком, который воспринимал себя, как мы теперь сказали бы в стиле Бахтина, исключительно „в горизонте личности“. Такое обычно не прощается»[365]. «Не прощается» надо отнести не только к личной участи бедного Жан-Жака и даже не только к нападкам его критиков, но и – как показывает книга – к его объективной роли в истории «европейского человека», к стоянию в точке перелома.
Одно из рассуждений Баткина особенно метко высвечивает драматизм роли Руссо. Он спрашивает, «в какой мере сочинение Руссо впрямь принадлежит к жанру исповеди? <…> Кому исповедуется Жан-Жак (если исповедуется)? Кается ли он в грехах, без чего исповедь, разумеется, теряет цель и смысл, или только рассказывает о своих ошибках и слабостях, пытаясь разобраться в себе? Или только сожалеет о них? Требуется ли затем эпитимья? <…> Короче, каков в конечном счете жанр „Исповеди“? Тут я не скажу ничего нового. Давно признано, что это сентиментальный роман об истории своей души. Безоговорочно, бесстыдно и более или менее хладнокровно добираясь до малейших интимных деталей, Руссо исходит из того, что все люди примерно сходны, но притом удельный вес и мотивы при сочетании слабостей и достоинств, их тончайшие оттенки, противоречия, строй чувств, ума и характера, знания и опыт, взаимопереходы разных сторон натуры составляют неповторимые, уникальные суть и итог индивидуального существа. И вот Жан-Жак завершает монолог тем, что на свете нет человека лучше, чем он, Жан-Жак. Начиналась ли хоть одна исповедь столь странно? <…> Неподдельная искренняя скромность, но и такая же гордыня, притом исходящие из одного источника – из уникальности своего „Я“ – т. е. слиянные в одно»[366].
Соединение (взаимоподмена) исповеди и сентиментального романа, порождающее гордыню, но также и обороняющее хрупкое личностное «я», – это, как впечатляюще демонстрирует Баткин, драматический (или трагический?) момент собирания в фокус всех противоречий новоевропейской индивидности. Личность здесь явлена как исповедальность. Но смягчает ли это слово ситуацию? «Собственно, именно после Руссо вошла в обиход „исповедальность“ в виде широкоэстетического, а не ритуального термина. Не в кабинке священника, не вполголоса, не охраняемый заранее предписанной тайной исповедуется перед Богом Жан-Жак. Все наоборот»[367].
Именно: все наоборот. Но убедительна и защита Руссо, предпринятая Баткиным. «Исповедь» – не «самолюбивая апологетическая полемика». «Это неверно – хотя бы по фундаментальному замыслу полной, небывалой правдивости, принципиально включавшей неожиданные унизительные саморазоблачения о не известных никому, кроме него, вещах; и в силу того, что знакомство с его самооценками и окончательный приговор были предоставлены им только потомкам. <…> Руссо был на фоне Франции середины XVIII века и даже среди более или менее близких ему по мировоззрению людей, среди энциклопедистов, все-таки сам по себе. <…> Он выпадал из любого круга. Он очень-очень желал – до поры до времени – карьеры и богатства. Ему сперва с непривычки льстил ошеломительный успех в высшем свете. Однако Руссо не в состоянии был согласовать свою натуру и убеждения с внешними правилами социального успеха»[368]. То, что Руссо выпал из просветительского гнезда, Баткин рассматривает не как частный момент его жизни, а как конфликт эпохи (например, анализируя столкновение Руссо с Вольтером). Зная же предыдущие исследования цикла, мы должны согласиться с автором: речь идет о конфликте всемирно-исторического значения.
Было бы странно, если бы накопленный автором ресурс исследований остался без методологической рефлексии. И с такой рефлексией мы встречаемся в ряде статей, собранных в книге «Пристрастия» под рубрикой «Раздумья о методе»[369]. Процитирую только один из многих программных пассажей, разбросанных в этих статьях: «Высшая задача историка культуры, по-моему, состоит в толковании и воссоздании особенного. Различия для культуры важней, чем сходство, но дело не просто в описании различий, не во внешних спецификациях. И не просто в индивидности объектов. Культурные различия суть различия субъектов; однако субъект обладает особенностью совсем не той, что мы привыкли усматривать в особенной вещи. Каждое культурно-особенное претендует на всеобщность. Мир, в котором всеобщее и особенное всякий раз странно совпадают, в котором нет универсального и абсолютного смысла, пригодного стать причиной или готовой рамой для всех других смыслов, но в котором бесконечный смысл рождается всякий раз сызнова, в качестве конечного, смертного, неповторимого, – вот исторический мир культуры»[370].
Здесь мы встречаемся с мыслью, которая уже обсуждалась нами выше – в контексте рассуждения Баткина об историчности всемирной истории. Но теперь она выражена в модусе объяснения историзма культуры. Отсутствие универсального и абсолютного смысла у культуры кажется большим парадоксом, чем отсутствие такового у истории (с этим, кажется, мы готовы смириться), но на деле мы просто сталкиваемся с разной степенью интенсивности одного и того же феномена. Как показывает Баткин, необходимость постоянной рекреации смысла в преходящих формах – это не слабый, а сильный аспект культуры. Именно он защищает ее от любой формы замкнутости и открывает – благодаря ее историчности – бесконечные горизонты.
Некоторые тексты, с которыми читатель встретится в собрании сочинений Баткина, стоят особняком и на первый взгляд не связаны с магистральной темой его творчества. Но присмотревшись, мы легко узнаем знакомые мотивы: личность в силовом поле культуры; «я» на перекрестке эпохальных конфликтов; ответственность перед лицом вызовов времени. Так, книга о Бродском[371] – попытка восстановить возможность диалога с поэтом в ситуации, когда сам поэт диалогу не открыт, когда диалог экспрессивно «свернут внутри монолога». Иногда развернуть свернутое удается благодаря тому, что автор и поэт на равных «в теме»: когда Баткин пишет о Флоренции Данте, Бродского и Ахматовой, о внешнем и внутреннем изгнанничестве, он делает это не извне. Но важнее все же та герменевтика, которая сохраняет дистанцию. Здесь мы и встречаем ключевую тему Баткина: всемирное в личном. Бродский истолкован как «европейский человек», переживающий кризис европейской идентичности, но не изменивший ей. Читая о том, как пародия и «парапародия» оказываются опорой классики, как торжествует способность поэта спасать самим своим ремеслом смысл, когда смысла в остальном уже почти нет, мы вспоминаем о тех «европейских людях», которые когда-то создавали первые оформления этого смысла. Петрарка на подъеме, Руссо на гребне волны… Дно или не дно, но без книги о Бродском ряд «европейских» портретов был бы неполон.
Несколько слов об авторском методе. Л.М. Баткин продолжает ту линию отечественной гуманитаристики, которую называют «диалогизмом» и которая ведет к нему от Бахтина и Библера. Понятием «диалогизма» нередко злоупотребляют, выдавая за диалог спор, бессистемный обмен «точками зрения» или сумму монологов. Л.М. Баткин верен центральной интуиции этого направления: он видит смысл диалога в ситуации, когда (во-первых) невозможно объективировать, опредметить тему, живущую только в среде личного мира, и (во-вторых) лица готовы принять необъективируемость друг друга и смириться с бесконечностью обмена посланиями и бесконечностью коррекции понимания. Награда стоит усилий: диалог открывает пространство свободы, в котором возможны не только причинные сцепления вещей, но и духовное общение лиц. Что же касается метода, то он в этом пространстве может стать не бесстрастным инструментом, но эвокацией такого общения даже в случае вроде бы безнадежном, когда обратной связи не может быть. Метод Баткина показывает, что это возможно без панибратской эмпатии (одна крайность) и без «сеанса разоблачений» (другая). Объективность в его методе опирается на телеологию мировой истории, а идиографичность – на мастерство и совесть историка. Кажется, о таком методе мечтал поздний Дильтей.
Несколько слов об авторской форме. Стиль работ Баткина часто определяют как эссеистический. Если под этим, как обычно, подразумевается умственный импрессионизм и фрагментарность, то такой эпитет неверен. Тексты ученого хорошо сотканы и всегда опираются на концептуальный фундамент, даже если он не выделен в специальный пассаж. Повторы связаны со спиральным движением темы, когда тезис повторяется на разных уровнях и в разном контексте; отступления всегда работают на расширение горизонта, а яркие частности позволяют читателю почувствовать живой вкус эпохи. Постоянное присутствие авторского «я», личностное интонирование – не только следствие темперамента пишущего, но и логичный стилевой модус: ведь вся исследовательская алхимия Баткина направлена на выявление типов «я» в культуре и позиционирование своего «я» дает дополнительный ориентир. Если это «эссе», то скорее в исконном монтеневском смысле: «опыты», которые избегают доктринерства и догматизма, но побуждают в каждом значимом казусе увидеть след целостного смысла.
Культурфилософские работы А.А. Тахо-Годи в свете «истории понятий»
и идейными коллизиями позволяют лучше оценить идеи и мотивы работ А.А. Тахо-Годи. Так, методы и результаты успешно развивающейся исследовательской школы «истории понятий» дают возможность по-новому прочесть труды А.А. Тахо-Годи, посвященные эволюции концептов и терминов в европейской культуре. Я имею в виду следующую группу статей: «Термин „символ“ в древнегреческой литературе»; «О древнегреческом понимании личности на материале термина soma»; «Судьба как эстетическая категория (об одной идее А.Ф. Лосева)»; «Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии»; «Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков»; «Ионийское и аттическое понимание термина „история“ и родственных с ним»; «Эллинистическое понимание термина „история“ и родственных с ним»; «Классическое и эллинистическое представление о красоте в действительности и искусстве»; «Миф у Платона как действительное и воображаемое»[372]. Собственно, к этому корпусу можно было бы присоединить книгу «Греческая мифология» и триста статей из энциклопедии «Мифы народов мира», поскольку понятия, как мы знаем, зачастую вызревают в лоне мифа.
«История понятий» (также – «историческая семантика») как направление гуманитарной мысли конституировалась в Германии в 60-е годы прошлого века и может рассматриваться как ответвление большого кластера методологий, выросших из великого герменевтического поворота европейской гуманитаристики от позитивистского сциентизма к интерпретации безлично-символических форм культуры: к языку, ментальности, культурной антропологии и т. п. Ближайшими «соседями» исторической семантики оказываются «история идей» (или «интеллектуальная история»), «дискурсивная история», «история менталитета». Вполне естественно, что исследовательская практика привела к интерференции и взаимному влиянию этих методик.
Генезис немецкой «истории понятий» восходит в первую очередь к постдильтеевской герменевтике и тем идейным очертаниям, которые придал ей Гадамер[373]. Программные идеи направления сформулированы Райнхартом Козеллеком (1923–2006) в статьях, собранных в книге «Прошедшее будущее: К семантике исторического времени» (1979)[374] и, во многом реализованы в энциклопедии, посвященной немецкой политической лексике эпохи Просвещения и созданной под его руководством коллективом единомышленников[375]. Задачи исторической семантики понимаются им как выявление культурной, социальной и политической функции понятий в их исторической динамике. Для этого методы герменевтики гадамеровского чекана применяются не только к терминологически фиксированным идеям, но и к широкому полю культурных взаимодействий той или иной эпохи. (Особенно интересуют историческую семантику «эпохи перевала» (Sattelzeiten), когда понятия меняют или обретают лексическое воплощение.) Специальное внимание уделяется способу, которым понятие, с одной стороны, суммирует предшествующий культурный опыт и, с другой, устанавливает горизонты и границы возможного опыта и его теоретического обобщения. По убеждению Козеллека, в изучении истории понятий необходимо чередовать аспект семантики и аспект номинации, поскольку отсутствие в источниках искомых слов не означает отсутствие понятий, которые находятся в стадии вербализации и формирования дискурсивной среды. В той же мере наличие определенных слов не гарантирует, что за ними стоят ожидаемые нами понятия. В свете этого принципиально важна установка исторической семантики на жесткое различение исследуемых понятий эпохи и метаязыка ее исследователя.
По определению В.М. Живова, история понятий – это «история культуры, рассматриваемая как динамическая вербальная деятельность и раскрываемая через историю слов (языка), артикулирующих понятийную сферу»[376]. Важно и то, что языковой контекст сопрягается исторической семантикой с широким контекстом событийной истории (с культурносоциальным в первую очередь), причем понятия рассматриваются не только как продукт контекстов, но и как активный фактор их реального формирования. В отличие от истории идей, историческая семантика центрирует исследование вокруг языковых фактов и наблюдаемой преемственности их развития. В этом случае важно, что выраженная разными понятиями идея и ее филиации не являются непосредственным предметом исследовательского интереса, тогда как понятие, вмещающее разные идеи и способное к изменению идейного содержания, оказывается в центре внимания. В отличие от истории слов и терминов, историческая семантика признает возможность выражения понятия разными лексическими средствами, объединенными, тем не менее, рамками одного «семантического поля». В отличие от истории дискурсивных практик (в духе, скажем, Фуко или Кристевой), она не стремится к социальному или культурному «разоблачению» субъектов дискурса. В отличие от истории ментальности – не исключает метакультурных горизонтов и допускает непрерывность понятийной динамики[377].
Попробуем взглянуть на некоторые из указанных выше работ А.А. Тахо-Годи в свете йотированных особенностей метода исторической семантики. В статьях «Ионийское и аттическое понимание термина „история“ и родственных с ним» и «Эллинистическое понимание термина „история“ и родственных с ним» осуществляется строго терминологический анализ, что подчеркнуто автором и сопровождено весьма инструктивным пассажем о различии историко-понятийных и историко-терминологических исследований[378]. Тем не менее анализ термина предполагает характеристику культурной среды, в которой лексически зафиксированы именно те моменты ментального опыта, которые понадобилось специально выделить.
Так, при подведении итога ионийскому пониманию соответствующих терминов указывается, что в нем «преобладает семантика либо зрительного, либо общежизненного опыта, в котором большую роль играет испытующая мыслительная деятельность человеческого сознания, когда зрение и мышление объединяются в одно нераздельное целое. При этом результатом такой мыслительно-зрительной деятельности отнюдь не всегда является какое-нибудь научное построение»[379]. С этим сопоставляется аттическое понимание как «точный результат и обобщенная картина, возникающие вследствие мыслительно-зрительной деятельности человека»[380]. А.А. Тахо-Годи пишет: «Если ионийское понимание „истории“ относится по преимуществу к внешне интуитивным и эмпирически-жизненным сторонам действительности, то аттическое понимание этого термина, кульминирующее у Платона и Аристотеля, относится также и к внутренней стороне предметов, к их сущности. Это есть мыслительно-зрительное описание того, что проявило свою сущность вовне и, таким образом, является одновременно и внутренней и внешней стороной предметов»[381]. Итоговым моментом аттической интуиции истории полагается ментальная практика; история понимается как «практически-жизненное поведение или даже как воспитание, конечно, основанное на осуществлении внутреннего во внешнем, но на осуществлении уже не теоретическом, а практически-жизненном»[382].
В раннеэллинистическом понимании истории подчеркиваются «черты универсализма, вечного изменения, статических и пластических методов мышления, освобождения от мифологии, а также черты имманентноисторической причинности»[383]. Описывая позднеэллинистическую терминологию и понимание истории как приближение к статусу научного исследования, А.А. Тахо-Годи на примере трактата Лукиана показывает в то же время не сводимую к общим тенденциям лукиановскую «программу» – уникальную и при этом глубоко коренящуюся в эллинистической культуре. «В анализе историографических методов все это совместилось у Лукиана в одно единое и нерушимое целое. И все это невозможно назвать иначе как пластикой исторического процесса, однако не такой бессознательной и как бы инстинктивной, что можно найти у многих греческих писателей, но пластикой вполне осознанной, методологически разработанной и отчетливейшим образом противопоставленной всяким другим методам мысли, словесного творчества и художественного обобщения»[384].
Примечательно, что в исследовании четко разделяются исторический и семантический план: логике семантического развития посвящен специальный раздел. Отмечая общую особенность греческого языка, заключающуюся в том, что «его философские термины очень часто представляют собой не что иное, как обновление потускневшего значения именно корня соответствующего слова»[385], А.А.Тахо-Годи применяет это наблюдение и к термину «история»: «до самых последних дней античности и зрительность, и познавательность, выражаемые этимологией этого слова, дают себя знать и накладывают свой специфический отпечаток даже в самом отвлеченном значении этого термина»[386]. Отмечается при этом, что в поступательном движении культуры и цивилизации «зрительность» уступает место абстрактному, рассудочному восприятию действительности и соответственному употреблению слов. Как семантические особенности эволюции термина «история» выделяются: 1) примат зрительного момента над мыслительно-познавательным; 2) равновесие между моментами зрительным и мыслительно-познавательным; 3) примат мыслительнопознавательного момента над зрительным. Но важно отметить, что в семантической системе А.А. Тахо-Годи эти модусы не выстраиваются в хронологическую линию и не растворяются в универсалии более высокого порядка. Смыслы сосуществуют в разных авторских мирах и узусах, задавая разные горизонты для движения понятий и сохраняя при этом корневое значение как образно-логический ресурс. В свете чего более понятным становится «бесконечно разнообразная» семантика термина и готовность греков употреблять термин «история» во всех областях творчества, науки и искусства даже при некотором перевесе в сторону исторической науки. Читатель, знакомый с новейшей гуманитаристикой, вправе уже сейчас заметить, что в иследовательском стиле А.А. Тахо-Годи мы имеем дело именно с интересной версией «исторической семантики» и фиксировать переклички с методом немецкой «истории понятий» (как представляется – без очевидных влияний) можно с достаточными основаниями.
Стоит подкрепить это наблюдение материалом других статьей. В работе «Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков», которая фиксируется не на одном термине, а на концепте-мифологеме, выделены несколько модификаций модели игры как объяснения космической и человеческой жизни: 1) существует «стихийная, неразумная игра вселенских сил, изливающая преизбыток своей энергии на человеческую жизнь, входящую в общий природный круговорот мировой материи»; 2) жизнь универсума и человека понимаются как «сценическая игра, строжайше продуманная и целесообразно осуществленная высшим разумом»; 3) оба аспекта могут взаимодействовать и даже сливаться благодаря роли «Случая-Тюхе, апофеоза алогичной стихии и вместе с тем божественного, неведомого людям замысла, который блистательно разыгрывает театральные представления (правда, только в плане человеческой жизни, личной и общественной), не смея конкурировать с трагедией, поставленной на бескрайних просторах сценической площадки вселенной космическим демиургом»[387].
Здесь мы встречаем по крайней мере три уровня своеобразной театральности: играющие стихии космоса, трагедийная постановка демиурга и театр случая. Как показано в работе, эти три уровня взаимопроникающе связаны. А.А. Тахо-Годи подчеркивает цельность античной «театральной интуиции», взаимную дополнительность ее отмеченных выше моментов. «Беззаботная игра божественных сил никогда, однако, у греков не противоречила осмыслению мира и человека как направляемых вполне целесообразной и разумной волей, открытой вовне лишь мудрецам, пророкам и поэтам»[388]. Особенно наглядно это проявилось в эллинистическую эпоху, когда Тюхе-Случай становится более значительной богиней, чем Ананка и Мойра. «Именно Тюхе, столь характерная для эллинизма, с его крушением старых устойчивых полисов и бурной деятельностью македонских и римских завоевателей, совмещает в себе беззаботность игры мировых стихий с продуманностью скрытого от людей замысла закономерной и неизменной в своих решениях судьбы. Отсюда – вся человеческая жизнь представляется уже не просто беспринципной игрой, но игрой сценической, управляемой мудрым хорегом, умело распределяющим роли, жестко следящим за их исполнением и не допускающим для актера никаких вольностей вне текста»[389]. Концепт «жизнь как сценическая игра» рассматривается А.А. Тахо-Годи, с одной стороны, как изначально цельная культурная интуиция, с другой же – как спектр семантических моментов, возникший в результате преломления этой интуиции в живой, исторически изменчивой культурной среде. Обильный текстологический материал, которым обеспечена работа, убеждает, что перед нами – реальная «история понятия», а не собрание интересных авторских ассоциаций.
Не менее виртуозна в этом отношении работа «О древнегреческом понимании личности на материале термина soma». Принципиально не затрагивая большой ряд лексем, связанных с греческим пониманием личности, автор концентрируется на термине, казалось бы, маргинальном для персонологии, но в результате высвечивая драматичный сюжет поиска античностью сути человеческого бытия. Soma оказывается своего рода зеркалом, в котором отразились образы телесного человека, раба, гражданина, субъекта истории и даже человеческого рода. Именно термин-константа позволил в данном случае увидеть и семантическую динамику, и особенности античного культурного горизонта, и необходимость в новой лексике для выражения революционных изменений в понимании личности.
Следя за изгибами и поворотами историко-семантического метода А.А. Тахо-Годи в приложении к избранным ею понятиям (а среди них, кроме уже рассмотренных, – символ, миф, судьба, природа, случай), мы понимаем, что фундаментом его является не набор приемов и инструментов, а цельное и прочувствованное мировоззрение. Неоднократно отмеченная выше близость этого метода к современной немецкой школе «истории понятий» должна быть несколько оттенена и указанием на его своеобразие. Если западные Begriffsgeschichten центрированы вокруг социально-политической тематики, то метод А.А. Тахо-Годи не представим без стихии эстетического.
Как исторический стержень греческой культуры А.А. Тахо-Годи рассматривает мифотворчество и позднеантичное символическое восприятие мифа. Из этой почвы слова-термины, в свою очередь, создают понятия, в которых проявляются глубинные основы мировоззрения древних греков. «Однако максимально выявленный смысл предмета вовне есть не что иное, как его выразительное, или эстетическое, начало, причем эстетическое вовсе не обязательно равнозначно прекрасному. Безобразное тоже по-своему может достигнуть совершенства и быть тем самым выразительным, т. е. эстетическим. Таким образом, греческая культура в словах-терминах, словах-мифах, словах-символах выявляет свою особую эстетическую сущность»[390]. Эстетическое, таким образом, оказывается (вполне по-кантовски) культурной средой и посредником между теоретическим и практическим.
И еще одно. Как представляется, впечатляющие результаты «исторической семантики» в версии А.А. Тахо-Годи связаны не только с мастерским и строго обоснованным выделением развивающегося понятийного ядра лексем, не только с проникновенными интуициями живого слова, но и с видением абсолютного духовного контекста, в котором семантические миры движимы не механической каузальностью и не исторической случайностью, но – своего рода телеологией. Такой подход коренится в той традиции русской философии, которая, видимо, начинается в «брокгауз-ефроновских» статьях Вл. Соловьева и оформляется в углубленных терминологических штудиях П.А. Флоренского и А.Ф. Лосева. Но традиция эта, столь блистательно продолженная А.А. Тахо-Годи, по-настоящему до сих пор не изучена и остается «целиной», ждущей своих высокопрофессиональных исследователей.
Культурфилософские идеи XX в.
XX век дает большой спектр вариантов культурологических учений. В значительной мере тон культурологии столетия задают уже рассмотренные нами концепции Дильтея (особо повлиявшего на герменевтику и экзистенциализм), Ницше, баденского неокантианства. В начале века появляются и доминируют до Первой мировой войны учения Бергсона и Зиммеля, продолжающие линию философии жизни. После войны, и особо интенсивно с середины 1920-х годов, оформляются основные современные версии культурологии. Шпенглер создает морфологию культуры, Кассирер – философию символических форм, а Ортега-и-Гассет – рациовитализм. Хайдеггер и Ясперс строят экзистенциальную философию культуры. Из исторических исследований вырастают теории Тойнби и Хёйзинги, из философской антропологии – концепции Шелера и Ротхакера. Социология культуры становится почвой для культурфилософских построений М. Вебера, А. Вебера, Маннгейма, Парето. Религиозную философию культуры создают Гвардини, Тейяр де Шарден, Тиллих. Нередкими являются случаи кристаллизации оригинальной культурологической мысли в современной интеллектуальной литературе и эссеистике (Т. Манн, Гессе, Лем, Борхес). Свою концепцию культуры имеют такие авторитетные направления мысли, как феноменология, психоанализ, герменевтика, структурализм и др. Рассмотрим ключевые идеи наиболее влиятельных учений.
Г. Зиммепь (1858–1918), как и все представители поздней философии жизни, ищет гибридные формы витализма. Его версия включает идейные мотивы позитивизма, марксизма, гегельянства, гётеанства и бергсонианства. От марксизма у Зиммеля интерес к процессам отчуждения продукта от производителя, но он предпочитает гегелевскую расстановку приоритетов: духовное отчуждение первично по отношению к его социальным, культурным и экономическим выражениям. Один из создателей социологии, он привносит в тему культуры приемы формально-социологического исследования конкретных общественных феноменов: ряд таких феноменов едва ли не впервые был тематизирован именно Зиммелем (мода, деньги, реклама, массовая культура, повседневность).
От неокантианства идет его понимание духовной культуры как «трансцендентального формотворчества». Анализ культуры Зиммель сравнивает с грамматикой, которая изучает форматуру языка, его структуры, а не сказуемое. Включение форм в социальный и исторический контекст – это для Зиммеля не только сознательный акт исследователя, но и бессознательное поведение любого субъекта общества и истории. Кроме культурных форм существует и «индивидуальный закон»: личностная формирующая сила, определяющая творчество и жизненные установки – зачастую вопреки культурным формам. В этом напряжении между формой, личностью и жизнью состоит главный конфликт, на котором сосредоточен Зиммель как философ культуры.
Культурные формы различаются по дистанции от жизни как таковой. Есть непосредственные формы жизни, связанные чаще всего с коллективными бессознательными стереотипами: поведение масс, обмен, подражание и т. п. Более опосредованно связаны с жизнью институты и организации, направленные на прагматические цели. Максимально удалены от жизни «игровые» формы, чистые символические ритуалы, значение которых не связано напрямую с переживаниями реальности (например, «искусство для искусства»).
Анализируя современную культуру, Зиммель диагностирует ее как культуру отчуждения и объективности. Формализм, интеллектуализация, бюрократизация довлеют себе и не нуждаются в обеспечении «валютой» жизненных ценностей. Культурные формы неуклонно приобретают игровой самодовлеющий характер, и этот процесс находится в прямой связи с атомизацией человека, его «освобождением» от жизненной вовлеченности в формы. Субъективная свобода, порожденная отчужденной культурой, в свою очередь, продуцируется индивидуумом, и этот замкнутый цикл ускоренно приводит к омертвению культуры. В современной культуре Зиммель находит общую стилевую формулу – «объективность» как формальное безразличие к содержанию, жизни и личности. Особенно выразителен в этом отношении зиммелевский анализ культурной функции денег как стилевой эмблемы современности.
Трагический парадокс культуры Зиммель видит в том, что исчерпание жизненного порыва происходит по причине стремления самой жизни к форме и самоопределению через самоограничение. Более того, дух, так же как и жизнь, стремится к формализации в культуре. Культура, с одной стороны, позволяет жизни стать «более-чем-жизнью», с другой же – подчиняет ее своим формальным законам, заставляет «работать на себя» и лишает витальной силы. Вся история культуры демонстрирует этот закон вырождения жизненного порыва. Выхода из этого тупика не существует, поскольку у жизни нет адекватных форм, а значит, нет телеологического движения к наилучшей оформленности: нет поступательной трансформации, есть лишь смена форм или восстание против самого принципа формы, что, по Зиммелю, как раз и присуще современной стадии культуры.
А. Бергсон (1859–1941) посвятил проблемам культуры сравнительно немного работ, но масштаб его влияния на культурфилософию чрезвычайно значителен. Общественное признание (в 1922 г. он стал первым президентом Международной комиссии по интеллектуальному сотрудничеству, а в 1927-м получил Нобелевскую премию по литературе) свидетельствует, что его философия воспринималась в том числе и как культурная программа. Первые десятилетия XX в. были буквально охвачены духом бергсонизма. Новое переживание времени как «длительности» пропитало все слои культурной почвы, и сопоставить его можно разве что с переживанием эйнштейновской «относительности». Как ни странно, тема времени была сравнительно новым гостем в культуре. Рожденная в XVIII в. идея историзма не затрагивала самой природы времени. До XIX в. в европейском мировоззрении царствовали Вечность, Пространство, Порядок, Повторение; в ходе столетия власть перешла к Процессу, Истории, Переживанию, Порыву. Но за «революцией» наступила «реставрация»: взяли свое более привычные интуиции и время опять «опространствилось», овеществилось, психологизировалось. Бергсону пришлось осуществить вторую революцию: его «длительность» решительно размежевала время психофизическое и время онтологическое, в котором коренились еще два великих бергсоновских концепта – «творчество» и «интуиция». По Бергсону, первичная интуиция открывает нам неделимую подвижную непрерывность («длительность»), дает непосредственное и целостное понимание реальности, в отличие от механически действующего и практически ориентированного рассудка.
Уже в первой его значительной работе «Опыт о непосредственных данных сознания» (1889) понятие длительности тесно связано с понятиями свободы и творчества. Правильно пережитое время освобождает творческую интуицию от диктатуры интеллекта (понимаемого как механический инструмент) и от инертности социальных структур, открывая пространства живой культуры. В отличие от Зиммеля, Бергсон не считает фатальным конфликт жизни и формы: для него важно найти способы реанимировать подавленную интуицию (среди таких способов мы неожиданно встречаем «смех» и «здравый смысл»), но так же важно найти для интуиции адекватную форму (поэтому Бергсон – решительный сторонник классического образования).
В «Творческой эволюции» (1907) – самой знаменитой книге Бергсона – основой культуры «длительности» и «интуиции» становится биологическая эволюция, движимая «жизненным порывом», который, не нуждаясь во внеположных ценностях, из себя порождает формы как «остывший» продукт своих импульсов. Непосредственно культурологическая концепция содержится в работе Бергсона «Два источника морали и религии» (1932). Бергсон утверждает в ней, что существует два идеальных типа общества (реализованных в истории лишь в некоторой мере): «закрытое», авторитарными средствами утверждающее стабильность и «статическую» мораль, и «открытое», воплощающее в творчестве выдающихся людей «жизненный порыв» и «динамическую» мораль. Истоки современного кризиса, по Бергсону, лежат в агрессивной и механистической моральной «статике». Будущее – за открытым обществом с его свободной витальностью. Культурными предтечами открытого общества являются христианская мораль, духовная и политическая толерантность, свободоносное творчество великих художников.
Появление в 1918 г. «Заката Европы» О. Шпенглера (1880–1936) с его «морфологией» уникальных культурорганизмов можно рассматривать как окончательное рождение культурологии в качестве самостоятельной дисциплины.
Главный объект критики Шпенглера – понимание мировой культуры как единого и прогрессивно развивающегося целого. По Шпенглеру, есть только культуры как индивидуумы – со своей судьбой и своим неповторимым лицом: «Вместо безрадостной картины линеарной всемирной истории <…> я вижу настоящий спектакль множества мощных культур, с первозданной силой расцветающих из лона материнского ландшафта, к которому каждая из них строго привязана всем ходом своего существования, чеканящих на своем материале – человечестве – собственную форму и имеющих каждая собственную идею, собственные страсти, собственную жизнь, волнения, чувствования, собственную смерть»[391]. Таких культур, прошедших полный цикл развития и стилистически близких, Шпенглер насчитывает восемь: египетская, индийская, вавилонская, арабо-византийская, китайская, греко-римская, западноевропейская и мексиканская (культура майя). Развитие культуры определяется не причинными связями, а направляется присущей только ей «судьбой» (Шпенглер имеет в виду античный «рок» со всеми его коннотациями). Единство культуры определяется не идеями и договорами, а ее уникальной душой, живущей во всех явлениях. В основе каждой состоявшейся культуры лежит таинственный и неповторимый первообраз (прафеномен), который бесконечно варьируется во всех вторичных феноменах этой культуры. Поэтому культуры непроницаемы и непонятны друг для друга, хотя возможно их взаимодействие без взаимопроникновения.
Шпенглер ярко портретирует души культур. Античная культура имеет в своем основании «аполлоническую» душу, которая выражается в прасим-воле скульптурно оформленного тела; в основе арабской культуры – «магическая» душа, выраженная прасимволом пещеры и строгим противопоставлением души и тела; в основе западной – «фаустовская» душа, воплощенная в символе чистого бесконечного пространства и временного процесса. Но участь всего одушевленного – это жизненный цикл и его конечность. Все, что существует, подчиняется ритму природы и проходит стадии рождения, взросления, зрелости, старости и смерти или, по другой метафоре, стадии весны, лета, осени, зимы: «Каждая культура проходит возрастные ступени отдельного человека. У каждой есть свое детство, своя юность, своя возмужалость и старость»[392]. «Культура рождается в тот миг, когда из прадушевного состояния вечно-младенческого человечества пробуждается и отслаивается великая душа… Она расцветает на почве строго отмежеванного ландшафта, к которому она остается привязанной чисто вегетативно. Культура умирает, когда эта душа осуществила уже полную сумму своих возможностей в виде народов, языков, вероучений, искусств, государств, наук и таким образом снова возвратилась в прадушевную стихию. <…> Как только цель достигнута и идея, вся полнота внутренних возможностей, завершена и осуществлена вовне, культура внезапно коченеет <…> она становится цивилизацией»[393].
Противопоставление культуры и цивилизации как двух последовательных стадий изобрел не Шпенглер. Эта тема возникла в ходе самоутверждения немецкого Просвещения и его полемики с французским. Но у Шпенглера этот концепт становится одним из главных инструментов анализа культурной динамики. Цивилизация, по Шпенглеру, есть совокупность крайне внешних и крайне искусственных состояний, к которым способны люди, достигшие последних стадий развития. Цивилизация есть завершение и неизбежная судьба всякой культуры. Смыслы культуры больше не вдохновляют людей, обращенных уже не к культурным ценностям, а к утилитарным целям и заботе о собственном благополучии. Цивилизация является волей к власти над миром, к конструированию поверхности земли. Поэтому культура национальна, а цивилизация интернациональна, культура наполняет время живыми смыслами, а цивилизация – пространство вещами и техникой. Мировой город побеждает провинцию, космополитизм побеждает патриотизм. Масса доминирует над индивидуумом, и появляется, с одной стороны, массовая культура с ее культом присвоения и потребления, а с другой – элитарная «александрийская» культура холодных интеллектуальных игр. Шпенглер не видит в этом трагедии: цивилизация – это всего лишь закономерный конец, к которому в своем развитии приходит любая культура. Мудрый человек не противится этому закону; исповедуя принцип «любви к судьбе», он принимает ее правила игры.
Если шпенглеровская диагностика и критика современности перекликается с целым рядом культурологических учений начала XX в., то его морфологический метод в значительной мере оригинален, а в ряде моментов – беспрецедентен. Его главная идея – познание живой формы при помощи аналогии. Разворачивая принцип аналогии, Шпенглер создает большой аналитический инструментарий: прафеномен; гештальт (образ, улавливающий смысл и динамику метаморфозы); физиогномика (морфология органического), символ, стиль, аналогия, гомология, «одновременность», псевдоморфоза (имитация аутентичной формы)… Так же как для познания мертвых форм есть главный инструмент – математический закон, так и для всего живого, включая культуру, есть аналогия. Если морфология механического занимается счетом, установкой законов, выработкой схем, систем причины – следствия в пределах логики пространства, то морфология органического имеет дело с временем и судьбой. Отстаивая принципиальное расхождение органического восприятия мира и механического, Шпенглер подчеркивает, что совокупность гештальтов отличается от совокупности законов, образ и символ – от формулы и схемы, однократно действенное – от постоянно возможного, цель «планомерно упорядочивающей фантазии» – от цели, разлагающей опыт, мир случая (мир «однократно действительных фактов») – от мира причин и следствий (мира «постоянно возможного»). Факты истории, в отличие от природных фактов, не просто есть что-то, но всегда что-то обозначают своим явлением. Они суть символы.
«Культура как совокупность чувственно-ставшего выражения души в жестах и трудах, как тело ее, смертное, преходящее… культура как совокупность великих символов жизни, чувствования и понимания: таков язык, которым только и может поведать душа, как она страждет»[394]. Смысл морфологии истории в указании на культурные символы. Для прошлого мышления, говорит Шпенглер, внешняя действительность была продуктом познания и поводом к этическим оценкам; для будущего она – выражение и символ: морфология всемирной истории становится универсальной символикой. Поскольку культурные циклы повторяются, морфология в состоянии сравнивать символически однотипные эпохи, или, как называет их Шпенглер, «одновременные». Основным инструментом при этом являются аналогия и гомология. (Иллюстрируя метод, Шпенглер во введении к «Закату Европы» создает обширные и довольно спорные таблицы (см. табл. 12), в которых выстраивает «одновременные» эпохи по рубрикам времен года и сопоставляет по различным аспектам культуры: развитию математики, философии, архитектуры и т. п.) Символический метод раскрывается далее в гётеанском понятии большого стиля. Большой стиль выражает свободу и экспрессию человека или целого народа как творца, давая ему возможность создать символические ансамбли, в которых воплощено итоговое переживание прафеномена своей культуры.
Постулируя непостижимость культуры извне, Шпенглер неизбежно сталкивается с парадоксом редукционизма: если следовать логике редукционизма (например, марксизма, фрейдизма или, как в данном случае, шпенглерианства), никакая исследовательская позиция не может быть метатеорией, поскольку она сама есть продукт внетеоретической детерминации. Шпенглер утверждает, что исследователь так же мало может понять чужую культуру, как и сами культуры друг друга: «…каждой великой культуре присущ тайный язык мирочувствования, вполне понятный лишь тому, чья душа вполне принадлежит этой культуре»[395]. В то же время он дает грандиозную панораму интерпретации всех доступных исторической памяти культур. Выход из парадокса намечен Шпенглером следующим образом: морфология культур как наука принадлежит своему времени и претендует не на адекватное переживание культур, а на реализацию того типа знания, для которого пришло время. Для современной Шпенглеру западноевропейской культуры пришло время понимания всемирной истории и ее локальных элементов, и значит, это учение – символ закатывающегося солнца Европы. Однако вопрос об истине – фатальный для всех редукционистов – такими аргументами не снимается. В этом одна из причин относительной бесплодности шпенглеровской «морфологии» для экзистенциально-напряженных 1920-1930-х годов.
Необычайно влиятельной в области наук о культуре стала концепция психоанализа, особенно в версиях 3. Фрейда (1856–1939) и K.L Юнга (1875–1961). Учение психоанализа о бессознательном и его динамическом воздействии на ментальные структуры личности показалось многим современникам ключом к тайнам культуры, поскольку описывало механизм превращения психического импульса в символ. Будучи в своих мировоззренческих установках наследником и позитивизма, и философии жизни, психоанализ соединяет с ними свой научный и клинический опыт, что создает ему ауру спасительного учения и одновременно естественно-научной концепции. Фрейд начиная с работы «Я и Оно» (1923) распространяет объяснительные схемы психоанализа на область искусства, социальных и гуманитарных наук.
Таблица 12
Таблица «одновременных» духовных эпох
(Из «Таблиц к сравнительной морфологии мировой истории»)

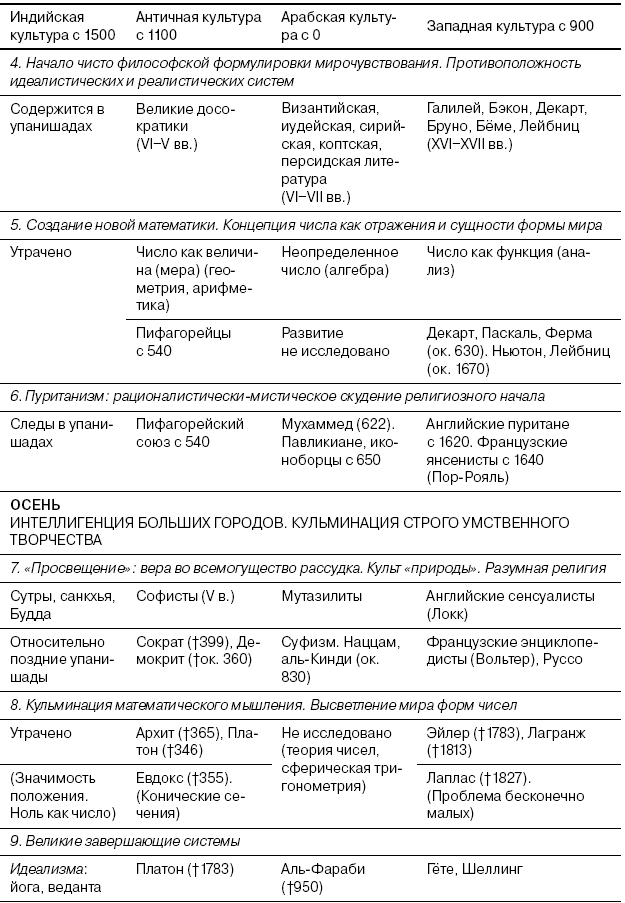
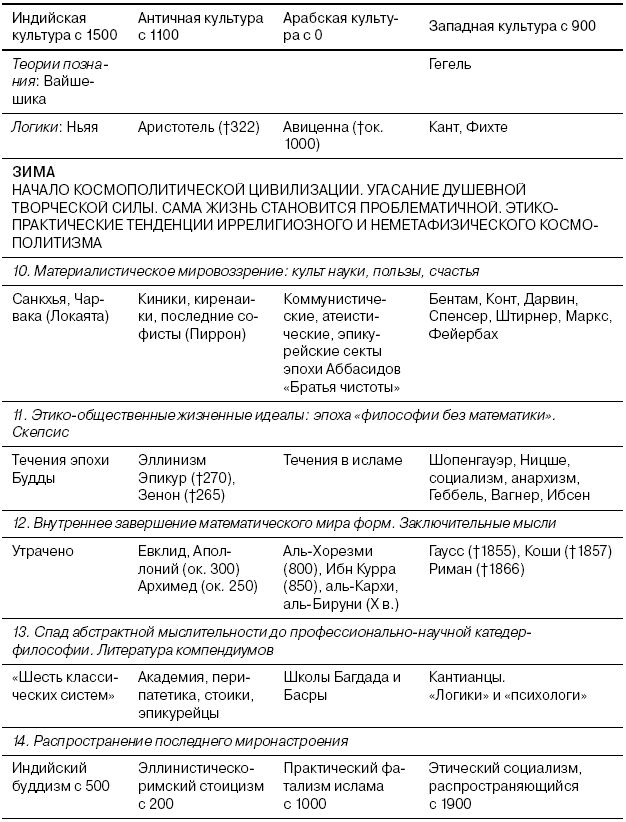
Источник: Шпенглер О. Закат Европы / пер. К.А. Свасьяна. Т. 1. М., 1993. С. 189−92.
Лечение пациентов с невротическими расстройствами и толкование сновидений привели Фрейда к выводу о сознательной сфере психики («я») как об области борьбы подсознательного («не-я»), представленного в душе символами, против выработанных культурой норм и идеалов («сверх-я»). Вытесненные этой борьбой в подсознание влечения человека возвращаются в сознание трансформированными и зашифрованными.
Культура, по сути, есть проекция на общество всей этой душевной мизансцены, ее динамики и сюжетики. Воплощение запретных влечений в душе и культуре в допустимой форме Фрейд называет «сублимацией». Культура не столько примиряет конфликты психики, сколько является репрессивной силой (см. «Недовольство культурой», 1930) или «театром масок», скрывающим от цензуры «сверх-я» запретные влечения. Фрейд, таким образом, скорее «разоблачает» культуру и объясняет ее продукты превращенными формами низменных страстей. Эта редукционистская позиция не меняется от предмета ее применения: по такой схеме построено разоблачение религии («Будущее одной иллюзии», 1927; «Человек Моисей и монотеистическая религия», 1939); литературного и художественного творчества («Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи», 1910; «Достоевский и отцеубийство», 1928); тайн первобытной культуры («Тотем и табу», 1913); массовой психологии («Психология масс и анализ человеческого „Я“», 1921). Единственное отличие культурного творчества от невротического продуцирования иллюзий в том, что дар художника позволяет сублимировать темные импульсы в осознанные, облагороженные и общезначимые символы, которые нейтрализуют болезненные аффективные состояния, что помогает излечиться и самому художнику, и его акцепторам.
Ученик Фрейда – К.Г. Юнг – сдвигает духовные установки психоанализа от позитивизма к романтической традиции понимания творчества. Бессознательное для него – не враждебный источник темной энергии, а ресурс творческих импульсов. Наряду с личностным сознанием и индивидуальным бессознательным Юнг открывает более глубокую, таинственную и универсальную стихию коллективной объективной психики, идентичной для всех индивидов. Коллективное бессознательное не принадлежит индивидуальному опыту, но, являясь продуктом биологического и культурного развития многих поколений, оно может вступать в область индивидуального душевного мира. Интерес Юнга переключается с личностного бессознательного на его глубинные истоки, на коллективное бессознательное. В нем хранятся первичные модели, определяющие психическую и практическую жизнь человека. Юнг назвал их «архетипами коллективного бессознательного». Способ их действия Юнг метафорически описывает как систему осей кристалла, которые незримо существуют в растворе и преформируют кристалл. Производными архетипов являются «архетипические образы», которые исподволь воздействуют на коллективный и индивидуальный психический опыт и становятся отчасти наблюдаемыми в состояниях заторможенного сознания: в снах, визионерском опыте, галлюцинациях, фантазиях, мечтах, символах. Изучение Юнгом архетипических образов на материале мифологии, оккультизма, религии, искусства приблизило его версию психоанализа к своеобразной культурологии.
Особая тема Юнга – существование в нашей душе архетипов, которые устойчиво присутствуют в личностном бессознательном, структурируют окружение сознательного центра души («эго») и могут нести в себе как позитивные, конструктивные, так и негативные, деструктивные силы. Это такие архетипы, как «самость», «тень», «анима», «анимус» и «персона». Самость – центральный архетип, ось, вокруг которой организованы психические свойства человека. Она формирует сущность личности как нечто целое. Самость – это оптимальное равновесие сознательного и бессознательного. Наше «я» в самости объективируется и вступает в связь со всем миром, вплоть до самозабвения. Чтобы обрести самость, необходимо знать, кто ты есть.
Тень – это негативное «альтер эго» души; содержание, вытесненное цензурой из сознания, но сохраняющее самостоятельные импульсы. Тень связывает сознание с бессознательным и является пограничной силой: Юнг называет тень «стражем бессознательного». Будучи негативным двойником человека, тень не просто нечто иное: Юнг полагает, что встреча с самим собой – это прежде всего встреча с собственной тенью. Но встреча с тенью может также породить у человека впечатление, что он является объектом манипуляции сверхъестественной силы.
Анима и анимус – это представители противоположного пола в душе. Анима, по Юнгу, – «внутренний образ женщины в мужчине», анимус – «внутренний образ мужчины в женщине». Эти архетипы могут активно овладевать человеком, воплощать его идеалы и менять формы поведения. С точки зрения Юнга, анимус действует как логика, разум и воля к власти; анима – как эмоциональность, родственность, эротичность. Анима репрезентирует в душе жизнь.
Персона, разъясняет Юнг, – это маска, которая инсценирует индивидуальность, заставляет других и ее носителя думать, будто он индивидуален, в то время как это всего лишь роль, сыгранная коллективной психикой. Сама по себе она – случайный или произвольный фрагмент коллективной психики. Можно заметить, что в этом юнгианском театре архетипов душа становится культурным микрокосмом, впитывая из культурной среды содержание своих сюжетов. Так же, впрочем, справедливо и обратное: внутрипсихические события проецируются на культуру и становятся объяснительными моделями. Ряд архетипов представляет скорее культурные силы, чем элементы душевного строя. Таков, например, архетип «старого мудреца», в котором через образ учителя и мастера (шамана в первобытном обществе) представлена идея смысла, архетип смысла. Или архетип «божественного ребенка», выражающий идею вечно юного космоса.
Неравнодушен Юнг и к такой важной теме своего времени, как критика цивилизации. Болезнь современной культуры, по Юнгу, в нарушении баланса сознательного и бессознательного. Запад культивирует сознание, направленное на внешний мир, в отличие от интровертного сознания традиционных обществ. Поэтому каналы бессознательного перекрываются; магия, ритуалы, символы и мифы, при помощи которых в древности восстанавливалась гармония сознательного и бессознательного, теряют валентность. Культурные традиции формализуются и теряют связь с жизнью, доминирует рациональность и прагматичность. Самое страшное последствие этого отчуждения и потери трансляции символического опыта – прямое вторжение архетипов в культуру и в сознание, минуя выработанные традицией фильтры. Это может привести к полной деструкции как сознания, так и культуры. В массовых психозах тоталитаризма Юнг видит как раз этот кризис, корни которого – в выборе, сделанном Европой на заре Нового времени. В своем позднем творчестве Юнг выходит даже за те размытые рамки научной доктрины, которые им обозначались, и пытается для спасения души и культуры создать собственное квазирелигиозное учение и соответствующую ему практику.
В творчестве Э. Кассирера (1874–1945) позднее неокантианство осуществило впечатляющий синтез традиций марбургской школы со многими актуальными наработками культурологии начала века. Еще до 1920-х годов, когда Кассирер выступил как создатель собственной, вне школы, теории культуры, он разрабатывает теорию познания как историю научных концептов в насыщенном культурном контексте. В «Философии символических форм» (1923–1929) Кассирер ставит задачу создать «общую теорию форм выражения духа» и считает такую теорию дополнением к изучению «общих предпосылок научного познания мира», которому он посвятил свои ранние работы. То есть, полагает он, полнота исследования требует перехода от форм познания к формам понимания. В первом томе анализируются языковые формы, во втором – формы мифологического и религиозного мышления, в третьем – морфология научного мышления. Полемизируя с классической картезианской парадигмой, Кассирер принципиально трактует эту свою предметность как автономные формы культуры, не подчиняющиеся одной лишь понятийно-научной общности.
Наука – это не более чем часть духовной культуры: в целом область духа определяется противостоянием и взаимодействием культуры и природы. Отсюда следует, что именно дифференциация форм духа и объяснения их собственного автономного «законодательства» может раскрыть сущность культуры. Поскольку единство культуры невозможно определить за счет предмета, это необходимо сделать за счет лежащей в ее основе функции (что следует уже из ранних работ Кассирера). Такой функцией является символическая деятельность. Кассирер именует исследование этой деятельности «морфологией духа» или «грамматикой символических форм».
Главным инструментом символической деятельности является символическое понятие: способ приведения в порядок чувственного материала активным сознанием, которое не отражает реальность, а преобразует ее по правилам, восходящим к кантовскому учению об априорном синтезе. Ближайшей объективацией символического понятия является символ как единство смыслового и чувственного начала в конкретной наглядной форме (простейший пример – слово). Символ – не только репрезентация понимания, но всегда определенная форма деятельности. Символы собираются в сложные субъект-объектные комплексы, каждый из которых имеет свои правила производства новых символов и конструирует свой тип действительности, другими словами – дает закон построения смысла. Это то, что Кассирер называет символическими формами. Их основной ряд: миф, язык, наука, искусство, религия, техника, право, история, экономика. Они организуют и структурируют духовный опыт. Среди важнейших свойств этих форм – способность быть «средой» (без иерархического подчинения), благодаря которой все события культуры могут стать доступными и понятыми без посягательства на автономность их областей.
Как целостная система, символические формы организованы вокруг трех основных функций сознания: функции выражения, функции представления, функции значения. В мифе и искусстве доминирует функция выражения, в языке – представления, в науке – значения. В историческом аспекте три главные символические формы – миф, язык и наука – могут рассматриваться как три стадии последовательного развития в направлении «самоосвобождения человека». Особую роль уделяет Кассирер мифу, из которого вырастают все остальные формы и структурно, и исторически. В целом Кассирер сохраняет ориентацию на ценности европейского рационализма, о чем говорит и его понимание движения от непроясненных и недифференцированных состояний культуры к структурно организованному миру символических форм – как «самоосвобождения». Но, учитывая исторический опыт XX в., он предостерегает от недооценки энергии мифа, которая не может быть простодушно «утилизована». Этой теме и антропологическому аспекту символической деятельности в значительной мере посвящены последние работы Кассирера: «Опыт о человеке» (1944) и «Миф государства» (изд. 1946).
Философия культуры X. Ортеги-и-Гассета (1883–1955) не вписывается в устоявшуюся классификацию направлений. Впитав многое из актуальных учений своего времени, он создает оригинальную констелляцию идей, которая (как и у многих мыслителей XX в.) является скорее собранием интеллектуальных лейтмотивов, чем системой. Центральным его мотивом справедливо считают различение «идей» и «верований» (creencias). Верования (или «идеи-верования») возникают в жизненном потоке, вырастают из недр культурной почвы; их нельзя выдумать и произвольно сменить. Идеи – продукт личного творчества: это счастливые находки, с помощью которых мы решаем те или иные проблемы. Идеи возникают, когда дают сбой верования, когда в их массиве появляются прорехи. Тогда эти пустоты заполняются идеями, в результате чего возникают проективные мировоззренческие миры: науки, религии, морали… Собственно, «верхний» слой культуры и есть устойчивый уплотнившийся мир идей. Но идеями нельзя жить, тогда как верования (как личные, так и коллективные) – это глубинный жизненный слой, который меняется только вместе с историческими и личными потрясениями.
Толкование культурной динамики основано у Ортеги именно на этой оппозиции внерефлексивного жизненного мира верований и личностно окрашенных, проникнутых энергией эксперимента и инновации идей (во многом это аналогично классической оппозиции «природа – дух»). Из этой же интуиции выводится главный теоретический конструкт Ортеги – «рациовитализм». Жизнь Ортега считает «радикальной реальностью», не поддающейся редукции ни к рациональным, ни к спиритуальным, ни к биологическим основам. Жизнь – это первичная активность, которая в процессе решения своих задач превращается в жизнь разума. Жизнь разума, используя ресурсы воображения, творчества, морального решения, может выполнять все функции рациональности. Со своей стороны разум также, решая свои задачи, наполняется жизненным содержанием и становится разумом жизни. Сближаясь и переплетаясь, обе силы, тем не менее, остаются неслиянными. Этот союз и должен изучать (и защищать от профанаций) рациовитализм.
Поскольку у смыслополагания нет иного источника, кроме жизни, любая картина мира есть точка зрения и личностный ракурс видения субъекта жизни (со всей его рациовитальной динамикой). Поэтому нет «мира», нет «вещей»: есть лишь интерпретации. Вслед за Ницше эту установку Ортега называет «перспективизмом». Культура – не что иное, как ансамбль личностных перспектив; все объективно-безличные построения суть фикции (и зачастую небескорыстные). Перспективу Ортега понимает не как теорию или даже мировоззрение, а как способ жизни.
Жизнь человека Ортега описывает двумя концептами: это «история» и «драма». История в данном контексте – не развитие какой-то первоосновы во времени: жизнь не имеет субстанции, ее история первична. У человека нет природы, говорит Ортега, у него есть история. Если «драма» – это созидающий человека конфликт «я» и его «обстоятельств», то «история» – выход «драмы» в новое жизненное измерение, в котором может быть обретен смысл.
Эта же диспозиция сохраняется, когда Ортега рассматривает историю человечества. Она также базируется на диалектике верований и идей: кризис утративших жизненную валентность верований, с одной стороны, вызывает отчуждение верований и идей друг от друга, с другой – приводит к варваризации общества и омертвению элиты. В результате начинается революция идей и эволюция верований, приводящая к рождению новой эпохи. Эти процессы Ортега детально анализирует на примере «кризиса Возрождения» в одной из лучших своих книг «Вокруг Галилея» (1933), где рассматривает историю триумфальной победы «геометрического разума» и внутренние причины его будущего кризиса.
Культуркритике современности Ортега посвятил две свои знаменитые книги: «Дегуманизация искусства» (1925) и «Восстание масс» (1930). Обе книги имеют одну исходную интуицию: появление в Европе нового типа человека – «человека-массы», неоварвара, который обладает всеми правами гражданина и требует к себе соответствующего уважения. В «Дегуманизации искусства» Ортега видит выход из культурного тупика в отказе от лицемерного эгалитаризма и разделении общества на массу и элиту. Фактически эта программа уже выполняется новым искусством, которое сознательно отказывается от популярности, обращаясь к элите избранных ценителей. Общечеловеческий смысл и доступность перестают быть добродетелями нового искусства, оно становится дегуманизированным. В то же время искусство тяготеет к локализации в тех областях культуры, где находятся спорт и празднество. Искусство становится «массовым», но не «гуманистичным».
«Восстание масс» посвящено социально-культурному аспекту этой темы. В результате социального и технического строительства Нового времени современность получила новый тип (но не «класс» и не «сословие») человека. Это человек, защищенный законом, наделенный собственностью и комфортом, однако не берущий на себя ответственность за ценности своего времени, не желающий платить за них борьбой и страданием. В нынешних условиях «человек-масса» становится угрозой обществу, прежде всего потому, что он блокирует усилия элиты (стоит оговориться, что своя элита есть у любой функциональной социальной группы) и требует усиления патерналистской опеки государства. При всем этом книга проникнута духом конструктивной надежды на выход из кризиса.
Историзму Ортеги чужда резиньяция пессимистической версии философии жизни. Он отстаивает идею культурной преемственности и жизнеспособности общеевропейских идеалов. В создании объединенной и культурно возрожденной Европы он видит вполне реальную перспективу. Творчество Ортеги ценно не только его «большими» теориями, но и виртуозными «малыми» работами, в которых он дает образцы многоаспектного, зоркого культурологического анализа конкретных явлений духовной жизни.
Другая ветвь немецкой культурфилософии может быть условно названа экзистенциальной. Ее наиболее известные представители – М. Хайдеггер (1889–1976) и К. Ясперс (1883–1969). В философской генеалогии Хайдеггера важна роль Э. Гуссерля (1856–1938), учение которого – феноменология – стало корнем нескольких направлений культурологической мысли (в частности, теорий Шелера и Шюца). Выдвинутый Гуссерлем метод трансцендентально-феноменологической редукции был направлен на анализ мира явлений не с точки зрения его истинности или ложности, а в аспекте внутренней структуры самих явлений. Это было близко культурологическим установкам того времени и привлекло к Гуссерлю внимание всех, искавших достаточно строгой гуманитарной методологии для анализа культурных миров. Найденные Гуссерлем при помощи редукции элементы и факторы опыта – «интенциональность», «чистое сознание», «эйдосы», «горизонт», «интерсубъективность» – оказались опорными точками для ряда мыслителей. Поздний Гуссерль вводит еще один культурологически важный концепт – «жизненный мир». Это область до– и внетеоретической жизни с ее естественными установками, предрассудками, повседневными механизмами восприятия и объяснения и т. п. Именно отсюда, как из почвы, вырастают сознательно сконструированные миры, но конкретный опыт жизненного мира не утрачивает при этом свою ценность и аутентичность, поскольку его априорные структуры первичны и оказываются неотменимой точкой отсчета, основанием для коррекции всех позднейших надстроек.
Для Хайдеггера школа Гуссерля (вместе с влиянием романтической традиции, Ницше, Риккерта и Дильтея) была открытием пути к философской критике современной западной культуры. Начиная с прославившей его работы «Бытие и время» (1927) Хайдеггер развивает учение о Бытии, истина которого была забыта, превращена в объект, заслонена предметностью «сущего», извращена «метафизикой» и возможностями, открытыми техникой. В союзники Хайдеггер берет античную философию и немецкую поэзию, в которых мышление и поэтический язык находят путь к Бытию. Отсюда – учение Хайдеггера об истине как «открытости» (так он толкует греч. алетейя) в противовес классической интерпретации истины как соответствия объекта интеллекту.
Со временем Хайдеггер едва ли не главным средством сообщения своих интуиций делает стиль и форму текстов. Они как бы демонстрируют, каким должен быть язык истинного творчества, узревшего Бытие. Поздним работам философа присущи тщательное исследование языковой формы, проникновение в дух древнего мышления, смелые переходы от древности к актуальным проблемам Новейшей истории. Своими гипнотическими интонациями они заставляют задуматься о самых глубоких корнях теоретического мышления, создают определенное духовное настроение, располагающее к вслушиванию в сущность языка. Жанры философствования, которые избирает поздний Хайдеггер (эссе, диалоги, эстетическая экзегеза), предполагают языковую чуткость читателя и даже определенное соучастие в «выговаривании» истины. В отличие от строго филологического метода, его экзегетика вскрывает те внутренние возможности и смысл слова, которые нельзя предпочесть другим, не нарушая требований научности, но которые все же могли определять развитие мысли, опирающейся на них. Историки философии справедливо отмечают, что корни подобного отношения к слову уходят отчасти в почву швабской культурно-языковой традиции, отчасти – в традиции немецкой философской литературы (Экхарт, Бёме, Гегель), но несомненна и связь его с фундаментальными культурнокритическими установками философии Хайдеггера.
Для Хайдеггера слова «культура» и «ценности» – это диагноз потерявшего себя, отчужденного от Бытия мышления. Чтобы вернуться к изначальному Бытию, нужно стать «пастухом» Бытия, а не его распорядителем. Эту возможность уже утеряло техницизированное мышление, но еще хранит язык. Именно поэтический язык – «дом Бытия» – позволяет пока свернуть с ошибочного пути западной цивилизации и вернуться к забытым истокам мышления, к подлинному Бытию. Хайдеггер уверен, что западная цивилизация, выбравшая путь развития, основанный на беспощадной эксплуатации природы, на бесконечном ускорении технологического прогресса, не корректируемого моральными нормами, была заложена – как растение в семени – в самых первых философских системах Запада, противопоставивших субъект и объект. В таких работах, как «Время картины мира» (1938) и «Письмо о гуманизме» (1946), Хайдеггер наполняет эту эсхатологию культуры социальным содержанием. Так, «Время картины мира» содержит реестр обвинений Новому времени из пяти пунктов, содержащих указание на существенные (фатальные в свете утраты Бытия) черты его культуры:
1. Наука.
2. Машинная техника. (Хайдеггер поясняет, что машинная техника есть такое самостоятельное видоизменение практики, когда практика начинает требовать применения математического естествознания; машинная техника – это извод существа новоевропейской техники, совпадающего с существом новоевропейской метафизики.)
3. Процесс вхождения искусства в горизонт эстетики. (Художественное произведение становится предметом переживания, и соответственно искусство расценивается как выражение жизни человека.)
4. Человеческая деятельность понимается и организуется как культура. Культура – реализация верховных ценностей путем культивирования высших человеческих достоинств. Из сущности культуры вытекает, что в качестве такого культивирования она начинает, в свою очередь, культивировать и себя, становясь таким образом культурной политикой.
5. Десакрализация, обезбожение. Картина мира расхристианизируется, поскольку под основание мира подводится бесконечное, безусловное, абсолют, вместе с тем христианские церкви осовремениваются, перетолковывая свое христианство в мировоззрение. Возникшая пустота заполняется историческим и психологическим исследованием мифа.
Эти пять сущностей сводятся к тому, что Новое время опредмечивает мир, превращает его в «картину» и пытается его покорить: всему сущему оно задает меру и предписывает норму; делает свою позицию «мировоззрением» и развязывает борьбу мировоззрений, используя при помощи техники мощь всеобщего расчета, планирования и организации.
Философия М. Хайдеггера серьезно и глубоко проанализировала самые больные духовные проблемы своего времени и сделала выводы, впечатляющие своей нетрадиционностью и радикальностью. Парадоксальная связь этих выводов, остро критичных по отношению к западной цивилизации, с теми же противоречиями, которые им разоблачаются, двусмысленность предложенных Хайдеггером ориентиров, поучительная драматичность его политического опыта выразительно оттеняют собственно теоретические аспекты его понимания культуры.
Ясперса роднит с Хайдеггером острое ощущение культурного кризиса и уверенность в несводимости человеческого существования и его свободы к тому или иному типу объективности. В остальном эти мыслители, часто оказывающиеся «соседями» в рубриках учебников, скорее противоположны. Для Ясперса современные катастрофы культуры не дискредитируют всей европейской цивилизационной традиции. Христианство, гуманизм и классический рационализм по-прежнему живы, хотя и подвергаются небывалому испытанию. Чтобы выдержать испытание, необходимо, убеждает нас философ, переосмыслить способы межчеловеческой коммуникации, заново утвердиться в вере и осознать истоки и цели мировой истории. Культурная инерция лишает человека аутентичности, «самости», овеществляет и обезличивает его. Чтобы прорваться к своей «подлинности», необходимо установить коммуникацию с другой личностью («экзистенцией»).
Именно коммуникация (а не теория или практика) позволяет преодолеть отчуждения человека от себя и других. Одним из путей к такому прорыву является «пограничная ситуация», которая ломает культурные стереотипы и освобождает наше настоящее «я». Если коммуникация обращена не к другому субъекту, а к абсолюту, то она становится актом веры, прорывом к трансценденции. (В основе исторических конфессий, по Ясперсу, лежит именно такая коммуникация – «философская вера».) Результаты трансцендирования культура пытается закрепить, превращая их в знаковые коды, «шифры». Ясперс считает, что шифры трансценденции рано или поздно профанируют переживания «философской веры», и в этом смысле культура для него не только хранитель памяти о трансцендентном, но и источник опасности.
Важнейшей опорой и источником надежды для человека является осознание истоков и целей истории. В отличие от Хайдеггера, Ясперс видит в истории не забвение бытия, а его явления, которые, правда, не носят характер божественного промысла или естественной детерминации. Скорее, речь может идти о шансе на сохранение человечности. История в подлинном смысле начинается в эпоху между 800 и 200 гг. до н. э., когда по ойкумене прошла волна духовных реформ, в ходе которых появилось представление о человеке как личности, непосредственно ответственной за добро и истину перед божественным началом мира. Это время конфуцианства и даосизма в Китае, упанишад, буддизма и джайнизма в Индии, зороастризма в Иране, израильских пророков, орфической религии Средиземноморья, раннегреческой культуры. Ясперс называет эту эпоху Осевым временем (Axenzeit), поскольку оно стало стержнем всей будущей истории. Осевое время остается не только точкой отсчета, но и субъектом вечного диалога с более поздними эпохами, своего рода смысловой программой истории.
В построениях ряда крупных мыслителей тема культуры выступает как самостоятельная, требующая собственной теории и раскрываемая при помощи специального понятийного аппарата. Таковы по большей части персоналии предшествующего изложения. Но во многих случаях адекватное понимание культурологических идей требует своего «родного» дисциплинарного контекста, в котором они формировались. Гравитация социальногуманитарных наук, бурно развивавшихся в XX в., оказалась достаточно сильной для того, чтобы включить в их состав едва ли не большинство оформленных концепций культуры. Рассмотрим культурологически значимые идеи в гуманитаристике XX в.
В культурной антропологии (особенно американской) в XX в. ощутим заметный сдвиг в сторону общей теории культуры. Так, А.Л. Крёбер (1876–1960) во главу угла ставит проблему определения ее природы в целом. Понимая культуру как универсальную сверхорганическую систему, он видит задачу науки в выявлении устойчивых динамичных моделей: «паттернов», «конфигураций», «стилей». Конфигурация – неповторимая относительно устойчивая комбинация параметров, свойственная той или иной культуре в ее изменчивости, – особенно интересует Крёбера и становится предметом его пристального исторического и компаративного анализа. Важным результатом его исследований можно считать вывод об отсутствии в динамике культур жесткой структурной и ритмической детерминации: он подвергает аргументированной критике линейные и циклические модели прогресса, хронологические детерминанты, жесткие биоморфные аналогии и основательно развенчивает шпенглерианство.
Л.Э. Уайт (1900–1975) идет еще дальше в конституировании особой общей науки о культуре, которая должна была бы преодолеть ограниченность культурной антропологии. В 1939 г. он предложил назвать такую науку культурологией. Специфику культуры в целом он видит в уникальной способности человека придавать символическое значение материальным и идеальным предметам. Продукты символизирования (так называемые символаты) он делит на две группы: соматические и экстрасоматические. Экстрасоматические (не связанные с телесным контекстом) символаты и должна изучать культурология.
К. Леви-Стросс (1908–2009) от полевых исследований первобытных систем родства и мифологии переходит к масштабным методологическим построениям с опорой на фрейдизм, марксизм и структурную лингвистику. Он постулирует новую дисциплину – структурную антропологию, в центре которой – гипотеза о тождестве структурных моделей лингвистики и моделей поведения человека. Это тождество объясняется единым структурным принципом, локализованным в сфере бессознательного, в свою очередь детерминированного мозговыми структурами, которые в конце концов отражают структуру объективного мира. Изучая бессознательные структуры разума, воплощенные в культуре, Леви-Стросс со временем сближает свою дисциплину с семиотикой и вводит в круг объяснительных моделей не только лингвистику, но и музыкальные структуры. Его методология не только напоминает просвещенческие ходы мысли, но, пожалуй, является их дальним родственником. Показателен руссоистский пафос Леви-Стросса, уверенного, что реабилитация первобытной культуры вернет современности социальную и экологическую гармонию. Его структурная антропология, трансформировавшись в философию структурализма, оказала колоссальное влияние на гуманитарную мысль Запада.
К. Гирц (1926–2006) в ходе своей научной эволюции, так же как и упомянутые антропологи, шаг за шагом расширяет область исследования культуры до общей теории. Вначале понимая культуру как систему действий, детерминированных принятыми ценностями, он переходит к концепту культуры как универсальной игровой реальности, а затем интерпретирует культуру как сеть семиотических и семантических систем, потенциально способную к иерархической самоорганизации. Задача исследователя, по мнению Гирца, в толковании (включающем интерактивные контакты) «текстов», порожденных и символическими формами культуры, и моделями практического поведения.
Чрезвычайно значителен вклад в становление культурологии историков XX в. Важной вехой в этом отношении был созданный в 1929 г. М. Блоком (1886–1944) и Л. Февром (1878–1956) журнал «Анналы», который дал название школе историков (другое название – новая историческая наука), активной и по сей день. Свою задачу школа понимала как переход от истории, изучающей политические события и их творцов – «великих людей», к «тотальной» истории, исследующей всю совокупность социальных связей, включая глубинные структуры «большого времени» и культурные формы разного уровня общности. В соответствии с этим необходимо было расширить круг источников вплоть до любого артефакта и научиться адекватно считывать их скрытые сообщения. Таким образом, в поле внимания «Анналов» оказались культурологические проблемы: ментальность эпохи, историчность ценностных систем, коллективные установки и представления.
Принято различать в идеологии школы линию Блока (социальная история) и линию Февра (история цивилизаций). Для Февра центральный предмет исследования – сформированная эпохой и формирующая индивидов ментальность (культурно-психологический склад, ценностные настройки, объединяющие сообщество данной эпохи). Хорошо иллюстрирует метод Февра самая знаменитая его работа «Проблема неверия в XVI в.: Религия Рабле» (1942), в которой он убедительно показывает несовместимость атеизма с ментальностью людей XVI в. Для Блока предмет истории – социум как предельная целостность, обеспеченная формами коллективного сознания, которые всегда можно обнаружить в глубинах социальной структуры. Критерий исторического события – его форматированность сознанием того или иного субъекта эпохи. Именно поэтому в истории нет предопределенности и расшифровка ее событий – творческий аспект «ремесла» историка. Ментальность и здесь оказывается в центре научного интереса как главная объяснительная модель. Традиции школы продолжили Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, Э. Ле Ру а Ладюри.
Близок по духу школе «Анналов» развивавшийся независимо от нее Й. Хёйзинга (1872–1945), создатель двух культурологических шедевров: «Осень Средневековья» (1919) и «Человек играющий» (1938). В «Осени Средневековья» реконструируется культура Бургундии XV в., понимаемая автором не как Ренессанс, а как позднее Средневековье. Хёйзинга хочет «увидеть средневековую культуру в ее последней жизненной фазе, как дерево, плоды которого полностью завершили свое развитие, налились соком и уже перезрели». Однако перезревшая культура, прочитанная сквозь призму метода Хёйзинги, оказывается на удивление жизнеспособной. С одной стороны, перед нами – ожидаемая картина: «зарастание живого ядра застарелыми, одеревенелыми формами мысли, высыхание и отвердение богатой культуры». С другой же – осенний урожай бургундской культуры – это выявление скрытых, существовавших ранее в «связанном» виде потенций Средневековья, которые благодаря развалу целостности и эмансипации отдельных элементов культуры становятся зримыми феноменами. Если перенести метод Хёйзинги (как стали делать позже) на другие домены культуры XV–XVI вв., то мы увидим не просто «увядание» с его гипертрофией игр, символов и воплощений, но, по сути дела, альтернативную версию культуры, которую просто не замечали до Хёйзинги из-за ее соседства с хорошо изученными гигантами Средневековья и модернитета.
В «Человеке играющем» («Homo ludens. Опыт определения игрового элемента культуры») Хёйзинга дает многовековую панораму игровых форм культуры, утверждая, что игра не только исток, но и субстанция всей культуры, ключ к ее дешифровке. Игра – это свободная, непрагматичная, неавторитарная, фантазийная деятельность, но в то же время она подчинена правилам и потому учит без принуждения и воспитывает без насилия. Со временем игровое начало может вытесняться в ограниченные сферы, однако это не мешает ему время от времени «людифицировать» культуру. Реальные проблемы, по Хёйзинге, приходят с воцарением культа рассудка и пользы в эпоху Просвещения. Игра не просто вытесняется, она изнутри преобразуется в развлечение, что приводит к настоящему культурному кризису. С некоторым запозданием Хёйзинга был причислен к самым авторитетным аналитикам культуры современности. Его морфологический анализ эпох не уступает по тонкости и многоаспектности работам Шпенглера, а критика XX в. принадлежит к числу самых драматичных и глубоких предупреждений человечеству.
Один из самых знаменитых историков XX в. Дж. Тойнби (1889–1975), несмотря на близость к философии жизни, решительно отвергает шпенглерианскую аксиому герметически замкнутых культур и его учение о биоморфном цикле развития любой культуры. Культуру он видит как множество локальных цивилизаций, но считает, что препятствий для их взаимодействия нет, поскольку человечество субстанциально едино. В поздний период творчества он даже утверждает, что смысл истории – во всемирном движении к универсальной цивилизации, интегрированной при помощи экуменической мировой религии. Тем не менее таксономической единицей в его системе является локальная цивилизация, которую творят элиты, консолидированные духовными ценностями (своеобразными для каждой цивилизации). Срок жизни цивилизации ограничен; в полном варианте она проходит путь становления, роста, надлома и упадка, но это не биологический ритм, а скорее социальный, работающий на «топливе» моральной воли. В свою сложную классификацию Тойнби включает 36 цивилизаций, прошедших этап генезиса, но лишь некоторым из них удается пройти полный путь развития. По Тойнби, это античный, китайский и «диаспориче-ский» тип. Впрочем, большая часть наблюдений Тойнби сделана на материале греко-римской цивилизации.
Основной культурный механизм цивилизации – закон «вызова-и-ответа». Природная среда и враждебное окружение бросают обществу вызов: общество находит (или не находит) адекватный ответ, который и является силой, формирующей цивилизацию. Тойнби делает два существенных пояснения: 1) в конечном счете вызов исходит от Бога; 2) интенсивность вызова должна быть оптимальной (он называет это правилом золотой середины: слишком сильный вызов разрушает общество, а слабый не вызывает структурных изменений).
Еще один важный механизм цивилизации – активность «творческого меньшинства» и связанный с ней «закон мимесиса». Судьба цивилизации связана только с творческой энергией элиты; остальные факторы вторичны, а роль пассивного большинства – в том, чтобы транслировать достижения творцов через подражание, «мимесис». В примитивных обществах мимесис обращен на старшие поколения и предков. В этом обществе правит обычай, и оно остается статичным. В становящейся цивилизации мимесис направлен на творческий авангард, что обеспечивает динамику.
Прогресс Тойнби описывает законом «этериализации» («превращения в эфир»). Речь идет о «прогрессивной силе самоопределения», которая осуществляет скачок от громоздкой сложности к простоте качественно более высокого уровня. Тойнби иллюстрирует «этериализацию» историей техники, скачком от неорганического к жизни, от природного к духовному. Стадия надлома обусловлена: 1) превращением «творческого меньшинства» в «господствующее меньшинство», которое утрачивает «жизненный порыв»; 2) исчезновением добровольного «мимесиса» и превращением ведомых масс в отчужденный «пролетариат» (в древнеримском, а не марксистском смысле слова); 3) утратой социального единства. Надлом вызывает «окаменение» цивилизации, которое может длиться неопределенно долго. Последняя стадия – дезинтеграция и упадок – приводит к появлению трех отчужденных элементов общества: 1) «господствующего меньшинства», создающего универсальное государство; 2) «внутреннего пролетариата», создающего универсальную религию и церковь; 3) «внешнего пролетариата», собирающегося в «варварские военные банды». Как можно заметить, оборотной стороной дезинтеграции является интеграция, осуществляемая тремя разобщенными фракциями общества. Однако позитивный смысл несет только «универсальная религия», которая может обеспечить преемственность цивилизаций. Дезинтеграция, по Тойнби, способна в конечном счете породить новые виды общества и стать «трансфигурацией», возрождением на новой основе.
Р.Дж. КоттингвуЪ (1889–1943) оживил редкую для XX в. гегельянскую версию понимания истории (непосредственно под влиянием Гегеля, а также через традицию английского и итальянского гегельянства в версии Бредли и Кроче). Скептически относясь к самому понятию «абсолютного духа», он принимает понимание истории как истории духа в его саморазвитии. Итоговые формулировки его концепции выражены в работе «Идея истории» (изд. 1946).
Деятельность историка – это проникновение во внутренний мир людей, делающих историю; попытка взглянуть на историческую ситуацию и ее проблемы глазами ее включенных участников. Такое проникновение – это акт мысли, придающий смысл истории и даже рождающий саму историческую реальность. Поэтому история всегда пребывает только в настоящем; она – «живое прошлое».
В качестве инструмента сопереживания историческому событию Коллингвуд предлагает «метод вопросов и ответов». Он формулирует систему вопросов, призванных восстановить телеологию исторического процесса: для чего предназначался момент процесса, хорошо ли он выполнял свою роль, чем он был порожден и что он породил сам. В культуре философ видит главную цель исторической телеологии. История осуществляет переход от внеисторичной биологической природы человека к «историческому наследованию мысли», к культурной природе, которая рождается и транслируется только рациональными сознательными актами. Продолжая линию Вико и Кроче, Коллингвуд характеризует историческое, сознательное и человеческое как три аспекта единого культурного процесса. Соответственно, историк должен изучать не факты, а смыслы, ценности и действия, которые их воплощают.
Благодаря познанию смыслотворчества культуры люди создают и собственную историческую жизнь. Поэтому Коллингвуд рассматривает историческое знание почти как субститут мировой религии с миссией спасения и развития культуры. Он полагает, что человечество находится на пороге эпохи, когда история будет так же важна миру, как естественные науки в период с 1600-х по 1900-е годы. Поскольку история – это всегда история мысли, позитивистское стремление найти источник детерминации истории и культуры в среде, да и вообще попытки искать общие законы истории не имеют смысла. История состоит из неповторимых и невоспроизводимых (но транслируемых понимающей памятью) творческих актов. Не имеет смысла и идея устойчивой формы исторического процесса (будь то прогресс или циклическое возвращение). Все эти схемы – «проекция незнания историка на экран прошлого». Коллингвуд признает только «прогресс» в смысле накопления достижений мысли в некоем тезаурусе культуры.
Отцы-создатели социологии культуры – Г. Зиммель, М. Вебер, К. Мангейм – не проводили резкой границы между двумя терминами этой номинации. Вебер даже называл социологию «эмпирической наукой о культуре». Возможно, в этом причина значительного вклада ранней социологии в становление культурологии.
М. Вебер (1864–1920) уже в определение сути своей концепции как понимающей социологии вносит культуральный аспект. Он принципиально отказывается имитировать в социологии естественно-научные методы. «Понимающей» делает социологию объяснение действия через смысл, полагаемый самим субъектом действия. Поэтому внешние объективистские критерии объяснения не нужны, но значение культурных параметров, определяющих и ориентирующих деятельность субъекта, резко вырастает. Особенно если речь идет о «социальном действии», когда субъект координирует свое смыслополагание с другими людьми. Эффективным инструментом анализа культуры являются артикулированные Вебером четыре типа социального действия (табл. 13).
Таблица 13
Типы социального действия
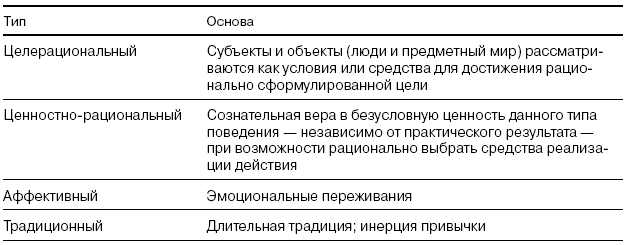
Социальные действия могут перерастать в более сложные общественные ансамбли взаимных связей, в социальные отношения (любовь, дружба, борьба, деловое сотрудничество, конкуренция и т. п.), которые становятся основой социального порядка, если воспринимаются как обязательная норма. Вебер называет это «легитимным порядком», который тоже классифицируется на четыре типа, аналогичные типам действия: легальный, ценностно-рациональный, аффективный и традиционный.
Еще одной культурально важной концепцией Вебера стало учение об идеальных типах. Этим учением Вебер, в частности, пытается решить трудную антиномию гуманитарной науки: изучая культуру, нельзя обойтись без отнесения к ценностям тех или иных ее элементов, но, поскольку ценности исторически относительны, исследователь не может выбрать для себя абсолютную точку отсчета. Вебер предлагает учение об идеальных типах, которыми ученый может оперировать как инструментами без связанности своими ценностными суждениями. В его основе – типология власти. Первый тип – рациональный – основан на признании легитимности существующих законов и на безусловном подчинении им; второй – традиционный – апеллирует к сакральности традиций и полученному на их основе праву на власть; третий – харизматический, основанный на особой благодати некоторых субъектов, внушающей обществу желание им повиноваться (табл. 14).
Таблица 14
Идеальные типы (по Веберу)
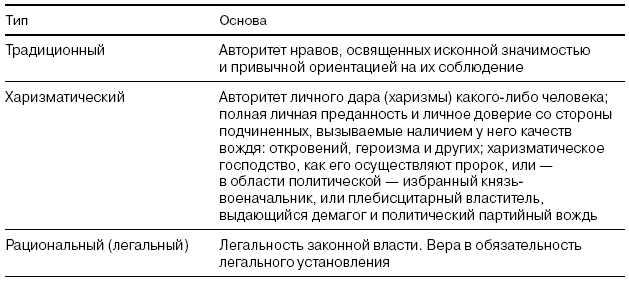
Идеальным типам соответствует типология культур.
1. Традиционная культура формирует поведение людей безусловной и всесторонней властью традиции.
2. В харизматической культуре люди некритически следуют за лидером, веря в исключительные дары его личности (примером Вебер считает религиозные секты).
3. Легальная (исторически – индустриальная) культура основана на правовом порядке и рационализации социальной жизни, которую обеспечивает институт бюрократии.
Очень влиятельным оказалось веберовское объяснение генезиса капитализма как поэтапной победы принципа целерациональности «Протестантская этика и дух капитализма» (1904–1905). По Веберу, этика протестантских конфессий с ее «мирским аскетизмом» (смиренное и жертвенное исполнение мирского долга, следование своему предначертанному Богом назначению) и дух капиталистической экономики (профессионально институированное, рационально обоснованное и мотивированное предпринимательство) неслучайным образом сходны. Реформация помогла капитализму сформировать рационалистические модели поведения в быту и хозяйстве, дала им сакральные санкции и сняла старую католическую табуацию на некоторые виды наживы и католическое понимание труда как наказания за первородный грех. В позднейших работах Вебер расширяет до мировых масштабов применение своей концепции зависимости социально-экономического развития регионов мира от этики доминирующих там религий. Несмотря на небезосновательную критику коллег, эта объяснительная схема Вебера приобрела большую популярность. Триумф «духа капитализма» изображается как пример более обширного процесса «расколдовывания» мира – рационализации практики и автономизации индивида, – в котором Вебер видит суть Нового времени.
А. Вебер (1868–1958), позаимствовав ряд концептуальных схем своего старшего брата и испытав влияние Шпенглера и философии жизни, перефокусировал научное внимание на то, что он назвал социологией истории. Его построения определяются прежде всего озабоченностью судьбой Запада, ключом к которой и должна была стать социология истории. В историческом процессе он выделяет три элемента, каждый из них обладает собственной логикой развития и требует особого социологического подхода.
1. «Исторические тела»: политически оформленные социально-экономические институты. Это телесно-витальный элемент.
2. Рационально-интеллектуальные системы, обеспечивающие научно-технический прогресс. Это цивилизационный элемент.
3. Душевно-духовные системы, воплощенные в результатах творческой активности общества. Это культурный элемент.
Названные элементы складываются в разнообразные «констелляции» (сочетания без причинного взаимодействия), чем и определяется историческая ситуация. В итоге переплетение трех элементов рождает «общественные тела», т. е. народы как субъекты истории. Вебер стремится сохранить идею исторической эволюции, для чего различает «культуру» и «цивилизацию» не в шпенглеровском смысле, а как два различных измерения истории. Культура наделяет «общественные тела» духовным смыслом; цивилизация, опираясь на общезначимость науки и техники, отвечает за преемственность в эволюции и за контакт культуры и цивилизации в данный исторический момент данного «общественного тела». Поэтому культура, в отличие от цивилизации, не знает прогресса. Ее функция – одухотворение «общественного тела», выражение и имманентное воплощение в нем отношений к трансцендентному. Вместе со своим социальным субстратом она проходит витальный цикл и исчезает.
Анализируя судьбу «имманентной трансцендентности» и ее культур-антропологических оснований в работе «Третий или четвертый человек» (1953), Вебер выстраивает ряд последовательных типов человека. Первый тип – первобытный, полностью включенный в природу человек, обитавший 200-35 тыс. лет назад. Второй тип (возникший около 100 тыс. лет назад) – человек, создающий основы социально-экономической жизни, частично освобождающей его от власти природы (земледелие, охота, патриархальное общество, культ). Третий тип (возникший после 4000 г. до н. э.) – человек, создавший культуры древности и вступивший на путь активной духовно-социальной эволюции. В современной культуре «третий человек» – выработанный Европой тип, «интегрированный в свободе и гуманности». «Четвертый человек» – продукт квазирелигии коммунизма, впитавший западный нигилизм и осуществивший дезинтеграцию свободы и человечности. Эволюция современности ведет к доминированию двух его подвидов – «рабочего» и «функционера», которые под прессом индустриального общества и бюрократии могут потерять духовные завоевания «третьего человека». Человек должен заново «кристаллизоваться» – в противном случае тоталитарный «четвертый» вытеснит переживающего кризис «третьего» (табл. 15).
Таблица 15
Исторические типы человека
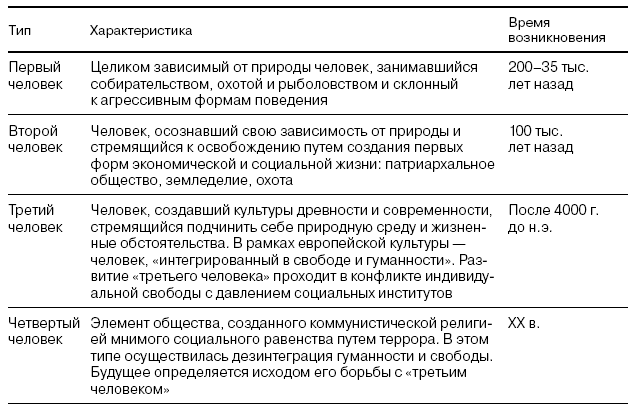
К. Мангейм (1893–1947) вошел в историю социологии культуры как создатель социологии знания, итоговая версия которой была изложена в книге «Идеология и утопия» (1929). Необходимость особой социологической дисциплины Мангейм обосновывает тем простым фактом, что одна и та же ситуация или событие может представляться наблюдателям, находящимся на разных идейных и прагматических позициях, весьма различным образом. Испытав влияние довольно радикальных версий марксизма, Мангейм все же отрекается от его экономического редукционизма: социальное бытие, полагает он, – это действительно определяющий фактор, но оно достаточно разнообразно и сложно устроено. Исторически сложившиеся «констелляции» социальных сил порождают различные «стили мышления», и задача социолога – расшифровать эти стили как скрытую формулировку социальной позиции, как «идеологию».
Идеология в конечном счете – всегда апология победившего класса. Она отлична от утопии, порожденной оппозиционным классом и, как правило, выраженной в образной, а не теоретической форме. Утопия с неизбежностью превращается в идеологию, когда угнетенный класс добивается реванша. И все же жесткой детерминации идей социумом нет. Существует социальная группа, которая самим характером своей деятельности помещена в измерение объективности и представляет интересы целого как предмета познания. Это «интеллигенция» (или «интеллектуалы»), которая продуцируется всеми социальными слоями, но собирается вокруг центров власти, оказывая на нее влияние. В способности интеллектуалов выходить за рамки идеологий и утопий и конструировать разумную реальность Мангейм видит шанс общества на получение недеформированного знания.
Эта незатейливая схема не была бы так влиятельна, если бы не блестяще проведенный Мангеймом анализ идеальных типов утопии. Он выделяет четыре модуса утопического мышления: «оргиастический хилиазм анабаптистов», «либерально-гуманитарную идею», «консервативную идею», «социалистически-коммунистическую утопию». Аналитический очерк этих типов позволяет проецировать найденные механизмы сознания на различные культурные ситуации.
П.А. Сорокин (1889–1968) предлагает одну из самых генерализующих теорий культуры, что особо значимо, если учесть, что его социология весьма эмпирична и строга по своему научному складу. Сорокин настаивает на том, что только предельно обобщенные системы с учетом всех своих элементов могут быть реальной объяснительной моделью. Попытки сделать отдельный элемент социума «базисом» (как это было, например, в марксизме) заведомо ошибочны. Культуру Сорокин понимает как совокупность ценностей и сообщество реализующих ценности субъектов. Основным субъектом взаимодействия является личность. Общество понимается как совокупность индивидов, связанных социокультурными отношениями. Между этими основными социологическими факторами – личностью, обществом и культурой – существует жесткое взаимоопределение.
В своем главном труде «Социальная и культурная динамика» (1937–1941; популярная версия – «Кризис нашего времени», 1941) Сорокин разрабатывает теорию «культурных суперсистем», или типов культуры (табл. 16), основанных на таких характеристиках, как высшие ценности, толкование реальности и методов познания, представление об основных потребностях человека, модусах их удовлетворения. Классификация основана на двойственной психобиологической природе чувствующего и мыслящего человека.
Существует три основные суперсистемы, включающие различные конкретные культурные подсистемы (право, наука, искусство, религия и т. п.): 1) идеациональная (умозрительная); 2) идеалистическая; 3) чувственная (сенситивная). Высшая ценность идеациональной суперсистемы – Бог. Вся культура этой суперсистемы подчинена служению своей ценности. Ценность чувственной суперсистемы – человеческие позитивные переживания и наслаждения. Смешанная средняя модель – идеалистическая, признающая сосуществование «земных» и «небесных» ориентиров. Социокультурная динамика заключается в закономерной смене исчерпанных принципов восприятия на свою альтернативу в последовательности 1–2 – 3–1…
С определенного момента накопившиеся разочарования приводят к смене всей суперсистемы. В основе механизма смены – трансформация нормативных образцов поведения, и в первую очередь трех главных: семейных, договорных и принудительных образцов. В результате разваливается «интегративная база» и появляется альтернативный культурный мир. Для этого периода характерен «принцип поляризации»: общество утрачивает равномерную распределенность типов активности и разбивается на два полюса: на пассивную конформистскую массу и активную группу борцов за идеалы. (Сорокин отмечает, что последовательность трех суперсистем можно дополнить четвертой – эклектической смесью всех элементов, наступающей после завершения троичного цикла.)
Современность Сорокин понимает как переход доминантной европейской культуры из чувственной фазы к идеациональной, опирающейся на трансцендентные ценности. Он предсказывает такие переходные события, как конвергенция русской и американской культур в «промежуточный тип», соединяющий их позитивные особенности, и возрождение культур Индии, Китая, Японии, Индонезии, исламского мира. Несмотря на необходимый маятниковый ритм смены суперсистем, в истории, по Сорокину, нет фатальности. Зачастую случайные флуктуации принимаются людьми за некие закономерности, но на самом деле жесткая социальная каузальность вторична по отношению к свободному самоопределению человека.
Таблица 16
Типы культуры
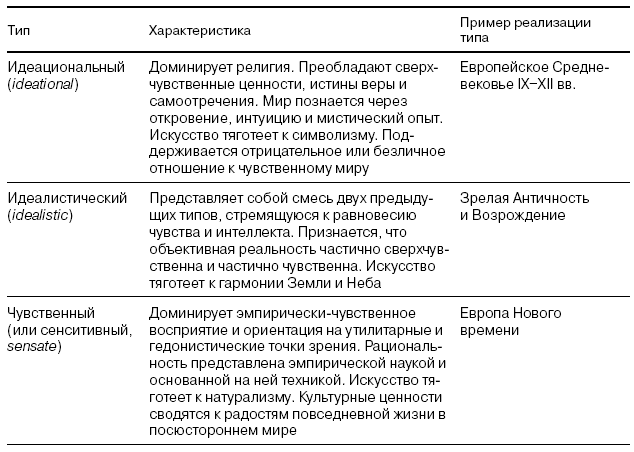
А. Шюц (1899–1959), ученик и последователь Гуссерля, основал социальную феноменологию, в обобщающем виде представленную в книге «Смысловое строение социального мира» (1932). Гуссерль высоко оценил найденный Шюцем модус феноменологии (тогда как версии Шелера и Хайдеггера довольно резко осудил). Как и в понимающей социологии М. Вебера, у Шюца отбрасываются все экстернальные критерии оценки представлений и значений в поле человеческого опыта. Задача состоит в имманентном описании того, как работает этот континуум, порождая смыслы.
Описательная феноменология Гуссерля показалась Шюцу оптимальным инструментом для решения этой задачи. Исходя из его учения о «жизненном мире», Шюц выстраивает последовательность кристаллизаций повседневного опыта, движение от «конструктов первого порядка» (повседневных типов) к «конструктам второго порядка» (к научным абстракциям). Переход от личного переживания к социальности, к объективированному «миру вещей» происходит поэтапно. Сначала сознание создает из континуума переживаний первичные идеализации, из которых выстраиваются стандартные клише восприятия и действия; затем во взаимодействии с другими индивидами выявляются «точки пересечения» смыслов и целей и на их основе создаются объективные (интерсубъективные) идеализации, от которых можно переходить к генерализации «высоких» сфер культуры. Эти миры названы Шюцем «конечными областями значений», поскольку они замкнуты на свою логику и переход из одного в другой требует специальных процедур. Конечные области значений могут приходить во взаимодействие при помощи культурного посредника, который в состоянии дать убедительные правила и основания перехода, познавательных и эмоциональных настроек. Во всяком случае, эти области равноценны и, к примеру, область сна или игры не может непосредственно подвергаться деструктивной критике областью повседневности (которая также является одной из конечных областей значений). В каждой конечной области значений есть свой «когнитивный стиль», создающий некое когерентное и непротиворечивое внутри области единство. Когнитивный стиль можно изучать по нескольким ключевым параметрам (например, форма активности субъекта, отношение ко времени и т. п.), что позволяет адекватно ориентироваться в этих мирах и не сталкивать их друг с другом. Отказываясь от иерархии «областей», Шюц все же называет верховной реальностью повседневность, поскольку ее структуры предельно конкретны и наполнены ничем не заменимым жизненным опытом.
Идеи А. Шюца были развиты в социологии знания П. Бергера (р. 1929) и Т. Лукмана (р. 1927). В работе «Социальное конструирование реальности» (1966) они осуществляют попытку укоренить все социальные механизмы в структурах повседневности. В числе их оригинальных разработок – теория реификации. Реификация – это восприятие социальных фактов как «вещей», которые приобретают характер объективной реальности и заставляют людей считаться с ними как с данностями. В таком случае индивид или группа должны прибегнуть к «легитимации», к оправданию социального порядка. Несмотря на «сконструированный» характер, социальный порядок «объективен» в том смысле, что каждый отдельный человек застает его уже сложившимся и вынужден к нему приспосабливаться. В этом процессе большую роль играет легитимация.
Легитимация – это объяснение и оправдание существования тех или иных элементов социальной реальности с точки зрения не только императивности и нормативности, но и знания. Знание создает лестницу уровней легитимации: от простых аргументов до «символических универсумов», которые могут уже обладать немалой степенью независимости от задач легитимации. Важно, что социальное и символическое могут приходить в конфликт, что «конструирование реальности» производится разными труппами, причастными к различным символическим универсумам с разными стратегиями легитимации. Это является залогом динамики общества.
Одна из самых весомых и цитируемых современных (с оговорками можно сказать – постструктуралистских) версий социологии культуры принадлежит П. Бурдьё (1930–2002). Общество Бурдьё понимает как некий ансамбль «социальных полей». Поле – самоуправляемая сфера деятельности со своей логикой поведения, целеполаганием и своим типом власти. Поля несводимы друг к другу, но могут находиться в иерархических отношениях включения, при которых законы, не отменяя друг друга, могут взаимодействовать. Действующей силой поля является «социальный агент». В отличие от традиционного «субъекта» социологии, который рассматривается теоретиками как пешка на расчерченном поле, агент сам делает свою игру, реализует стратегии и т. п., но все же подчиняется законам поля, в частности условиям вхождения в игру, среди которых – объем и структура «капиталов» (см. ниже) данного агента. Чтобы описать формы поведения агента, Бурдьё вводит понятие «габитус» (лат. habitus – облик, манера).
Габитус – это система предрасположений, диспозиций, организующая практику агента и его взгляды на ситуацию. Это «стиль жизни», полученный агентом в наследство от прошлого и впитанный, интериоризированный так, что он становится личной установкой. Габитус обеспечивает только «правильные» практики – принятое, надлежащее и т. п. – как оптимальный модус поведения для данного поля. Габитус порожден «классом условий существования» той или иной группы, но присваивается биологическим индивидуумом как своего рода социальное тело. Габитус также играет активную роль, порождая своими установками ту, а не иную практику, чем структурируется социальное поле.
Все социальные поля суть арены борьбы за власть и специфический «капитал». Бурдьё описывает работу поля с помощью экономической метафоры – как рынок с отношениями спроса и предложения, конкуренции, сотрудничества, монополии и т. п. Борьба субъектов внутри поля управляется динамикой «ресурсов» и «капиталов». Ресурс – это сумма ценностей, которую потенциально можно использовать для укрепления своего влияния или власти. Ресурс становится капиталом, если на него есть структурированный спрос, и он, следовательно, может вступить в сложные игры социального поля. Все капиталы сводимы к трем типам: 1) экономический капитал; 2) социальный капитал – причастность к группе; 3) культурный капитал (частный случай социального) – это такие ценности, как знание, образование, воспитание, символический капитал (престиж, талант, слава, имя, происхождение…).
Культура, по Бурдьё, – соперничество за специфический капитал в культурном поле. Культурные ценности не только суть «трофеи» в этой борьбе – они и сами формируются в ходе сложных игр культурного поля. Особый проблемный случай – действие на территории культурного поля законов других, более обширных полей: политического и экономического. Бурдьё посвящает ряд работ прояснению механизмов массовой культуры, культурной коммерциализации, коррупции СМИ и т. п. Возможность использовать инструментарий социологии Бурдьё для критики современной культуры – одна из причин значимости этого метода.
Трудно переоценить вклад в культурологический дискурс, сделанный теоретическим искусствоведением XX в. В основном это достижения «формалистического» направления. Реабилитация формы после позитивистского культа содержания начинается еще в XIX в. Ганслик в музыковедении, Гильдебрандт в теории пластики начинают «поворот к форме» и постулируют задачу создания нового искусствоведческого языка для описания и интерпретации того, что составляет, с их точки зрения, суть искусства, – процесса формообразования. Реализуют эту программу в Швейцарии Вёльфлин и его последователи, в Австро-Венгрии – венская школа искусствознания.
Г. Вёльфлин (1864–1945) в ряде ставших уже классикой трудов («Ренессанс и барокко», 1888; «Классическое искусство», 1899; «Основные понятия истории искусства», 1915; «Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса», 1934) пытается создать «универсальную грамматику художественных форм», которая призвана была познавать искусство в его собственной стихии «чистой визуальности». Анализируя оппозицию Возрождения («классическое» искусство) и барокко («антиклассическое» искусство), Вёльфлин вводит свою знаменитую систему пяти бинарных категорий: 1) линейность – живописность; 2) плоскость – глубина; 3) замкнутая форма – открытая форма; 4) составное – слитное; 5) абсолютная ясность – относительная ясность. Движение внутри каждой пары, доминирование ее элементов составляют эпохальные тенденции искусства. Эта система, с точки зрения Вёльфлина, и должна стать «грамматикой» искусствоведческого анализа и истории искусства как «истории форм», не отягощенной именами, историческими фактами и прочей внеэстетической эмпирией. На языке этих десяти понятий он предполагает описать те «формы видения» (или «способы представления»), которые предопределяют рамки художественных возможностей эпохи. Вместе с формами «внехудожественного видения» они составляют культурный горизонт эпохи, исходя из которого можно объяснять культуру как целостный процесс.
В. Воррингер (1881–1965) продолжил линию Вёльфлина, соединив ее с философией жизни и идеями венской школы. Его главные труды – «Абстракция и вчувствование. Исследование психологии стиля» (1909) и «Формальные проблемы готики» (1910) – дают новую версию вёльфлиновской оппозиции «классического» и «антиклассического». Воррингер выделяет три стилевые модели культуры. В романском мире доминирует «классическое» начало с его принципом «вчувствования», культом гармонии (иллюзорной, подчеркивает он) и природы. В германском мире – «готическое» начало с принципом «абстракции», духовными прорывами в бесконечное и туманными мистическими переживаниями. В восточном мире принцип «абстракции» также доминирует, но на других основаниях: здесь искусству требуется изъять вещь из произвольности внешнего мира, увековечить ее через абстрактную форму и найти спокойную точку опоры в потоке явлений. Эти морфологические типы нельзя выстраивать в историческую последовательность – они синхронны и являются противоборствующими формами художественной воли. Свою классификацию Воррингер применяет и к авангарду, усматривая в немецком экспрессионизме столь ценимый им дух «готики».
А. Ригль (1858–1905), основатель венской школы искусствознания, в основу толкования сути искусства положил «волю к форме», которая в конечном счете оказывается волей к культуре. В главной своей работе «Проблемы стиля. Основы истории орнамента» (1893) он обосновал ключевые аргументы анализом декоративного искусства, дотоле бывшего, как правило, на периферии внимания искусствоведов-теоретиков.
Художественная форма зависит от общей формы мировоззрения, и это позволяет выводить признаки стиля не из исторических и социальных обстоятельств, а непосредственно из структурных принципов формообразования. Характерно заглавие итогового незаконченного труда Ригля: «Историческая грамматика изобразительных искусств». Динамика стилевых изменений коренится в изменениях духовного строя носителей ценностей и идеалов. «Воля к форме» реализуется по определенной исторической логике: «гаптическое», чувственно-осязательное, или тактильное, восприятие сменяется в ходе культурного развития «оптическим», зрительным, требующим конструктивной активности интеллекта, а со временем и воспринимающего субъекта, который становится неотъемлемым элементом произведения.
Граница между формальными типами искусства проходит и по разделу национальных культур: романские народы представляют собой объективно-тактильный, чувственный тип, сконцентрированный на интересе к человеку; германские – субъективно-оптический, иррациональный тип, направляющий внимание на бесконечность окружающей среды. Стиль оказывается формативом национальной культуры и ее исторической судьбы. Особенность истории искусства, по Риглю, в том, что она вынуждена брать на себя компаративистскую работу истории культуры, которая на самом деле еще только начинается. Все сферы культуры вплетаются в историю искусства, будучи источником содержания, «предметного мотива». Верно оценить предметный мотив и его трактовку в произведении искусства можно, лишь установив идентичность культурной, внехудожественной воли и воли к форме. Найденное уравнение способно высветить внутреннее строение обоих миров. Задача в том, чтобы понять, что стиль произведения и «мотив» – проявление одной и той же воли.
Преемник Ригля М. Дворжак (1874–1921) постулирует «историю искусства как историю духа» (так называется одна из его главных книг, изд. 1924). Искусство, утверждает он, заключается не только в решении формальных задач, оно в первую очередь есть выражение идей; его история – часть общей культурной истории, суть которой в битве материи и духа. Поочередное преобладание этих соперников и составляет исторический сюжет искусства. Эта установка позволила Дворжаку переосмыслить ряд стилевых эпох, особенно раннехристианское искусство, позднюю готику и маньеризм. Спиритуалистическое толкование формы несколько меняет аксиоматику венской школы, ее утверждение полной автономии художественного начала от среды, в то же время подход Дворжака расширяет спектр формального метода и делает его более гибким инструментом анализа культуры.
Э. Панофски (1892–1968), развивая традиции венского формализма, создает (параллельно с А. Варбургом) особую искусствоведческую дисциплину – иконологию, устанавливающую спектр социальных и культурных смыслов конкретных изображений. Отказываясь от оперирования универсалиями, он предлагает метод поэтапного нисхождения от общих форм к конкретным символам: от анализа и истории стиля к художественным типам и к «культурным симптомам», каковые и изучаются иконологией. Иконологическая интерпретация предполагает трехступенчатый переход к предельному смыслу произведения. Первая ступень – это формальный анализ изображения как чувственной данности в виде системы связей между формами, цветами и их предметным значением. Вторая ступень (иконо-графическая) анализирует сюжет в контексте наших историко-культурных знаний. Третья – иконологическая – выявляет или, точнее, интуитивно схватывает «внутренний смысл» образа в единстве его содержательных и формальных аспектов, прочитывает его как «символическую форму цивилизации», что позволяет сделать произведение искусства источником сообщения о духе своей культуры.
В работе «Готическая архитектура и схоластика» (1951) Панофски демонстрирует культурологические потенции своего метода, осуществляя впечатляющий компаративный анализ готических соборов и схоластических «сумм». Насыщена культурологическим смыслом книга «Ренессанс и ренессансы в западном искусстве» (1960), трактующая Возрождение как воспроизводимый тип плодотворного и сбалансированного диалога антиномически противоположных культур. Важна его статья «История искусств как гуманистическая дисциплина» (1940) – манифест в защиту классических ценностей в эпоху кризиса.
Как и Дворжак, Панофски подвергает ревизии установку формальной школы на анализ чистых оптических структур без привнесения идеологии. С его точки зрения, такая стерильность – это утопия, и отчасти он восстанавливает просвещенческую теорию равновесия формы и идеи: такова одна из тем работы «Idea: к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма» (1924). Но в целом метод Панофски – это развитие формального подхода в направлении теории символизма (в чем он перекликается с методом Кассирера).
В работах Г. Зедльмайра (1896–1984) можно увидеть некоторый итог развития формальной школы искусствоведения. Он более радикально, чем его предшественники, отождествляет историю искусства с историей духа. Не отрекаясь от заветов формализма, он тем не менее фактически совмещает искусствоведческий дискурс с философским и богословским (если не проповедническим). Стоит заметить, что на взгляды Зедльмайра заметно повлияли русские религиозные философы. В самой известной своей работе «Утрата середины» (1948) он повествует о двухсотлетием культурном кризисе Европы, которым заканчивается Новое время. Метафора «утраты середины» – это и указание на слом системы искусств, которые утрачивают свой формообразующий центр – архитектуру, и указание на потерю искусством посреднической роли между чувственностью и рациональностью, и утрата культурой в целом морально-религиозного центра. «Возникновение собора» (1950) – своего рода позитивное дополнение к «Утрате середины». Здесь Зедльмайр показывает, как готический собор сыграл роль символического и социального синтеза всех искусств, взяв на себя функцию «середины», но в то же время парадоксально отдалил этот синтез от своего сакрального истока и приблизил эпоху независимости эстетического мира. Накал критики культуры и анализа духовных драм современности контрастно выделяет Зедльмайра из традиции венской школы с ее академизмом и отстраненностью от слишком актуальных проблем.
Структурно-семиотические методы в культурологии стали специфическим изобретением XX в. Успехи структурной лингвистики, свойственное веку сближение гуманитарных наук с точными и естественными подсказали культурологии возможность освоения этого пути. Более или менее самостоятельными его версиями являются структурализм, семиотика и различные изводы общей теории систем.
Центральная идея применения структурно-семиотических методов к культуре заключалась в выявлении и изучении базовых структур культуры и разных типов их динамики. Под структурой подразумевалась устойчивая связь элементов целого, которая могла сохраняться в преобразованиях или закономерно изменяться в зависимости от целей структуры и взаимодействия со средой или другими структурами. Для культурологии авторитетным источником образцов стала лингвистика: концепция Ф. де Соссюра, разработки Московского и Пражского лингвистических кружков, Копенгагенская глоссематика и др. Важное значение имел также параллельный опыт этнографии (Леви-Стросс), психоанализа (Лакан), литературоведения (Р. Барт, школа телькелистов, формальная школа Тынянова, Шкловского, Эйхенбаума, Якобсона, фольклористика Проппа), психологии (Пиаже, Выготский).
Со временем культурструктурализм приобретает черты идеологии, установочными принципами которой являются:
• понимание культуры как совокупности знаковых систем и культурных текстов;
• полагание естественного языка базовой и универсальной структурой;
• изучение латентных неизменных структур и механизмов языка и психики;
• признание их безличности и бессознательности;
• познание этих глубинных структур объективными научными методами с использованием аналогии между структурами языка и механизмами действия бессознательного;
• усмотрение в человеческой деятельности проявления этих структур как константных правил порождения символических объектов;
• выявление в текстах культуры симптомов наличия таких объектов и расшифровка их устройства и функции.
Вполне естественно, что такие установки сосредоточивают исследование на анализе культурных текстов, под каковыми понимаются любые знаковые системы (в том числе поведение и общение), функционально включенные в культуру. Техника структуралистского анализа предполагает некоторые однотипные приемы. Так, в феномене («тексте») или ряде феноменов культуры надо усмотреть повторяющиеся либо подобные моменты, которые являются симптомами структуры; затем вычленить в этой предметности минимальные элементы анализа (каковыми обычно являются «бинарные оппозиции»); установить, какие правила комбинаторики и преобразований управляют этими элементами; понять, как происходит «сборка» этих элементов в символический объект; научиться переносить полученную модель на аналогичные «тексты» и достигать этим взаимопрояснения текстов; выявить фундаментальные структуры бессознательного, лежащие в основе этих механизмов.
Со временем в рамках этой гуманитарной парадигмы обнаружилось устойчивое тяготение друг к другу семиотики, структурализма, психоанализа и евромарксизма. В ряде случаев (критика культурных мифов, анализ массового сознания, понимание древних культур и т. п.) метод достиг значительных успехов; его усилиями был осуществлен знаменательный переход от научного стиля XIX в. – психологизма, историцизма, волюнтаризма, витализма, позитивизма – к изучению объективных знаковых структур. Но от такого наследия XIX в., как сциентизм и редукционизм, этот метод, разумеется, не был свободен. Постепенно очевидной стала ловушка, в которую попал структурализм: с неизбежностью осуществлялся переход от конкретного к абстрактному, от которого предостерегал еще Гегель. Сам аналитический процесс этого метода мог дать эвристически богатые продукты, но на выходе зачастую оказывалась не только безличная, но и бессмысленная абстракция.
К концу 1960-х годов кризис структурализма привел к пересмотру не только его методического арсенала, но и его аксиологии. Этот период обычно называют постструктурализмом. В вину структурализму вменяется утрата гуманистического аспекта, потеря человека, мировоззренческая нейтральность, рационалистический объективизм (воспринимавшийся в эпоху молодежного радикализма как конформизм и оппортунизм). Новая интеллектуальная волна (явление в первую очередь французское, включающее и структуралистов-ревизионистов, и создателей оригинальных версий) выдвинула ряд своих лидеров, среди которых поздние Р. Барт (1915–1980) и Ю. Кристева (р. 1941), Ж.-Ф. Лиотар (1924–1998), Ж. Делёз (1925–1995), М. Фуко (1926–1984), Ж. Бодрийяр (1929–2007), Ж. Деррида (1930–2004) и др.
Принято считать, что постструктурализм сохраняет понимание культуры как текста, подлежащего декодированию по определенным правилам, но по-новому трактует сам феномен текста. Теперь смысл текста определяется контекстом – социальными, личностными, историческими и вообще внерациональными предпосылками текста. Особо важен контекст властных отношений – едва ли не главная объяснительная модель для постструктурализма. Для выявления этого контекста Деррида разрабатывает метод «деконструкции»: разложение текста на детали; различение в полученном продукте того, что хотел сказать автор, и того, что просвечивает в тексте помимо его воли; обратная реконструкция текста, которая возвращает нам уже полисемантичный текст, открытый бесконечному контексту. Ключевую роль здесь играет личность самого аналитика, поскольку лишь его интуиция может различить «следы» авторского начала, независимого от автора смысла, интертекстуальные смыслы, остатки прошлых прочтений, толкований и т. п. Задача «деконструкции» – разоблачить «логоцентризм» и «власть», которые пронизывают европейскую традицию, защитить от них человека, понимаемого как свободная стихия желаний.
Показательна в аспекте понимания программы постструктурализма эволюция Р. Барта, придающего своим старым категориям новую семантику. В 1970-е годы он начинает различать «произведение», культурный продукт в классическом смысле слова, и «текст» – континуум независимых от автора смыслов, которые позволяют читателю начать свою собственную игру и раскрепостить все, задавленное прописями и запретами культуры. Понятие «знак» теперь не предполагает поиски «правильного» знака, очищение знаков через демифологизацию: новая задача состоит в освобождении знака от денотатов, в создании – на месте означаемого – пустого поля для игры возможностей (так, как это умеют делать авангард и древнее искусство Востока).
Понятие «письмо» (которое раньше означало у Барта текст как некое социально-ментальное клише, подчиняющее себе живое субъективное сообщение и подлежащее разоблачению) теперь означает семантически разомкнутое построение, освобождающее нас от обязанности формулировки законченных смыслов. Близко к данному концепту понятие «интертекстуальности», введенное Кристевой: это бесконечное поле знаков, в котором ни один из текстов или контекстов не является окончательным, поскольку участвует в неограниченных связях со всеми остальными текстами, даже если мы не в состоянии указать на конкретный модус этих связей.
Не менее показательны поиски позднего Фуко. В ранней книге «Слова и вещи» (1966) он разрабатывает свою археологию знания, интерпретирующую культуру как дискретную смену «эпистем», объяснительных матриц, «исторических априори», задающих правила построения культурного мира, но не связанных преемственностью ни с предыдущими эпистемами, ни с личными или групповыми замыслами субъектов истории. В «Археологии знания» (1969) близкая концепция описывается понятием «дискурсивные практики». В 1970-е годы концепция заметно меняется: дискурс теперь не организующий и структурирующий источник смыслов, а источник «знания-власти», которое неизбежно связано с насилием во всех его социальных воплощениях. (Фуко пишет обширные истории репрессивных практик – сексуальной, юридической, психиатрической, чтобы документировать свою теорию.) Как таковое «знание-власть» должно быть разрушено всеми доступными средствами, но наиболее эффективным Фуко – в последний период творчества – считает некую технику работы над собой (techniques de soi): метод самосоздания, предполагающий, в частности, опыт свободного слова и искусство формирования личного стиля. Эта тема, близкая классическому морализму, – несколько неожиданный, но знаковый итог бунтарского постструктурализма.
Особой ветвью структурального направления можно считать семиотику (семиологию) – науку о знаках и знаковых системах в их статике и динамике. Основы семиотики принято возводить к трудам Ч. Пирса (1839–1914), Ф. де Соссюра (1857–1913) и Ч. Морриса (1901–1979). Для культурологии особо значимыми оказались исследования так называемых вторичных знаковых языков («вторичных моделирующих систем») – языков культуры, возникших на основе первичных естественных языков (таковы знаковые аспекты искусства, мифа, ритуала, этикета, морали и т. п.) (табл. 17).
Таблица 17
Пирс: классификация знаков (по Винфриду)

Вобрав многое из достижений лингвистики, теории информации, нейрофизиологии, структурных исследований, семиотика перенесла эти методы в область гуманитарных наук, стремясь преодолеть их субъективность и идеологичность. Способность семиотики рассмотреть художественный, социальный или исторический феномен как «язык» со сложными и многоуровневыми семантическими, синтаксическими и прагматическими связями позволила ей открыть новые возможности эстетики, культурологии, социологии, теории перевода, мифоведения. Идея «семиотической многоканальное™» оживила тему полицентризма и диалогизма культур. Активными центрами семиотики были США (Р. Якобсон), Франция (Р. Барт, А. Греймас, Ю. Кристева) и Италия (У Эко и др.). Особо следует упомянуть тартуско-московскую семиотическую школу (см. ниже), которая была во второй половине XX в. источником гуманитарных достижений, имевших мировую валентность.
Тема культуры в философии XX в. чаще всего включается на правах подтемы в другие, более драматичные и конфликтные сюжеты. Значимой номинацией оказалась философская антропология с ее устойчивой темой различия природы и духа как автономных миров, заданной еще Дильтеем. В тех версиях антропологии, где человек понимался не как вариация природных возможностей (Плеснер, Гелен), а как существо, выстраивающее заново собственный мир (Шелер, Ротхакер), теме культуры задавался валентный понятийный язык.
М. Шепер (1874–1928) в работе «Положение человека в космосе» (1928) в качестве важнейшего отличительного свойства человека выделяет способность волевым образом противопоставить себя среде, сформировать свои ценности и превратить свои внутренние состояния в предметную реальность: стать «эксцентричным». По сути, это форма определения культуры. Интеллектуальное начало в такой культуре оказывается подчиненным иным силам: во-первых, ценности даны человеку как некое эмоциональное априори; во-вторых, «воля к ценности» основана не на разуме, а на любви, которая может направляться только на личность или сверхличность (Бог). Способность постулирования ценностей Шелер называет «духом», но трактует дух весьма нетрадиционно. Это и не антитеза безличному миру, поскольку он един со всем универсумом жизни, и не частица божественного начала, поскольку Бог для позднего Шелера – это точка перспективы развития духа, на которую человек проецирует свои потенции (что, по замечанию С.Л. Франка, неожиданно сближает Шелера с Фейербахом). Но это и не шопенгауэрианская воля, ибо дух бессилен вне природной витальности. Поскольку дух есть способность сказать «да» или «нет» остальному миру, от него зависит, какие ценности и идеи будут воплощены, но он не может их воплотить сам, без «жизненного порыва», который исходит от природного универсума.
Продуктом воплощения духа становится культура – в той мере, в какой ценности появляются в ее контекстах. Мир культуры в изображении Шелера трагичен. Но это не зиммелевская трагедия культуры как несовместимости формы и жизни. Вариант Шелера больше напоминает некоторые древнеиндийские учения о связи «слепой материи» и «хромого духа». Культура не монолитна, ее «идеальные» и «реальные» факторы не знают синтеза; хотя в перспективе связка бессмысленной жизни с бессильным духом может превращаться в союз мощной жизни с мудрым духом.
Э. Ротхакер (1888–1965), определяя сущность культуры, делает шаг от шелеровской постановки вопроса к более биологизированным версиям культурантропологии. Для него окончательная формула культуры определяется отношением среды и человека, активно отвечающего на ее вызовы созданием – с разной мерой сознательности – «стиля жизни». Для этого осуществляется отбор тех внешних сигналов, которые отвечают запросам формируемого стиля жизни. Многочисленные фильтры (в первую очередь язык) создают то, что в результате окажется культурной средой, состоящей из «духовных ландшафтов». Живущий в таком ландшафте индивидуум довольно жестко детерминирован заданным ему стилем жизни. Более свободный и активный субъект культуры – община, народ, нация. Их культурные ландшафты неповторимы, и статуса целостности могут достигать только они.
В тотальных конструкциях философской антропологии мало внимания уделяется собственно рабочим механизмам культуры. Философская герменевтика в известной мере заполняет эту лакуну. Х.-Г. Гадамер (1900–2002) в главной своей книге «Истина и метод» (1960), сводя воедино разные герменевтические традиции, создает особую философскую дисциплину, изучающую условия возможности понимания как такового. В отличие от обычных методов интерпретации, его герменевтика заинтересована пониманием как основным модусом существования культуры и ее ключевого механизма – традиции. Понимание – это «действенно-историческое сознание», которое актуализирует любое произведение как звено в цепи интерпретаций, причем таким образом, что оно становится источником бесконечного диалога. То есть речь идет не о том, чтобы субъект мог найти объективную точку зрения на феномен, а о том, чтобы феномен включился в единое синхронное пространство интерпретации, в котором все объясняется через все. Такая интерпретация – это не воспроизведение, а произведение понимаемого смысла, остающегося, тем не менее, в контексте традиции.
Способ, которым нам дано искусство в истории своего прочтения и понимания, показывает, что такая герменевтическая задача имеет смысл. Гегелевская философия духа также оказывается близкой герменевтике моделью, с той существенной разницей, что в культурном космосе Гадамера нет универсальной точки отсчета, которая была бы «пониманием пониманий», абсолютом для интерпретаций. Есть только конечные субъекты интерпретаций с их личной смысловой перспективой, с «горизонтом». Субъекты этой герменевтической игры могут соединять свои горизонты, составляя сложные, но всегда открытые дальнейшей интерпретации культурные комплексы. Защитой от произвола в этих процессах служит язык – абсолютный медиум понимания. Главным механизмом понимания является «герменевтический круг»: попеременное истолкование целого через соединение его частей и частей – через их включение в целое. Отправной точкой становится «предпонимание» – исходная версия интерпретатора, – которое может меняться с каждым циклом круга. Важным моментом техники «герменевтического круга» является то, что он выстраивается как диалог текста и толкователя, в ходе которого изменяются их горизонты. Это может служить и моделью для культуры в целом. В 1970-е, 1980-е годы, когда внимание к герменевтике было особенно острым, метод Гадамера был амплифицирован на разные сферы культуры, включая медицину и право. Но, во всяком случае, аргументом в пользу герменевтики остались многочисленные и блистательные опыты самого Гадамера.
П. Рикёр (1913–2005) свой вариант герменевтики еще более, чем Гадамер, приблизил к онтологии персоналистического толка, отодвинув его тем самым от областей теории познания и методологии интерпретации. Считая символическую функцию творчества основополагающей для понимания культуры, он в поздний период своего творчества переносит акцент на такие модусы символа, как метафора и повествование (нарратив). Метафора понимается им не как производное от семантического стандарта, а как манифестация творческой способности выйти за рамки непосредственно данного, «буквального». Нарратив как развернутая потенция метафоры позволяет понимать уже не фрагменты творчества, а бытие культуры как онтологическое событие и бытие человека как способ вхождения в культуру через герменевтическую активность.
Важным элементом стала философия культуры для некоторых богословских умов XX в. Диалектическая теология, инициированная К. Бартом, скорее, тяготела к размежеванию двух измерений духа – культуры и веры. Но парадоксальным образом это заставило ряд теологов присмотреться к логике культурного измерения.
Р. Бультман (1884–1976) в своей религиозной герменевтике, которую он определил как «демифологизацию, то есть экзистенциальную интерпретацию Нового Завета», пытается размежеваться с либеральной теологией XIX в., растворившей христианство в истории и этике. Демифологизация должна отделить историческое от сердцевины сакрального сообщения («керигмы»). Однако эта герменевтическая процедура позволяет вернуться в историческое, в культуру, чтобы «перечитать» ее с новой точки зрения.
П. Тиллих (1886–1965) стремится многообразными способами выявить наличие в культуре религиозного опыта и показать прямую зависимость бытийной глубины культуры от ее религиозности (даже если она присутствует в латентных или превращенных формах): «Религия есть субстанция культуры, культура есть форма религии». В своей теологии культуры он стремится доказать, что возможно освящение всего культурного мира, если мы поймем степень проникнутости его сакральным началом. Выделяя три типа культур – «теономную», «автономную» и «гетерономную», Тиллих теономной называет такую, которая во всех проявлениях открыта Безусловному, а потому не нуждается во внешнем оформлении культуры, пронизывая ее изнутри; автономной – культуру, которая заменяет мистическое рациональным, воспринимает Безусловное через структуры разума, не противодействуя религии; гетерономной – культуру, которая стремится искусственно навязать другим типам или религиозность, или секулярность. В истории чередуются культуры теономного и автономного типов, но гетерономия вносит в этот мир драматический сбой. Современность, по Тиллиху, пройдя свой автономный путь, должна ожидать, что поворотный момент («кайрос») откроет новое теономное измерение.
Р. Гвардини (1885–1968) в книге «Конец Нового времени» (1950) дает обширный очерк кризиса новоевропейского гуманизма, усматривая его сердцевину в главных ценностях эпохи: в природе, культуре и личности. Природа становится неестественной, культура небытийной, человек безличным именно потому, что Новое время сделало их самодостаточными опорами человечества и закрыло пути к трансцендентному. В этих условиях культура оказалась частью природы, которой воспользовалась человеческая свобода, чтобы увеличить свою мощь. Как таковая свобода – источник угрозы, а не спасения. Отзвук надежды Гвардини неожиданным образом находит в утрате личности: высокое содержание «личности» утрачено, у человека осталось «лицо», и это последнее, что делает его человеком. Но это же может стать началом спасения: ведь «лицо» не связано с грузом отравленной культуры и сохранило связь с творческим актом Бога.
Адорно как культуркритик: диалог с классикой в «Негативной диалектике»
Как известно, Адорно критикует Гегеля за создание позитивной аффирмативной диалектики, в которой напряжение между противоположностями поэтапно разрешается в предсуществующем «Всеобщем». Его задачей было защитить индивидуальность от агрессивного Целого, используя гегелевский же метод негативности. «Имманентная критика диалектики взрывает гегелевский идеализм. Познание обращено к особенному, а не к общему. Свой истинный предмет оно ищет в возможном определении отличия этого особенного, прежде всего от общего, которое познание критикует, считая, что особенное есть неотъемлемый момент общего. Если опосредование общего через особенное и особенного через общее свести к абстрактной, нормативной форме опосредования, то особенное вынуждено заплатить за это слишком дорогой ценой»[396].
Если для Гегеля истина есть целое, то для Адорно именно предельная тотальность оказывается главным врагом. Если для Гегеля негативная сила логического составляет лишь второй момент триады (см. § 79 «Малой логики» о диалектической, или отрицательно-разумной, стороне логики[397]), то для Адорно диалектика как таковая должна быть единственной, отрицательной (и потому – спасительной) силой сопротивления тотальности. Целое, как убежден Адорно, осуществляет свой синтез исключительно насилием, принуждая особенное и единичное подчиниться разнообразным процедурам нахождения тождества. На языке квазимарксистской социологии, который является параллельным кодом «Негативной диалектики», Адорно обозначает это как «угнетение». Причем главным объектом угнетения является даже не единичное, которое, по Адорно, легче идет на компромисс с целым, а особенное.
В свете этого задачей диалектики должно быть неуклонное сопротивление через нахождение «нетождественного» в любых тождествах, навязанных давлением всеобщего целого. Главным инструментом такого давления оказывается «понятие» и его способность создать позитивно целостную действительность из нетождественных элементов. Соответственно главным методом сопротивления у Адорно является раскрытие того «нетождественного», которое непременно сохраняется в любом понятии, ускользая от процедуры насильственного абстрагирования. Однако главная акция сопротивления оказывается на удивление скромной в свете радикальной негативности. Особенное должно выразить свое страдание внеконцептуальными средствами, избегая мировоззренческих кристаллизаций, т. е. эстетически. Опорой здесь должен быть язык, а не мышление. Кажется, для Адорно идеальным в этом отношении был язык музыки, причем в первую очередь музыки нововенской школы с ее серийной техникой. Трудно не вспомнить при этом, что именно так боролся с гегелевской позитивной диалектикой Шопенгауэр. Только музыка ему слышалась, естественно, другая, и к страданиям угнетенных трудящихся он был глубоко равнодушен.
Еще более очевидного, чем изобретатели атональной музыки, единомышленника Адорно нашел в близком друге Гегеля поэте Гёльдерлине. В работах о поэте и в «Эстетической теории» (вместе с сопровождающими ее материалами) Адорно признает, что его идеал самовыражения особенного частично реализован поздним Гёльдерлином. Адорно называет этот способ повествования «паратаксисом» и применяет его к решению собственных композиционных задач, которые грозили завести его в тупик из-за апории несовместимости борьбы с системностью и в то же время системного изложения мысли. В одном из писем он пишет: «…из моей теоремы, согласно которой в философском плане не существует ничего „первого“, следует также, что невозможно выстроить аргументированный контекст в рамках обычной последовательности и что целое необходимо монтировать из ряда частных комплексов, равнозначных и сгруппированных концентрически, на одном уровне; идея должна возникать из их соединения, а не из последовательности»[398]. В другом письме он замечает, касаясь проблем своей «Эстетической теории», что «почти обязательное для книги последовательное изложение оказывается настолько несовместимым с характером предмета, что компоновка материала в традиционном духе, которой я следовал до сих пор (в том числе и в „Негативной диалектике“), оказалась невыполнимой. Книга должна писаться как бы концентрически, группируя равноценные, выстроенные один рядом с другим, паратактически, разделы вокруг центра, образуемого их соединением»[399].
В докладе 1963 г. (опубликованном под названием «Паратаксис»[400]) Адорно пишет о Гёльдерлине: «Паратактический протест вместо синтеза имеет свой предел в синтетической функции языка вообще. Имеется в виду синтез иного типа – синтез критической саморефлексии языка, которую язык синтетически закрепляет. Разрушать единство языка – значит совершать то же действие, которое ведет к единству языка. Но единство языка было изменено Гёльдерлином настолько, что в нем не просто многоликое стало многозначным <…> но само единство языка окончательно перестало быть сколько-нибудь законченным. Без единства природа языка стала бы диффузной; абсолютное единство языка – это реакция на данную возможность»[401].
С единством мысли Адорно стремится проделать то же, что Гёльдерлин – с единством языка[402]. Именно это он назвал в «Негативной диалектике» моделью и в образцах представил в третьей части книги. Бессистемная композиция актов мысли создает в этом случае отдельные связные внутри себя смысловые «острова», которые не становятся «архипелагом», поскольку принципиально не требуют для себя никакого единого, довольствуясь своей конкретностью. Здесь и обнаруживается сила негативности, поскольку мысль готова отрицать себя при любой попытке включить ее в некий внешний смысловой каркас, даже если он не будет явной идеологией. Поэтому Адорно называет негативную диалектику «логикой распада» (Logik des Zerfalls)[403], подразумевая, что распадается гегелевское «понятие», снимающее противоречия. Но при этом сохраняется реальный объект: вещь, которая всегда противоречива в действительности. Негативное мышление как бы жертвует собой и принимает в себя противоречия, чтобы спасти мир от принудительного отождествления с навязанными смыслами. «Вещь, а не порыв мысли, не ее стремление к организации (Organisationsdrang) побуждает к диалектике. Реальность не отшлифует, не сгладит ничто: противоречивость – это категория рефлексии, мыслящая конфронтация понятия и вещи. Диалектика как действие означает: для того чтобы мыслить ради когда-то познанного в вещи противоречия, мыслить о нем и вопреки ему, нужно мыслить в противоречиях. Противоречие в реальности – диалектика является противоречием против этой реальности. Однако такая диалектика несовместима с Гегелем»[404].
Контуры своей «модели» Адорно переносит на весь новоевропейский тип рациональности, утверждая, что гипостазирование тождественного в ущерб иному и обособленному лежит в основе картезианско-кантовской парадигмы. Логика приоритета тождественного привела, как полагает Адорно, к тому, что субъект оказался заточенным в башне собственного «я», из которого нельзя по-настоящему смотреть вовне: единственная реальность задается стенами башни, а видеть можно, только выглядывая в амбразуру. Эта ситуация называется автором «Негативной диалектики» метафизикой «потайного оконца» (Guckkastenmetaphysik)[405]. Получается, что позитивная тотальность Гегеля является венцом этого направления европейской мысли со всеми его социально-политическими импликациями.
«В гегелевской диалектике тождество и позитивность совпадают; все нетождественное и объективное включается в субъективность, расширенную и возвышенную до абсолютного духа; по мысли Гегеля, этим должно быть достигнуто снятие и примирение. Сила целого, действующая в каждом единичном определении, напротив, является не только отрицанием (Negation) этого определения, но и сама есть негативное (Negative), неистинное. Философия абсолютного, тотального субъекта – это партикулярная философия. Обратимость идеи тождества, присущая этой философии, действует вопреки принципу духа, который она же и постулирует. Если существующее можно тотально вывести из духа, то его злая судьба схожа с судьбой просто существующего, которому, как подразумевается, он противополагается: иначе дух и существующее диссонируют. Именно ненасытный принцип тождества увековечивает антагонизм, угнетая противоречащее. Все нетолерантное, все, что не похоже, препятствует примирению, снятию, преодолению, которое принцип тождества ошибочно уподобляет себе. Насилие унификации воспроизводит то самое противоречие, которое уничтожается»[406].
Однако именно «модель» гегелевской философии показывает одно из фатальных противоречий негативной диалектики: защищая особенное от агрессии всеобщего, Адорно придает первому статус нерастворимого в духе и непрозрачного для него бытия, т. е. делает его радикально позитивным. Довольно логичны у Адорно в этом отношении и частые иллюстрации своей мысли социально-экономическими коллизиями[407], и стремление защитить «природу» от принудительной спиритуализации: ведь именно в этих случаях позитивное само по себе раскрывает мощный потенциал сопротивления. Между тем у Гегеля негативное коренится в самой глубине любого позитивного (и уже в первичной глубине – в тождестве чистого бытия и ничто), что и заставляет любой элемент целого двигаться к горизонтам абсолютного[408]. Поэтому даже концепт смерти, как показал Кожев[409], выявляет у Гегеля позитивную связь с Абсолютом: отнюдь не «мягкие» формы негативности – не конец, не ограничение, не отрицание, а именно смерть как категоричное уничтожение индивидуума подсказывает человеку, что он «родственник» Абсолюта, а не вещь среди вещей.
В гегелевской диалектике мощь негативного – это присутствие Абсолюта в любой своей части, что, конечно, делает гегелевскую философию одним из самых радикальных вариантов апологии отрицательного в западной философии. Адорно же, отстаивая неприкосновенность особенного и индивидуального, по сути, возвращается к просвещенческому позитивизму. Негативное у него превращается не столько в отрицание или различие, сколько в «возвращение билета», в отказ от участия в исторической динамике Духа. Радикально настроенный читатель Адорно не без смущения может обнаружить в негативной диалектике дух провозглашенного Маркузе «Великого Отказа» («Great Refusal») с его эстетическим квиетизмом. Герцен вряд ли назвал бы такую диалектику «алгеброй революции».
Представляется, что в своей критике Адорно не замечает всей мощи негативного у Гегеля. Гегелевская диалектика сознательно вбирает в себя классические установки, с тем чтобы оправдать и оживить их принципом негативности. Его система, действительно, двусмысленна, как показывает Адорно. Так, принцип историзма может означать, что нет всеобщих критериев истины, что поток становления исключает преимущественные точки обзора целого. Принцип конкретности можно понять как апологию иррациональной витальности. Если принять определение Гегеля как «панлогиста», то «логос» можно растворить в вечном процессе; если же с этим не согласиться, то можно обнаружить, сколь важную роль играют в его системе противоречия, без которых даже не согласуются друг с другом законченные истины, как узки границы чисто теоретического по сравнению с практическим, и сделать отсюда вывод о дискредитации разума. Но все это возможно при одном условии: для этого нужно взять из системы Гегеля одни элементы и отбросить другие, что и делает Адорно. Но – парадоксально – его попытка пересадить гегелевскую «негативность» на почву своей концепции становится невольным доказательством высокой когерентности и теоретических преимуществ «аффирмативной» диалектики Гегеля.
И все же есть то, что, пожалуй, нельзя отнять у Адорно, как ни доказывай нерелевантность его критики действительному содержанию гегелевской мысли: это сила трагического апофатизма, которая возвращает нас к библейскому переживанию несоизмеримости Бога и человека с энергией, для Гегеля невозможной. Хотя бы уже потому, что глубину «погружения в основание», которой достиг XX в., представить он по понятным причинам не мог.
Введение в философскую теорию культуры
Что такое «культура»
Опираясь на предшествующий очерк истории культурфилософских идей, мы можем заметить, что, несмотря на все многообразие точек зрения, сама предметность культурологии как гуманитарной науки и возможные пути решения ее задач выявлены историей с достаточной определенностью. Это позволяет нам наметить контуры теории культуры – в надежде на то, что теория в полном смысле слова, как никогда востребованная сейчас, в стремительно меняющемся мире, появится в результате усилий ближайших поколений гуманитариев.
Начнем, как положено, с прояснения объекта и предмета нашего исследования. Существует множество версий определения культуры, которые вряд ли можно свести к одному знаменателю. Автор этой книги – сторонник такого типа определений, которые основаны на различии явлений природы и продуктов человеческой деятельности. Чтобы дать рабочее определение термину «культура», проделаем небольшой умственный эксперимент. Попробуем разделить доступное наблюдению мировое целое на самые общие части и попытаемся при этом найти место для «культуры».
Есть две области бытия, две реальности, которые обнаруживаются сразу, без помощи той или иной науки или философской системы: реальность человеческого существования, которая представлена в действии, в мысли, в решении, в переживании, в оценках и т. п., и природная реальность, существующая независимо от человека. Проблема заключается в том, что эти два мира не вполне согласуются друг с другом. Отношение природного и человеческого начала весьма несимметрично: если мы без природы существовать не можем, то природа без нас вполне мыслима. Природа не торопится выдать человеку то, что ему нужно, по первому требованию. Выжить и приспособиться к природе можно только в результате интенсивного физического и умственного труда. К тому же в этой борьбе союзником природы оказывается наше тело и отчасти даже душа: они ведь тоже порождены природой и являются ее естественной частью. Вдобавок к конфликту с природой возникает конфликт людей друг с другом, конфликт «я» и «мы». Он тоже вырастает из естественной конкуренции живых особей и сообществ и может считаться до определенного момента природным фактором.
К счастью, человек сумел выстоять в этом столкновении с природой и научился отвечать на ее вызовы. В общих чертах увидеть тактику человеческого выживания нетрудно: люди меняют природный мир в своих интересах и создают для себя то, что не создает природа; производят искусственные предметы. В отличие от животных, которые стремятся вписаться в окружающую среду и изменяют ее в минимальной степени, люди предпочитают изменять среду (со временем все сильнее и сильнее) и окружают себя целым миром искусственных порождений, артефактов, создавая в каком-то смысле «вторую природу». Сразу отметим, что артефактами на языке культурологии называют не только материальные объекты: искусственные порождения – это и вещи, и знаки, и представления, и переживания, и обычаи, и законы, и поступки…
Конечно, человек может изменить природу случайно (скажем, непреднамеренно сломать дерево), но тогда это не будет продуктом «искусства» (умения, технологии). Искусственный продукт также может получиться случайно или «на один раз». Тогда он тоже не представляет интереса как инструмент системного изменения природы. Но в тех случаях, когда артефакт успешно решил какую-нибудь человеческую проблему и за ним стремятся закрепить эту роль, изобретение как бы отделяется от изобретателя и становится частью окружающего нас мира. Его воспроизводят, передают от поколения к поколению, совершенствуют или заменяют на более удачное. В этом случае перед нами – рождение «второй природы», или культуры. Обычно, говоря о признаках культуры, отмечают также, что навыки преобразования природы в человеческом обществе передаются путем научения, тогда как остальная живая природа передает полезные изменения по большей части через биологическую память, через генетическую информацию и основанные на ней врожденные инстинкты.
Итак, строя мир артефактов, искусственных объектов, мы создаем особую реальность, в которой природа (мир данностей, существующих без человеческого вмешательства) и человек (мир личной или коллективной активности, целенаправленно изменяющий природу) могут найти способ сосуществования. Состав этой сотворенной реальности может быть разным (вещи, отношения, процессы…), но чтобы стать «культурой», она должна обладать двумя признаками: отделиться от природы, войдя в мир человеческих отношений, и отделиться от своего творца-человека, став самостоятельным предметом. Другими словами, она должна отличаться и от природы, и от субъекта.
Почему природное начало – это не культура, понять легко. Труднее дается понимание того, что начало личное также не есть культура: разве человек не часть культуры? Тем не менее, чтобы понять устройство культуры, ее специфику, важно усвоить, что в сферу культуры попадает только то, что стало продуктом человеческой активности, объектом. Упрощенно говоря, то, что можно отделить от себя и передать другому. В этом смысле идея человека, его образ, норма его поведения или рассказ о его жизни, конечно, являются частью культуры. Но сама личность не сливается с культурой, она живет в ней как в среде, пользуется ею как инструментом, может принимать ее или не принимать, изменять, ломать и совершенствовать. Говоря на языке философии, субъект не является частью культуры, пока он не стал объектом. Отсюда понятно, что культура постоянно изменяется и развивается: ведь на нее оказывают давление и природа, и человек, который неустанно выдвигает новые варианты своего «природного оформления».
Таким образом, можно сказать, что перед нами третья (не природная и не человеческая) реальность. Это, с одной стороны, очеловеченная природа, природа, «согласившаяся» соответствовать идеалам и требованиям человека, или, с другой стороны, воплотившийся в природе человек, который в какой-то мере стал ее частью. Этот особый регион и есть культура, существующая как возможность примирения двух конфликтующих миров. И не только примирения, но и взаимного восполнения. Ведь природное и человечное не совсем самодостаточны. Если мы попробуем представить себе природу без человека, трудно будет отделаться от мысли, что природе не хватает того, что называют «конечной целью», «высшим смыслом»; того, что ответило бы на вопрос «зачем?». Можно, конечно, не ставить этот вопрос, но такое решение представляется слишком легким. В то же время если мы попытаемся представить человеческий мир сам по себе, то увидим, что он зависим от природной среды и – главное – ему не хватает воплощения в реальности тех целей (справедливости, истины, добра, красоты…), к которым он стремится без всякой помощи со стороны природы (не говоря уж о том, что сформулировать эти цели и договориться об этом друг с другом люди пока также не смогли; что, прямо скажем, далеко не все цели и идеи можно признать разумными и добрыми, и остается только радоваться тому, что не все замыслы людей получают воплощение). Иными словами, объективноприродное и субъективно-человеческое представляются неполноценными друг без друга. Культура же предлагает возможность дополнить природный материал человеческими смыслами, примирить безличные факты и бесплотные идеалы. Эта возможность – временная, поскольку формула примирения меняется вместе с изменением исторических обстоятельств, но все же это шанс выжить в природной среде, не отказываясь от своей человечности. Культура, постоянно созидаемая в ходе истории, выступает посредником между природой и человеком: через культуру к человеку приходит природа и через культуру человеку надо включаться в природу.
Существует традиционное и достаточно удобное различение уровней человеческой «самости», или, по-другому, слоев, которые мы снимаем, чтобы добраться до сердцевины нашей субъективности: тело – душа – дух. Тело почти полностью принадлежит природе; переживания и стремления души уже отделяют нас от природной причинности; дух же в состоянии свободно противопоставить свои цели и принципы как природным инстинктам, так и душевным склонностям. (Поэтому можно обозначить «нашу» сторону в конфликте природного и человеческого как «дух», хотя определенную проблему порождает то, что это слово перегружено философскими и религиозными интерпретациями.) Во всяком случае у человека есть то, чего нет в природе и чем он не склонен поступаться: его ценности и императив их воплощения. К этому же надо добавить удивительный феномен сознания, которое как бы компенсирует неравномощность природы и человечества: природа охватывает человека, но охватывается его сознанием. Паскаль видит в этом подтверждение особого достоинства человека. В своей хрестоматийной фразе он говорит, что, даже если Вселенная раздавит человека, он будет выше и благороднее своего убийцы, потому что человек осознает свое поражение, а природа не осознает своей победы. Как бы то ни было, перед нами – достаточно определенная граница двух регионов бытия и их конфликтное отношение, которым нельзя пренебречь, отложив его решение «на потом».
Правда, временно сняв конфликт человека и природы, культура порождает три новых типа конфликта. Во-первых, конфликт культуры и природы, для иллюстрации которого достаточно вспомнить экологические проблемы. Во-вторых, конфликт культуры и человека, что уже не так очевидно, но тем более должно быть упомянуто, поскольку иногда плохо различается граница между внутренним пространством духовности (которое еще не может быть названо культурой) и кристаллизованными результатами ее активности. В самой себе человеческая духовность есть невидимый центр постоянной личностной активности, соотносящей любую внешнюю реальность с искомым смыслом (в чем бы он ни состоял). И в этом отношении духовная активность в определенном смысле «некультурна», антагонистична любой опредмеченности. Но она же и порождает опредмеченность, воплощая свои интенции. Другими словами, порождает культуру. Рано или поздно неизбежен конфликт застывших порождений духа и его живой активности. Наконец, в-третьих, возникает конфликт культуры и культуры. Поскольку существует много субъективных центров порождения культуры, укорененных в разной природно-исторической среде, постольку существует и много разных культур. Разные временные и локальные типы культур время от времени вступают друг с другом в конфликт, причем этот тип конфликта приносит человечеству наибольшие неприятности, расковывая наихудшие страсти. Однако все перечисленные проблемы, которые приносит с собой культура, искупаются ее решающим достоинством: без культуры столкновение человека со всесильной природой закончилось бы в ее пользу быстрее и радикальнее, чем того хочется большинству из нас.
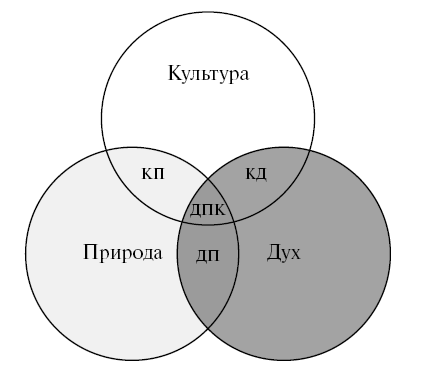
Рис. 1. Три реальности
Схему трех реальностей (рис. 1) можно было бы упростить, если нарисовать две окружности с общим сегментом культуры, но тогда из схемы выпали бы несколько важных «сюжетов». В трехчастной схеме у каждой окружности есть ни с чем не пересекающаяся часть: 1) «дикая» природа; 2) необъективированный источник духа; 3) «отчужденная» от природы и духа культура. (Правда, она не может пребывать в покое: рано или поздно на эту территорию вторгнутся или дух, или природа. Скажем, ирригация создала первые цивилизации, но природа ответила феноменом «засоления» почвы, а дух – новыми технологиями.) Есть сегменты, где присутствуют только два элемента. Обозначим элементы диаграммы начальными буквами. КП – сегмент стабильно измененной природы (дух может не прибегать к инновациям). КД – сегмент стабильно объективированного духа (природа может раствориться в культуре). ДП – сегмент нестабильного конфликта духа и природы, которые еще не нашли компромиссных форм. На самом деле мы (условные «наблюдатели») всегда находимся в центре, так сказать, трехлепестковой розы, где пересекаются все элементы. Поэтому, даже когда мы пытаемся рассмотреть отдельные связи, мы видим их сквозь оптику культуры, уже связавшей дух и природу. Попробуйте, к примеру, увидеть «чистую» природу. Даже дикий ландшафт или поверхность Луны мы можем увидеть только глазами культурного субъекта.
Прибегнем к упрощенной иллюстрации указанной связи элементов.
1. Поэт нечто переживает: это конфликт его души (психическая природа) и его духа, которому чего-то не хватает. И он ищет языки и шифры культуры, чтобы выразить себя. Это сегмент ДП. 2. Поэт нечто написал и доволен собой: это культурно выраженное переживание, которое может стать общезначимым. Центр ДПК. 3. Поэт разочарованно понял, что живое переживание ускользнуло от него. Осталась идея, выраженная по законам культуры. Сегмент КД. И поэт начинает творить заново (или переживает фрустрацию). 4. Поэт разочарованно понял, что его эмоции вписались в культуру, но уникальный личностный смысл переживания потерялся: осталась эмоция, принятая рынком культуры как привычный продукт. И поэт начинает творить заново (или отчаивается). Это сегмент КП.
Оппозиция природы и человека возникла на определенном этапе эволюции сознания, и вполне допустимо понимать историю культуры как историю отчуждения человека от природы. Но возвращение к природе невозможно, так же как нельзя «родиться обратно». Реверс дает нам не возвращение к старому, а утрату нового. И это половина беды: настоящая беда – появление разрушительных сил, не предусмотренных природой. Конфликт природы и человека вызван тем, что часть присваивает себе привилегии целого и начинает его форматировать на свой лад. Врач справедливо назвал бы это болезнью. Но, кажется, выход из тупика возможен. Для этого часть и в самом деле должна стать представителем интересов целого, пожертвовав своей корыстью. Не об этом ли рассказывает весь известный нам сюжет мировой истории? И наконец, круги диаграммы могут сближаться или отдаляться. Это не стоит, однако, изображать как линейный однозначный процесс: их все же нельзя ни разорвать, ни слить в один, ведь данная троичность – не только фактор слабости, но и фактор силы.
В предложенной выше объяснительной модели больше всего сомнений может вызывать элемент «дух». Это понятие, конечно, более уместно в культурфилософии, а не в культурологии, которая номинирована здесь как позитивная гуманитарная наука. Но в целом оно принципиально. Ведь для теории культуры важно увидеть гетерогенность элементов культуры. Унитарные модели культуры (просвещенческие по своему происхождению) растворяют культуру в природе и истории. Однако важно осознать онтологическое различие ее элементов.
Можно было бы поискать другие термины, но «дух» укоренен в традиции: pneuma, spiritus, geist – все это дает нужные коннотации. (См. раздел «Основные концепты философии культуры».) К тому же весьма полезно традиционное различение «духа» с «душой» и «телом». Для философии культуры эта проблема несколько проще, чем для философии как таковой. Говоря языком схоластики, достаточно указать на различие существования духа и сущности духа применительно к миру культуры. Существование духа доказывается перформативно и позволяет нам сохранить такую «точку отсчета», как абсолютные ценности. Но отвечая на вопрос, в чем сущность духа, мы неизбежно попадаем в релятивный мир культуры. Оба полюса, видимо, необходимы, чтобы «культура» не превратилась в риторическую бессмыслицу.
Важно понять, почему выбрана троичная система – соотношение понятий духа, природы и культуры. Самые распространенные модели соотношения культуры и «не-культуры» таковы:
1. Культура – это результат адаптации человека (человечества) к природе и эволюции (истории) этого процесса.
2. Природа – это универсум минус действия людей. В результате вычитания остается то, что нам дано как среда нашей активности. Правда, мы не знаем, что получается в результате сложения: не знаем, каков универсум. Но знаем, что та его часть, которая дана в фактах и явлениях, есть реальность, существующая независимо от человека и безразличная к нему. Граница между нашим «мы» и средой небезусловна. Можно менять степень независимости природы, прилагая к ней конструктивные усилия. Но невозможно отменить само противостояние «мы» и «оно». Поэтому проще всего проводить границу между культурой и природой по принципу наличия или отсутствия целесообразной активности. То есть природа – это та часть мира явлений, которую можно представить без человека. (Общество и культуру – нельзя.)
Трудноопределимая граница между природой и человеком проходит по душевному миру: психическое есть часть биологического, но также – часть духовно-разумного. Биологическое с его бессознательной целенаправленностью уже есть своего рода «культурное в природном». Можно также заметить, что там, где культура работает в автоматическом режиме, без вмешательства людей, будет проявляться доминанта законов природы, «природное в культурном». В случае же психики область интерференции природы и культуры становится сверхсложной: здесь проводить границы нужно каждый раз заново. Но и здесь критерием остается способность к сознательной активности.
Можно сказать и так: природа есть мир физического и биологического, а человечество (существующее на природном субстрате) есть мир социального, культурного и духовного (который тоже становится средой активности, но все же – во вторую очередь, как результат частичного покорения природы). У социальных животных также есть свои артефакты, знаковые системы и т. п. Возможно, отчасти и система социального наследования. Но – лишь отчасти. Социальное наследование – это цельная система, которая не дополняет биологическую, а выполняет альтернативную функцию. В нее, в частности, входит естественный язык, возможность личных и групповых инноваций и возможность выбора между предлагаемыми моделями. Ключевой момент – создание интерсубъективной символической среды, если проще – язык. Вот формулировка Кассирера: «Человек сумел открыть новый способ адаптации к окружающей среде. У него между системой рецепторов и эффекторов есть еще третье звено, которое можно назвать символической системой. Это новое приобретение целиком преобразовало всю человеческую жизнь. По сравнению с другими животными человек живет не просто в более широкой реальности – он живет как бы в новом измерении реальности. Существует несомненное различие между органическими реакциями и человеческими ответами. В первом случае на внешний стимул дается прямой и непосредственный ответ; во втором ответ задерживается, прерывается и запаздывает из-за медленного и сложного процесса мышления»[410].
3. Культура – это результат взаимодействия природы и человека с другим, отличным от них принципом (или несколькими принципами). Здесь выбран третий вариант, поскольку он отвечает критериям лучшего объяснения: объясняет больше и при этом меньшими средствами. Речь о трех понятиях как «рабочем инструменте». Представляется, что в «игре» участвуют три силы. Кроме природы и человека есть что-то, чего мы не находим в природе и что не вполне подчиняется человеку.
Вот простейший пример. Математические объекты: их нет в природе, они – «в голове». Но над ними не вполне властно наше воображение и т. п. Мы не можем представить параллельные линии пересекающимися (хотя можем построить непредставимую неевклидову геометрию), не можем думать, что 2x2 = 5 (хотя можем строить формальные системы с произвольными аксиомами), не можем отменить для мышления закон исключения противоречия (хотя можем создавать неклассические логики). То есть что-то существует только во мне, но мне же и не подчиняется, хотя я могу с этим «что-то» работать как математик, логик и т. д. Можно, как Пифагор, видеть уже в этом присутствие божественного, можно и не видеть. Но очень трудно свести этот элемент сознания (и бытия) к природе или психологии. (Хотя попытки не прекращаются, как это всегда бывает с великими проблемами.)
Математические объекты не окрашены в цвета морали или ценностей, но с высшими ценностями (истина, добро, справедливость, красота…) дело обстоит так же: они – в нас, но они непроизвольны и даже не являются продуктом человеческой договоренности. (Я это утверждаю без доказательств, просто чтобы пояснить, зачем мне трехчастная схема.) Человек оказывается (волей-неволей) и частью природы, и частью этого мира идеалов. Причем природа и без него себя проявляет в бесконечных феноменах, а вот мир идеалов имеет своим представителем только человека. Можно отказаться от этой представительской роли, можно брать ее на себя и по-разному истолковывать. Но, собственно, это уже и есть культура в ее истории.
Понятие духа позволяет нам сохранить такую «точку отсчета», как абсолютные ценности. Как бы мы ни относились к ним, фактически они действуют в культуре, и без этого фактора приходится выдумывать для реальной истории очень сложные «протезы». Но отвечая на вопрос, в чем сущность духа, мы неизбежно начинаем строить философию и попадаем в релятивный мир культуры. Поэтому для наших задач не стоит провоцировать чисто философские дискуссии: можно работать с понятием духа просто как с учитываемым фактором. Предпочтительнее было бы назвать его, избегая религиозных и философских коннотаций. Например, ввести некий оператор, заменяющий во всех контекстах понятие «дух» на что-нибудь нейтральное. Скажем, Ifmperativ]-фактор. Или какой-нибудь «фактор Икс» или «точка Омега». Но понятие «дух» и яснее, и удобнее. Оно не так жестко связано с рационально-познавательными способностями, как понятия «разум» и «рассудок»; в отличие от интеллекта, дух, как правило, соотносится со своим персонифицированным носителем, с лицом; в отличие от души – акцентирует объективную значимость своего содержания и его относительную независимость от стихии эмоциональных переживаний; в отличие от воли – на первый план выдвигает созерцания и смыслы, которые могут определять действия, а не акт свободного выбора; в отличие от сознания – фиксирует не столько дистанцию между «я» и его эмпирическим наполнением, сколько их живую связь; в отличие от ментальности – не включает в себя неосознаваемые механизмы традиционных и повседневных реакций и установок.
В зависимости от идейного контекста дух может противопоставляться (как оппозиция или как альтернатива) природе, жизни, материи, утилитарной необходимости, практической активности и т. д. Вполне можно «демистифицировать» понятие духа. Речь ведь идет только о том, что культура возникает при взаимодействии двух факторов: природного и внеприродного. Мы (пока не философствуем) не обязаны интерпретировать сущность внеприродного фактора. Достаточно фиксировать, что природное начало в человеке представлено аффектами (на основе которых мы формулируем пожелания, оптативы), а внеприродное – долженствованиями, императивами (которые могут противоречить оптативам). Собственно, различение того, что есть, и того, что должно быть, делает возможной науку о культуре.
Следующий принципиальный шаг – осознание того, что 1) источником императивов не может быть эмпирический субъект, хотя 2) обнаруживаются и интерпретируются эти долженствования субъектом (т. е. только в человеке и человеком). Благодаря первому культура онтологична, благодаря второму – антропоцентрична. Субъект культуры, наряду с «внешними» источниками оптативов и императивов, является источником решений, если угодно – резолютивов, т. е. связь сущего и должного, а также интерпретация этой связи реализуются только человеком (обществом). В результате взаимодействия трех факторов (природы, человека и духа) человек обволакивает себя довольно плотной символической средой, культурой, которую можно изучать независимо от того, как мы будем понимать глубинную сущность самих трех элементов.
Конечно, неизбежно возникает вечный спор об избыточности понятия «духа». Французское Просвещение много сил потратило на создание двухчастной, бинарной культурологии (природа – человек), а то и унитарной (природа). Но представляется, что трехчастная, трипарциальная система может быть лучше аргументирована. Мнимая простота бинарной системы заставляет нас заниматься безнадежным и скучным делом: выводить высшее из низшего. Фигурально говоря, объяснять, как эволюция фортепиано породила на определенном этапе пианиста. Еще одна иллюстрация: культуру можно понимать, пользуясь компьютерной метафорой, как систему программ. Человек – самопрограммирующийся элемент. Однако он не знает задачу, которую должна решить его программа, и пытается вывести ее из суммы существующих в культуре программ, которые, в свою очередь, порождены попытками самопрограммирования. Как ни странно, этот замкнутый круг не порочен: здесь и заложена вся прагматика и герменевтика культуры.
Категория духа проблемна, однако с ее помощью можно понять, что помимо объективной реальности, которая на нас «давит» и заставляет реагировать (на те факты, что даются нам извне – природой или обществом), и помимо субъективной реальности, которая зависит только от нашего воображения, существует абсолютная реальность, которая одновременно формируется коллективными принципами, но не зависит от личной воли конкретных людей. «Абсолютное» в этом контексте лучше понимать в математическом смысле, как взятое по модулю (без знаков «+» или «-»). «Абсолютная реальность» – это не обязательно заоблачный Абсолют. Когда речь идет об акте самоопределения человека, то его основания могут быть объективными («так велит закон»), субъективными («так мне хочется»), но и – абсолютными: «что бы там ни было, а я из принципа поступаю так / верую так / оцениваю так…». Абсолютное самоопределение, возможность полагания принципов – это одно из оснований введения категории духа (разума, свободы).
Слова «формируется коллективными принципами, но не зависит от личной воли конкретных людей» надо понимать как указание на общезначимость и необходимость. В качестве акта самоопределение, конечно, зависит именно от личной разумной воли. В свете сформулированных положений основной «плодоносный» парадокс культуры можно выразить кантовской формулой: «целесообразность без цели». Культурный актор создает лишь свою версию воплощения должного. Любое авторское высказывание о смысле артефакта автоматически включается в безличное культурное целое и становится фактом культуры, а не ее смыслом. Тем не менее этот анонимный стихийный синтез культурных актов порождает некое целое, являющееся как источником детерминации (мягче говоря – инклинации), так и источником «сообщения», которое надо прочесть, если мы не хотим быть пассивными объектами внешних сил. Предмет культурологии – это объективный «текст» («контекст»), в который включаются субъективные акты творчества. Этот культурный текст надо декодировать, что требует специального культурологического метода, не совпадающего с методами философии и гуманитарных наук. Культурология должна делать это, сводя к минимуму философские предпосылки и стремясь создать идейно нейтральный инструмент анализа культуры (в той мере, в какой это возможно). Но философия культуры обязана выдвинуть предельно общие контексты для своей предметности, сформулировать те или иные ценностные аксиомы и задать соответствующие методологические горизонты, в которых будет отражаться фактичность опыта.
Исходя из сказанного, можно сделать первые шаги в определении специфики культуры. Культура – это мир, созданный людьми для преодоления конфликта с природой. Мир этот представляет собой искусственную систему артефактов, которые воплощают наши цели и изменяют среду. Если прибегнуть к религиозно-поэтической метафоре, можно сказать, что только рай давал возможность тварному духу и природе находиться в естественном гармоническом единстве, вне которого они суть взаимоисключающие и притом одинаково несамодостаточные способы бытия. Культура, будучи своего рода памятью об утраченном рае, порождает мир очеловеченной природы и овеществленной человечности. Но и этот мир несамодостаточен, поскольку он символический и не обладает полноценной реальностью природы и духа. Только в постоянном творческом движении культура осуществляет свою роль связующей силы, и любая стагнация (особенно вызванная самодовольством) приводит к утрате этой роли.
В более узком смысле культура есть опыт творческого воплощения человеческой активности, опыт опредмечивания духа, отбирающий предпочтительные решения и закрепляющий их в памяти традиции. (Разумеется, не всякий артефакт автоматически становится элементом культурного универсума: случайная или неудачная креатура не вызывают потребности так или иначе их повторять. Поэтому элементами культуры являются сознательно или бессознательно воспроизводимые артефакты.) Отсюда – такие важные производные функции культуры, как нормативная цензура и самовоспроизводство через воспитание и обучение.
Очевидно, что культура отличается от неживой природы накоплением информации в памяти, ее передачей и воспроизведением. Но она отличается и от живой природы тем, что передает накопленную информацию не генетическим (биохимическим) путем, а экстравитальным образом – при помощи знаковых систем, которые транслируются определенным поведением, обычно – через разные виды обучения. Заметим, что транслируемость – важный признак культурной реальности, поскольку артефакт может быть случайным или произвольным порождением. Если же он является эффективным решением какой-либо задачи и может быть периодически востребован, тогда начинает работать механизм передачи, создающий собственно культурную систему.
Информационный ресурс в живой природе передается «автоматически», в ходе процесса размножения. Культура же предполагает участие ее носителей в отборе транслируемой культурной памяти. Самовоспроизводство культуры может быть организовано с разной степенью сознательности, но может осуществляться и почти бессознательно, в подражательной, миметической форме. Например, в процессе совместной деятельности «учителя» и «ученика» (т. е., как иногда говорят, симпрактически). Однако и в этом случае поведение остается копируемой знаковой системой. Поэтому, если мы скажем, что культура есть семиотически воспроизводимая система целесообразных артефактов, это будет достаточно общей дефиницией.
Еще более узкий смысл понятия «культура» – это способность наделения деятельности и ее результатов сверхэмпирической ценностью и смыслом, что предполагает сознательную или бессознательную интерпретацию целого, частью которого мы являемся. Нередко утилитарно-трудовые формы человеческой активности не называют культурой, оставляя этот термин для обозначения смыслополагающей активности, которая сообщает практическим решениям символическую ценностную значимость.
Наконец, культура – это некий символический язык, знаковая система, кодирующая результаты творчества, благодаря чему возможно не только понимание своей культуры, но и относительное постижение, расшифровка чужой культуры и общение с ней.
Теперь мы можем подвести промежуточный итог и дать сводную дефиницию. Культура – это семиотически воспроизводимая система целесообразных артефактов (идеальных и вещественных), созданная человечеством для преодоления конфликта с природой и друг с другом. (Культурой называют как общий тип реальности, т. е. универсум артефактов, так и системы разной степени общности. Например, говорится о культуре какой-либо социальной группы, о культуре труда, поведения и т. п.) Специфика культуры – в ее роли опосредования мира бесчеловечной объективности природы и мира спонтанной человеческой субъективности, в результате чего возникает третий мир объективированных, вписанных в природу человеческих импульсов и очеловеченной природы. Для субъективной духовности культура обнаруживает себя как императив правильного поведения и мышления: как традиция, норма, предписание, ценность, символический язык и интегральная картина мира. Как закономерное целое, культура обладает специфическими механизмами своего существования во времени, т. е. своего порождения, оформления в знаковой системе, трансляции, интерпретации, коммуникации, конкуренции, самосохранения, формирования устойчивых типов и их воспроизведения в инокультурной среде.
Артефакт и культура
Чтобы понять специфику артефактов и, следовательно, понять, какие объекты и в каком аспекте могут стать полем исследования наук о культуре, необходимо проделать своего рода умственный опыт по «сегментации» универсума на самые общие регионы, что и позволит увидеть собственную область существования культуры. При этом важно избежать преждевременной теоретической интерпретации открывшихся регионов и удержаться на уровне непосредственных данностей.
Существуют две реальности, которые непосредственно очевидны без обращения к той или иной философской системе: 1) реальность выраженной в духовной активности человеческой свободы, которая представлена в действии, в мышлении, в решении, в переживании, в морали и т. п.; 2) природная реальность, существующая независимо от человека и данная ему как среда, требующая приспособления. Хотя эти миры – свободы и природы – до некоторой степени самодостаточны, они экстенсивно распространяются, пытаясь поглотить, включить в себя свое иное. Природа как целое имеет достаточно сил, чтобы навязать человеку свои законы. Свобода имеет основания противопоставить природе свои ценности. Таким образом, природа и человечество как носитель духа находятся в конфликтном отношении. В ходе конфликта создается modus vivendi – область взаимного примирения этих сил. Культура и есть область взаимодействия двух конфликтующих реальностей: она – мир очеловеченной природы или объективированной, опредмеченной человечности. Элементарной частицей этого мира является артефакт.
Раньше артефактом называли нечто привнесенное в изучаемый объект самим исследованием и не свойственное объекту в нормальном состоянии, вне контакта с исследовательской деятельностью. Но в последнее время обычным стало обозначение этим словом искусственного объекта вообще[411]. В данной выше дефиниции под артефактом подразумевается любая культурная креатура: объекты (идеальные и материальные), процессы, отношения, нормы, идеалы и т. п. Принципиально то, что артефакт есть объективация духа или (с другой стороны означенной оппозиции) субъективация, «очеловечивание» природы. Ни собственно природное, ни собственно духовное не вступают непосредственно в измерение культуры. Область, доступная культурологии, и основные структурные единицы культуры – это артефакты.
Первый шаг к прояснению способа существования артефакта в культуре – ответ на вопрос, как возможно содержательное обобщение бесконечно разнородных продуктов культуры. Для локализации некоторой особой области между природой и духом достаточно было указать на общее предназначение артефактов, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы подвести артефакты под содержательную генерализацию, тем самым делая их элементами универсума и предметом научной дисциплины. Универсум артефактов как область проявления собственных закономерностей – это далеко не тривиальная очевидность. Показательно в этом отношении весьма позднее появление культурологии в сообществе гуманитарных наук.
Следующий необходимый шаг – различение внутри общей сферы культуры (которая характеризуется созданием искусственной предметности, как вещественной, так и идеальной, и целенаправленной трансляцией ее результатов) более узкой области, характеризуемой особым типом смыслополагания. Можно заметить, что искусственный предмет всегда наделяется не только функционально-прагматическим смыслом, но и дополнительной значимостью, предполагающей представление (чаще всего латентное) о «целом» и его смысле. Создание артефакта – это всегда то или иное истолкование реальности. При сотворении артефакта предполагается, сознательно или бессознательно, что это будет часть какого-то целого, и целое таким образом постулируется. Своим существованием каждый артефакт как бы задает вопрос: «Каким должен быть мир, чтобы в нем было возможно и уместно мое бытие?». Независимо от намерений создателя или пользователя любой артефакт имплицитно содержит в себе не только утилитарное решение конкретной задачи, но и момент интерпретации мира, который и составляет специфическую добавочную значимость артефакта, создающую культуру как целое. В обыденном словоупотреблении «культура» подразумевает именно эту относительно узкую область полагания смысла, ценности и встраивания их в предметность.
Найти в артефакте интерпретационный момент – это всегда значит обнаружить и зафиксировать «эйдос» – какую-то идеальную форму, которая могла бы воспроизводиться в других субстратах. Теория, образ, текст, утварь, инструмент, закон, обычай и т. п. при всем своем сущностном несходстве похожи тем, что предполагают такой, а не иной выбор возможностей и, значит, такую, а не иную версию мира, в который они встраиваются. И эта «программа» достраивания реальной части до своего виртуального целого может быть специально зафиксирована и описана как особая, несомая артефактом «внутренняя форма», морфема. Такая форма несет сообщение о единстве прагматического назначения артефакта и окружающего его «поля» смыслополагания. Особый интерес представляет то, что культурные морфемы не только связаны со своими артефактами (и, естественно, множеству аналогичных артефактов может соответствовать одна общая морфема), но у них также усматривается сходство (часто непреднамеренное) друг с другом: у разных артефактов могут быть сходные культурные морфемы. Простым примером может служить то, что называют художественным стилем: здание, парк, интерьер, стихотворение, опера могут – при всем различии субстратов – принадлежать, например, стилю барокко. Морфемное сходство, конечно, не является очевидностью. Обычно сопоставимые морфемы (или «изоморфемы») обнаружить труднее, чем в случае тождественного художественного стиля. Более того, это сходство, искомое культурологией, не в состоянии описать другие гуманитарные науки, так как они принципиально ориентированы на свой «домен», на свое специфическое поле исследования. Внутри такого гомогенного поля, или ряда элементов, объединенных одной темой, одной задачей и одним языком, можно говорить о сквозной логике их взаимосвязи и развития, и потому изоморфность этих элементов обнаруживается естественным образом. Но если перед нами – различные ряды, то, строго говоря, мы не имеем права на непосредственное их сопоставление и должны специально обосновывать такое право.
Как было отмечено выше, до XVIII в. эта задача не возникала и не обсуждалась. Образно говоря, древо культуры могло рассекаться лишь по продольным волокнам, по последовательностям однородных артефактов, которые могли иметь морфологическое родство, – в поперечном же срезе и соответственно в сравнении разнородного потребности не было. Между тем культурология вообще возможна лишь в том случае, если мы не только в состоянии обосновать последовательность звеньев одной культурной цепи феноменов (это успешно делают другие науки), но и можем доказать однотипность определенных звеньев разных цепей. Такие коррелятивные морфемы и являются главным предметом культурологического исследования. В свете сказанного основной вопрос культурологии выглядит следующим образом: «Как сочетать гетерогенность и изоморфность культурных феноменов?».
Предварительный ответ на этот вопрос следует из отмеченного уже различения самого артефакта и задаваемого им смыслового поля, в котором должен проявиться соответствующий артефакту мир. Другими словами, артефакт содержит в себе программу порождения остального мира как того виртуального целого, частью которого является данный артефакт. (Для краткости назовем такой мир «пленумом» и будем считать, что артефакт стремится к пленарности.) Конечно, наблюдаемым является только сам артефакт, и мы в очень ограниченной мере и только предположительно можем описать полагаемый им свой мир. Но этого достаточно для того, чтобы найти tertium comparationis, основание для сравнения гетерогенных артефактов. Артефакты могут быть различными, но их идеальное восполнение, достройка их до целостного универсума – это мир, единый для всех. Разные же проекты одного и того же универсума вполне могут сопоставляться.
Но отсюда следует, что мы должны дополнить артефакт и его версию мирового целого еще одним измерением, в котором будут взаимодействовать друг с другом проекты разных артефактов. Взаимодействовать и неизбежно конкурировать за право перейти от возможности к действительности, поскольку действительность – одна на всех. В этом поле конкуренции происходит взаимная аккомодация и выяснение степени совместимости пленарных проектов. В таком поле вполне мог бы действовать лейбницеанский «принцип совершенства», в соответствии с которым из двух возможных сущностей становится действительной та, что совместима с большим количеством остальных возможных сущностей. Но этот метафизический аспект совсем не обязателен для решения поставленных здесь задач.
Наконец, артефакт, согласовавший свою версию целого, свой пленарный проект с другими артефактами, включается в культурную действительность и встречается здесь с акцептором – потребителем, каковой может иметь самые разные облики и статусы. Например, это может быть индивидуум, институт, рынок, традиция, другой актор и т. д. Тем самым перед нами – еще одно, последнее измерение артефакта, в котором он начинает действовать и разворачивать имплицированную в нем смысловую энергию в общекультурном контексте.
Итак, артефакт существует в четырех модусах или сложен по крайней мере из четырех уровней (рис. 2): сам артефакт как обособленный предмет или субстрат формы [пуклеарный уровень), его проект мира [пленарный уровень), множество пересечений его пленарного проекта с другими проектами [контактивный уровень), практическое осуществление артефактом своего потенциала [прагматический уровень). Именно контактивный уровень и порождает собственно культурное пространство. Нуклеарный – слишком близок к природе; вещи как таковые (еще раз подчеркнем: неважно, материальные или идеальные это объекты) трудно вырвать из массивной природной среды. Пленарный – слишком близок к духу, тем более что нами он непосредственно обнаруживается только через субъективную рефлексию. На контактивном же уровне происходит внесознательное сплетение различных образов в плотную ткань общекультурной картины мира.
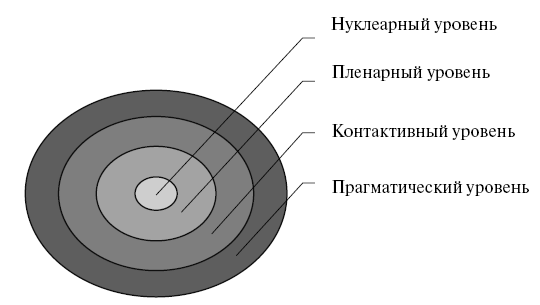
Рис. 2. Модусы артефакта
Даже тех немногих дистинкций и дефиниций, которые были здесь выстроены, достаточно для того, чтобы поставить под сомнение привычное представление о прозрачности культурного пространства, в котором на благо себе взаимодействуют создатели и потребители. Прежде всего надо признать, что культурное пространство принципиально разнородно. Все четыре модуса артефакта требуют различных способов выявления в общем контексте культуры. Нуклеарный артефакт связан с «доменом» профессионального цехового творчества, он порождает нужный, ожидаемый объект. Это – сфера культурной морфологии. Пленарное поле, окружающее артефакт, не дано так прямо и наглядно, как нуклеарный модус; в нем происходит невидимая практическая работа, или же оно раскрывается через культурологическую рефлексию. Это – сфера культурной семантики. Контактивный модус, напротив, требует, чтобы проекты обособленных артефактов обнаруживались (хотя бы друг для друга) и выявлялись с достаточной полнотой как «бытие для другого». Это – сфера культурного синтаксиса. Наконец, последний модус – это сфера культурной прагматики.
Все это побуждает усомниться в том, что для описания способа существования артефакта достаточно одной модели. Традиционно ею оказывалась эстетическая модель взаимоотношений автора со своей аудиторией. Обманчивая наглядность этих отношений побуждала переносить их на все модусы, тогда как они, по существу, могут представить (и то лишь отчасти) только контактивный и прагматический модусы. Эстетическая модель упускает (или, точнее, не обязана учитывать) сложные отношения выявленного и невыявленного в артефакте, составляющие содержание пленарного и контактивного модусов. Так, например, следует признать, что общее поле культурной коммуникации не включает и не может включать все, что наработано на нуклеарном и пленарном уровнях, да и контактивный модус может быть выявлен в этом поле только в той мере, в какой он кому-нибудь нужен или интересен.
Поле культурной коммуникации – это место встречи артефактов, которые стали явлением, и его назначение в том, чтобы профессионально-частное сделать всеобщим достоянием или, если угодно, товаром. Без этого невозможен прагматический модус артефакта. Но для превращения в феномен артефакт должен определенным образом измениться. Чтобы описать эту трансмутацию, введем еще два термина. Общее культурное пространство, в котором происходит в необходимой мере выявление разнородных артефактов и их общение, назовем форенсивным измерением или форенсией. Артефакт как явление, как «публикацию», чтобы не путать его с явлениями вообще, которые описываются традиционной философской топикой «сущности и явления», назовем аппаренцией. Можно заметить, что артефакт становится видимым в разных модусах. Его нуклеарная данность – это простая фактичность. Его появление в форенсивном измерении, где возможно его внецеховое, непрофессиональное восприятие, – это аппаренция. В поле взаимодействия своего проекта с другими, в контактивном модусе артефакт также выявляется, но это не форенсивное выявление, т. е. не прямая аппаренция, как в предыдущем случае (не явление для всех), а косвенная аппаренция или проявление свернутых в артефакте возможностей.
Приведем несколько поясняющих иллюстраций. Изначально новый артефакт рождается в профессиональном пространстве своего культурного цеха: Дарвин создает теорию естественного отбора, Эйнштейн – теорию относительности, Ницше пишет «Заратустру», Пикассо – «Авиньонских девиц». Все они решают задачи, поставленные логикой развития их ремесла и сформулированные – явно или неявно – на профессиональном языке. Это не значит, что названные акторы безразличны к «коррелятивным морфемам»: так, Ницше вдохновлен Вагнером; Эйнштейн признается, что Достоевский значил для него больше, чем Гаусс. Однако их произведения все же остаются событием вполне определенного культурного «домена». Выходя в форенсивное измерение, они становятся прямыми аппаренциями, т. е. они открыты восприятию субъектов культурного рынка, не вовлеченных в профессиональные коллизии авторов.
И здесь артефакт существенно меняется в двух аспектах: во-первых, он открывает только то, что может увидеть профан; во-вторых, он попадает в поле ожиданий акцептора, которое может не иметь ничего общего с действительным смыслом артефакта, но обладает при этом мощной энергией интерпретации. Дарвин вовсе не хотел сказать, что в борьбе за выживание должен победить сильнейший, Ницше отнюдь не пропагандировал культ силы и аморальности, Эйнштейн не хотел сказать, что все в мире относительно, Пикассо не нуждается в «трупе красоты». Их учения и деяния вообще «не про то». Но аппаренция бессильна перед властью акцептора увидеть то, что хочется увидеть. И вот возникают такие странные феномены, как «социал-дарвинизм» и «ницшеанство», которые играют немалую роль в форенсивном пространстве культуры, хотя deforo, вне культурного рынка они бессмысленны.
Сказанное не значит, что толкование аппаренции – обязательно профанация. Бергсон и Уайтхед откликнулись на теорию Эйнштейна интересными философскими построениями и толкованиями. Они стали фактом истории философии. Но не физики. Вместе с тем известно, что аппаренция идей Бергсона и Уайтхеда дала пищу для размышлений физикам, и эти размышления стали фактом физики – но не философии. Или, например, Гейзенберг делает открытие, перечитав платоновского «Тимея», но философия не может использовать идеи Гейзенберга, не превратив их обратно в философские идеи, причем физический смысл этих идей неизбежно исчезает.
Другими словами, мы видим, что форенсия заполнена активным взаимодействием артефактов, но формы этого взаимодействия мало похожи на простую передачу сообщения от актора к акцептору. Сама по себе профанация нуклеарного смысла произведения еще не дискредитирует форенсию. Культурный рынок в этом отношении можно было бы назвать трансцендентальной профанацией (по аналогии с кантовской «трансцендентальной иллюзией»). Горизонт – не край земли и неба, но по-другому мы его увидеть не можем, это своего рода объективная иллюзия. Явление артефакта в форенсии – это не то, что артефакт «в себе», но по-другому в культуру он не попадает. Ничего драматичного в этом нет. Источник культурной патологии в ином: форенсивное пространство может нелегитимно расшириться и проникнуть туда, где ему не место, в другие культурные измерения, и там заместить их законы своими.
В этом не обязательно виноват агрессивный рынок. Так, например, художественный авангард начала XX в. в лице многих своих выдающихся представителей быстрее, чем сам рынок, сообразил, что можно прагматизи-ровать не только процесс продажи артефакта, но и поведение художника, и сам акт творчества, да и вообще размыть границы того и другого. Возможна также инверсия этого процесса: преднамеренная профанация искусства способна при определенных условиях достичь статуса действительного искусства. Авангард дает и такие примеры.
Стоит обратить внимание на обозначенный выше модус косвенных аппаренций. Этот модус гораздо лучше защищен от профанации, чем прямые аппаренции, поскольку он не предполагает сознательной активности культурного субъекта. Бессознательный синтез косвенных аппаренций, т. е. бессубъектных по преимуществу взаимовлияний артефакционных полей, создает своего рода информационную среду для актора. В том измерении морфемы могут быть «похожими» друг на друга не потому, что кто-то допустил их профанную аналогию, а потому, что они «согласовали» свои пленарные проекты. На этом уровне и можно осуществлять морфологические исследования культуры, т. е. сравнивать заведомо несравнимое. Например, коррелятивные морфемы начала XX в. – генетики, квантовой механики, «Петербурга» А. Белого, кубизма Пикассо, логического атомизма Рассела – могут быть рассмотрены как порождения косвенной аппаренции децентрализованного дегуманизированного универсума, в свою очередь рожденной «слабыми» контактивными взаимодействиями артефактов конца XIX в.
Поскольку культурология открыла объективно-духовное (так же как психоанализ открыл объективно-душевное, а спекулятивная философия – объективно-историческое), то она вправе ограничить претензии культурного субъекта на монополию истолкования артефакта. В сфере культуры (в отличие от сферы духа) доминируют объективные, стихийные процессы. Сама интерпретация тут же становится фактом культуры и, значит, включается в эту объективную стихию. Поэтому культурология должна вывести процессы толкования и оценки за эстетические и, возможно, даже за герменевтические рамки. Объективно-стихийные механизмы разворачивания артефактов в различных модусах, должным образом стратифицированные и артикулированные, больше сообщат нам о тайнах культуры, чем еще одна всеобъясняющая идеологема. В свете этого демифологизированный, или, по словам М. Вебера, «расколдованный», культурный рынок может предстать интереснейшим источником знаний о культурной механике.
Мы выяснили, что нельзя понимать культуру как однородное поле с универсальными законами движения в нем артефактов. В культуре обнаруживаются несводимые друг к другу измерения, которые, однако, вместе – каждое по-своему – участвуют в порождении состава культурной ценности. Поэтому и процедура оценки (во всех смыслах этого слова) артефакта должна учитывать все его модусы. Можно предположить, что такого рода исследование чревато многими неожиданностями. Ведь один и тот же артефакт способен принимать совершенно разные обличья в различных своих модусах. То, что кажется ценностью на одном уровне, порой оказывается нулем на другом, и только полная синоптическая оценка покажет, с чем мы, собственно, имеем дело. То, что можно спорить о вкусах, доказал еще Кант, но, пожалуй, можно спорить и о ценностях, если выработать метод такого синоптического анализа.
Итак, мы выделили три слоя реальности, из которых составлено мировое целое. Сначала мы разделили мир на две части. Одна – это природа, которая нас окружает и дана нам в явлениях, нравится нам это или нет. Вторая – это та невидимая сердцевина нашего «я», которая все время чего-то хочет, спрашивает, требует, т. е. она не совсем довольна тем, что дает природа. Мы наметили изначальный конфликт того, что условно назвали духом и природой. Суть конфликта в том, что природе безразлично, существуем мы или нет, нам же, со своей стороны, хочется, чтобы в природе было то же, что есть у нас (хотя бы как проект), – смысл, справедливость, красота, гармония. Но в ходе взаимного предъявления претензий, т. е. в ходе человеческой истории, возникает третья территория. Мы ее обозначили как территорию культуры. Это уже объективировавшийся дух и до некоторой степени очеловеченная природа, т. е. территория, где найден способ совместного существования духа и природы. Мы назвали это культурой и определили культуру как универсум искусственных объектов, или артефактов, который имеет законы, не совпадающие ни с законами духа, ни с законами природы. Далее мы выяснили, что набор прагматических качеств артефакта дополняется неким толкованием того, каким должно быть целое, в которое включается любой артефакт.
Прочерченная выше диспозиция трех регионов универсума – природы, культуры и духа – и соответствующих им трех сил, каждая из которых стремится включить в себя две другие, сама по себе достаточно убедительно показывает необходимость дисциплины, специально изучающей способы превращения духовного состояния в элемент объективного мира. Дело в том, что артефакт легко и естественно воспринимается как факт. Особенно если он существует достаточно долго и опирается на традицию. Но ведь здесь таится определенная опасность. Если артефакт принимается за естественную очевидность, за то, что само собой разумеется, то он узурпирует место природы в нашей трехчастной диспозиции, и тем самым он выводит себя из конкуренции с другими артефактами. Яркие примеры такой «натурализации» артефактов дает история экономической культуры: можно вспомнить, как менялось в истории отношение людей к собственности, труду, деньгам, кредиту. Культурологический анализ в состоянии обнаружить в мнимом факте скрытую культурную интерпретацию, как бы говоря: «это всего лишь культура». Этим высвечиванием встроенной интерпретации культурология освобождает нас от ложной необходимости примириться с данностью.
Механизмы культуры
Сделанного достаточно, чтобы интуитивно представить себе наиболее общие механизмы культуры, без которых артефакт или вновь растворится в природе, или так и не выйдет из идеальной сферы духа. Во всяком случае, очевидны механизмы культурной динамики, обеспечивающие процессы порождения и сохранения артефактов.
Первый и, возможно, основной механизм культуры – это объективация. Речь о том, что любое законченное творение отделяется от своего творца, становится относительно независимым от него объектом. При этом, естественно, происходит внедрение артефакта в какой-то субстрат. Каждый артефакт имеет некий носитель – не обязательно материальный, это может быть идеальный носитель. В любом случае, чтобы осуществился выход продукта творчества с территории духа на территорию природы, необходимо «исполнить» его в какой-то внешней для духа среде. Это может быть минимальная объективация – допустим, фиксация в памяти какого-то душевного состояния. Здесь – минимум материи, тем не менее это уже объективация в виде опредмечивания данного состояния. Оно становится отделимым от породившего его субъекта и может включиться в другие механизмы культуры: его можно воспроизвести (повторить), истолковать, передать и т. п. Тем самым данное состояние автоматически становится той частицей духа, которую мы «окультурили». Еще более насыщены объективностью, скажем, традиция, ритуал, норма – при том что «вещественности» в них не так уж много, поскольку они обеспечены усилиями личного и общественного сознания. Можно представить и более полную версию объективации: идея или переживание становятся, допустим, орудием труда или произведением искусства, воплощенным в тексте, краске, камне…
При необходимости можно детализировать механизм объективации, различив в нем момент опредмечивания (субъект духовного действия, или актор, отделяет от себя нечто им порожденное, делая возможным тем самым его рассмотрение и оценку); момент воплощения, способ которого выбирает – осознанно или нет – сам актор (одна и та же креатура может быть воплощена как идея, как слово, как текст, как мнемоническая фигура, как изображение, как обращенный вовне жест и т. п.); момент включения воплощенной креатуры в ту или иную систему (актор решает, частью чего во внешнем мире является его креатура: вещь ли это, или идея, или эмоция и т. п.).
Неизбежным результатом объективации оказывается отчуждение креатуры от создателя. Отчуждение следует признать одним из основных механизмов культуры, поскольку им объясняется половина, условно говоря, всей культурной динамики. Изменения в культуре происходят или потому, что артефакты перестают быть эффективными (это самый очевидный случай), или потому, что они в результате отчуждения перестают выражать то, что заложено в них актором. Вместе с тем отчуждение есть единственный способ увидеть и себя, и иное, создав определенную дистанцию и затем преодолев ее с помощью «культурной оптики».
Феномен отчуждения обнаруживает еще одно любопытное и в каком-то смысле неожиданное свойство культуры. Хотя все в ней создано людьми, сама она безлична и бессубъектна. То, что попадает в поле культуры, всегда порождено субъектами, но, как только они «отпустили» креатуру, она, можно сказать, прощается со своими авторами и живет уже по другим законам. Причина простая: в культуре как целостности нет единого субъекта; это не централизованная, не олицетворенная тем или иным духом сфера. Мы не обнаруживаем какой-нибудь мировой разум, который решает, что и какие смыслы имеет, что с чем сочетается. В этом плане культура – территория стихийных связей. Но все-таки – связей, порожденных духом, а не безличных, как в природе. Вот в этом, может быть, и заложена основная специфика культуры: в странном соотношении сознательного и бессознательного. Сознательные акты как бы вставлены, инсталлированы в систему, которая сама в целом бессознательна. И одна из основных задач человека в культуре – все-таки сообразить, что здесь происходит, и сделать бессознательные общие процессы сознательными, так или иначе управляемыми. Поскольку эта цель еще не достигнута (если она вообще может быть достигнута), то перед нами – история культуры, где чередуются попытки внести смысл в стихийные процессы и капитуляция перед стихийностью и слепой традицией.
Парадокс состоит в том, что любая сознательная попытка охватить культурное целое в своих истоках принадлежит духу, но в результатах – принадлежит культуре и тем самым автоматически становится ее частью. Но и это еще не все. Таких субъектов смыслополагания в культуре может быть неопределенно много. Перед нами, как минимум, три мощных фактора: 1) сознательное творчество субъекта, 2) столкновение двух или нескольких сознательных субъектных центров и 3) стихийное целое культуры.
Эти три силы – «Я», «Ты» и «Оно» – пытаются как-то справиться друг с другом, но результирующая сила все равно оказывается над ними и чем-то другим. Мы можем вспомнить случаи, когда всего лишь один субъект небезуспешно выстраивал новую культуру почти с нуля: таковы, например, фараон Эхнатон или Петр Великий. Но, как легко заметить, исторический результат был далек от их замысла. Целое, таким образом, не принадлежит никому; оно всегда останется трансперсональным.
Эта ситуация весьма дискомфортна, потому что мы в культуре работаем на непрозрачные связи неизвестного целого. Но есть в ней и свои преимущества. По-своему ведь опасны и безличная традиционность, и субъективный произвол. Культура же устроена так, что она осуществляет какую-то третью версию. Гегель некогда назвал ее «объективным духом», отличая от «субъективного духа», который еще не дорос до осознания целого, и от «абсолютного духа», который уже преодолел отчуждение духовности от природности. То же самое он выразил своим известным мотто «хитрость Разума» (List der Vernunft): мировой Разум хитро пользуется нашими субъективными мыслишками и страстишками, чтобы сплести из них ткань Истории.
Механизм отчуждения универсален, поскольку он действует не только в отношениях между духом и культурой, но и в отношениях того и другого с природой. Потому что природу мы знаем в той степени, в какой она нам дана уже как объект культуры, т. е. осмысленно. Это или ландшафт, или какая-то ценность, или объект эстетического наслаждения. В таком смысле природа на самом деле усматривается только через призму культуры. Стоит только взглянуть на историю представлений о природе: то она уютный космос, как у греков; то она падший мир, как у христианства; то это универсальный прекрасный механизм, как в XVII в.; но уже в XVIII в. Руссо говорит, что мы живем в мире, испорченном цивилизацией, что природа от нас ушла и мы должны каким-то образом в нее вернуться. С точки зрения романтиков оказывается, что природа – это не рациональный механизм, а бессознательная стихия, которую может понять только поэт. Сравнительно недавно – в XIX–XX вв. – природа воспринималась как территория прогрессирующей победы человечества над чуждым миром. Но начиная с деятельности Римского клуба, с конца 60-х годов XX в., мы выяснили, что это очень хрупкая, исчерпаемая система, которую надо не побеждать, не покорять, а срочно спасать и защищать.
Однако и внутри относительно цельной синхронной культуры мы легко обнаружим весьма разные модели восприятия природы: ее принципиально по-разному видят в XVIII в., скажем, немецкий крестьянин, не слишком выделяющий себя из природы, и его соотечественник Гёте, который пишет о природе восхищенные пантеистические поэмы, и их английский современник Адам Смит, который видит в природе экономического союзника. Перед нами – целая история разных идеологий природы, от которых зависит и ее непосредственное восприятие. Если так обстоит дело с явленной нам природой, то про дух мы тем более ничего непосредственного не знаем, пока он не объективируется и не заявит, что он обрел некую телесную или объективно-духовную оболочку и тем самым стал культурой. Поэтому в каком-то смысле культура – это универсальный способ увидеть все остальное.
Следующую группу механизмов культуры можно обобщить термином «интерпретация». Механизмы интерпретации (или, как по-другому их называют, герменевтические процедуры) также являются универсальными, поскольку сопровождают артефакт на всех уровнях его существования. Уже создатель артефакта – актор должен каким-то образом истолковать свое творение, чтобы правильно его оформить и воплотить. Восприятие артефакта другим субъектом культуры также, по сути, есть интерпретация – ведь любое культурное «послание» поступает к нам зашифрованным в образах, знаках или понятиях и правила его расшифровки никогда не бывают до конца очевидными.
Стремление к стихийному синтезу, которое мы усматриваем в культуре, в свою очередь, предполагает интерпретацию, но теперь уже – безличную. Попадая в культурный контекст, в поле культурных запросов и ожиданий, артефакт может получить толкование, весьма далекое от того, которым хотел бы снабдить его автор. Дарвин, как мы знаем, протестовал против «социального дарвинизма», Маркс – против «марксизма». Страшно представить себе реакцию драматургов прошлого на современные постановки их пьес. Но – увы! – культурный творец теряет монополию на интерпретацию, как только выпускает свое творение на волю – в поле объективных культурных отношений.
Частным, но очень важным и специфичным случаем интерпретации является оценка артефакта. Оценка сама по себе может иметь длительную и интересную историю: вспомним историю оценок наследия Шекспира или Баха, в которых на краях богатого спектра – полное забвение и беспредельный восторг. Никакой депозит культурных ценностей не может быть в ходе истории культуры защищен от переоценки и критики. Этой лабильностью оценок объясняется и непрерывная конкуренция ценностей, заполняющая историю культуры.
Еще одной группой механизмов культуры, в каком-то смысле замыкающей цикл существования артефакта, являются механизмы трансляции. Их не всегда просто отделить от механизмов интерпретации, но для простоты будем считать, что задача трансляции возникает после того, как смысл сообщения и уровень его ценности установлены. Механизмы трансляции в большей степени, чем предыдущие, требуют социальной организации, которая была бы в состоянии взять на себя ответственность за сохранение, защиту от смысловой порчи и адекватную передачу артефактов, и материального субстрата, который был бы адекватным носителем сообщения. Как правило, сама трансляция связана с тем, что та или иная социальная группа отождествляет свои цели с некими культурными ценностями и, следовательно, обязана заботиться об их сохранности. В культурах «открытого» типа (т. е. избегающих абсолютной монополии на светскую и духовную власть) основной груз трансляции падает на систему образования. В культурах «закрытого» типа, с их тяготением к тотальной системе ценностей, задачу трансляции выполняют те или иные касты «посвященных». Соответственно для первых особую роль играет письменность, для вторых – устная традиция.
Особый случай трансляции мы встречаем тогда, когда внутренняя преемственность культуры заканчивается и она по каким-то причинам должна уступить место другой культуре. В этом случае речь идет уже не столько о традиции, сколько о консервации и адекватной «зашифровке» культуры. Метафорически можно сравнить это с превращением цветка в «коробочку» с семенами. В семени закодирован будущий цветок, который вырастет из него в благоприятных условиях. Правда, имея дело с культурой, мы никогда не можем быть уверены, что нам удалось успешно пересадить древние семена на новую почву (вступает в силу закон неизбежной интерпретации любой фактуальной данности). Так, Шпенглер довольно убедительно показал, что реставрация античности в эпоху итальянского Ренессанса породила и стиль, и тип культуры, не имеющие почти ничего общего с исторической Античностью. Как бы там ни было, мы видим, что продукты культуры обладают невероятной живучестью: для того чтобы начал звучать голос умершей культуры и заработали механизмы ее интерпретации, достаточно весьма немногих семиотически значимых ее фрагментов.
Рассмотренные выше механизмы имели дело с динамикой культуры. (В разделе «Ритмы культурной динамики» будут изучаться общие закономерности этого аспекта.) Но существует и группа механизмов, обеспечивающих статику культуры. Этот тип можно рассмотреть на примере механизма культурной интеграции. Рано или поздно хаотичное, случайное взаимодействие артефактов дорастает до каких-то программ, идеалов, ценностей, и дальше уже начинается конструирование культурного мира из локальных решений локальных задач. Этот мир превращается со временем в культурно-исторический тип. О смене таких типов вы хорошо знаете по школьным учебникам: Античность, Средние века, Возрождение, Новое время и т. д. Механизмы культурной интеграции (и дезинтеграции) таинственным образом создают из хаоса устойчивые целостные, обладающие самосознанием культурные миры.
Каждая новая эпоха закладывает свой фундамент с помощью нескольких механизмов интеграции. Одним из базовых чаще всего оказывается механизм выработки социальных соглашений и норм. По его исходной форме он может быть назван уставом общины.
Эпоха также создает универсальные программы действий. Они могут быть утилитарными – например, программа хозяйственной деятельности или программа преобразования окружающего мира. Могут быть сверхутилитарными – например, программа религиозного спасения или же программа достижения счастья, которое ведь не всегда обеспечивается одной только материальной функцией. Программы требуют целей и ценностей. Необходимо выдвинуть новые ценности в качестве того, что должно быть. Наиболее удобный пример – религиозные ценности. Удобный как раз потому, что религиозный идеал не осуществим никакой программой действия. Это бесконечная цель. Этот идеал может быть выдвинут как ценность, т. е., по-гречески, аксиома, которая недоказуема. Большинство предельных ценностей культуры как раз и являются такими, которые ниоткуда не выводимы. И это понятно. Если бы ценности зависели у нас от вечно спорящих философов, то общество никогда бы не смогло интегрироваться на их основе. Поэтому они должны иметь характер не теорем и лемм, а аксиом. Программы действий можно назвать телеологическим аспектом культуры.
Но чтобы выработать программу действия, нужно иметь знания о мире, о себе и, что обязательно, для этого надо знать разум, который познает. Потому одна из первых задач, которую решает любая эпоха, – это не познание мира, а познание того, кто познает, т. е. рефлексия разума по отношению к себе самому. Выдвигаются критерии, по которым одно решение является рациональным, другое – нерациональным, одно – осмысленным, другое – неосмысленным. Назовем это парадигмами разума и к программам действия прибавим парадигмы познания.
Тут выявляется интересная вещь, заключающаяся в том, что познание претендует на универсальность и общезначимость, однако оказывается исторически обусловленным. Критерий разумности для древнего грека, или для средневекового схоласта, или для ученого XVII в. оказывается разным. Что рационально для одного, то нерационально для другого. Скажем, ньютоновская физика для Аристотеля была бы в высшей степени странной, нерациональной. Ньютон отвлекается от общих метафизических вопросов, он рассматривает ближайшие соединения причины и следствия, но для Аристотеля это – бессмыслица. Ведь мы заранее объявляем непознаваемой как раз самую главную сферу бытия, универсум в целом. Что уж говорить про современную физику, которая абсолютно изменила ньютоновский мир! Очевидно, что парадигмы разума меняются весьма активно. Но надо подчеркнуть, что новая культура заинтересована не столько в продукте знания, сколько в оценке знания как такового и его места в культуре. Новое знание рождает новую картину мира. Хотя точнее было бы сказать, что они возникают параллельно, будучи изначально смутными интуициями, и влияют друг на друга. В качестве механизма интеграции картина мира, принадлежащая той или иной эпохе, действует в основном подспудно и выявляется во всей определенности лишь к концу, к «осени» эпохи.
Следующий шаг, который делает любая молодая культура, – это попытка оценить человека как такового. Здесь тоже существуют исторически очень разные модели. Можно назвать эту искомую модель человека каноном. Так греческий скульптор Поликлет назвал систему пропорций, которую считал образцовой для изображения человека. Канон человека – это то, каким он должен быть и каким не должен. Перед нами, таким образом, набор основных требований, без которых новая культура не может состояться.
Сферы культуры
Говоря о системе универсальных механизмов культуры, стоит уточнить, что они по-разному работают на разных ее уровнях. Как и всякая сложная система, культура имеет свою иерархию, своего рода архитектуру. Нетрудно, например, выделить в целостной культуре как минимум три «этажа», которые довольно строго артикулируют способы культурной деятельности. Каждая эпоха, каковы бы ни были ее исторические особенности, создает свой уклад повседневной жизни, политический устав общества и систему духовных ценностей. Нижеследующая схема (рис. 3), детали которой будут объяснены в дальнейшем, показывает, что на основе почти неподвижного во времени «витального этажа» стоит динамичный «социальный этаж», над которым, в свою очередь, возвышается «духовный этаж» (в худшем случае – «чердак»).
Первый «этаж», наиболее близкий к природе, можно назвать витальной культурой – это минимально измененная природа, но все же измененная для того, чтобы человек мог выжить: культура труда, культура малых социальных групп, семьи, культура отдыха, общения и т. п. Витальная культура меняется со временем, как и положено культуре, но меняется очень медленно. Посмотрите на историю витальной культуры, и вы увидите, что базовые ее принципы – семья, труд, питание, общение, дружба, война – очень мало изменились за обозримое время. Здесь люди консервативны, они сохраняют основные реакции и навыки, да иначе и не выжить: модернизирующий эксперимент может оказаться очень опасным. Соответственно и механизмы культуры работают на витальном уровне медленно и как бы невидимо.
Верхний «этаж» (средний пока пропустим) можно условно назвать духовной культурой. (Можно и «ментальной», но слово «ментальная» включает указание не только на интеллектуальное и ценностное состояние, но и на любую кристаллизацию психического, которую можно запомнить и передать в случае ее ценности.) Наиболее общие типы духовной культуры этаблировались со временем в науку, искусство, философию и религию.

Рис. 3. «Этажи» культуры
Духовная культура меняется очень быстро. Скорость и форма изменения весьма различны у всех четырех означенных типов. У каждого – свое отношение с историческим временем. Скажем, религиозные институции субъективно ориентированы на предельную стабильность. Однако реальность заставляет ментальную культуру постоянно отвечать на все новые и новые вызовы. Ментальная культура подчиняется законам не только творчества, но и моды. Даже удачное творение быстро надоедает, и хочется, чтобы было что-то новое и опять новое: здесь удобнее выдать старое за новое, чем сохранять его и лелеять. Европейская культура, с ее параноической страстью к новому, особенно динамична в этом отношении. Механизмы культуры работают на этом уровне форсированно, и потому их легче наблюдать и изучать на таком материале.
Попробуем классифицировать виды духовной деятельности следующим образом. Допустим, что существуют два мира – опытный и сверхопытный. Существуют также два основных способа реакции на мир – эмоциональный и рациональный. Эмоциональное освоение опытного – искусство. Рациональное освоение опытного – наука. Эмоциональное освоение сверхопытного – религия. Рациональное освоение сверхопытного – философия. Данная классификация – абстрактная модель «чистых» типов. На практике, в развитом виде они включают все иные типы: религия – это и богословие, и теургия, и церковные науки (например, библейская текстология). Искусство – это еще и искусствознание, литературоведение, филология; оно даже может быть в каком-то смысле «философией» и «религией», когда от образов и благодаря им прорывается к идеалу, как, например, это происходит в романах Достоевского.
Каждая из четырех сфер духа строится из двух элементов: образа и понятия. В науке понятие подчиняет себе образы (т. е. факты как развитие того, что дано в чувственном образе) – например, формула и бесконечное множество подчиненных ей вещей. В искусстве образ подчиняет себе понятия – например, образ Гамлета служит основой бесконечного числа толкований. В сфере религии образ выполняет роль понятия, поскольку мы имеем дело со сверхрациональной действительностью, – например, миф. В философии понятие служит заместителем образа, поскольку основная предметность философии непредставима. Сказанное можно обобщить в виде схемы (рис. 4).
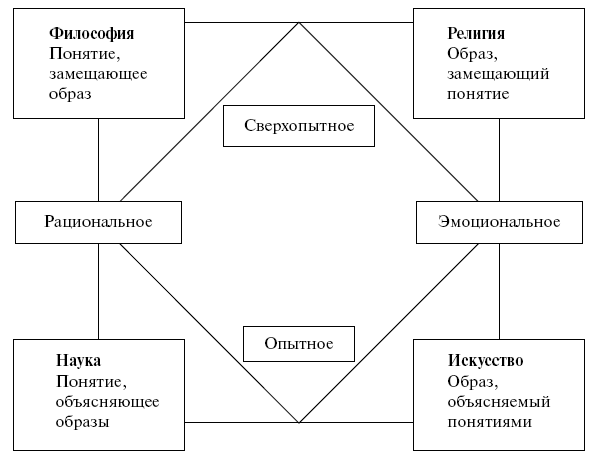
Рис. 4. Виды духовной деятельности
Это условная, в какой-то степени игровая классификация. Можно, разумеется, придумать и другие. Но что действительно важно, так это требование тщательно различать границы сфер. Если они вторгаются одна в другую, начинаются неприятности. Религии, к примеру, должно быть все равно, какие у человека художественные вкусы или философские взгляды. Но когда эти вкусы и взгляды перестают быть искусством и философией и становятся «идеологией», это религии небезразлично. Или, например, философия, искусство и наука сами по себе лишены благочестия и поэтому не могут заменить религию, но когда они пытаются сделать это, требуя себе всего человека без остатка, возникают псевдорелигии, идеологии, теократии, технократии…
Средний «этаж» – это культура социальная. Культура, где совместно действуют принципиально разные типы субъектности. На витальном уровне люди сотрудничают как похожие друг на друга субъекты: они соединены естественной солидарностью. На ментальном уровне они, наоборот, все разобщены: каждый творец – сам по себе гений, и другие гении даже мешают ему жить. (Речь идет о доминантной установке субъекта ментальной культуры на духовную автономию. Разумеется, в ментальной культуре есть и механизмы интеграции: и творцы (акторы), и потребители (акцепторы) стремятся не только отмежеваться от «чужих», но и соединиться со «своими».) На этом этаже отличие становится преимуществом. А вот на социальном уровне люди соединены не на основании похожести, а на основании различия, но – именно соединены. Здесь появляются системы формальных договоров и законов, которые позволяют людям быть вместе, но быть разными. В общем, это и есть социум. В сущности, история культуры позволяет человечеству от минимальных и предельно формальных принципов интеграции переходить ко все более и более содержательным. От этого общество становится, конечно, интереснее и сильнее. Снимается взаимное отчуждение, появляются общие цели. Но, тем не менее, специфика этого уровня – в наличии формальных принципов. Социальная культура со временем этаблировалась в следующие основные формы: 1) общество, 2) хозяйство, 3) государство, 4) церковь.
Это – четыре основных типа социальных деяний. Их цели таковы. 1. Создание общества, которое в перспективе сможет стать правовым гражданским обществом, в каковом каждый является автономным индивидуумом и в то же время носителем принципа целостности. 2. Создание хозяйственной системы, т. е. такой же культурной целостности, но только взятой с точки зрения трудового, хозяйственного осмысления универсума. Экономика – это, наверное, частный случай хозяйственной деятельности, потому что такая деятельность может быть не обязательно экономической в чистом виде. В этой рубрике – труд, производство, обмен, распределение, война, техника, символические формы, в которых все это выражается. Так что экономика – центральный, но не единственный элемент второго типа. 3. Создание государства. Это, может быть, самая таинственная цель культуры, во всяком случае она наиболее удалена от целеполагания природы и духа. Людям часто кажется, что государство – это просто система взаимовыгодных договоров, но именно история культуры показывает, что государство и его динамика – ключ ко всем цивилизационным процессам. 4. Объединение людей на основе почитания общих сверхприродных ценностей: создание культа. Религия существует и на витальном уровне – как естественное почитание Бога, и на ментальном – как богословие, мифология, философия религии, догматика. А на социальном уровне религия представлена как формальное объединение субъектов веры, т. е. как церковь.
История культуры показывает, что периодически тот или иной элемент разных уровней культуры пытается подчинить себе остальные. Есть типы культуры, в которых доминирует наука (такова культура Нового времени); где доминирует хозяйственная деятельность (новейшая культура и первобытные культуры); где доминирует церковь (Средневековье). Есть политические культуры по преимуществу, где верховным интегратором культуры является государство. Это XVIII, XIX, XX вв. Но на самом деле, если один из этих элементов подчиняет себе другие, получается все-таки плохо: в конце концов начинаются процессы, ведущие к кризису и распаду.
Наиболее благоприятные исторические периоды характерны тем, что в них все эти элементы опосредуют друг друга и опираются друг на друга. Скажем, конфликт общества и государства может быть опосредован и даже снят с помощью церкви (духовная солидарность), с одной стороны, и экономики (прагматическая солидарность) – с другой. Конфликт мирского (хозяйство) и сакрального (церковь) может быть опосредован волей государства (социально-этическое регулирование) и здравым смыслом общества (личная принадлежность и к труду, и к культу). Что делает таким образом культура? Культура создает мир, в котором можно жить или по крайней мере отсрочить грозящую гибель. Роль в этом социального этажа – принципиальна. Витальная культура слишком зависит от природы и легко перед ней капитулирует, поступаясь духовным. Духовная культура слишком легко уходит, прячется от природы или же стремится подчинить природу духу, поступаясь при этом как природой, так и своим долгом перед обществом. Духовный произвол еще более страшен, чем природная бесчеловечность. Поэтому задача не в том, чтобы одно подчинить другому, а в том, чтобы сообразить, возможно ли это гармонизировать. Что и пытается делать культура. Она создает миры, которые являются временными версиями, временными проектами соединения духа с природой.
На социальном этаже культурные механизмы работают быстрее, чем на витальном, но медленнее, чем на ментальном. И это логично. Ведь здесь и происходит основная селекция удачных культурных форм. Это вообще серединный и центральный уровень. Именно здесь, на уровне социальной коммуникации, культура и показывает, что она, собственно, может сделать такого, чего не могут дух и природа. Она может превращать безличное в личное, а личное – в объективное и интерсубъективное.
Ритмы культурной динамики
История культурных эпох позволяет нам сделать некоторые системные выводы. Культура Европы и связанных с ней регионов Средиземноморья и Западной Азии дает возможность проследить естественный ритм смены больших цивилизационных периодов. Это гораздо труднее сделать на историческом материале «традиционных» культур, которые как бы прячут историческую динамику, кодируя ее на языке своих «вечных» ценностей. Поэтому мы попытаемся рассмотреть морфологические закономерности смены эпох на материале истории культуры Запада.
Еще древними была замечена цикличность человеческой истории. Некоторые историки XIX в. начинают распространять принцип повторяемости типов и на культуру. Действительно, историю культуры можно описать как волновой процесс, который артикулируется на повторяющиеся фазы. Как минимум три наблюдаемых цикла достаточно документированы текстами и артефактами, чтобы стать источником некоторых обобщений: 1) Античность, 2) Средневековье и 3) модернитет. Можно заметить, что их циклы содержат аналогичные по своей культурной форме этапы. Обозначим их привычными, хотя и не абсолютно релевантными понятиями, позаимствованными в основном у истории искусства, имеющей большой опыт в различении стилевых градаций.
Первый этап – архаика. Хронологически для наших трех эпох это соответственно 1) VI – первая половина V в. до н. э.; 2) VII–XI вв.; 3) XVI–XVII вв. Архаической стадии эпохи присущ пафос открытия новых культурных форм. Она выполняет кристаллизацию насыщенного «раствора» своего исторического времени. Поскольку культура – это всегда объективация духа, то мы можем описывать культурные процессы в рамках той или иной эпохи как различные версии воплощения смыслов в данной культурно-исторической ситуации. Объективированные смыслы архаики обычно понимаются своими творцами как плоды героических усилий по преодолению хаоса. Тайна победы в том, что происходит встреча творческой интуиции и того, что было скрыто до поры в самом бытии. Поэтому архаика остро переживает объективность своего культурного космоса, его подлинность, его права на обустройство всех сфер жизни. С этим контрастируют эклектика и релятивизм той старой культурной среды, которая обычно окружает область духовного взрыва и его революционных импульсов. Хорошим индикатором новых идей в европейской культуре всегда была архитектура: по античной ордерной архитектуре и скульптуре, по раннесредневековой романике, по первым образцам классицизма и барокко в XVII в. мы можем судить о пластических формулах новой культуры. Оборотная сторона героической воли архаики – конфликт со средой и отчужденность от стихии «естественной» живой повседневности. Театр Эсхила и Корнеля, монашеское подвижничество и рыцарский кодекс дают нам показательные образцы этой суровой простоты и глубины. Первичная простота найденных идеалов и перспективы их более сложного и экстенсивного воплощения в материал создают то напряженное символическое поле, которое так характерно для архаики.
Динамика культурных циклов достаточно хорошо описывается аристотелевскими понятиями формы и материи. Если культурными формами считать структурные, целевые и ценностные решения задач, а материей культуры признать те реалии, которые нуждаются в «переформатировании», то архаика даст нам случай агрессивно-внешнего контакта формы и материи, который силен творческой энергетикой, но слаб из-за неслиянности общей идеи и индивидуального «казуса». Форма властвует над материей, но не вступает с ней в равноправный диалог, не проникает в глубины ее инаковости. Отсюда ясно, что социальным субъектом такой культуры может быть только элита, которая берет на себя риск и ответственность за утверждаемые идеалы.
Архаика догматична, дидактична, императивна, нетерпима к «чужому» и недоверчива к «личному». Она тяготеет к ансамблям, большим социальным конструкциям и стратегическим решениям. Не отягощенная излишним гуманизмом полисная демократия, жесткие сословные структуры раннего Средневековья, первые модели абсолютизма хорошо демонстрируют присущий архаике пафос строительства нового мира, легко приносящий в жертву эмпирическую сложность ради раскованной энергии цельных и простых решений.
Второй этап – просвещение. Заимствуя это имя у Просвещения XVIII в., мы берем его как наиболее рельефный образец интересующего нас процесса. Хронология просвещения для трех эпох: 1) вторая половина V – первая половина IV в. до н. э.; 2) XI–XII вв.; 3) XVII–XVIII вв. Этот этап компенсирует жесткость архаики своего рода идейным контрапунктом. Он, с одной стороны, распространяет вширь, в большое социальное пространство идеи архаики, но, с другой стороны, вскрывает ее однобокость.
Главной мишенью просвещения становится догматизм архаики, а главным лозунгом – относительность всех ценностей. Противовесом объективизму архаики выдвигается гуманизм как утверждение ценности субъекта.
Второй этап целесообразно рассматривать вместе с третьим, хронологически почти совпадающим со вторым. Тем не менее это – самостоятельная фаза реакции на просвещение. Можно назвать ее контрпросвещением. Не меняя самой парадигмы просвещения, его оппоненты осуществляют переоценку ценностей. Гуманизм видится им не как триумф субъективности, а как трагедия субъективности. Контрпросвещение обычно содержит и прямолинейно-консервативную версию возвращения к старому, и конструктивную версию углубленной переоценки ценностей. Просвещение и контрпросвещение – это прежде всего идеологические конструкты, и поэтому самые наглядные их примеры – разного рода доктрины и их практические модусы. В Античности им соответствуют греческая софистика и оппонирующий ей Сократ. Средневековье реализовало эту фазу в противостоянии Абеляра и Бернара Клервоского. Новое время – в тех умственных движениях XVIII в., названия которых мы и позаимствовали для обозначения фазы.
Четвертый этап – классика. Сам термин, избранный для его номинации, говорит о том, что задача этапа – предельное выражение смыслов эпохи. Если продолжить аналогию с волновыми процессами, то классика будет гребнем волны. Функция классики – примирение первичных ценностей архаики с ее критиками. Так, афинская культура V–IV вв. до н. э. создает оптимальные формы для осмысления встроенности человека в космос; Средневековье XIII в. обретает умение гармонизировать и выражать в культуре связь земного и божественного; новоевропейская цивилизация во второй половине XVIII – начале XIX в. находит баланс субъективного творчества человека и объективных мировых законов.
Классика каждой эпохи подтверждает мысль Канта о том, что вопрос всех вопросов звучит так: «Что такое человек?». Самоинтерпретация человека является сквозным сюжетом и нервом всей истории культуры. Фазы классики суть моменты появления итоговых формул каждой эпохи. В отличие от инструментально простых решений архаики, классика за своей простотой скрывает сложные решения, синтетическое соединение противоположностей, которое стремится сохранить элементы, интегрированные синтезом. К. Леонтьев удачно назвал такое состояние культуры «цветущей сложностью». Выше мы использовали категориальную пару «субъективное – объективное» для описания фазовых особенностей. О классике можно сказать, что она, не жертвуя признанием творческих прав личности, обнаруживает возможность и необходимость творения объективных миров, открывает объективность субъективности.
Это хорошо видно по трем великим революциям второй половины XVIII в., в ходе которых появились вершинные достижения духа в рамках парадигмы Нового времени. Английская промышленная революция реализует потенциалы индустриального производства и свободного рынка. Французская политическая революция закладывает основы правового гражданского общества. Немецкая духовная революция, осуществленная в первую очередь в литературе, философии и музыке, открывает миросо-зидающие способности разума и воображения. Общей формулой для всех трех революций может быть понимание человека как суверенного индивидуума, создающего свой мир инструментами творческой воли. Как и все фазы культурной эпохи, классика несет в себе механизмы самоуничтожения. Слабость классики – в ее сложности и хрупкости. Осуществить ее идеалы может уже не просто элита, как в стадии архаики, но – сообщество гениев. (Не случайно понятие «гений» было изобретено именно зрелым XVIII в.) Нетрудно заметить, как в ходе трех революций быстро минуется высшая точка баланса всех противоречий и начинается стадия упрощения. Жесткие формы раннего капитализма в Британии, якобинцы и Наполеон во Франции, поздний романтизм в Германии – вот рубежи, после которых классика перестает быть формообразующей силой культуры.
Пятый этап – постклассика. В его основе – эксплуатация достижений классики, которая постепенно приводит к некоторому вырождению и понижению заданного классикой уровня. Этот этап неодинаково ярко выражен в разных эпохах. В Средневековье он почти неуловим, в Античности дан в «стертых» формах, но рельефно присутствует в модернитете. (Естественно, надо учитывать, что наша историческая «оптика» порождает неизбежные аберрации из-за временных дистанций.) Поэтому и хронология постклассики для трех эпох более «размыта»: 1) IV–III вв. до н. э.; 2) XIV–XV вв.; 3) первые две трети XIX в. Именно в этот период ослабевает то переживание трансцендентного, которое составляет нерв всякой большой культуры, и происходит переориентация на посюстороннее и фактуальное (чему способствует относительный цивилизационный комфорт, достигнутый благодаря усилиям предыдущих периодов).
Позитивизм как культурная установка XIX в. хорошо иллюстрирует дух этого этапа и находит соответствия в раннем эллинизме и раннем гуманизме Возрождения. Идеал человека трансформируется в этом же направлении: от «героического» к «естественному». Постклассике свойственно расслоение типов сознания и жанров творчества на характерно очерченные, но и – тем самым – более плоские. Так, романтизм и реализм XIX в. можно прочесть как продукты распада шедевров эпохи классики, но в то же время они выявляют те потенции, которые в классике находились в «связанном» виде. Недостаток синтетизма компенсируется эклектизмом. Недостаток глубины – тяготением к эпическому размаху и монументализму. Естественные науки вытесняют метафизику. Психологизм (а в Новое время и историзм) становится ключом к пониманию не только человека, но и всей картины мира. Классика каждой эпохи понимает культуру как трагическую битву духа и природы, но – парадоксальным образом – сохраняет оптимизм. Постклассика видит в культуре скорее драму, чем трагедию, но это видение окрашено пессимизмом, который в полемике с позитивистской бодростью и прагматичностью одерживает победу за победой.
Шестой этап – модернизм. Его хронология (с оговорками, о которых – ниже) примерно такова: 1) III в. до н. э. – I в. н. э.; 2) XVI в.; 3) последняя треть XIX в. Реакцией на позитивистское принижение «идеальной» составляющей культуры, на бескрылый эмпиризм и натуралистическое понимание человека является импульс к возвращению культуре статуса высокой игры с символами трансцендентного. Термин «модернизм», исторически связанный с самосознанием нового творческого настроения в последней трети XIX в., подходит, пожалуй, и для номинации своих аналогов в других эпохах, поскольку в нем звучит семантика обновления смысла тех открытий, которые принадлежат эпохе. Однако стадия модернизма уже не обладает той конструктивной мощью, которая была у архаики и классики, и не претендует на мобилизацию всей культуры вокруг своих программ.
Носителем парадигмы модернизма является творчески одаренная субъективность, сквозь призму которой преломляются объективные ценности классики. Модернизм акцентирует способность культуры создавать партикулярные миры, в которых идеалы духа даны скорее в измерении художественного переживания и психологического утончения, чем в бытии – будь то сверхэмпирическая реальность или фактуальный мир. От модернизма неотъемлем культ артистизма и мастерства, которым замещается классический пафос отвечающего за себя и мир деятеля. Ностальгия по классической цельности приводит модернизм к парадоксальному соседству несовместимых культурных программ. Так, «александрийская» усложненность и изощренность сосуществуют с нарочитым простодушием и тягой к «истокам»; пророческая патетика – с легкомысленным жизнелюбием; камерность, эмоциональная интимность – с брутальной жаждой действия и т. п. Эллинистическая античность, увядающая сложность XVI в., «декаданс» XIX в. дают нам изобилие наглядных примеров модернистской парадигмы. Это качественное многообразие связано с тем, что данная стадия стремится воплотить и высказать то, что подразумевалось и хранилось ранее как невидимый источник творческой энергии. Убывание уверенности в своих устоях, ослабевшая интенсивность культурной воли как бы компенсируется экстенсивностью эмоциональных реакций и способов самовыражения.
Заключительный этап эпохального цикла – авангард. Его хронология (и даже сам термин) может вызвать немало вопросов. Этот этап не так ярко выражен в исторической смене стадий. Тем не менее мы можем заметить закономерное появление культурных форм, радикально порывающих с традицией своей эпохи. Если за канон мы примем авангард первой трети XX в., то его аналогами будут: 1) I–III вв.; 2) XIV–XVI вв. Первым авангардом можно считать раннехристианские формы культуры (или контркультуры), категорично отбросившие антропоморфную пластику, героический гуманизм и космизм классической античности. К III в. радикализм христианского авангарда смягчается и вырабатываются компромиссные формы. Второй авангард рождается в столкновении новорожденного средневекового индивидуализма и традиционных моделей. Такие явления, как крайний номинализм, перспективные иллюзии в живописи, ранний гуманизм, первые программы религиозной реформации, содержат в себе радикальный вызов универсализму и символизму средневековой классики. К середине XV в. авангард находит формулы компромисса и становится составной частью широкого потока Ренессанса.
Авангард – это восстание против вековых стереотипов дряхлеющей культуры, решительно выдвигающее альтернативные решения старых задач или формулирующее принципиально иные задачи. Зачастую альтернативой становятся рецессивные или репрессированные формы, которые казались уже изжитыми заблуждениями. Однако авангард как часть своей эпохи не выдвигает ничего конструктивно нового; он служит лишь одним из катализаторов будущего морфогенеза. Культурная энергия авангарда – это энергия разрушения или инверсии, когда эффект новизны достигается отрицанием или выворачиванием наизнанку привычных норм. (Это, разумеется, не мешает ему быть творчеством со всеми соответствующими правами и обязанностями.) Еще одна особенность авангарда – сближение с ранней архаикой своей же эпохи. Этот парадоксальный процесс, «закольцовывающий» эпоху, обусловлен пограничным характером обеих стадий: они имеют дело с инокультурной средой (прошлого – в одном случае, будущего – в другом) и поэтому как бы испытывают на прочность и эффективность установки своей эпохи.
Выделенные семь ступеней эволюции культурной эпохи имеют свои темпоральные особенности, которые – в силу их повторяемости – можно признать неслучайными. Прежде всего надо учитывать, что исторический процесс – это континуум и наше выделение дискретных моментов всегда будет привнесением той структуры, которой не было в самом предмете. Наиболее очевидным это становится при попытке провести границы того или иного периода. Например, определяя культурно-исторические границы Средневековья и вникая в микропроцессы, мы можем первую его половину «прочесть» как плавное завершение античности, а вторую – как постепенное рождение Нового времени. (Однако эта аберрация исчезает, когда мы возвращаемся к «общему плану» и опять начинаем видеть Средневековье как эпоху в своей неповторимости.) В этом смысле непереходных эпох нет: всякая репрезентирует в себе свое прошлое и свое будущее. Поэтому правильнее представлять себе последовательность периодов не как соединение вагонов поезда (когда отдельные элементы стыкуются в точно определенной буферной зоне), а как соединение звеньев цепи (когда звенья соединяются, включаясь друг в друга).
Кроме того, культурная эволюция (так же как и органическая эволюция) сама по себе не уничтожает единожды созданное, но находит ему место «рядом» с исторически актуальным. Все семь ступеней нашей классификации, пережив момент актуализации, продолжают существовать как своего рода опция, уже не как «время», а как возможное «пространство» для выбора культурного субъекта. В истории культуры ничего не исчезает, все живет в своем измерении: можно в этом смысле сказать, что есть разные степени и «градусы» исторического. Образно говоря, у древа культуры вертикаль роста и наличие в каждый момент вершины (актуально исторического) не отменяет жизни нижних уровней кроны, которые тоже меняются на свой лад и так же нужны вершине, как и она им. Такая система позволяет культуре сохранять прошлое в качестве постоянного ресурса, возвращаться к нему или вести с ним диалог.
Однако для историка здесь налицо немалая проблема: необходимо научиться отличать актуально историческое от фактического. Скажем, схоластика XIII в. или натурфилософия XV в. перестали быть исторически адекватной формой знания о мире с приходом экспериментально-математического естествознания XVII в. Но они продолжают существовать как в своих исходных формах (например, «вторая схоластика» XVII в.), так и в трансформированном или скрытом виде (например, натурфилософия XVIII в. или оккультно-романтическая беллетристика XIX в.), при этом выполняя набор весьма важных культурных функций (оппозиция, диалог, альтернатива и т. п.).
Далее, функциональные задачи каждой культурной стадии обусловливают ее «продолжительность жизни» и способ ее сосуществования с другими звеньями исторической цепи. Архаика (во всех трех наблюдаемых эпохах) имеет сравнительно четкие временные и структурные границы: в силу агрессивности и пассионарности она заметно отделяется от «чужого»; для решения же своей главной задачи – выработки культурного канона – нуждается в достаточном времени и поэтому длится около 200 лет.
Просвещение и контрпросвещение – более концентрированная и менее длительная фаза. Возможно, это обусловлено сравнительно узкой социальной базой: задачи трансляции идеалов и образцов в большое социальное пространство (равно как и испытание их критикой) может осуществить только настоящая элита, век которой всегда короток.
Период классики – самый короткий в контексте эпохи. В наблюдаемых нами трех эпохах он не превысил времени трех поколений. И это нетрудно понять: ведь классический синтез осуществляется только за счет усилий немногочисленных гениев, интуиции которых нельзя гарантированно повторить и передать. Для классики также характерны резкие границы с соседними периодами. Это заметно по очевидному непониманию таинства классики теми, кто находится на исторической шкале «до» и «после» (при сохранении, как правило, должного пиетета). И еще одна особенность классики – неспособность длиться параллельно со сменившими ее фазами: она исчезает раз и навсегда. Правда, это компенсируется постоянной реинтерпретацией классики, что само по себе является одним из важнейших механизмов культуры.
Контуры периода постклассики более размыты; в своем самосознании она выступает обычно как период рационального использования достижений эпохи и смягчения культурных конфликтов, хотя на деле мы видим, что для этой стадии характерно расслоение элементов, интегрированных классикой. Во всех трех случаях эта фаза совпадает с появлением относительно благополучного «среднего класса», который вырабатывает консумативное отношение к духовному капиталу и формирует спрос на массовую культуру.
Стадия модернизма является самой длительной в своем цикле. Это связано, по-видимому, с тем, что она, осуществив критику «позитивизма» предшествующего периода и подвергнув психологизации идеалы эпохи, окончательно адаптирует накопленные достижения к тем требованиям, которые предъявляет культуре сформировавшаяся социальность. Плюрализм и толерантность, присущие стадии модернизма, позволяют использовать в символических играх культуры весь наработанный тезаурус. Единственная слабость этой гибкой и жизнеспособной стадии – ее замкнутость в своей эпохе. Стремление вырваться из замкнутого культурного космоса, прорваться к Иному рождает авангард.
Истинный авангард недолговечен. Являя собой логически последнюю ступень цикла, исторически он быстро исчерпывается и опять включается – на тех или иных правах – в модернизм. Так, христианская контркультура вступает в компромиссный союз с эллинистическим миром, радикальный гуманизм позднего Средневековья вливается в ренессансный пантеизм, авангард XX в. – в современную коммерческую цивилизацию. Этот комплекс уже начинает продуцировать эклектическую смесь элементов, некогда входивших в органический синтез, которая и станет, в свою очередь, питательной средой для рождения новой эпохи.
Смена стадий может быть описана в терминах основной проблемы культуры, как сюжет, повествующий об истории примирения человека и окружающей его среды: фаза архаики начинается с того, что человек, утративший свой мир в результате кризиса предыдущей эпохи, получает ориентиры для строительства нового мира. Заканчивается она тем, что создает прочный каркас для своего строения. Классика вырабатывает оптимальные формы слияния человека и мира, понимаемые как взаимопроникновение и тождество микро– и макрокосма. При этом классика не жертвует ни тем, ни другим и не закрывает глаза на неизбывную трагичность столкновения человека и мира. Модернизм выбирает путь компромисса: его плодом являются очеловеченный мир и обмирщенный человек. Авангард отказывается от гуманизма и делает выбор в пользу мира, пытаясь пробиться сквозь корку оцепеневшей старой культуры к Иному, к подлинной реальности: его плод – бесчеловечный мир.
Таким образом, критерием исполненности каждого периода является своя особая мера и формула связи человека и мира (из чего вытекает и интерпретация этих первоначал, свойственная формату каждой стадии). Одним из подтверждений неслучайности описанной здесь стадиальной серии может служить то, что во многих случаях ее шкала достаточно эффективно налагается (при должном масштабировании) и на региональные культуры, и на «маленькие» культурные периоды, имеющие характер законченного процесса. Такой артикуляции, например, поддается итальянское Возрождение или русский Серебряный век. Эта своего рода фрактальность культурной динамики говорит об информационной целесообразности смены и связи фаз: набор решений не распадается на единичные случаи, а связывается в систему со структурными и темпоральными отношениями и – главное – с памятью о целом и его частях во всех их трансмутациях.
Мы говорили о возможности артикулировать последовательность стадий эпохи. Но сами эпохи также связываются в цепь событий с наблюдаемыми закономерностями. Как давно было замечено историками и философами, каждую эпоху сменяет ее противоположность. Понимать ли эту смену как своего рода маятник или как поступательное движение – само чередование отрицающих друг друга эпох достаточно очевидно и резонно: ведь лучшим импульсом для исторического движения всегда будет исправление прошлых ошибок. Обычно чередующиеся эпохи обозначаются парой антонимов (например, Конт разделял «критические» и «органические» эпохи). Здесь мы воспользуемся терминологией Вяч. Иванова и Флоренского, которые говорят о «ночных» и «дневных» эпохах. «Ночные» эпохи – это время культур, тяготеющих к стабильному пребыванию в рамках традиционных форм солидарности. Их установки: община, аграрность, экологический баланс, религия, миф, иерархия… Для «дневных» эпох характерно стремление к динамичной и конкурентной реализации личных и групповых проектов. Ключевые установки таких эпох: индивидуум, индустриальность, борьба с природой, наука, рациональность, эгалитарность… Так же как день и ночь не хуже и не лучше друг друга (они суть части естественного жизненного цикла), так и два типа эпох взаимно компенсируют свои доминанты и выполняют такие функции, которые трудно совместить в одном историческом времени: функции самосохранения и самоизменения.
Может возникнуть небезосновательный вопрос, зачем нужно знание об этих сложных и далеко не очевидных ритмах культурной динамики. Во-первых, как и всякая неслучайная повторяемость, эта ритмика позволяет нам выводить исторические закономерности культуры. Во-вторых, благодаря ей мы получаем подтверждение телеологического характера культуры. Другими словами, мы убеждаемся в том, что культура не является функционально-причинным следствием неизменной природы человечества; она обнаруживает направленность на цель, достижение которой требует сложной исторической динамики. Образно говоря, как смена времен года подсказывает нам наличие движения Земли вокруг Солнца (вместе с системой других движений, ориентаций и колебаний), так и циклическая смена эпох и стадий наводит нас на представление о культуре как системной цепи попыток реализовать внеположные культуре смыслы. В-третьих, мы видим, что стадиальная повторяемость не приводит к тотальной детерминации культуры: именно в силу ее проявления индивидуальный или собирательный субъект культуры может утвердить свою позицию – будь то желание «плыть по течению», альтернатива или протест. Вопреки Шпенглеру, культура не является запрограммированной неизбежностью, в том числе и благодаря своей морфологической матрице.
Артикуляция наук о культуре
Европейские науки о культуре возникли сравнительно недавно – в эпоху Просвещения, с ее географической и культурной экспансией, с ее интересом к пестрому многообразию мира и с ее страстью превращать все знания и размышления в систематическую науку. С тех пор мысль о культуре прошла сложный путь вычленения из других наук, формирования собственного предмета и метода, создания своих философских основ. Процесс этот далеко не закончен. Но богатые результаты – налицо. Дискурс о культуре или тематизация культуры возможны в самых разных формах. Общее для собственно научного дискурса – принцип рациональности, который требует логического моделирования, аргументации и обоснования высказываний.
В целом науки о культуре можно разделить на три потока: 1) культурология; 2) философия культуры; 3) проблема культуры в гуманитарных науках (что иногда обобщают термином «культуралистика»). Культурология – это специальная наука о культуре, изучающая общие законы ее устройства и существования во времени. Философия культуры ищет, как и положено философии, первоосновы и принципы самого феномена культуры, задает предельные смысловые контексты.
Но с проблемой культуры может столкнуться любая (в первую очередь гуманитарная) наука. Во-первых, научный продукт так или иначе становится частью культуры; во-вторых, каждая наука сама есть часть культуры, что особенно видно, если мы рассмотрим историю этой науки; в-третьих, культура может быть одной из предметных областей для научного исследования. Поэтому мы обнаруживаем целую гроздь социально-гуманитарных дисциплин, которые вплотную занимаются закономерностями культуры: культурная антропология и этнография, социология культуры, историческая психология, лингвокультурология, науковедение, искусствоведение, психоанализ, когнитивная психология, информатика и др. Нередко в междисциплинарном пространстве возникают исследовательские методы, которые становятся направлениями философии культуры и культурологии: так, свою версию смыслов и закономерностей культуры имеют феноменология, герменевтика, структурализм, семиотика, диалогизм и др. Современная тенденция к междисциплинарности и интеграции гуманитарного научного знания делает необязательной институализационную грань между науками. Однако в ряде случаев проблемы размежевания наук о культуре с другими гуманитарными и социальными науками не утратили актуальности.
Главным «соседом» философии культуры в поле родственных наук является культурология – гуманитарное научное исследование явлений и законов культуры в их статике и динамике. Обычно выделяют два модуса этой дисциплины: фундаментальную и прикладную культурологию. Фундаментальная культурология изучает культуру в теоретическом и историческом аспектах, создает соответствующую систему категорий и спектр методов; прикладная культурология, в той или иной мере взаимодействуя с фундаментальной, изучает культуру с целью управления ее актуальными процессами и концептуально обеспечивает прагматическую культурную деятельность (например, перформативные проекты; охрана культурного наследия и среды; деятельность музеев, выставок, библиотек). Чтобы очертить общее поле культурологических исследований, можно представить следующий (заведомо неполный) список задач теории культуры.
1. Дескриптивная – описание культуры в целом и в элементах как автономной сферы.
2. Экспланативная – объяснение культуры как закономерного целого.
3. Нарративная – повествование о культуре как о темпоральной последовательности событий.
4. Эстимативная – оценка культурных феноменов с точки зрения принимаемой аксиологии.
5. Компаративная – рассмотрение диверсификации типов культур во времени и пространстве и выявление сходств и различий. Решение этой задачи связано, кроме прочего, с прояснением природы культурных коллизий и степени их необходимости.
6. Прогностическая – проекция в будущее известных нам ритмов и формаций культуры.
7. Герменевтическая – перевод с непонятного или непрозрачного семиотического языка на понятный. Прежде всего истолкование инокультурных (по отношению к субъекту исследования) феноменов.
8. Коммуникативная – исследование инкультурации, возможности культурного диалога, природы культурных конфликтов и способов их преодоления.
9. Прагматическая – исследование культурной практики. В первую очередь прояснение механизмов индивидуальной, социальной, экономической, политической, аксиологической реализации культурных программ. Этот аспект позволяет увидеть артефакт не только в системе отношений «актор – акцептор» («производящий – воспринимающий»), т. е. в системе субъективных установок, но и в контексте непреднамеренных, стихийно складывающихся механизмов, которые зачастую ускользают от внимания исследователей.
10. Методологическая – поиск и обоснование адекватных методов исследования культуры. Однако «теоретико-системное мышление пока еще не присуще значительной части исследователей, занятых культурологической проблематикой, что существенным образом негативно сказывается на нынешнем состоянии методологии и системологии культурологической науки, а также объясняет, почему системные исследования различных состояний, подсистем, феноменов, объектов культуры и процессов, в ней происходящих, имеют пока что единичный характер»[412].
В последние десятилетия сформировались специфические области культурального знания, в которых практикуются новые социально ангажированные подходы к пониманию культуры и места в ней человека. В первую очередь это «культурные исследования» (часто cultural studies предпочитают не переводить, чтобы не путать эту номинацию с другими), коренящиеся в социально-критических левых теориях 50-х – начала 60-х годов XX в. и использующие структуралистские и постструктуралистские методы для дешифровки практик манипуляции властных институтов обществом и индивидуумом. Основная доля работ – англоязычные. В отличие от культурологии, cultural studies ориентированы на прикладные исследования символического и реального производства культурных объектов[413]. В этой же парадигме находятся исследования массовой культуры, исследования медиакультуры, гендерные исследования, постколониальные исследования и т. п. В немецкоязычных странах инновационный характер носят доктрины и методы, опирающиеся на германские традиции постпозитивистских наук о культуре: культурная антропология, символическая антропология, культурная социология, понимающая социология, когнитивные исследования, философская герменевтика, Kulturgeschichte, Begriffsgeschichte[414].
Целый кластер своеобразных гуманитарных дисциплин возник на стыке методологии исторических исследований и культурологии. Истоком этой тенденции, видимо, можно считать школу «Анналов». Не всегда между ними можно с определенностью провести границу. Так, переориентация с «истории идей» и «истории ментальностей» на «интеллектуальную историю» означала, конечно, смену методологических и предметных установок, но линии разрыва она не провела. История идей изучала концепты и вербальные конструкции мыслителей, но также коллективную мысль больших групп в культурно-социальном контексте. Интеллектуальная история, в свою очередь, делает основой сами контексты, порождающие социальные мифы, и уже в них встраивает творческое мышление интеллектуалов[415]. Эту тонкую грань иногда трудно заметить, но к тому же не всегда просто увидеть и ее эффективность.
Во всяком случае, мы можем заметить, что дифференциация направлений современной культуральной мысли связана с двумя ориентирами: а) с поисками новых инструментов социальной критики и б) с попытками «ухватить» новый объект исследования (ментальность, практика, термин, переживание…), который своей исторической динамикой обнаруживал бы логику культуры.
Основные концепты философии культуры
Культура (лат. cultura — возделывание, воспитание, почитание) – универсум искусственных объектов (идеальных и материальных предметов; объективированных действий и отношений), созданный человечеством в процессе освоения природы и обладающий структурными, функциональными и динамическими закономерностями (общими и специальными). Понятие «культура» употребляется также для обозначения уровня совершенства того или иного умения и его внепрагматической ценности. Культура изучается комплексом гуманитарных наук, в первую очередь культурологией, философией культуры, этнографией, культурной антропологией, социологией, психологией, историей.
Как понятие культура часто выступает в оппозиции природе, субъективной воле, бессознательной активности, стихийной самоорганизации.
Часто культура синонимична цивилизации, но иногда противопоставляется ей как «живой организм» – «механизму». Специфика культуры – в ее роли опосредования мира бесчеловечной объективности природы и мира спонтанной человеческой субъективности, в результате чего возникает третий мир объективированных, вписанных в природу человеческих импульсов и очеловеченной природы. Если природная граница культуры достаточно очевидна (природа без человека), то зафиксировать границу между человеческой активностью (будь то внутренняя духовность или творческая деятельность) и ее кристаллизованными формами, отделимыми от субъекта и воспроизводимыми им, значительно труднее. Но это необходимо для того, чтобы различить детерминацию культуры и самоопределение свободной субъективности.
Область применения понятия «культура» не ограничена тем или иным типом предметности. С точки зрения культуры может быть рассмотрен любой объект или процесс, в котором нас интересует не только прикладная значимость, но и скрытый в нем способ интерпретации и ценностной окраски мира, предполагающий неутилитарный выбор.
Мир культуры решает две формально противоположные задачи: поддержание статики общества благодаря сохранению и воспроизведению традиции и обеспечение его динамики благодаря творческим инновациям. Для этого культура создает в себе сложные многоуровневые системы, позволяющие снимать противоречия индивидуума и общества, старого и нового, своего и чужого, нормативного и ситуативного. В этом отношении культуру можно определить как информационную сверхсистему, которая обеспечивает обратную связь со средой при сохранении фонда исторической памяти.
Как закономерное целое культура обладает специфическими механизмами своего порождения, оформления в знаковой системе, трансляции, интерпретации, коммуникации, конкуренции, самосохранения, формирования устойчивых типов и их воспроизведения в собственной и инокультурной среде. Особую роль в культуре играет система образования, поскольку культурное наследие не воспроизводится само собой и требует сознательного отбора, передачи и освоения. При этом культура не только поощряет и закрепляет необходимые для нее качества, но и выступает как репрессивная сила, осуществляющая при помощи системы запретов различение «своего» и «чужого».
Несмотря на стремление к максимальной устойчивости и длительности (гомеостазу), конкретная культура, как показывает история, всегда предлагает лишь временное решение своих задач, поэтому механизмы смены культурных эпох принадлежат к базисным закономерностям культуры. Если статус культуры меняется не в результате внешних обстоятельств (например, экологическая или политическая катастрофа, подчинение другой культуре), то основным способом обновления оказывается культурная реформа, использующая механизмы преемственности. Поскольку развитая культура не бывает монолитом, в ее рамках всегда существует система оппозиционных вариантов, играющих роль культурных «противовесов». Это позволяет переходить к новым моделям, опираясь на разные формы культурной оппозиции (на альтернативные, «теневые», подпольные и т. п. контрагенты доминирующей культуры). Так, например, культура раннего Возрождения, внешне не порывая со Средневековьем, интерпретирует себя как «подлинное», обратившееся к Божьему миру христианство, опираясь на оппозиционные (хотя вполне органичные) элементы средневекового христианства: номинализм, мистику, натурфилософию. Если реформы культуры по тем или иным причинам тормозятся, возможен культурный конфликт, иногда перерастающий в культурную революцию. Так, неудача церковных реформ в Европе XV–XVI вв. привела к всеохватной культурной революции, породившей протестантскую культуру.
Важной особенностью культуры является то, что ее объективные структуры всегда в конечном счете замыкаются на личностное приятие (или неприятие), толкование, воспроизведение и изменение. Вхождение в культуру (инкультурация) может «автоматически» обеспечиваться механизмами культуры, но может также стать проблемой, требующей моральных и творческих усилий (что бывает, как правило, при столкновении разнородных культур или при конфликте поколений, мировоззрений и т. п.). Таким образом, соотнесение себя с культурой есть одно из фундаментальных свойств личности. Столь же важна культура для самоопределения социума на всех уровнях его существования – от общины до цивилизации. Как историческая форма культура всегда существует в виде конкретного локального симбиоза технологий, поведенческих ритуалов и обычаев, социальных норм, моральных и религиозных ценностей, мировоззренческих построений и целеполаганий. Цельность этой системе придает как сумма объективированных продуктов культуры, так и ее «язык», т. е. относительно понятная в рамках данной культуры знаковая метасистема.
Выделение культуры как особого аспекта бытия позволяет учесть и исследовать то, что в противном случае минует и обыденную, и научную рефлексию. Так, одна и та же религиозная догматика порождает, преломляясь в разных культурах, существенные конфессиональные различия (например, католицизм и православие); формальное принятие принципов «рыночной экономики», генетически связанных с англосаксонской культурой, в специфической культурной среде (Россия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка) дает самые разные результаты; политический эффект от одной и той же конституции неодинаков в культуре с развитыми традициями активного гражданского общества и в культуре с патерналистским отношением к государству и т. п. В этих случаях внутренняя логика идей или процессов взаимодействует с логикой культурной обусловленности, чем создается новое измерение реальности, нуждающееся в специальном, культурологическом анализе. Поэтому не одно и то же, например, «политика» и «политическая культура», «труд» и «трудовая культура» и т. д.
Культура, в отличие от отдельных, «региональных» направлений человеческой деятельности, не создается целенаправленными актами, но является объективным результатом их суммы или, наоборот, исходным условием их осуществления. Соответственно культуральный подход предполагает не только анализ локальных достижений того или иного типа знания, умения, поведения, но и сравнительный, компаративистский анализ явлений со сходной культурной «внутренней формой». Это создает не преодоленные пока наукой методологические трудности (как, например, корректно идентифицировать «импрессионизм» в живописи и «импрессионизм» в музыке, при том что интуитивно очевидно их сходство?), но все же является важной задачей наук о культуре, поскольку позволяет выявлять общие процессы, «большие» стили, системы ценностей: то, что называется «духом времени».
Из существования культуры как общечеловеческого способа освоения природы не следует, что сами собой понятны ее нормы, ценности, язык, символы, мировоззренческие схемы. Любая состоявшаяся культура непонятна «извне» и требует расшифровки, если эта культура – в прошлом, или благожелательного диалога, если это современная культура. (Последнее особенно важно в свете современного процесса глобализации культуры.) Не является безусловной и та или иная качественная градация культур: культура налична как многообразие вариантов, и попытка определить их «ценность» (какой бы ее критерий мы ни выбрали) так же сомнительна, как и определение сравнительной ценности биологических видов. В то же время оценочный анализ возможен там, где можно содержательно сформулировать «цель» данной культуры или определенной стадии ее развития. (Хотя история показывает, что «незрелые» или «наивные» формы культуры со временем могут оцениваться как привлекательная альтернатива или же раскрывать свои непонятые дотоле глубины.)
Классификация культур предполагает выделение их 1) временной, исторической последовательности (это имеет смысл в тех случаях, когда прослеживается преемственность культур; например: Античность – Средневековье – Новое время); 2) региональной обособленности, связанной, как правило, с географическими, этническими, политическими и языковыми разграничениями; 3) идеального содержания, т. е. отделимого от этнического субстрата и передаваемого традицией комплекса норм, ценностей, идей, технологий, стилей (в чем состоит один из узких смыслов слова «культура»); 4) иерархии качественных уровней (что зависит от вводимых критериев «совершенства»); 5) блоков сосуществующих культур (основания сосуществования могут быть самыми разными: территориальная близость, религиозное единство, экономическая целесообразность, политический союз, имперская оболочка и т. д.). Классификация культур, по какому бы принципу она ни проводилась, позволяет выявлять фундаментальные механизмы их самоосуществления и взаимодействия, а также находить способы герменевтического объяснения их наследия.
P.S. О термине «культура»
В греко-римском философском лексиконе не было не только устоявшегося термина, обозначающего культуру, но и самого понятия, аналогичного позднеевропейскому. То, что мы назвали бы культурой, греки называли двумя терминами. Первый и главный – это «пайдейя» (paideia), т. е. воспитание, образование. (Аналогичным образом в Германии XVIII в. будут употреблять слово Bildung.) Логика узуса понятна: передаваемое через образование и есть то, что суммирует все культурное богатство. Было также слово «мусейя» [шоуseid)', то, чем управляют и чему покровительствуют музы, – совокупность всего высокого и благородного. Человек некультурный по-гречески – «амусический».
В Древнем Риме для обозначения области пайдейи употреблялось слово «гуманитас» (humanitas): то, что превращает биологическую природу в собственно человеческую. «Гуманитас» – это совокупность наук, которые делают человека образованным полноценным гражданином. Слово «гуманитас» имело два смысловых оттенка. Это: 1) уважение к достоинству человека (что требовало «обработать» его природу образованием) и 2) филантропия, сострадательное снисхождение к слабостям человека. Именно первый смысл слова перекочевал в итальянский гуманизм, т. е. это не столько человеколюбие, сколько жесткие требования к человеку стать гражданином (что для римлян и значит по большому счету «человек»). Слово «культура» и возникает именно в этом контексте.
Катон Старший в произведении «О сельском хозяйстве» впервые употребляет слово «культура» (cultura), но лишь в аграрном смысле. Глагол colo означает «переворачивать, обрабатывать [землю]». Культура – это то, что обработано, или процесс обработки. Вплоть до XVIII в. главным смыслом слова «культура» была обработка, улучшение или же – образование и просвещение. Но уже Марк Туллий Цицерон употребляет это слово метафорически, как cultura animi – целенаправленная обработка души. В его «Тускуланских беседах» выражение «cultura animi» употребляется почти в современном смысле слова, как создание совокупности духовных ценностей, меняющих человека. В цицероновском и подобных ему римских культурных кружках это слово уже употреблялось не только как изысканная метафора, но и как рабочий термин. Однако там, где римляне осуществляют попытку понять динамику культурной истории (скажем, во «Всеобщей истории» Полибия, в пятой книге поэмы Тита Лукреция Кара «О природе вещей»), мы не встречаем слова cultura, а в постантичную эпоху оно и вовсе надолго исчезает.
Впервые в интересующем нас смысле оно появляется, как отмечают лингвисты, только в XVII в. В одной из работ 1686 г. немецкого правоведа Самуэля Пуфендорфа мы встречаем противопоставление естественного статуса (status naturalis), который был дан Богом Адаму, статусу культуры, т. е. сознательному улучшению окружающей нас природы через трудовые процессы. С узуса, который Пуфендорф задает термину cultura, собственно, и начинается эволюция этого понятия. Российский философ-шеллингианец Д.М. Велланский в работе «Основное начертание общей и частной физиологии, или физики органического мира» (1836) впервые вводит слово «культура» в русский философский язык. Вот тот самый фрагмент: «Природа, возделанная духом человеческим, есть Культура, соответствующая Натуре так, как понятие сообразно вещи. Предмет Культуры составляют идеальные вещи, а предмет Натуры суть реальные понятия. Деяния в Культуре производятся с сосведением, произведения в Натуре происходят без сосведения. Посему Культура есть идеального свойства, Натура имеет реальное качество. Обе, по их содержанию, находятся параллельными; и три царства Натуры: ископаемое, растительное и животное – соответствуют областям Культуры, заключающим в себе предметы Искусств, Наук и Нравственного Образования». Здесь не только вводится понятие культуры, но и дается очень неплохая дефиниция, которая вполне может работать и сейчас[416].
Философия культуры – это философское исследование принципов и общих закономерностей культуры. Она может существовать как специальная теория или как аспект более широкой концепции. От философии культуры следует отличать культурологию как специальную гуманитарную науку, не требующую сверхэмпирической интерпретации (однако четкого размежевания философии культуры и культурологии пока не произошло).
Как самостоятельная дисциплина философия культуры формируется лишь в XX в., однако можно говорить о ее достаточно содержательной предыстории. В мышлении древних цивилизаций культура не становится предметом исследования хотя бы потому, что в своих «высоких» версиях она была полностью включена в религиозный культ, в «низких» же, фольклорных версиях существовала как данность в традиции.
Первым отчетливо выраженным актом философской рефлексии о культуре были учения ранних греческих софистов, которые противопоставили мир человеческих творений и отношений миру природы. Этим была не только намечена будущая граница гуманитарного и естественно-научного знания, но и указана специфика культуры как особого типа реальности. В целом, однако, философия культуры не нашла почвы в Античности из-за фундаментальной установки на толкование природы как единственной и всеохватывающей реальности. В этом случае субъективный аспект культурного творчества рассматривался как то, что надо изживать в пользу объективно верного «подражания» (мимесиса) природным образцам (как бы при этом ни понималась природа). Правда, Античность знала понятия, близкие к нашей «культуре»: таковы греческая «пайдейя» и римская «гуманитас», общий смысл которых, как уже говорилось выше, воспитание и образование, делающие из природного человека достойного гражданина. Было и понятие «мусейя», которое обозначало область духовных достижений образованного человека. Но все эти понятия, по сути дела, служили для обозначения совокупности общезначимых ценностей. Достаточно было общего учения о природе и бытии, чтобы понять их смысл. К тому же древние не видели здесь специфического предмета науки: «мусическое» отличает свободного и образованного грека от варвара, но само оно не наука, и в нем нет особых законов его собственного бытия.
Средние века не меняют эту установку. Дело в том, что система средневекового образования в целом была заимствована из Античности. Духовный аспект культуры был почти без остатка инкорпорирован религиозным культом. Религиозное же отношение средневековых теистических конфессий к культуре представляло собой парадоксальное соединение утилитарного приятия и субстанциального размежевания. Культура являлась «внешним», соблазн и опасность которого никогда не забывались.
Как ни странно, философия культуры не возникла и в эпоху гуманизма. Казалось бы, в это время культура выделилась из культа и достигла высокой степени автономии. Возродился античный антропоцентризм. Практически утвердило себя представление о культурном плюрализме. Тем не менее философская наука о культуре по-прежнему остается невозможной и неуместной. Может быть, это связано с тем, что появился такой самодостаточный предмет для размышлений, как «природа»: в однородном измерении природы можно было разместить весь универсум явлений, так же как размещался он греками в измерении «разума». Культура и в этом случае лишь имитирует природу, а значит, изучать надо не копию, а оригинал.
К концу XV в. очевидно некоторое разочарование в идеале природы. Появляется маньеризм, деформирующий естественные пропорции в пользу субъективности духовного взора. Появляется ощущение неполноценности природы и незаменимости человека. Но этот процесс резко тормозится коллизиями Реформации, которая стала в некотором смысле «антикультурной» силой, противопоставившей видимость (а значит, профанность) образа невидимому знаку. Протестантизм утвердил в правах неслиянность воли и веры с природой, но вторая компонента культуры – выразимость воли в символе – была блокирована строгой цензурой борцов с «идолами». Так же мало склонен к пониманию специфики культуры и XVII в. с его парадигмой универсального Разума, по отношению к которому мир культурных реалий был лишь случайным разнообразием, легко редуцируемым к первичным рациональным (собственно математическим и естественнонаучным) моделям.
Ситуация радикально меняется в XVIII в. Рождение принципа историзма, интуиции культурного релятивизма и плюрализма, интерес к индивидуальности и ее творчеству, к эстетическому, к бессознательному, внимание к экономическому и социальному субстрату истории, успехи таких наук, как археология, востоковедение, сравнительная лингвистика, антропология, педагогика, – все это создает предпосылки для рождения (внутри Просвещения и рядом с ним) нового видения связи человека и природы. От Вико до Канта длится период эмансипации философии культуры от традиционных методов философии и истории. Вико создает «Новую науку» – первую философию культуры, изображающую «идеальную историю» как смену культурных циклов, в ходе которой осуществляется самопознание и самосоздание человечества. Руссо отбрасывает представления о вечной природе человека, вводит измерение историчности и толкует культуру как свободное (и потому этически двусмысленное) творение человеком своей сущности. Гердер понимает природный универсум как прогресс совершенствующихся организмов от неорганической материи через мир растений и животных к человеку и – в будущем – к сверхчувственной «мировой душе», считая при этом основной сплачивающей силой общества культуру, внутренней сущностью которой является язык. В кантовской «Критике способности суждения» обосновывается наличие особой реальности, отличной от мира природы и мира моральной свободы, – реальности «целесообразности», которую можно феноменально обнаружить в системе живых организмов и в искусстве, в принципе не обнаруживая при этом саму цель, с которой сообразуется данный объект.
Поворот, осуществленный в европейском мышлении Кантом, позволил сделать предметом интерпретации, теоретического исследования и системных построений именно эту третью реальность, не сводимую к «природе» и «свободе» и по существу открывающую измерение «культуры». Принцип историзма, соединенный с открытием Канта, позволил в начале XIX в. представителям классической немецкой философии – Фихте и Гегелю – построить развернутые модели поступательной эволюции универсума как творческого развития духа. Описанные при этом диалектические механизмы предметной объективации духа и его возвращения к своей субъективности через самоинтерпретацию позволяют считать означенные модели развернутыми концепциями философии культуры (см. прежде всего «Феноменологию духа» Гегеля). В это же время подспудное становление философии культуры происходит в других течениях европейской интеллектуальной жизни: в историософии позднего немецкого Просвещения (Гаман, Гёте, Шиллер), в панэстетизме немецкого романтизма (Новалис, Ф. Шлегель, А. Мюллер – автор термина «культурфилософия»), во французской политической мысли, обе ветви которой – консервативная и революционная – оперировали культурологическими мифологемами. (Показателен в этом отношении также российский спор славянофилов и западников, в ходе которого начинает осознаваться необходимость перехода от историософских схем к конкретно-философскому анализу явлений культуры.)
Следующий шаг делает гуманитарная мысль второй половины XIX в.: два ее доминирующих направления, каждое по-своему, создавали предпосылки новой философии культуры. Позитивизм вырабатывал установку на отказ от метафизики в пользу эмпирического исследования конкретных феноменов и их каузальных связей. Философия жизни ориентировала на понимающее вживание в неповторимые единичные явления. Оба направления тяготели к упрощающему редуктивизму, но все же их усилиями «культура» была осмыслена как возможный предмет теоретического исследования. Появление в 1918 г. «Заката Европы» Шпенглера с его «морфологией» уникальных культурорганизмов можно рассматривать как завершение этого процесса и окончательное рождение философии культуры в качестве самостоятельной дисциплины.
XX век дает большой спектр вариантов философии культуры, которую не всегда можно корректно отделить от культурологических концепций и подходов. В значительной мере тон философии культуры нашего века задают концепции Дильтея, повлиявшего на герменевтику и экзистенциализм, Бергсона (философия жизни, социология культуры), Зиммеля (философия жизни) и баденского неокантианства (Виндельбанд, Риккерт). Начиная с середины 1920-х годов оформляются основные современные версии философии культуры.
Для этого процесса характерна опора на новые перспективные направления мысли. Так, феноменология и экзистенциализм становятся основой философии культуры Хайдеггера и Ясперса; реформа неокантианских методологий и обновление философского витализма стимулируют символизм Кассирера и Ортеги-и-Гассета; из новой морфологии истории вырастают концепции Тойнби, Коллингвуда, Хёйзинги; из диалектической теологии Барта и свойственного веку поворота «к истокам» – религиозная культурфилософия различных конфессий (Бубер, Гвардини, Тейяр де Шарден, Тиллих). Тяготение к культурфилософским построениям выражается и в том, что ряд дисциплин, защитивших ранее свою автономию от философии, вновь возвращаются к потребности в метафизической интерпретации культуры: такой путь прошли психоанализ, герменевтика, структурализм, антропология, социология культуры. Показательна также насыщенность культурфилософскими идеями литературы и театра XX в. Острая заинтересованность проблемами философии культуры характерна для русской философии XIX–XX вв. Самостоятельные учения в этой сфере создают уже Леонтьев, Данилевский и Соловьев. В XX в. выделяются своими концепциями Флоренский, А. Белый, Вяч. Вс. Иванов, Сорокин, Спекторский, Шпет.
Символ (греч. symbolon – знак, сигнал, признак, примета, залог, пароль, эмблема) – знак, предметное значение которого обнаруживается только бесконечной интерпретацией самого знака. Иначе говоря, знак, который связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл знака и его предмет представлены только самим знаком и раскрываются лишь через его интерпретацию; причем правила интерпретации исключают как однозначную «расшифровку» знака (поскольку у предмета нет другого способа данности, с которым можно было бы соотнести смысл знака), так и произвольное толкование (поскольку знак соотнесен именно с этим, а не с другим предметом)[417].
В отличие от образа, символ не самодостаточен и «служит» своему денотату (предмету), требуя не только переживания, но также проникновения и толкования. В искусстве – особенно в его высоких достижениях – грань между образом и символом трудноопределима, если не учитывать, что художественный образ приобретает символическое звучание, тогда как символ изначально связан со своим предметом. В отличие от понятия, для которого однозначность является преимуществом (по сравнению, например, со словом естественного языка), сила символа – в его многозначности и динамике перехода от смысла к смыслу. (Можно сказать, что, находясь между понятием и образом, символ одновременно передает многозначность денотата, используя образные средства, и передает однозначность образа, используя понятийные средства.) В отличие от аллегории и эмблемы, символ не является иносказанием, которое снимается подстановкой вместо него прямого смысла: смысл символа не имеет простого наличного существования, к которому можно было бы отослать интерпретирующее сознание. В отличие от притчи и мифа, символ не предполагает развернутого повествования (нарративной формы) и может иметь сколь угодно сжатую форму экспрессии. В отличие от метафоры, символ переносит свойства предметов и устанавливает те или иные их соответствия не для взаимоописания этих предметов, а для отсылки к «неописуемому». В отличие от знамения, символ не является знаком временного или пространственного явления (приближения) сверхприродной реальности, поскольку допускает наличие бесконечно большой дистанции между собой и своим интенциональным предметом.
Специфическими отличиями символа от всех упомянутых знаковых тропов являются следующие его функции, значащие не меньше, чем общая для всех тропов проблема выражения заданного содержания.
1. Способность символа к бесконечному раскрытию своего содержания в процессе соотнесения со своей предметностью при сохранении и «неотменимости» данной символической формы. В этом отношении оправданно понимание такого процесса не только как интерпретации заданного смысла, но и как одновременного порождения этого смысла.
2. Способность символа, связанная с опытом его толкования, устанавливать коммуникацию, которая, в свою очередь, создает (актуально или потенциально) сообщество «посвященных», т. е. субъектов, находящихся в поле действия и относительной понятности символа (например, церковь, направление в искусстве, эзотерический кружок, культурный ритуал). При этом эзотеричность символа уравновешивается его «демократичностью», поскольку каждый может найти свой, доступный ему уровень понимания символа, не впадая в профанацию.
3. Устойчивое тяготение символа к восхождению от данных «частей» к действительному и предполагаемому «целому». Символ в этом случае является местом встречи того, что само по себе несоединимо. (Cp. symbolon как название разломленной монеты, таблички и т. п. – знаков договора о дружбе и взаимопомощи, который верифицируется при совпадении разломов.)
Символ в философии. Уже у истоков философского мышления (досократики, Упанишады) мы находим искусство построения символа в тех случаях, когда понятие сталкивается с трансцендентным. Но как философская проблема символ осознается (если говорить о западной традиции) Платоном, который ставит вопрос о самой возможности адекватной формы абсолютного. (Ср. «Федон» (PhaecL, 99d-100b), где Сократ решается рассматривать «истину бытия» в отвлеченных понятиях, чтобы не «ослепнуть» от сияния истины.) Эйдосы, которые не суть ни абстракции, ни образы, в этом контексте можно понимать именно как символы. В то же время платоновский (и позднее – неоплатоновский) метод параллельного изложения истины как теории и как мифа в основном аллегоричен, а не символичен. Европейское Средневековье делает символ одним из общекультурных принципов, однако предметом рефлексии и культивирования в первую очередь становятся его эмблематические возможности, собственная же специфика символа выявляется лишь в творческой практике культурного взлета XIII – начала XIV в. Ситуация существенно не меняется вплоть до последней четверти XVIII в.: Возрождение, маньеризм, барокко, Просвещение богаты своими символическими художественными и религиозными мирами, но не видят при этом в символе ничего, кроме средства иносказания и «геральдической» репрезентации.
Новый поворот темы возникает в связи с кантовским учением о воображении. Описав два несовместимых измерения реальности – природу и свободу, Кант в «Критике способности суждения» обосновывает возможность их символического «как бы» соединения в искусстве и в целесообразности живого организма. (См., например, понятие символической гипотипозы в § 59 «Критики способности суждения». Ср. с темой трансцендентального схематизма в «Критике чистого разума».) Здесь символ впервые приобретает статус особого способа духовного освоения реальности. В это же время Гёте в связи со своими занятиями морфологией растений приходит к интуиции «прафеномена», т. е. своего рода объективного символа, рожденного органической природой. В немецком романтизме (Новалис,Ф. Шлегель, Шеллинг, Крейцер и др.) разворачивается целая философия символа, раскрывающая его специфику (см. вводные дефиниции) в связи с основными темами романтической эстетики (творчество, гений, ирония, взаимосоответствия и переклички миров в универсуме). Близкую романтизму версию дает Шопенгауэр, изображающий мир как символизацию бессодержательной воли в идеях и представлениях. Как вариант романтической темы символа можно рассматривать концепцию «косвенных сообщений» Керкегора.
Во второй половине XIX в. осмысление проблемы символа берет на себя философствующее искусство: в музыку и литературу приходит миф, истолкованный не как формальная оболочка смысла, а как смыслопорождающая стихия (наиболее показательно – у Р. Вагнера, практика и теоретика). С 1880-х годов символизм как художественное течение и теоретическое самообоснование, вбирая в себя и романтическое наследие, и идеи философии жизни, создает в полемике с позитивизмом новую философию символа, претендующую на тотальную мифологизацию не только творчества, но и жизни творящего субъекта. Русское ответвление символизма конца XIX – начала XX в. дает обильные философские плоды: в построениях В.С. Соловьева, А. Белого, Вяч. И. Иванова, П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева символизм получает систематическое многовариантное философское обоснование.
Течения западной мысли XX в. представляют несколько моделей понимания символа. Выросшая из неокантианства «Философия символических форм» Кассирера делает символ универсальным способом объяснения духовной реальности. «Глубинная психология» Юнга и его школы, наследуя открытый психоанализом феномен символа, укорененного в коллективном бессознательном, переходит от установки Фрейда на разоблачение символа к его легитимизации и сознательному включению символа и архетипов в процессы самовыражения и самопостроения души.
Философия языка вскрывает символический потенциал, позволяющий естественному языку играть роль миросозидающей силы. Если аналитическая традиция склонна при этом «обезвреживать» мифологию языка и его символов в пользу рациональности и смысловой прозрачности, то «фундаментальная онтология» Хайдеггера и герменевтика Гадамера пытаются освободить язык от сциентистской цензуры и позволить символу быть самодостаточным средством понимания мира. Показательно, впрочем, что Хайдеггер с его стремлением реставрировать в духе досократиков роль символа в философском мышлении и Витгенштейн с его пафосом «ясности» сходятся в признании необходимости символически означить «то, о чем нельзя сказать» при помощи «молчания» (Витгенштейн) или «вслушивания в бытие» (Хайдеггер).
Структурализм Леви-Стросса исследует механизмы функционирования символа в первобытном бессознательном (бриколаж), не избегая проекций на современную культуру. Новейшая философия Запада сохраняет проблематику символа в превращенных формах в той мере, в какой остается актуальной задача размежевания и аксиологической оценки различных типов знаковой активности человека и культуры.
Символ в религии. Символ играет исключительную роль в религиозной духовности, поскольку позволяет находить оптимальное равновесие образной явленности и взыскуемой трансцендентности. Символикой насыщена ритуальная жизнь архаических религий. С рождением теистических религий возникает коллизия принципиальной невидимости единого Бога и видимых форм его проявления: возникает опасность того, что символ может обернуться языческим идолом. Поэтому для теизма предпочтительней символ-знак с его отвлеченностью и дистанцированностью от натуралистических образов и психологических переживаний, чем символ-образ, провоцирующий кумиротворчество. Спектр решений этой проблемы простирался от запретов чувственной (особенно антропоморфной) образности в иудаизме и исламе до относительно строгой цензуры символической образности в протестантизме и интенсивной символической образности католицизма и православия. Показательно в этом отношении иконоборческое движение в Византии VIII–IX вв., высветившее религиозные и культурные антиномии символа.
Средневековая христианская культура делает символ основой понимания и описания тварного мира. Догматической опорой этого явилось Боговоплощение, сделавшее не только допустимым, но и обязательным признание возможности полноценного присутствия «небесного» в «земном», абсолютного в относительном. Понятие символа является ключевым не только для понимания поэтики пластического и словесного искусства Средневековья, но и для характеристики средневековой экзегетики и герменевтики – в той мере, в какой их методы восходят к Александрийской богословской школе (Климент, Ориген), Филону Александрийскому и отчасти к традиции неоплатонического аллегоризма. Этот стиль экзегезы стремился представить Священное Писание и вслед за тем весь тварный мир как стройную систему взаимосвязанных иносказаний и провозвестий, причем бесконечность связей этой системы фактически превращала аллегорию в символ.
Христианство Нового времени менее чувствительно к различию символа и аллегории, однако теология XX в. вновь заострила эту проблему: здесь мы находим и попытки очистить религиозное сознание от символизма (см. программу демифологизации у Бультмана), и стремление восстановить плодотворные возможности христианского символизма (например, тема аналогии сущего в неотомизме). Следует также отметить существенные успехи в изучении функционирования символа в религиях древних обществ, достигнутые в XX в. структурализмом и культурной семиотикой.
Символ в культуре. Символ как элемент и инструмент культуры становится специальным предметом внимания и научного исследования в связи с формированием новой гуманитарной дисциплины – культурологии. В одних случаях культура в целом трактуется как символическая реальность (вплоть до их отождествления, как в «Философии символических форм» Кассирера), в других – вырабатывается методология «расшифровки» того смысла, который бессознательно (или, во всяком случае, нецеленаправленно) был придан объекту культуры. Наконец, символ изучается как сознательно творимое сообщение культуры, и в этом случае интерес представляет как поэтика его создания, так и механизмы его восприятия.
Если выделить три типа передачи сообщения в культуре – прямое (однозначная связь смысла и знаковой формы), косвенное (полисемантичная форма имеет фиксированный смысл, но предполагает свободную интерпретацию) и символическое (полисемантичная форма имеет смысл только как заданность предела интерпретации), то последнее будет наиболее специфичным для культуры как мира творческих объективаций, поскольку частные целеполагания всегда остаются для культуры в целом лишь встроенными в нее элементами. В этом смысле даже однозначный авторский замысел в культурном контексте становится символом с бесконечной перспективой интерпретации.
Наиболее проблематичным является понимание символов культуры, лишенных прямой эмблематичности: такими могут быть художественный образ, миф, религиозное или политическое деяние, ритуал, обычай и т. п. Среди подходов, задающих алгоритмы понимания культурного символа, выделяются как наиболее влиятельные морфология Шпенглера с ее вычленением биоморфных первосимволов творчества; марксистская и неомарксистская социология, разоблачающая культурную символику как превращенную форму классовых интересов; структурализм и семиотика (особенно Московско-Тартуская школа), стремящиеся найти и описать устойчивые закономерности порождения смысла знаками и знаковыми системами. Далее, это психоанализ, сводящий символотворчество культуры к защитной трансформации разрушительной энергии подсознательного; иконология (Варбург, Панофский), расширившая искусствоведение до общей дисциплины о построении и передаче культурного образа; герменевтика, онтологизирующая символ, перенося при этом ударение не столько на него, сколько на бесконечный, но законосообразный процесс его интерпретации. Наконец, близкие герменевтике, но полемизирующие с ней диалогизм (Бахтин, Бубер, Розеншток-Хюсси) и трансцендентальный прагматизм (Апель), делающие акцент на непрозрачности и нередуцируемости культурного символа, обретающего смысл в межличностной коммуникации. Часто ключевым решением проблемы оказывается вычленение и изучение своего рода элементарной частицы культурной символики (например, «прафеномены» Шпенглера, «архетипы» Юнга, «патос-формулы» Варбурга), которая позволяет объяснять мир культуры методами, аналогичными анализу и синтезу (т. е. традиционными методами европейского рационалистического знания).
Цель – идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта; финальный результат, на который преднамеренно направлен процесс.
Как философская проблема понятие «цель» возникает в греческой философии по крайней мере с эпохи Сократа. Досократовская философия практически не оперирует этим понятием, подчеркнуто противопоставляя мифологическим построениям свой метод объяснения бытия через понятие причины (aitia), принимая лишь мифологему безличной судьбы. Слово «цель» (telos) чаще всего в философских текстах означает «конец», «завершение». Принципиальная, не требующая дальнейших разъяснений первичность космических причин и вторичность внутрикосмических целеполаганий и мотивов (которые могли приписываться и живым субъектам, и физическим стихиям) составляют одну из самых характерных черт досократовской картины мира. В период появления софистов – оппонентов досократовской «физики» – возникает критическое отношение к безличному детерминизму. Видимо, Сократ уже делает классификацию целей людей и богов одной из своих тем (хотя Платон и Аристотель указывают на Анаксагора как автора принципа целесообразности). Во всяком случае, Платон вкладывает в уста Сократа рассуждение о различии «причинного» и «целевого подходов» (Phaed., 96а-100а), в котором «бессмыслицей» называется физический детерминизм и утверждается, что «в действительности все связуется и удерживается благом и должным».
Начиная с Платона в античной философии происходит борьба традиционного детерминизма «фисиологов» и телеологии, основы которой заложены в платоновских диалогах. Сама теория идей базируется в значительной степени на открытой и описанной Платоном способности идеальной структуры быть целью и смыслом для вещественного мира становления. Кроме «Федона», важен в этом отношении «Тимей» с его учением о Демиурге, творящем мир исходя из принципа блага (см. прежде всего 68е – о «вспомогательных», «необходимых» физических причинах и «божественных», целевых, направляющих вещи к благу), и кн. VI–VII «Государства», где дается онтологическое обоснование идеи блага как высшей цели всего сущего.
Аристотель выдвигает учение о четырех причинах сущего (Phys., II, 194b– 195а; Met., 1013а-1014а), в котором рядом с материальной, формальной и движущей находится целевая причина (telos, в схоластике – causa finalis). Без целевой причины, по Аристотелю, невозможно объяснение способа существования живых организмов. Этический аспект выбора цели разносторонне рассмотрен Аристотелем в «Никомаховой этике» (например, 1112а). Развивая свое учение о цели, Аристотель строит понятие, означенное неологизмом «энтелехия» (entelecheia): имеется в виду актуализация, воплощение внутренней цели того или иного существа (Met., 1047а30). Например, душа есть энтелехия тела (De ап., 412а27). Допускает Аристотель и возможность иерархии энтелехий (Ibid.). Характерны выраженное в «Метафизике» учение Аристотеля о божественном разуме как конечной цели бытия и связанная с этим оценка философии как самоцельной и потому наиболее достойной свободного разума формы знания.
В эллинистической философии происходит плавная модификация понятия цели, заключающаяся отчасти в попятном движении от платонизма к сократовским школам, отчасти – в перенесении этического целеполагания из социально-космической в морально-психологическую сферу. Например, идеал «атараксии» (абсолютной невозмутимости) – это цель для индивидуума, но со стороны полиса или космоса идеал «не виден», поскольку «совершенный» внешне индивидуум включен в чужое для него целеполагание объективного мира. Более контрастным в философии эллинизма становится и противопоставление понятию цели онтологически бесцельной реальности: понятие «уклон» (clinamen) у Эпикура и Лукреция объясняет механизм космогенеза, изощренно избегая как досократовской «причины», так и платоно-аристотелевской «цели».
Вместе со становлением духовной культуры христианства в философию приходит третий тип отношения к цели: в спор детерминизма и телеологии вступает волюнтаризм как учение о способности к свободному самоопределению воли. Свободная воля не исключает цели, но не принимает ее объективную данность, не прошедшую через акт волевого выбора. Сложная диалектика закона, благодати и свободы во многом была обусловлена новым представлением о спасении как цели. Христианину нельзя получить спасение как случайный подарок эллинистической Тюхе (удачи), или как заработанную оплату добродетели, или как результат высшего знания: оно мыслится непостижимым единством незаслуженного дара и волевых усилий, порожденных верой. Потому спасение как сверхцель христианской культуры отличается и от разумной причинности, и от целеполагания, которое строит свою цель как идеальный объект и, следовательно, содержательно знает, к чему оно стремится («причинность наоборот»).
Таким образом, в христианстве между целью и субъектом возникает зазор, который должен был бы заполняться идеальным содержанием цели и средствами ее достижения. Но предметного знания о спасении и гарантированных средств достижения цели в пространстве христианской веры быть не может (если не принимать во внимание фольклорных версий). Поэтому христианская философия ищет новые трактовки целеполагания. Возникает представление о цели как о недостижимом идеале, развернутое позже в куртуазной культуре. Возникает и проблема соотношения цели и средств, которая обычно решается в пользу совершенства средств, выступающих в качестве доступного представителя недоступной цели (хотя существовала и версия «Цель оправдывает средства», приписываемая обычно иезуитам). Особый аспект проблемы находит Августин, утверждающий, что грех состоит в желании пользоваться (uti) тем, что предназначено для наслаждения, и наслаждаться (frui) тем, что предназначено для пользования (De doctr. ehr., I, 4). Тем самым радикальная испорченность человеческой природы толкуется как извращение цели.
Эпоха систем, наступившая для христианской философии в XII–XIII вв., востребовала категорию цели (прежде всего в аристотелевской версии causa finalis) для построения иерархической картины мироздания, в которой каждая сущность получала обоснование и импульс развития от онтологически высшего уровня бытия, являвшегося для нее целью. Показательно в этом отношении пятое, «финалистское» доказательство бытия Бога в доктрине Фомы Аквинского: избирательное поведение всех вещей, стремящихся к какому-то результату, к цели (даже неразумных вещей, которые не могут ставить себе цель), говорит о том, что должен быть высший источник целеполагания – Бог.
Философия Нового времени строит свое мировоззрение на основе принципа причинности, который на время вытесняет «цель» на периферию. Спиноза – один из самых радикальных детерминистов – считает даже, что понятие «цель» есть «убежище невежества». Однако уже ко времени Лейбница становится очевидной (не без влияния успехов биологии) необходимость восполнить принцип детерминизма телеологией. Лейбниц делает целевой принцип одной из основ своей монадологии. Монада как одушевленное тело содержит в себе и цель (душу), и средство (тело) ее осуществления, чем отличается от неживой материи. Но поскольку монады суть субстанции, то телеологический принцип оказывается фундаментальным законом мироздания. Это Лейбниц фиксирует и в основном законе своей онтологии: существование для сущности – не только возможность, но и цель стремления.
Целевой принцип обосновывает у Лейбница и необходимость развития. Душа как цель дана телу в двух аспектах: в качестве конечного осуществления (энтелехия) и в качестве способности к телесной деятельности (потенция). Раскрытие потенции в энтелехии есть индивидуум. Любой момент существования монады – это форма присутствия цели в процессе становления индивидуума. Как таковой этот момент должен одновременно быть объяснен и с точки зрения «действующих причин», и с точки зрения «целевых». Но все же отношения причины и цели, по Лейбницу, несимметричны: причины выводимы из цели, но не наоборот. В полемике с Бейлем Лейбниц утверждает, что в физике надо скорее выводить все из целевых причин, чем исключать их. При помощи целевого принципа Лейбниц также вырабатывает свое учение об «оптимальности» действительного мира, в котором цель всегда реализуется максимально полным для данного момента образом.
Эта концепция, с одной стороны, вызвала острую критику детерминистов и моралистов (см., например, «Кандид» Вольтера), с другой – получила вульгарную трактовку у X. Вольфа и его последователей, подменивших понятие целесообразности понятием полезности. Вольф в 1728 г. впервые вводит термин «телеология» («Philosophia Rationalis sive Logica»). Обоснованное Лейбницем совпадение морального и природного в цели стало важным ориентиром для философии немецкого Просвещения и предпосылкой телеологии Канта.
Наиболее радикальным пересмотром понятия «цель» со времен Аристотеля стала кантовская телеология. Кант открывает наряду с миром природы, где царствует принцип причинности, и миром свободы с его моральным полаганием конечной цели особый третий мир, в котором природа «как бы» осуществляет цели свободы, а свобода «как бы» делает природными феноменами свое целеполагание. Это – мир целесообразности, который явлен в искусстве и системе живых организмов. В «Критике способности суждения» Кант показывает, что недостаточно задавать «единство многообразного» только с точки зрения понятий рассудка (наука) и императива воли (мораль). Мышление имеет право (и даже обязано) в некоторых случаях рассматривать совокупность явлений как осуществление целей, при том что сама цель остается «вещью в себе».
Кант различает «эстетическую целесообразность», которая позволяет нашему суждению привнести в объект при помощи игры познавательных способностей форму целесообразности, не познавая при этом действительную цель, и «формальную целесообразность», позволяющую посмотреть на живую природу как целостность жизненных форм. В обоих случаях цель не рассматривается как объективная сила, извне или изнутри формирующая предмет. (Кант критикует Лейбница за антропоморфизм его телеологии.) Цель понимается в этом контексте как предпосылка и требование нашего познания, рассматривающего целостность феноменов не как результат взаимоопределения их частей, а как изначальное единство, порождающее части из целого. В такой позиции нет антропоморфного понимания цели, поскольку речь идет о внутренней целесообразности, не соотносимой с какой-либо внешней данностью цели. В самом явлении цель играет роль символического подобия. Принцип цели, таким образом, имеет не конститутивное значение, как принцип причинности, а лишь регулятивное. Целесообразность, по Канту, – это априорное понятие, которое коренится только в «рефлексирующей способности суждения» и выполняет функцию эвристического принципа. Но в то же время целесообразность не сводится только к субъективной точке зрения: принцип цели общезначим, поскольку реализует законное для рассудка требование безусловного. Без применения этого принципа невозможно усмотреть специфику живых организмов и их внутренние динамические связи; кроме того, для морального сознания, руководствующегося «чистым» принципом цели, важно, что в эмпирическом мире целесообразность по крайней мере возможна, и потому разрыв между миром природы и миром свободы не является абсолютным.
В послекантовской трансцендентальной философии – у Фихте, Шеллинга и Гегеля – принципиальная граница между конститутивным и регулятивным стирается, и потому цель становится одной из основных сил, движущих процесс становления самой реальности, а не только лишь «установкой» теоретической рефлексии или моральной воли, как у Канта. Особенно показательно учение Гегеля, в котором «цель», возникая впервые в Логике как «для-себя-бытие», проходит через весь процесс самопорожде-ния Духа в качестве конкретного присутствия всеобщего в конечных предметах. Как особая тема цель рассматривается в учении Логики о Понятии, где телеология является синтезом механизма и химизма, завершающим становление «объективного Понятия». Заслуживает внимания учение Гегеля о «хитрости мирового Разума», в котором впервые рассматривается системное и закономерное несовпадение целеполаганий исторических субъектов и объективной цели Разума, пользующегося субъективными целями как своим средством.
В философии XIX–XX вв. проблематика цели несколько упрощается и сводится к докантовским моделям XVII в.: к детерминизму, витализму или неолейбницианской телеологии. Цель может пониматься как биоморфная версия энтелехии, являющейся внутренней программой организма (Шопенгауэр, Бергсон, Дриш, Икскюль, Н. Лосский); как внутренняя символическая форма культуры (Дильтей, Шпенглер, Зиммель, Кассирер, Флоренский, А. Белый); как иерархически выстроенные системы обратных связей организма и среды (холизм, гештальтпсихология, органицизм, кибернетика, общая теория систем).
В то же время в истолковании цели появляются новые мотивы. Неокантианство пытается заменить телеологию аксиологией, в которой цель получает статус «значимости», а не сущности. Возникает версия онтологически бесцельной реальности (Шопенгауэр, Ницше, экзистенциализм, постструктурализм), причем «бесцельность» может иметь самую разную эмоционально-аксиологическую окраску: от пессимизма Шопенгауэра до эвфории Ницше. Тейяр де Шарден своим понятием «точка Омега» (Христос) вводит особый тип цели, который представляет не пассивную финальность результата эволюции, а активную причастность самой цели ко всем этапам процесса. Гуссерль в своем проекте новой телеологии отчасти восстанавливает кантовское понимание цели как особого «априори» в структурах «жизненного мира». Методологи естественно-научного знания ищут подходы, альтернативные целевым (см. понятия пробабилизма, контингентное™). В синергетике (Хакен, Пригожин) предпринята наиболее радикальная попытка заменить классическое понятие цели закономерностями самоорганизации «нелинейных систем». В современной физике проблемы целесообразности затрагивают дискуссии вокруг так называемого антропного принципа.
Дух (греч. noys, pneyma; лат. Spiritus, mens; нем. Geist; фр. esprit; англ. mind, spirit) – 1) высшая способность человека, позволяющая ему стать источником смыслополагания, личностного самоопределения, осмысленного преображения действительности; открывающая возможность дополнить природную основу индивидуального и общественного бытия миром моральных, культурных и религиозных ценностей; играющая роль руководящего и сосредоточивающего принципа для других способностей души; 2) идеальная, правящая миром сила, к которой человек может быть активно или пассивно причастен.
В отличие от понятий, обозначающих другие ментальные способности (интеллект, воля, сознание, душа и т. п.), понятие «дух» объединяет когнитивные и эмоционально-аффективные способности на основе доминирующего над ними личностного центра, стремящегося к независимому смысло– и целеполаганию. Поэтому в идейных коллизиях истории культуры «дух» нередко оказывается элементом бинарной оппозиции, противопоставленным какому-либо типу стихийности или безличной причинности: природе, жизни, материи, утилитарной практике… Концептуальное и понятийное оформление дух получает в античной философии. У досократиков возникает учение о правящей миром, строящей из хаоса космос объективной силе, которая пронизывает собой мир и даже отождествляется с одной из вещественных стихий, но в то же время не растворяется в пассивной материальности. Чаще всего человек мыслился как носитель этой силы, которую он мог в себе сознательно культивировать. Обычно эта сила обозначалась как одноименная какой-либо из высших человеческих способностей (душа, мышление, сознание, речь, счет и т. п.). Со временем доминировать стали понятия «нус» и «пневма».
Понятие «нус», которое в ряду ментальных терминов означало «ум», «образ мыслей», «умственное созерцание» и этим отличалось от терминов с перевесом психологического (псюхе, тюмос, френ), экзистенциального (София, гносис) и дискурсивного (логос, дианойя, диалектике) значения, у Анаксагора стало означать мировой разум, цель космической динамики и организующе-различающую силу. (Ср. аналогичное, но не закрепившееся в традиции понятие Эмпедокла «священное сознание» (phrēn hierē – В 134, 4 DK.)) В философии Платона, Аристотеля и неоплатоников дух как мироправящая сила йотируется термином «нус» и помещается в многослойную онтологическую иерархию: нус объединяет собой идеальные формы-эйдосы, внедряется через них в стихию мировой души-психеи и образует через нее мировую материю в космический организм. У Платона и неоплатоников нус порожден высшим принципом – невыразимым и непостижимым «благом», к которому нус тяготеет. У Аристотеля нус – высший уровень бытия, бог, который мыслит сам себя и тем творит мир.
Термин «пневма» (как и латинский аналог «спиритус») первоначально означал «воздух» или «дыхание». Довольно рано он приобретает психологическое и космологическое значение (например, «бесконечной пневмой» дышит пифагорейский космос, в греческой медицине пневма есть вещественная жизненная сила – дыхание). Стоицизм понимает пневму как огненно-воздушную субстанцию, которая в виде эфира пронизывает мир, расслабляясь в материальных объектах и концентрируясь в «семенных логосах». Таким образом, пневма играет и роль мировой души как оживляющее начало, и роль духа как правящее начало. Неоплатонизм также использует понятие «пневма», описывая проникновения духа в низшие сферы бытия: дух и душа обволакиваются пневмой и через нее контактируют с материей (см.: Эннеады, 112, 2; III8; V2).
Генезис христианского понимания духа восходит к эллинистическому религиозному синкретизму. В Септуагинте словами «пневма теу» передается библейское понятие «руах элохим», Дух Божий (Быт. 1: 2), что открывает возможность многообразных сближений эллинского и библейского богословия. Филон Александрийский также именует пневмой и высшее начало в человеке, и исходящую от Бога мудрость. Евангельское учение о Святом Духе (to hagion рпеута) становится основой для понимания духа как одной из ипостасей Троицы. В Троице дух является источником божественной любви и животворящей силы. Бог есть дух (Ин. 4:24), но в то же время существует и злая духовность. Способность «различать духов» понималась как один из особых даров Святого Духа (1 Кор. 12:10).
Во многих случаях (особенно в посланиях апостола Павла) затруднительно отнесение слова «дух» к ипостаси Бога или к человеческой способности. Однако средневековые богословы видели в этом указание на то, что Дух Божий, овладевая человеком, не растворяет в себе его индивидуальность. Единосущность (homooysios) духа другим лицам Троицы стимулировала в средневековой философии онтологические и логические споры о понятии бытия. Очевидна резкая граница, отделяющая античное понимание духа как высшей внутрикосмической силы от патриотического и средневекового христианского понимания духа как сущности, запредельной тварному миру, но деятельно присутствующей в мире и преображающей его.
Философия Ренессанса теряет интерес к средневековой пневматологии и возвращается к эллинистическим интуициям духа, понимая его как разлитую во Вселенной жизненную силу. В рамках возрожденческого натуралистического пантеизма и оккультной натурфилософии находит себе место и учение античных медиков о Spiritus vitales, жизненном духе, локализованном в теле и сообщающем ему витальную энергию. В XVII–XVIII вв. происходит кристаллизация новых тем, связанных с проблемой духа: это темы духовной субстанции и структуры познавательных способностей. Дух как субстанция играет теперь и роль онтологической основы универсума (ср. «нус»), и роль основания связи субъективного разума и объективной действительности. Характерно категоричное размежевание духа и материи как замкнутых в себе, не имеющих точек соприкосновения субстанций и в то же время объединение в измерении духовной субстанции тех способностей, которые раньше находились на низших ступенях ментальной иерархии (ощущение, переживание, стремление, воля и т. п.). (Ср. в этом отношении понятия cogitare Декарта, mens Спинозы, Spiritus Лейбница, esprit Лейбница и Гельвеция, mind английских эмпириков.) Так, по Декарту, духовная субстанция (res cogitans) и материальная (res extensa) не имеют ничего общего, но внутри себя воспроизводят различие высшего и низшего, простого и сложного, которое старая метафизика обычно распределяла между духом и материей.
В рамках рационализма возникает проблема координации духа и материи, которая вынуждала апеллировать непосредственно к Богу – создателю «предустановленной гармонии», поскольку дух как субстанция оказывался своего рода безличной «духовной машиной». В традиции эмпиризма дух лишается субстанциальности и сводится к единичным состояниям души. «Дух есть нечто, способное мыслить», – говорит Локк, но построить на этом основании ясную идею субстанции духа, как и субстанции тела, невозможно, поскольку мы имеем дело лишь с предполагаемым субстратом «действий, которые мы испытываем внутри себя», каковы «мышление, знание, сомнение, сила движения и дух» («Опыт о человеческом разумении», II, 23, 4–6).
Беркли, однако, переворачивает этот аргумент, поскольку обнаруживает в самом факте восприятия асимметричность статуса самодостаточного духа и его содержания. Кроме «идей», говорит он (т. е. любых предметов восприятия), есть «познающее деятельное существо… то, что я называю умом, духом, душой или мной самим», это – «вещь, совершенно отличная от идей» («О принципах человеческого знания», I, 2). «Дух есть простое, нераздельное, деятельное существо; как воспринимающее идеи, оно именуется умом; как производящее их или иным способом действующее над ними – волей» (Ibid., I, 27). Поскольку все вещи Вселенной «либо вовсе не существуют, либо существуют в уме какого-либо вечного духа», то «нет иной субстанции, кроме духа» (Ibid., I, 6–7). В свою очередь Юм делает инверсию этого понятия духа, демонтируя принцип самотождественности «я». «Сущность духа (mind) также неизвестна нам, как и сущность внешних тел, и равным образом невозможно образовать какое-либо представление о силах и качествах духа иначе как с помощью тщательных и точных экспериментов…» («Трактат о человеческой природе…», введение).
Другую модель соотношения духа и мира дает монадология Лейбница: критикуя представления о «едином всеобщем духе», Лейбниц полагает, что неразумно допускать существование одного духа и одного страдательного начала, вещества; принцип совершенства требует допущения между ними бесконечно многих промежуточных ступеней, каковыми и являются индивидуальные души-монады, воспроизводящие всеобщий дух на свой неповторимый лад. Душа-монада, дорастая в своем развитии до самосознания, становится конечным духом и начинает воспроизводить в себе не столько вселенную, сколько Бога, который есть бесконечный дух.
Немецкая философия эпохи Просвещения, обозначая понятие «дух», начинает отдавать предпочтение германскому слову Geist, в основе которого – индоевропейский корень – ghei- со значением «движущая сила», «брожение», «кипение». Экхарт (XIII в.) переводит mens как Seele и anima как Geist. Лютер переводит словом Geist евангельское понятие «пневма». У Бёме Geist уже носит значение глубинной силы души, придающей ей форму и имеющей соответствие в макрокосме в виде Seelengeist, души в оболочке духа (Drei princ., 8). Просвещение начиная с вольфианцев интеллектуализирует Geist, понимая его как дух, выражающий себя в мыслях. Geist сближается с понятием Vernunft (разум), каковое предпочитает и Кант. Однако мистико-виталистические коннотации понятия Geist сохраняются в послекантовской спекулятивной философии, у Гёте, у романтиков.
Кант ограничивает сферу употребления понятия «дух» (Geist) областью эстетики, где дух определяется как «оживляющий принцип в душе» и «способность изображения эстетических идей» (§ 49 «Критики способности суждения»), и областью антропологии, где, в частности, различает духовные силы, осуществляемые разумом, и душевные силы, осуществляемые рассудком (см., например: «Метафизика нравов», II, § 19). Критически относится Кант и к просветительской рационализации духа, и к его оккультной мистификации (см. полемику со Сведенборгом в «Грезах духовидца…»). Но значение Канта в истории концепта духа будет понято, если учесть, что своим трансцендентальным методом он радикально изменил саму проблему, разделив традиционный для метафизики универсум сверхчувственного единства на три автономных царства – природы, свободы и целесообразности, которые уже не могли суммироваться отвлеченным понятием «дух».
В свете кантовских открытий Фихте, Гегель и Шеллинг дают новую трактовку духа. Если выделить ее смысловое ядро, сохранившееся на всех поворотах сложного пути немецкого трансцендентализма, то можно отметить следующие моменты. Все конечные феномены духа находят свой смысл в «Абсолютном духе». Абсолютный дух творит себя и свою предметность. Абсолютный дух – это не объект, а процесс сверхэмпирической истории, в ходе которого Дух порождает себя и в котором только он и существует. Абсолютный дух в своей истории отчуждается от себя (как от «Идеи») и, познавая отчужденный мир (как «Природу»), возвращается к себе (через историю человечества как «Абсолютный дух»). В результате абсолют приобретает конкретность и самосознание. Отвлеченные идеи и эмпирическая субъективность человека, таким образом, суть лишь моменты в «биографии» абсолюта: чтобы стать истинным духом, он должен наполниться живым содержанием и придать этому содержанию форму вечности (шедевром изображения этого процесса остается гегелевская «Феноменология духа»).
Философия XIX в. в целом (если не считать консервативный спиритуализм) оказалась оппозицией немецкому трансцендентализму. Понятие духа становится естественной мишенью для критики таких направлений, как позитивизм, марксизм, волюнтаризм. «Дух» остается релевантным понятием для мыслителей постромантического толка (Карлейль, Торо, Эмерсон) и для некоторых представителей «философии жизни», но в последнем случае он обычно понимается как более или менее удачный псевдоним «жизни» или, напротив, как опасный недуг, тормозящий самоутверждение витальности (линия от Ницше в XIX в. до Шпрангера и Клагеса в XX в.).
В XX в. философия отнеслась к понятию «дух» более лояльно. Оппоненты в некоторых случаях переоткрыли его в рамках своих учений (например, версия Кассирера в неокантианстве, Юнга в психоанализе, Бергсона в витализме, Шелера в феноменологии, Сантаяны и Уайтхеда в неореализме). Философия культуры (особенно немецкая ветвь), строя цивилизационные модели, обнаружила его функциональность. Такие направления, как неотомизм, русская религиозная философия или итальянский неоспиритуализм (Кроче, Джентиле), нашли возможность реанимировать классические представления о духе в свете «неклассического» опыта современности. Персонализм, философия диалога, экзистенциализм в лице некоторых своих представителей (соответственно Мунье, Бубер, Ясперс) активно используют не только лексику традиционных учений о духе, но и их концептуальные схемы.
Хронология значимых публикаций
Год Публикация
1620 Ф Бэкон Новый Органон
1688−697 Перро Параллели…
1688 Лабрюйер Характеры
1690 Локк Два трактата о человеческом правлении
1695−697 Бейль. Исторический и критический словарь
1699 Фенелон Приключения Телемака
1703 Муратори. Первый проект Литературной республики
1704 Свифт Битва книг
1705 Мандевиль. Возроптавший улей
1780 Лессинг. Воспитание человеческого рода
1784−791 Гердер Идеи к философии истории человечества
1785 Якоби Письма об учении Спинозы
1788 Кант Критика практического разума
1789 Бентам Принципы морали и законодательства
1790 Гёте Метаморфоза растений
1790 Бёрк Размышления о революции во Франции
1790 Кант Критика способности суждения
1792 Вольстонкрафт Оправдание прав женщин
1793−797 Гердер. Письма в поощрение гуманности
1793 Шиллер О грации и достоинстве
1794 Фихте Наукоучение
1795 Кондорсе Эскиз…
1795 Шиллер Письма об эстетическом воспитании человека
1795−796 Шиллер О наивной и сентиментальной поэзии
1796 Гёте. Годы учения Вильгельма Мейстера
1799 Гёльдерлин Гиперион
1799 Шлейермахер. Речи о религии
1800 Шеллинг Система трансцендентального идеализма
1804 Анкетиль-Дюперон. Упнекхат (Упанишады)
1807 Гегель. Феноменология духа
1808 Гёте. Фауст. Ч. 1
1808 Ф. Шлегель. О поэзии и мудрости индийцев
1810 Геррес. История мифов азиатского мира
1812 Гегель. Наука логики. Т. 1
1813 Сталь О Германии
1815 Зольгер. Эрвин
1815 Баадер О связи религии с политикой
1815 Ф Шлегель. История старой и новой литературы
1816 Гегель. Наука логики. Т. 2
1816−829 Гёте. Путешествие в Италию
1817 Гегель. Энциклопедия философских наук
1819 Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Т. 1
1819 Гёте Западно-восточный диван
1821 Гегель. Философия права
1821 Гёте Годы странствий Вильгельма Мейстера. Ч. 1
1825 Сен Симон. Новое христианство
1830–842 Конт. Курс позитивной философии
1832 Гёте Фауст. Ч. 2
1833−834 Карлайл. Сартор Резартус
1835 Токвиль. Демократия в Америке
1835 Д Штраус. Жизнь Иисуса
1835 Ленрот. Издание эпоса «Калевала»
1835 Братья Гримм Германская мифология
1841 Фейербах. Сущность христианства
1841 Бальзак. Предисловие к «Человеческой комедии»
1843 ДеКюстин. Россия в 1839
1843 Керкегор. Или – или
1843 Раскин. Современные художники
1844 Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Т. 2 (вместе с переработанным т. 1)
1849 Вагнер. Искусство и революция
1849–861 Маколей. История Англии…
1849–874 Мюллер. Издание и комментарий «Ригведы»
1850 Вагнер Художественное произведение будущего
1850 Эмерсон. Представители человечества
1851 Лацарус. О понятии и возможности психологии народов как науки
1852 Конт. Катехизис позитивизма
1853−855 Гобино. О неравенстве человеческих рас
1853 Розенкранц. Эстетика безобразного
1854 Торо. Уолден, или Жизнь в лесу
1854 Братья Гримм. Словарь немецкого языка. Т. 1
1854 Ганслик О музыкально-прекрасном
1854–856 Моммзен. Римская история (т 5 —1885)
1854–868 Виолле-ле-Дюк. Толковый словарь французской архитектуры XI–V веков
1855 Мишле Возрождение (т 7 «Истории Франции)
1856 Токвиль. Старый порядок и революция
1857–861 Бокль История цивилизации в Англии
1857 Раскин. Политическая экономия искусства
1857 Шанфлёри Реализм
1859–875 Братья Гонкур Искусство 18 века
1860 Буркхардт Культура Италии в эпоху Возрождения
1861 Бахофен Материнское право
1861−863 Земпер. Стиль в технических и тектонических искусствах, или Практическая эстетика
1863 Ренан. Жизнь Иисуса
1863 Тэн. История английской литературы. Т. 1
1863 ВиоллелеДюк. Беседы об архитектуре
1864 Дж. Г. Ньюмен. Апология моей жизни
1865 Либман Кант и эпигоны
1865 Стирлинг. Тайна Гегеля
1865 Тайлор. Исследования…
1865 Тэн. Философия искусства
1867 Дильтей. Жизнь Шлейермахера. Ч. 1
1869 Данилевский. Россия и Европа
1869 Э. Гартман. Философия бессознательного
1870 Дильтей. Жизнь Шлейермахера. Ч. 2
1870−874 Ричль. Христианское учение…
1870 Раскин. Лекции по искусству
1871 Тайлор. Первобытная культура
1872 Фромантен. Старые мастера
1872 Достоевский. Бесы
1872 Ницше. Рождение трагедии из духа музыки
1873 Пейтер. Очерки по истории Ренессанса
1873 Ницше. Несвоевременные размышления
1873 К Леонтьев Византизм и славянство
1874 Соловьев. Кризис западной философии
1876−893 Тэн. Происхождение современной Франции
1876 Фидлер Об оценке произведений изобразительного искусства
1876−896 Спенсер. Основания социологии
1876 Фехнер. Введение в эстетику
1876 Пирс. Как сделать наши идеи ясными
1877 Пирс. Закрепление верования
1877 Коген. Кантовское обоснование этики
1877 Капп. Основные черты философии техники
1877−881 Соловьев. Чтения о богочеловечестве
1877 Брандес. Сёрен Керкегор
1877 Морган. Древнее общество
1877 Моррис. Декоративно-прикладное искусство
1878 Ницше. Человеческое, слишком человеческое
1879 Энциклика Льва ХIII «Aeterni patris»
1879 Чичерин. Наука и религия
1880 Соловьев. Критика отвлеченных начал
1880 Чичерин. Мистицизм в науке
1881 Тайлор. Антропология
1881 Фидлер. Современный натурализм и художественная правда
1882−891 Ратцель. Антропогеография
1882 Михайловский. Герои и толпа
1883 Брандес. Люди современного прорыва
1883 Дильтей. Введение в науки о духе. Т. 1
1883−884 Ницше. Так говорил Заратустра
1884 Виндельбанд. Прелюдии
1885 Дильтей. Биографическо-литературный очерк всеобщей истории философии
1887 Фидлер. О происхождении художественной деятельности
1887 Тённис. Общность и общество
1887 Соловьев. История и будущность теократии
1888 Эйкен. Единство духовной жизни в сознании и делах человечества
1889 Брандес Аристократический радикализм
1889 Коген. Кантовское обоснование эстетики
1889 Гюйо. Искусство с точки зрения социологии
1889 Соловьев. Россия и вселенская Церковь
1889 Гарнак История догматов (с1886)
1890 Фрэзер. Золотая ветвь
1892 Зиммель. Проблемы философии истории
1893 Гильдебранд. Проблема формы в изобразительном искусстве
1893 Ригль. Вопросы стиля
1894 Лебон. Психологические законы эволюции народов
1895 Лебон. Психология народов и масс
1895 Дюркгейм. Правила социологического метода
1895 Валери. Введение в систему Леонардо да Винчи
1896 Эйкен. Борьба вокруг духовного содержания жизни
1896 Метерлинк. Сокровище смиренных
1896 Валери. Вечер с господином Тэстом
1897 Ратцель. Политическая география
1897 Дюркгейм. Самоубийство
1897−898 Толстой Что такое искусство?
1897 Джеймс. Воля к вере
1897 Соловьев. Оправдание добра
1898−902 Буркхардт. История греческой культуры (посм)
1898 Зиммель. Проблемы философии истории
1898 Метерлинк. Мудрость и судьба
1898 Джеймс. Философское понятие и практические результаты
1899 Веблен. Теория праздного класса
1899 Дьюи. Школа и общество
1899 Чемберлен Основы XIX столетия
1899 Риккерт. Науки о природе и науки о культуре
1900 Зиммель. Философия денег
1900 Родо Ариэль
1900−920 Вундт Психология народов
1900 Гарнак Сущность христианства
1900 Дильтей. Возникновение герменевтики
1902 Зомбарт. Современный капитализм
1902 Кроче Эстетика
1902 Джеймс Многообразие религиозного опыта
1902 Трёльч. Абсолютность христианства и история религии
1904−905 М Вебер Протестантская этика и дух капитализма
1905 Дильтей. История молодого Гегеля; Переживание и поэзия
1906 Трёльч. Значение протестантизма…
1906 Дессауэр. Эстетика и всеобщая наука об искусстве
1906 Дильтей Поэзия и переживание
1906 Сорель. Размышления о насилии
1906 Кроче Что живо и что мертво в философии Гегеля
1907 Джеймс. Прагматизм
1907 Бергсон. Творческая эволюция
1907 Судзуки Махаяна-буддизм
1908 Воррингер. Абстракция и вчувствование
1908 Кроче Философия практики
1908 Лессинг Исследования по аксиоматике ценностей
1908 Дюэм. Опыт о понятии физической теории от Платона до Галилея
1909 Оствальд. Энергетические основы наук о культуре
1909 ВанГеннеп. Обряды перехода
1910 Зиммель Главные проблемы философии
1910 Дильтей Построение исторического мира в науках о духе
1910 ЛевиБрюль Ментальные функции в неразвитых обществах
1911 Дильтей. Типы мировоззрений
1911 Виндельбанд. Культурфилософия и трансцендентальный идеализм
1911 Гуссерль Философия как строгая наука
1911 Гёте. Театральное призвание Вильгельма Мейстера (публикация)
1912 Дюркгейм. Элементарные формы религиозной жизни
1912 Воррингер. Формообразующая проблема готики
1912 Трёльч. Социальное учение христианских церквей и групп
1912 Юнг Психология бессознательного
1913 Масарик Россия и Европа
1913 Зомбарт Буржуа
1913 Фрейд Тотем и табу
1914 Флоренский Столп и утверждение истины
1914 Ортега-и-Гассет. Размышления о «Дон Кихоте»
1914 Белый Петербург
1915 Ф деСоссюр Курс общей лингвистики
1916 Юнг Структура бессознательного
1916 Зиммель. Проблема исторического времени
1916 Джентиле. Всеобщая теория духа как чистого акта
1916−919 М Вебер Хозяйственная этика мировых религий
1917 Кроче. Теория и история историографии
1917 Отто Священное
1918 Зиммель. О сущности исторического понимания
1918 Шпенглер. Закат Европы. Т. 1
1919 Бицилли. Элементы средневековой культуры
1919 Хёйзинга. Осень Средневековья
1919 Воррингер. Критические мысли по поводу нового искусства
1919 К Барт Послание к римлянам
1919 Т Лессинг История как осмысление бессмыслицы; Европа и Азия
1919 М Вебер Политика как призвание и профессия
1919 Ясперс. Психология мировоззрений
1919 Кайзерлинг. Путевой дневник философа
1919 Вяч Иванов Человек
1920 Сорокин. Система социологии
1920 Гогартен Кризис нашей культуры
1920 Ротхакер. Введение в науки о духе
1920 Шпенглер. Пруссачество и социализм
1920 М Вебер Наука как призвание и профессия
1921 Сепир. Язык
1921 Морган. Доисторическое человечество
1921 Валери. Евпалинос, или Архитектор
1921 Юнг. Психологические типы
1921 Розенцвейг. Звезда Мессии
1921 Тиллих Идеи к теологии культуры
1921 Флоренский. Иконостас
1921 Т Лессинг Проклятая культура
1921 М Вебер Хозяйство и общество
1921 Шпрангер. Жизненные формы
1921 Шелер. О вечном в человеке
1922 Шпрангер. Жизненные формы. Психология как наука о духе
1922 Шмитт. Политическая теология
1922 Кайзерлинг. Творческое познание
1922 Шпенглер. Закат Европы. Т. 2
1922 ЛевиБрюль. Первобытное мышление
1922 Трёльч. Историзм и его проблемы
1922 Бубер. Я и Ты
1922 Маритен. Антимодерн
1923 М Вебер История хозяйства
1923 Т Манн Гёте и Толстой
1923 Жид. Достоевский
1923 Пиаже. Речь и мышление ребенка
1923 Вертгеймер. Исследования, относящиеся к учению о гештальте
1923 Фрейд. Я и Оно
1923−929 Кассирер. Философия символических форм
1923 Фрайер. Прометей. Идеи к философии культуры
1923 Швейцер. Философия культуры
1923 Сорокин. Социология революции (курс лекций)
1923 Дильтей. Переписка Дильтея и графа Йорка фон Вартенбурга
1924 Ранк. Родовая травма
1924 Пиаже. Суждение и умозаключение у ребенка; Язык и мышление ребенка
1924 Гундольф. Цезарь. История его славы
1924 Риккерт. Кант как философ современной культуры
1924 Трёльч. Историзм и его преодоление
1924 Коллингвуд. Зеркало духа, или Карта знания
1924 Бердяев. Новое средневековье
1924 А Вебер Германия и кризис европейской культуры
1924 Т Манн Волшебная гора
1925 Вертхаймер О гештальтпсихологии
1925 Йегер. Античная культура и гуманизм
1925 Литт. Мысли о культуроведческом принципе обучения
1925 Мосс Эссе о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах
1925 Фосслер. Дух и культура в языке
1925 Сорокин. Социология революции
1925 ОртегаиГассет. Дегуманизация искусства
1925 Маритен. Три реформатора
1926 Малиновский. Миф о первобытной психологии
1926 Тённис. Прогресс и социальное развитие
1926 Пиаже. Представление о мире у ребенка
1926 Федотов. Трагедия интеллигенции
1926 Кайзерлинг Люди как смыслообразы
1926 Шелер. Формы знания и общество
1926 Ротхакер. Логика и систематика гуманитарных наук
1926 Отто. Западная и восточная мистика
1927 Бенда. Предательство клерков
1927 Гофмансталь. Письменность как духовное пространство нации
1927 Тейярде Шарден. Божественная среда
1927 Шпет. Внутренняя форма слова; Введение в этническую психологию
1927 Фрейд. Будущее одной иллюзии
1927 Ранк. Травма рождения
1928 Беньямин. Происхождение немецкой трагедической игры
1928 Шелер. Место человека в космосе
1928 Дриш. Человек и мир
1928 Плеснер. Ступени органического и человек
1928 Кронер. Самоосуществление духа. Пролегомены к философии культуры
1928 Фрейд. Достоевский и самоубийство
1929 Боас. Антропология и современная жизнь
1929 П Богатырев Р Якобсон. Фольклор как особая форма творчества
1929 Бахтин. Проблемы творчества Достоевского
1929 Бруннер. Теология кризиса
1929 Мангейм Идеология и утопия
1929 Клагес Дух как противник души
1929 Карсавин. О личности
1930 Ортега-и-Гассет. Восстание масс
1930 Кайзерлинг. Америка. Восход нового мира
1930 Лосев. Диалектика мифа; Очерки античного символизма и мифологии
1930 Франк Духовные основы общества
1930 Бультман Историчность человека и веры
1931 Леви-Брюль. Сверхъестественное в первобытном мышлении
1931 Гуссерль. Картезианские размышления (нафранц)
1931 Шпенглер. Человек и техника
1931 Кронер. Культурфилософский базис политики
1931 Плеснер. Власть и человеческая природа
1931 Джентиле Философия искусства
1931 Федотов. Святые Древней Руси
1932 Шюц. Смысловое строение социального мира
1932 Бергсон. Два источника морали и религии
1932 Э Юнгер Рабочий. Его господство и облик
1932 Отто. Чувство потустороннего
1933 ОртегаиГассет. Вокруг Галилея
1933 Уайтхед. Приключения идей
1933 Коллингвуд. Очерк философского метода
1933–943 Т Манн Иосиф и его братья
1934−961 Тойнби. Изучение истории
1934 Йонас Гнозис и позднеантичный дух. Т. 1
1934 Мамфорд. Техника и цивилизация
1934 Юнг. Доклад «Архетипы коллективного бессознательного»
1935 А Вебер История культуры как культурсоциология
1935 Мангейм. Человек и общество в эпоху преобразования
1935 Юнг. Лекции «Основы аналитической психологии»
1936 Лавджой. Великая цепь бытия
1936 Беньямин. Произведение искусства в век его технической воспроизводимости
1936 Гуссерль. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Ч. 1, 2
1937 Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма; Русская идея
1937 Башляр. Психоанализ огня
1938 Ротхакер. Слои личности
1938 Шестов. Афины и Иерусалим
1938 Хёйзинга. Homo ludens
1939 Элиас. О процессе цивилизации
1939 Койре. Этюды о Галилее
1939 Лёвит. От Гегеля к Ницше
1939 Фрейд. Человек Моисей и монотеистическая религия
1940 Ортега-и-Гассет. Идеи и верования
1940 Коллингвуд. Очерк метафизики
1940 Гелен. Человек. Его природа и положение в мире
1940 Маркузе. Разум и революция…
1940 Тейяр де Шарден. Феномен человека
1940 Юнг. Психология и религия
1941 Фромм. Бегство от свободы
1941 Маркузе. Разум и революция
1941 Ортега-и-Гассет. История как система
1941 Бультман. Новый завет и мифология
1941 Ранер. Слушатели слова
1942 Лангер. Философия в новом ключе
1942 Ротхакер. Проблема культурной антропологии
1942 Кассирер. К логике наук о культуре
1942 Камю. Миф о Сизифе
1943 Поппер. Открытое общество и его враги
1943 Гессе. Игра в бисер
1944 Кассирер. Очерк о человеке
1944 Марсель. Homo Viator
1944 Поппер. Нищета историцизма
1944 Юнг. Лекции «Психология и алхимия»
1945 МерлоПонти. Феноменология восприятия
1946 А Вебер. Прощание с прежней историей
1946 Сартр Экзистенциализм – это гуманизм
1947 Адорно Хоркхаймер. Диалектика Просвещения
1947 Сартр. Что такое литература?
1947 Камю Чума
1947 Т Манн Доктор Фаустус
1948 Бубер Проблема человека
1948 Левинас. Время и иное
1948 Грейвз. Белая богиня
1948 Зедльмайр. Утрата середины
1948 Юнг. Символика духа
1948 СентЭкзюпери. Цитадель
1949 Нибур. Вера и история
1949 Лёвит. Смысл истории
1949 ЛевиСтросс. Элементарные структуры родства
1949 Адорно. Философия новой музыки
1949 Кемпбелл. Тысячеликий герой
1950 Юнг. Формы бессознательного
1950 Пиаже Введение в генетическую эпистемологию
1950 Молер. Консервативная революция в Германии…
1950 ОртегаиГассет. Введение к Веласкесу; Гойя и народное
1950 Хайдеггер. Лесные тропы
1950 Рикёр. Воление и безволие
1950 Судзуки Руководство по дзэн-буддизму
1951 Марсель Таинство бытия; Люди против человеческого
1951 Юнг. Aion
1953 Гвардини. Конец Нового времени
1953 А Вебер Третий или четвертый человек. О смысле исторического существования
1953 Барт. Нулевая степень письма
1954 Гуссерль. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Ч. 3
1954 Гелен. Первобытный человек и поздняя культура
1955 Бетти Общая теория интерпретации
1955 Тейяр де Шарден. Феномен человека
1955 Маркузе. Эрос и цивилизация
1955 ЛевиСтросс. Печальные тропики
1955−956 Юнг. Mysterium conjunctionis. Т. 1, 2
1956 Гелен. Первобытный человек и поздняя культура
1956 Фромм Искусство любви
1956 Берлин. Эпоха Просвещения
1957 Барт Мифологии
1957 Койре. От закрытого мира к бесконечному универсуму
1957 Гелен Душа в техническую эпоху
1958 Леви-Стросс Структурная антропология
1958 Полани. Личностное знание
1958 Юнг. Современный миф
1959 Хайдеггер. На пути к языку
1959 Тиллих Теология культуры
1959 Сноу. Две культуры и научная революция
1960 Гадамер. Истина и метод
1961 Левинас Тотальность и бесконечность
1961 Фуко История безумия в классическую эпоху
1961 Арон. Измерения исторического сознания
1962 Юнг Воспоминания, сновидения, размышления
1962 Бетти Герменевтика как общая методология наук о духе
1962 Маклюэн. Галактика Гутенберга
1962 Ф.Г. Юнгер. Язык и мышление
1962 Леви-Стросс. Неприрученная мысль; Тотемизм сегодня
1963 Кун Структура научных революций
1964 Маркузе. Одномерный человек
1964 Барт. Критические исследования
1964−1971 Леви-Стросс Мифологическое. Т. 1−4
1964 Мерло-Понти. Видимое и невидимое
1965 Плеснер. Единство смысла
1965 Элиаде. Обряды и символы инициации
1965 Барт. Основы семиологии
1966 Фуко. Слова и вещи
1966 Сорокин. Современные социологические теории
1967 Барт Система моды
1967 Деррида О грамматологии; Письмо и различие
1967 Моль Социодинамика культуры
1968 Берталанфи Общая теория систем
1968 Лакатос Критика и методология научно-исследовательских программ
1968 Делёз Повторение и различие
1969 Рикёр Конфликт интерпретаций
1969 Берлин Четыре очерка о свободе
1969 Делёз Логика смысла
1969 Полани Познание и бытие
1969 Кристева Семиотика
1969 Фуко Археология знания
1970 Бурдьё Социология символических форм
1970 Адорно Эстетическая теория
1972 Тулмин Человеческое понимание
1972 Гваттари, Делёз. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения
1973 Фромм Анатомия человеческой деструктивности
1973 Лоренц Оборотная сторона зеркала
1973 ЛевиСтросс Структурная антропология —2
1973 Апель Трансформация философии
1973 Белл Грядущее постиндустриальное общество
1973 Хабермас Кризис рациональности
1975 Фуко Надзирать и наказывать
1978 Берлин Русские мыслители
1978 Хайек Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма
1978 Лакатос Доказательства и опровержения
1979 Йонас Принцип ответственности
1979 Лиотар Состояние постмодерна
1983 Тэрнер Символ и ритуал
1983 Слотердайк Критика цинического разума
1985 Бурдьё Социальное пространство и классы
1985 Рикёр Время и повествование
1986 Рикёр От текста к действию. Очерки по герменевтике
1990 Рикёр Я – сам как другой
Главные культурфилософские книги XX в.[418]
O. Шпенглер. Закат Европы. Т. 1. 1918.
Э. Кассирер. Философия символических форм. 1923–1929.
X. Ортега-и-Гассет. Вокруг Галилея. 1933.
X Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства. 1925.
К. Ясперс. Истоки истории и ее цель. 1948.
Й. Хёйзинга. Осень Средневековья. 1919.
Й. Хёйзинга. Человек играющий. 1938.
В.С. Соловьев. Оправдание добра. 1899.
Х.-Г. Гадамер. Истина и метод. 1960.
Ю.М. Лотман. Внутри мыслящих миров. 1990.
P. Гвардини. Конец Нового времени. 1950.
Г. Зедльмайр. Утрата середины. 1948.
Г. Зиммель. Понятие и трагедия культуры. 1911.
3. Кассирер. Опыт о человеке. 1944.
B. Дильтей. Построение исторического метода в науках о духе. 1910. П.А. Сорокин. Социальная и культурная динамика. 1937–1941.
А. Вебер. Третий или четвертый человек. 1953.
А.Дж. Тойнби. Постижение истории (сокр. изд.). 1960.
C. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. 1977.
Ф. Бродель. Грамматика цивилизаций. 1963.
Литература[419]
Культурфилософские учения: классика и современность
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
Аверинцев С.С. София-Логос. Словарь. Киев, 2006.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурноисторических основаниях и пределах личного самосознания. М., 2000.
Баткин Л.М. Неуютность культуры. Два способа изучать культуру// Баткин Л.М. Пристрастия. Избр. эссе и статьи о культуре. М., 1994.
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975.
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
Бенедикт Р. Модели культуры. М., 1995.
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996.
Бердяев Н.А. Смысл творчества. Предсмертные мысли Фауста. Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Новое средневековье // Бердяев Н.А. Смысл творчества. Харьков; М., 2002.
Библер В.Г. На гранях логики культуры. М., 1991.
Бивлер В.Г. От наукоучения к логике культуры. М., 1991.
Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М., 2008.
Булгаков С.Н. Догматическое обоснование культуры // Булгаков С.Н. Соч.: в 2 т. Т. 2: Избр. статьи. М., 1993.
Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М., 2004.
Вебер М. Избранное: Образ общества. М., 1994.
Вебер М. Избр. произведения. М., 1990.
Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика. М., 2006.
Вико Дж. Основания Новой науки об общей природе наций. М.; Киев, 1994. Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб., 2000.
Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры // Вышеславцев Б.П. Сочинения. М., 1995.
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988.
Гаспаров МЛ. Избр. труды. Т. 1, 2. М., 1997.
Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. 1990. № 4; То же // Самосознание культуры и искусства XX века. Западная Европа и США. М.; СПб., 2000.
Гегель Г.В.Ф. Философия духа // Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М., 1977.
Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе // Дильтей В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. М., 2004.
Зедльмайр X. Утрата середины. М., 2008.
Зиммель Г. Избранное. Т. 1: Философия культуры. М., 1996.
Иванов Вяч. Вс. Избр. труды по семиотике и истории культуры. Т. I. М., 1998; Т. III. М., 2004; Т. IV. М., 2007.
Иванов Вяч. И. Родное и вселенское. М., 1994.
Иванов Вяч. И., Гершензон М.О. Переписка из двух углов. М., 2006.
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Соч. на немецком и русском языках. Т. 1. М., 1994.
Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Соч. на немецком и русском языках. Т. 4. М., 2001.
Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.
Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1–3. М.; СПб., 2002.
Кнабе Г.С. Древо познания и древо жизни. М., 2006.
Кондорсэ Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936.
Крёбер АЛ. Избранное: Природа культуры. М., 2004.
Крёбер А., Клакхон С. Культура. Критический анализ концепций и дефиниций. М., 1992.
Лавджой А. Великая цепь бытия. М., 2001.
Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.
Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.
Леонтьев К. Византизм и Славянство // Леонтьев К. Избранное. М., 1993. Лихачев Д.С. Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2001.
Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.
Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 1999.
Манхейм К. Избранное: Социология культуры. СПб., 2000.
Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 2002.
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1986.
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. Т. 1. М., 1993. С. 31–65.
Михайлов А.В. Языки культуры: учеб, пособие по культурологии. М., 1997. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Ортега-и-Гассет X. Камень и небо. М.,
2000.
Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
Ортега-и-Гассет X. Размышления о технике // Ортега-и-Гассет X. Избр. труды. М., 1997.
Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991.
Пятигорский А.М. Избр. труды. М., 1996.
Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2002.
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М., 2006.
Струве П.Б., Франк С.Л. Очерки философии культуры // Струве П.Б. Избр. соч. М., 1999.
Тиллих П. Теология культуры // Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М.,
1995.
Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории // Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1995.
Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. М., 2004.
Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. М., 2004.
Успенский Б.А. Избр. труды: в 3 т. М., 1996–1997.
Флоренский П.А. Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания // Флоренский П.А. Соч.: в 4 т. Т. 3(2). С. 386–488.
Флоровский Г., прот. Вера и культура. СПб., 2002.
Франк С.Л. Религия и культура. Культура и религия // Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996.
Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
Фрейденберг О.Я. Миф и литература древности. М., 1978.
Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.
Хайдеггер М. Время и Бытие: Статьи и выступления. СПб., 2007.
Хёйзинга Й. Homo Ludens 11 Хёйзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. М., 1997.
Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. М.; СПб., 1997.
Швейцер А. Культура и этика // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992.
Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966.
Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. О наивной и сентиментальной поэзии // Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. Т. 6. М., 1957.
Шпенглер О. Закат Европы. Т. I. М., 1993; Т. 2. М., 1998.
Шпет Г.Г. История как проблема логики. М., 2002.
Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004.
Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 1, 2. М.; СПб., 2001.
Элиот Т.С. Три значения понятия «культура» // Элиот Т.С. Избранное. М., 2002. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.
Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
Исследования философии культуры
Аверинцев С.С. «Аналитическая психология» К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии // О современной буржуазной эстетике. Вып. 3. М., 1972.
Аверинцев С.С. «Морфология культуры» Освальда Шпенглера // Вопросы литературы. 1968. № 1; То же // Новые идеи в философии. Вып. 6. М., 1991.
Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. М., 2009.
Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. М., 1977.
Антология исследований культуры. СПб., 1997.
Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М., 2003.
Асмус В.Ф. Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в. // Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.
Ахутин А.В. К диалогике культуры // Ахутин А.В. Поворотные времена. СПб.,
2005.
Бабанов И.Е. Очерк жизни и творчества Винкельмана // Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб., 2000.
Бадентэр Э., Бадентэр Р. Кондорсе. Ученый в политике. М., 2001.
Бакусев В.М. В земле человеческой: проблема культуры и творчество К.Г. Юнга // Юнг К.Г. Собр. соч.: в 19 т. Т. 15: Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992.
Баскин М.П. Монтескьё. М., 1975.
Баткин Л.М. Личность и страсти Жан-Жака Руссо. М., 2012.
Бенъямин В. Иоганн Якоб Бахофен // Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб., 2004.
Беньямин В. Теория искусства ранних романтиков и Гёте // Логос. 1993. № 4.
Берлин И. Джамбатиста Вико и история культуры // Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001.
Берлин И. Контрпросвещение. Гердер и Просвещение // Берлин И. Подлинная цель познания. М., 2002.
Брент Дж. Чарльз Сандерс Пирс: Жизнь // Логос. 2004. № 3–4 (43).
Быкова М.Ф., Кричевский А.В. Абсолютная идея и абсолютный дух в философии Гегеля. М., 1993.
Вайнштейн О.Б. Философия слова С.Т. Кольриджа // Историко-философский ежегодник’87. М., 1987.
Вайнштейн О.Б. Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля. М., 1994.
Ванеян С.С. Пустующий трон. Критическое искусствознание Ханса Зедльмайра. М., 2004.
Баскин М. Монтескьё. М., 1965.
Верцман И.Е. Жан-Жак Руссо. М., 1976.
Верцман И.Е. Жан-Жак Руссо и романтизм // Проблемы романтизма: сб. статей. Вып. 2. М., 1971.
Визгин В.П. На пути к другому: От школы подозрения к философии доверия. М.,
2004.
Володарский В.М. Якоб Буркхардт. Жизнь и творчество // Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М., 1996.
Воробьева О.В. «Между прошлым и настоящим»: судьба и творчество Арнольда Дж. Тойнби // История через личность: Историческая биография сегодня. М., 2005.
Еаджикурбанов А. Всемирная история в представлении Якоба Буркхардта // Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М., 2004.
Гайденко П.П. Философская герменевтика. От Фр. Шлейермахера к Г. Гадамеру // Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997.
Гайм Р. Вильгельм фон Гумбольдт. Описание его жизни и характеристика. М., 2004.
Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 1–2. СПб., 2011.
Гальцева РА. Западноевропейская культурология между мифом и игрой // Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
Гильманов В.Х. Гаман и «проклятый вопрос» Ф.Г. Якоби // Гётевские чтения. 2004–2006. М., 2007.
Гильманов В.Х. Герменевтика «образа» И.Г. Гамана и Просвещение. Калининград, 2003.
Гинзбург К. От Варбурга до Гомбриха. Заметки об одной методологической проблеме // Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. М., 2004.
Гирко Л.В. Культура как «образ мира» в философии немецкого Просвещения // Новые идеи в философии. М., 1991.
Гофман А.Б. Элитизм и расизм (критика философско-исторических воззрений А. де Гобино) // Расы и народы. Вып. 7. М., 1977.
Грачев М.В. Иоганн Вольфганг Гёте как гносеолог и науковед. М., 2003.
Григорьева Н. Эволюция антропологических идей в европейской культуре второй половины 1920 – 1940-х гг. (Россия, Германия, Франция). СПб., 2008.
Гусейнова Д. Эрнст Кассирер – драматург и зритель исторических спектаклей Веймарской республики // Вопросы философии. 2005. № 12.
ГулыгаА.В. Гердер. М., 1975.
Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.
Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1994.
Давыдов Ю.Н. Искусство и элита // Давыдов Ю.Н. Труд и искусство: Избр. соч. М., 2008.
Давыдов Ю.Н. Освальд Шпенглер и судьбы романтического миросозерцания // Проблемы романтизма. Вып. 2. М., 1971.
Данто А. Ницше как философ. М., 2001.
Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М., 2002.
Дворцов А.Т. Жан-Жак Руссо. М., 1980.
Д. Дидро: pro et contra. СПб., 2013.
ДелезЖ. Ницше. СПб., 1996.
Доброхотов АЛ. Телеология культуры. М., 2016.
Додельцев РФ. Проблема искусства в мировоззрении Зигмунда Фрейда //О современной буржуазной эстетике: сб. статей. Вып. 3. М., 1972.
Доронченков И. Аби Варбург: Сатурн и Фортуна // Варбург А. Великое переселение образов: Исследование по истории и психологии возрождения античности: сб. статей. СПб., 2008.
Ерасов Б.С. Социальная культурология. Ч. 1,2. М., 1994.
Ж.Ж. Руссо: pro et contra. СПб., 2005.
Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. Неприродность, множественность и относительность в литературе. М., 2002.
Иглтон Т. Идея культуры. М., 2012.
Ионии Л.Г. Социология культуры: Путь в новое тысячелетие. М., 2000.
Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Ч. 1,2. СПб., 2002.
Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996.
Кантор К.М. История против прогресса. Опыт культурно-исторической генетики. М., 1992.
Карако П.С. Соотношение философии и художественной литературы в концепции природы Ф. Шиллера // Искусство и философия. Минск, 2007.
Каримский А.М. Философия истории Гегеля. М., 1988.
Киссель М.А. Джамбаттиста Вико. М., 1980.
Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 17–170.
Костикова И.В. Философско-социологические взгляды Томаса Карлейля. М., 1983.
Краус В. Зигмунд Фрейд и литература // Вопросы философии. 1995. № 2.
Левбарг Л.А. Луи-Себастьян Мерсье. 1740–1814. Л.; М., 1960.
Лессинг и современность. М., 1981.
Лунгина Д.А. Учение о культуре у Канта и Гегеля // Вопросы философии. 2010. № 1.
Макаров А.Н. Штюрмерская литература в немецком культурном контексте последней трети XVIII века. М., 1991.
Махлин В.Л. Эпистемология в споре «древних» и «новых» (Вико против Декарта) // Махлин В.Л. Второе сознание: Подступы к гуманитарной эпистемологии. М., 2009.
Маяцкий М.А. Спор о Платоне: Круг Штефана Георге и немецкий университет. М., 2011.
Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры. М., 2005.
Михайлов Ал. В. Эстетический мир Шефтсбери // Шефтсбери. Эстетические опыты. М., 1975.
Михайлов Ал. В. Концепция произведения искусства у Теодора В. Адорно // О современной буржуазной эстетике: сб. статей. Вып. 3. М., 1972.
Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.
Мудрагей Н.С. Философия истории Дж. Вико // Вопросы философии. 1996. № 1.
Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и современность. М., 1974.
Нолл Р. Арийский Христос. Тайная жизнь Карла Юнга. М., 1998.
Парамонов Б. Согласно Юнгу // Парамонов Б. След: Философия. История. Современность. М., 2001.
Патрушев А.И. Расколдованный мир Макса Вебера. М., 1992.
Пелипенко А. А., Яковенко Г.Г. Культура как система. М., 1998.
Пигалев А.И. Культура как целостность. Волгоград, 2001.
Ракитов А.И. Опыт реконструкции концепции понимания Фридриха Шлейермахера // Историко-философский ежегодник 1988. М., 1988.
Рейнгардт Л.Я. Салоны Дидро и эстетика французского Просвещения // Дидро. Салоны: в 2 т. М., 1989.
Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998.
Романов В.Н. Историческое развитие культуры. Проблемы типологии. М., 1991.
Скир А.Я. Предмет искусства в эстетике Дидро. Минск, 1979.
Стадников Г.В. Лессинг. Литературная критика и художественное творчество. Л., 1987.
Субботин АЛ. Бернард Мандевиль. М., 2013.
Тавризян Г.М. О. Шпенглер. Й. Хёйзинга: две концепции кризиса культуры. М., 1989.
Темное Е.И. Вико. М., 1994.
Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002.
Федотова Е.Д. И.В. Гёте о категориях «эпоха», «стиль» и «манера» // Эпохи. Стили. Направления. М., 2007.
Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2002.
Франк М. Аллегория, остроумие, фрагмент, ирония. Фридрих Шлегель и идея разорванного «я» // Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология. СПб., 2001.
Фридлендер Г.М. Лессинг. Очерк творчества. М., 1957.
Хейде Л. Осуществление свободы: Введение в гегелевскую философию права. М., 1995.
Хряков А.В. «Тайная Германия» Эрнста Канторовича // История через личность: Историческая биография сегодня. М., 2005.
Чернов С.А., Шевченко И.В. Фридрих Якоби: вера, чувство, разум. М., 2010.
Шестаков В.П. Венская школа истории искусств: генезис и современность // Искусствознание. 2001. № 2.
Шестаков В.П. Интеллектуальная биография Эрнста Гомбриха. М., 2006. Шичалин Ю.А. Античность – Европа – история. М., 1999.
Шохин В.К. Античное понятие культуры и протокультурфилософия: специфика и компаративные параллели // Вопросы философии. 2011. № 3.
Шохин В.К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. М., 2006. Эрибон Д. Мишель Фуко. М., 2008.
Эстетика Дидро и современность: сб. статей. М., 1989.
Якушева Г.В. Фридрих Шиллер на новом «повороте веков»: Идеалист в противоборстве мнений // Гётевские чтения. 2004–2006. М., 2007.
Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования. СПб., 2004.
История философских учений о культуре
Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры (Опыт русской культурологии середины XIX – начала XX веков). М., 2001.
Бёрк П. Что такое культуральная история? М., 2015.
Горбатов А.В., Михайлов Ю.И. Ведущие школы и направления культурологии: учеб, пособие. Кемерово, 2009.
Григорьева Н. Эволюция антропологических идей в европейской культуре второй половины 1920-1940-х гг. (Россия, Германия, Франция). СПб., 2008.
Губман Б.Л. Современная философия культуры. М., 2005.
Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1994.
Дианова В.М.} Солонин Ю.Н. История культурологии. М., 2013.
Дудник С.И., Солонин Ю.Н. Парадигмы исторического мышления XX века. Очерки по современной философии культуры. СПб., 2001.
Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии. СПб., 1998.
Ионов И.Н., Хачатурян В.М. Теория цивилизаций от античности до конца XIX века. СПб., 2002.
История культурологии. М., 2006.
Клейн Л.С. История антропологических учений. СПб., 2014.
Кожурин А.Я., Кучина Л.И. Европейские культурфилософские концепции XIX–XX вв. СПб., 2002.
Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М., 2006.
Минц С.С. Культура и самосознание: лекции по культурологии. Краснодар, 2008.
Неретина С, Огурцов А. Время культуры. СПб., 2000.
Нисбет Р. Прогресс: история идеи. М., 2007.
Ровный Б.И. Введение в культурную историю. Челябинск, 2005.
Рождение культурологии в России. М., 2014.
Трофимова Р.П. История русской культурологии. М., 2003.
Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998.
Чебанюк Т.А. Методы изучения культуры. СПб., 2010.
Шендрик А.И. Теория культуры. М., 2002.
Культурфилософский анализ эпох и регионов
Традиционные культуры, культуры первобытности, первых цивилизаций и их исторических преемников
Абаев В.И. Миф и история в Гатах Зороастра // Историко-филологические исследования: сб. статей памяти акад. Н.И. Конрада. М., 1974.
Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. Новосибирск, 1989.
Абдуллаев Е.В. Идеи Платона между Элладой и Согдианой: очерки ранней истории платонизма на Среднем Востоке. СПб., 2007.
Абрамян Л. Первобытный праздник и мифология. Ереван, 1983.
Аверинцев С. С, Мейлах М.Б. Иудаистическая мифология // Мифы народов мира. Т. 1.М., 1980.
Азимов А. Земля Ханаанская. Родина иудаизма и христианства. М., 2004. Анисимов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества. М.; Л., 1966.
Антонова Е.В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. М., 1990.
Артемова О.Ю. Охотники/собиратели и теория первобытности. М., 2004. Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988.
Архаическое общество: Узловые проблемы социологии развития. Ч. I, II. М., 1991.
Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999.
Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.
Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду: Эпические образы в искусстве. М., 1979.
Афанасьева В.К., Луконин В.Г., Померанцева Н.А. Малая история искусств. Искусство Древнего Востока. М.; Дрезден, 1976.
Бадж Э. Египетская религия. Египетская магия. М., 1995.
Бадж Э. Легенды о египетских богах. М.; Киев, 2001.
Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993.
Бежин Л.Е. Под знаком «ветра и потока». Образ жизни художника в Китае III–VI вв. М., 1982.
Белицкий М. Забытый мир шумеров. М., 1980.
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995. Бенедикт Р. Хризантема и меч. М., 2004.
Берндт Р.М., Берндт К.Х. Мир первых австралийцев. М., 1981.
Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
Богданов К.А. Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб., 2001.
Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1987.
Большаков А.О. Человек и его Двойник. Изобразительность и мировоззрение в Египте Нового царства. СПб., 2001.
Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. М., 1980.
Буров В.Г., Титаренко Л.М. Философия Древнего Китая. М., 1972.
Быков Ф.С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. М., 1966. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988.
Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.
Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989.
Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. М., 1989.
Ващенко А.В. Историко-эпический фольклор североамериканских индейцев. Типология и поэтика. М., 1989.
Вейнберг И.П. Рождение истории: Историческая мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н. э. М., 1993.
Вейнберг И.П. Человек в культуре Ближнего Востока. М., 1987.
Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Малая история искусств. Искусство стран Дальнего Востока. М.; Дрезден, 1979.
Галич М. История доколумбовых цивилизаций. М., 1990.
Галленкамп Ч. Майя. Загадка исчезнувшей цивилизации. М., 1966.
Гаудио А. Цивилизации Сахары. М., 1977.
Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 1999.
Годлевский Н.Н. История архитектуры Древнего Востока и Античности. М., 2011.
Голан А. Миф и символ. М., 1993.
Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.
Грантовский Э.А. Иран и иранцы до Ахеменидов. Основные проблемы. Вопросы хронологии. М., 1998.
Грей Дж. Ханаанцы. На земле чудес ветхозаветных. М., 2003.
Грейвс Р. Белая богиня. Историческая грамматика поэтической мифологии. М., 1999.
Григорьева Т.П. Дао и логос (встреча культур). М., 1992.
Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М., 1979.
Гринцер П.А. Основные категории классической индийской поэтики. М., 1987.
Гусев П.А. Структура и динамика дохристианской эсхатологии // Метафизические исследования. Вып. 16: Христианство. СПб., 2003.
Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика Древнего Ирана. М., 1980. Дао и даосизм в Китае. М., 1982.
Дёлэ Н. Япония вечная. М., 2002.
Древний Восток и античная цивилизация. Л., 1989.
Духовная культура Китая: Энциклопедия: в 5 т. Т. 1: Философия. М., 2006. Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 2004.
Дьяконов И.М. Люди города Ура. М., 1990.
Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй Древнего Двуречья. Шумер. М., 1959.
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. СПб., 2001.
Евзлин М. Космогония и ритуал. М., 1993.
Египетская мифология: Энциклопедия. М., 2002.
Емельянов В.В. Древний Шумер. Очерки культуры. СПб., 2001.
Ермаков М.Е. Мир китайского буддизма. СПб., 1994.
Жак К. Египет великих фараонов: История и легенда. М., 1992.
Жак К. Нефертити и Эхнатон: Солнечная чета. М., 1999.
Жданов В.В. Эволюция категории «Маат» в древнеегипетской мысли. М., 2006. Жерне Ж. Древний Китай. М., 2004.
Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000.
Жирмунский В.М. Народный героический эпос. М.; Л., 1962.
Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975. Замаровский В. Тайны хеттов. М., 1968.
Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М., 1985.
Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964.
Зубов А.Б. История религий. Книга первая: Доисторические и внеисторические религии. Курс лекций. М., 1997.
Иванов Вяч. Вс. Очерк истории и культуры хеттов // Керам К.В. Узкое ущелье и черная гора. М., 1962.
Иванов В.В., Гамкрелидзе Т. Индоевропейский язык и индоевропейцы: в 2 ч. Благовещенск, 1994.
Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
Иофан Н.А. Культура древней Японии. М., 1974.
Исследования по первобытной истории. М., 1992.
История китайской философии. М., 1989.
История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
Календарь в культуре народов мира. М., 1993.
Карапетянц А.М. Древнекитайская философия и древнекитайский язык // Историко-филологические исследования: сб. статей памяти акад. Н.И. Конрада. М., 1974.
Кацнельсон И.С. Сказки и повести Древнего Египта. М., 1956.
Кинжалов Р.В. Культура древних майя. Л., 1971.
Кинк Х.А. Древнеегипетский храм. М., 1979.
Китайская философия: Энцикл. словарь. М., 1994.
Клике Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. М., 1983.
Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии. Человек, судьба, время. М., 1983.
Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. М., 1994.
Кобищанов Ю.М. На заре цивилизации: Африка в древнейшем мире. М., 1981.
Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики. М., 1982.
Королева ЭЛ. Ранние формы танцев. Кишинев, 1977.
Коростовцев МЛ. Писцы древнего Египта. М., 1962.
Коростовцев МЛ. Религия древнего Египта. М., 1976.
Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1999.
Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. Опыт культурологического анализа. СПб., 1994.
Крамер С.Н. История начинается в Шумере. М., 1991.
Кривцов ВЛ. Эстетика даосизма. М., 1993.
Крюков В.М. Ритуальная коммуникация в Древнем Китае. М., 1997.
Крюков М.Ф. Формы социальной организации древних китайцев. М., 1967.
Крюков М.Ф., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М., 1983.
Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет. История религии бон. СПб., 1998.
Кузъмищев В.А. Тайна жрецов майя. М., 1975.
Куликан У. Персы и мидяне. Подданные империи Ахеменидов. М., 2002.
Куценков П.А. Начало. Очерки истории первобытного и традиционного искусства. М., 2001.
Кьера Э. Они писали на глине. М., 1984.
Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. София, 1997.
Лаевская Э.Л. Древнейшие культуры Европы. Стонхендж // Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн. 1. М., 1997.
Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и Мезоамерика. М., 1992.
Лауэр Ж.-Ф. Загадки египетских пирамид. М., 1966.
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1999.
Левинтон Г.А., Смирнов И.П. Ритуал // Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. М., 1978.
Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.
Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.
Лелеков Л.А. Авеста в современной науке. М., 1992.
Лелеков Л.А. Зороастризм: явление и проблемы // Локальные и синкретические культы. М., 1991.
Лич Э. Культура и коммуникация: логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии. М., 2001.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2001.
Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. М., 1982.
Лотман Ю.М., Минц З.Г., Мелетинский Е.М. Мифы и литература // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982.
Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии (И цзин, Дао дэ цзин, Лунь юй). М., 1994.
Луркер М. Египетский символизм. М., 1998.
Майкапар А.Е. Музыкальная культура Древнего Египта // Вопросы истории. 1974. № 8.
Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М., 2004. Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. М., 2004.
Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998.
Малявин В.В. Гибель древней империи. М., 1983.
Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000.
Малявин В.В. Конфуций. М., 1992.
Мартыненко Н.П. Культура как превращение знаков – вэнь хуа. Т. I: Культурогенез; Т. II: Развитие китайской цивилизации. М., 2006.
Массон В.М. Первые цивилизации. М., 1989.
Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. М., 1956.
Матъе М.Э. Избр. труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. М., 1996. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. М., 1970.
Матюшин Г.Н. У истоков человечества. М., 1982.
Медоуз К. Магия североамериканских индейцев. Киев, 1997.
Мейер Эд. Экономическое развитие древнего мира. Пг., 1923.
Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. М., 2000.
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1986.
Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М., 1963.
Мелларт Д. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1982.
Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1995.
Мещеряков А.Н. Древняя Япония: культура и текст. СПб., 2006.
Мириманов В.Б. Искусство и миф. Центральный образ картины мира. М., 1997.
Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М.; Дрезден, 1973. Миф – фольклор – литература. Л., 1978.
Мифологии древнего мира. М., 1977.
Моде X. Малая история искусств. Искусство Южной и Юго-Восточной Азии. М.; Дрезден, 1978.
Мосс М. Общества, обмен, личность. Труды по социальной антропологии. СПб., 1996.
Мосс М. Социальные функции священного. СПб., 2000.
Музыкальная культура древнего мира. М., 1937.
Невербальное поле культуры. М., 1995.
Нейгебауэр О. Точные науки в древности. М., 1968.
Немировский А.И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983.
Никифоров В.Н. Восток и всемирная история. М., 1977.
Ольденбург С.Ф. Культура Индии. М., 1991.
Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М., 1990.
Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. М., 1982.
Павлов Н.Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев. М., 2001.
Павлов Н.Л. Река и Солнце в едином пространственном искусстве Древнего Египта // Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн. 1. М., 1997.
Пань Шимо. Логика Древнего Китая (краткий очерк) // Философские науки. 1991. № 11.
Пауэлл Т. Кельты. Воины и маги. М., 2003.
Пентльбери Дж. Археология Крита. М., 1950.
Первобытное искусство. Новосибирск, 1971.
Первобытное общество. Основные проблемы развития. М., 1975.
Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981.
Переломов Л.С. Конфуций. «Лунь Юй». М., 1998.
Перепелкин Ю.Я. Кэйе и Семнех-ке-рэ. К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте. М., 1979.
Перепелкин Ю.Я. Переворот Амен-Хотпа IV. Ч. 1. М., 1967; Ч. 2. М., 1984.
Пичикян И.Р. Культура Бактрии. Ахеменидский и эллинистический период. М., 1994.
Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. М., 1979.
Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М., 1985.
Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991.
Природа и человек в религиозных представлениях Сибири и Севера. Л., 1976. Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1989.
Проблемы социальных отношений и форм зависимости на Древнем Востоке. М., 1984.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
Пропп В.Я. Поэтика фольклора. М., 1998.
Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М., 1976.
Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб., 2003.
Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев. СПб., 1999.
Раик А.Е. Очерки по истории математики в древности. Саранск, 1977.
Рак И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. СПб.; М., 1998.
Ранние формы искусства. М., 1972.
Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995.
Ранние формы социальной стратификации. М., 1993.
Редер Д.Г. Мифы и легенды древнего Двуречья. М., 1965.
Реконструкция древних верований: источники, метод, цель. СПб., 1991.
Религиозные традиции мира. Т. 1, 2. М., 1996.
Религия, магия, миф. Современные философские исследования. М., 1997.
Розанов В.В. Собр. соч. Т. 14: Возрождающийся Египет. М., 2002.
Роули Дж. Принципы китайской живописи. М., 1989.
Рубин В.А. Личность и власть в древнем Китае. М., 1993.
Рэдклифф-Браун А.Р Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции. М., 2001.
Сайко Э.В. Древнейший город: Природа и генезис. М., 1996.
Саллинз М. Экономика каменного века. М., 1999.
Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968.
Соколов Г.И. Искусство этрусков. М., 1990.
Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л., 1976.
Стеблин-Каменский М.И. Становление литературы. Л., 1984.
Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.
Страна Хань. Очерки о культуре Древнего Китая. Л., 1959.
Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
Тейлор У. Микенцы. Подданные царя Миноса М., 2003.
Тимофеева Н.К. Религиозно-мифологическая картина мира этрусков. Новосибирск, 1980.
Типология и взаимосвязи литератур Древнего мира. М., 1971.
Типология основных элементов традиционной культуры. М., 1984.
Ткаченко Г.А. Избр. труды. Китайская космология и антропология. М., 2008.
Токарев С.А., Мелетинский Е.М. Мифология // Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980.
Топоров В.Н. Изобразительное искусство и мифология // Мифы народов мира. Т. 1.М., 1980.
Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику// Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988.
Торчинов Е.А. Даосские практики. СПб., 2001.
Тренчени-Вальдапфель И. Мифология. М., 1959.
Туровский М.Б. Предыстория интеллекта: Избр. труды. М., 2000.
Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983.
У истоков творчества. Новосибирск, 1973.
Универсалии восточных культур. М., 2001.
Успенский Б.А. Миф – имя – культура // Успенский Б.А. Избр. труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994.
Фицджеральд С.П. Китай. Краткая история культуры. СПб., 1998.
Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. М.; Л., 1958. Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969.
Фрай Р. Наследие Ирана. М., 2002.
Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. М., 1984.
Фрейденберг О.Я. Миф и литература древности. М., 1978.
Фролов Б. А. Первобытная графика Европы. М., 1992.
Фролов Б Л. Числа в графике палеолита. Новосибирск, 1974.
Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980.
Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: доп. том. М., 1998.
Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985.
Харден Д. Финикийцы. Основатели Карфагена. М., 2002.
Хук С.Г. Мифология Ближнего Востока. М., 1991.
Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.
Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура. М., 1987.
Шеркова Т.А. Рождение Ока Хора: Египет на пути к раннему государству. М., 2004.
Широкова Н.С. Культура кельтов и нордическая традиция античности. СПб.,
2000.
Шифман И.Ш. Культура древнего Угарита (XIV–XIII вв. до н. э.). М., 1987.
Шоу Я. Древний Египет. М., 2006.
Щедровицкий Д.В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. М., 2003.
Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». М., 1993.
Эванс-Причард Э. История антропологической мысли. М., 2003.
Эванс-Притчард Э. Теории примитивной религии. М., 2004.
Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
Элиаде М. Космос и история. М., 1987.
Элиаде М. Религии Австралии. М., 1998.
Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.
Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. М., 1987.
Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990.
Якобсен Т. Сокровища тьмы: История месопотамской религии. М., 1995.
Яншина Э.М. Формирование и развитие китайской мифологии. М., 1984.
Аверинцев С.С. Внешнее и внутреннее в поэзии Вергилия // Аверинцев С.С. Собр. соч. Связь времен. Киев, 2005.
Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. М., 1972.
Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография: К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973.
Аверинцев С.С. Римский этап античной литературы // Аверинцев С.С. Собр. соч. Связь времен. Киев, 2005.
Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли. М., 2002.
Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М., 1991.
Адо П. Что такое античная философия. М., 1999.
Акимова Л.И. К проблеме классики и классического //Из истории античной культуры. М., 1976.
Актон Д. История свободы в античности // Полис. 1993. № 3.
Альбрехт М. фон. История римской литературы. Т. I–III. М., 2002–2005.
Анненский И.Ф. История античной драмы: курс лекций. СПб., 2003.
Античная культура и современная наука. М., 1985.
Античная музыкальная эстетика. М., 1960.
Античность в культуре и искусстве последующих веков. М., 1984.
Античность как тип культуры. М., 1988.
Античный полис. Л., 1979.
Античный роман. М., 1969.
Афонасин Е.В. Гносис в зеркале его критиков: Античный гностицизм в контексте платонической философии поздней античности // Историко-философский ежегодник. 2002. М., 2003.
Афонасин Е.В. Школа Валентина. СПб., 2002.
Ахманов А. С. Логическое учение Аристотеля. М., 1960.
Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в новое время («фюсис» и «натура»). М., 1988.
Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. М., 1989.
Батлук О.В. Философия образования Сенеки: кризис цицероновского идеала // Вопросы философии. 2000. № 2.
Берестов И.В. Свобода в философии Плотина. СПб., 2007.
Берти Э. Древнегреческая диалектика как выражение свободы мысли и слова // Историко-философский ежегодник’90. М., 1991.
Бицилли П.М. Падение Римской Империи // Бицилли П.М. Избр. труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006.
Блаватская Т.В. Греческое общество второго тысячелетия до новой эры и его культура. М., 1976.
Блаватская Т.В. Из истории греческой интеллигенции эллинистического времени. М., 1983.
Блаватский В.Д. Греческая скульптура. М., 2008.
Бобровникова Т.А. Цицерон: Интеллигент в годы революции. М., 2006.
Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1995.
Бородай Т.Ю. Рождение философского понятия. Бог и материя в диалогах Платона. М., 2008.
Бочаров В.А. Аристотель и традиционная логика. М., 1984.
Брэдшоу Д. Аристотель на Востоке и на Западе: Метафизика и разделение христианского мира. М., 2012.
Бузескул В.П. История афинской демократии. СПб., 2003.
Буркерт В. Греческая религия: Архаика и классика. СПб., 2004.
Бычков С.Н. Египетская геометрия и греческая наука // Историко-математические исследования / под ред. С.С. Демидова. Вторая серия. Вып. 6 (41). М., 2001.
Васильева Т.В. Поэтика античной философии. М., 2008.
Вебер М. Социальные причины падения античной культуры // Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 447–468.
Вен П. Греки и мифология: вера или неверие? Опыт о конституирующем воображении. М., 2003.
Берлинский АЛ. Античные учения о возникновении языка. СПб., 2006.
Вернан Ж.-П. Вселенная, боги, люди. М., 2005.
Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.
Видаль-Накэ П. Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире. М., 2001.
Виденгрен Г. Мани и манихейство. СПб., 2001.
Визгин В.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. М., 1982.
Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988.
Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.
Вольф М.Н. Ранняя греческая философия и Древний Иран. СПб., 2007.
Гайденко П.П. История античной философии в ее связи с наукой. М., 2000.
Гаспаров МЛ. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре. М., 1995.
Гаспаров МЛ. Цицерон и античная риторика // Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1994.
Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада. Киев; М., 1998.
Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление. Л., 1986.
Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995.
Герцман Е.В. Пифагорейское музыкознание. Начала древнегреческой науки о музыке. СПб., 2003.
Герцман Е.В. Тайны истории древней музыки. СПб., 2004.
Годлевский Н.Н. История архитектуры Древнего Востока и Античности. М., 2011.
Головня В.В. История античного театра. М., 1972.
Горан В.П. Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск, 1990.
Гордезиани Р.В. Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978.
Гордон С. До Библии. Общая предыстория греческой и еврейской культуры. М., 2011.
Грант М. Крушение Римской империи. М., 1998.
Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992.
Грималь П. Цицерон. М., 1991.
Гринбаум Н.С. Художественный мир античной поэзии. Творческий поиск Пиндара. М., 1990.
Гуторов В.А. Античная социальная утопия. Л., 1989.
Давыдов Ю.Н. Архетип социальной теории, или Социология «Политики» // Полис. 1993. № 4.
Давыдов Ю.Н. Искусство как социологический феномен. К характеристике эстетико-политических взглядов Платона и Аристотеля. М., 1968; То же // Давыдов Ю.Н. Труд и искусство: Избр. соч. М., 2008.
Джеймс П. Римская цивилизация. М., 2000.
Диллон Дж. Наследники Платона: Исследование истории Древней Академии (347–274 гг. до н. э.). СПб., 2005.
Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. СПб., 2000.
Доддс Э.Р. Язычник и христианин в смутное время: Некоторые аспекты религиозных практик в период от Марка Аврелия до Константина. СПб., 2003.
Древнегреческая литературная критика. М., 1975.
Дройзен И. История эллинизма. Ростов н/Д., 1995.
Жмудь Л.Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. СПб., 1994.
Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. М., 1940.
Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э. Л., 1985.
Зелинский Ф.Ф. Из жизни идей: в 4 т. М., 1995.
Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. СПб., 1995.
Зелинский Ф.Ф. Эллинская религия. Минск, 2003.
Зубов В.П. Аристотель. М., 2000.
Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. СПб., 2000.
История Древнего мира. Кн. 1–3. М., 1983.
История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
Йегер В. Пайдейа. Воспитание античного грека. Т. 1. Ч. 1, 2. М., 1990–2002.
Йонас Г. Гностицизм (Гностическая религия). СПб., 1998.
Камад И.М. Обрядовая сторона культов Древней Греции. М., 2006.
Канто-Спербер М., Барнз Дж., Бриссон Л., Брюнсвиг Ж. Греческая философия: в 2 т. М., 2006–2008.
Карсавин Л.П. Духовная культура империи // Arbor Mundi. Мировое древо. 1993. № 2.
Кассен Б. Эффект софистики. М.; СПб., 2000.
Кащеев В.И. Эллинистический мир и Рим. М., 1993.
Керенъи К. Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни. М., 2007.
Кереньи К. Мифология. М., 2012.
Керенъи К. Элевсин: Архетипический образ матери и дочери. М., 2000.
Кессиди Ф.Х. Философия истории Фукидида и современность // Вопросы философии. 2005. № 7.
Кнабе Г.С. Древний Рим. История и повседневность. М., 1986.
Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993.
Кнабе Г.С. Понимание культуры в Древнем Риме и ранний Тацит // История философии и вопросы культуры. М., 1975.
Кнабе Г.С., Протопопова И.А. Культура античности // История мировой культуры: наследие Запада. М., 1998.
Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в Древнем Риме. М., 1976.
Куле К. СМИ в Древней Греции: сочинения, речи, разыскания, путешествия… М.,
2004.
Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений (VII–V вв. до н. э.). СПб., 2001.
Культура Древнего Рима. Т. 1, 2. М., 1985.
Кюмон Ф. Восточные религии в римском язычестве. СПб., 2002.
Латышев В.В. Очерк греческих древностей: в 2 ч. Ч. 1: Государственные и военные древности; ч. 2: Богослужебные и сценические древности. СПб., 1997.
Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии. М., 1996.
Левек П. Эллинистический мир. М., 1989.
Лиманская Л.Ю. Некоторые особенности образа художника у античных и средневековых авторов // Метаморфозы творческого Я художника: сб. статей. М., 2005.
Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.
Лосев А.Ф. Античная философия истории. СПб., 2001.
Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 1–8. М., 1964–1992.
Лосев А.Ф. Эллинистически-римская эстетика. М., 2002.
Ляпустина Е.В. Римские зрелища, или Кое-что о самосознании личности и общества // Одиссей. Человек в истории. Личность и общество: проблемы самоидентификации. 1998. М., 1999.
Майоров Г.Г. В поисках нравственного абсолюта: античность и Боэций. М., 1990.
Маркиш Ш.П. Сумерки в полдень. Очерк греческой культуры в эпоху Пелопонесской войны. СПб., 1999.
Марру А.И. История воспитания в античности (Греция). М., 1998.
Меликова-Толстая С.В. Античные теории художественной речи // Античные теории языка и стиля (Антология текстов). СПб., 1996.
Мельникова А.С. Греки-интеллектуалы в Риме (I в. до н. э.) // AKADHMEIA: Материалы и исследования по истории платонизма. Вып. 5. СПб., 2003.
Мирзоев С.Б. Политическое учение Полибия. М., 1986.
Михайлов Б.П. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М., 1967.
Михалевский Д.В. Неизвестная античность. Великий миф о великой трагедии. СПб., 2005.
Mopeea-Вулих Н.В. Римский классицизм: творчество Вергилия, лирика Горация. СПб., 2000.
Мякин Т.Г. Сапфо. Язык, мировоззрение, жизнь. СПб., 2004.
Надь Г. Греческая мифология и поэтика. М., 2002.
Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1979.
Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1977.
Николаев Ю. В поисках Божества. Очерк из истории гностицизма. Киев, 1995.
Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.
Олива П. Древний Восток и истоки греческой цивилизации // Вестник древней истории. 1977. № 2.
Онианс Р. На коленях богов. Истоки европейской мысли о душе, разуме, теле, времени, мире и судьбе. М., 1999.
Ошеров С.А. История, судьба и человек в «Энеиде» Вергилия // Античность и современность. М., 1972.
Пети П., Ларонд А. Эллинистические цивилизации. М., 2004.
Петров М.К. Античная культура. М., 1997.
Петров М.К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М., 1995. Платон и его эпоха. М., 1979.
Поланъи К. Аристотель открывает экономику // Истоки: Экономика в контексте истории и культуры. М., 2004.
Поршнев В.П. Мусей в культурном наследии античности. М., 2012.
Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981.
Поэтика древнеримской литературы. Жанры и стиль. М., 1989.
Преображенский П.Ф. В мире античных идей и образов. М., 1965.
Приходько Е.В. Двойное сокровище. Искусство прорицания в Древней Греции: мантика в терминах. М., 1999.
Проблемы античной культуры. М., 1986.
Протопопова И.А. Ксенофонт Эфеский и поэтика иносказания. М., 2001.
Рабинович Е.Г. Незримая граница // Евразийское пространство: Звук, слово, образ. М., 2003.
Ранняя греческая лирика. СПб., 1999.
Ривкин М.И. Малая история искусств. Античное искусство. М.; Дрезден, 1972. Рист Дж. М. Плотин: путь к реальности. СПб., 2005.
Родин А.В. Математика Эвклида в свете философии Платона и Аристотеля. М., 2003.
Рожанский И.Д. История естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи. М., 1988.
Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979.
Ростовцев М.И. Общество и хозяйство в Римской империи. СПб., 2000.
Савельева Л.И. Романтические тенденции в античной литературе. Казань, 1973.
Сахарный Н.Л. Гомеровский эпос. М., 1976.
Светлов Р.В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика. СПб., 1996.
Сисс Дж., Детьен М. Повседневная жизнь греческих богов. М., 2003.
Слезак Т.А. Как читать Платона. СПб., 2008.
Смагина Е.Б. Манихейство: по ранним источникам. М., 2011.
Смирин В.М. Римское рабство глазами римлян (система и казус) // Одиссей. Человек в истории. Личность и общество: проблемы самоидентификации. 1998. М., 1999.
Согомонов А.Ю. Восточные истоки раннегреческой культуры по исследованиям Вальтера Буркерта // Вестник древней истории. 1989. № 4.
Соколов ЕЙ. Искусство Древней Эллады. М., 1996.
Степанова А.С. Физика стоиков: Доминирующие принципы онтокосмологической концепции. СПб., 2005.
Степанова А.С. Философия древней Стой. СПб., 1995.
Столяров А.А. Стоя и стоицизм. М., 1995.
Таруашвили Л.И. Рим в 313 году: Художественно-исторический путеводитель по столице древней империи. М., 2010.
Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.
Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989.
Тахо-Годи А.А. Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков // Искусство слова. М., 1973.
Тахо-Годи А.А. Varia Historia: античность и современность. М., 2008.
Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб., 1999.
Тимофеева Н.К. Религиозно-мифологическая картина мира этрусков. Новосибирск, 1980.
Тихонов А.А. Одиссея разума и разум Одиссея. Ульяновск, 2003.
Толстой И.И. Аэды: Античные творцы и носители древнего эпоса. М., 1958.
Топоров В.Н. Эней – человек судьбы. К «средиземноморской» персонологии. М., 1993.
Трофимова М.К. Историко-философские вопросы гностицизма. М., 1979.
Троцкий И.М. Проблемы языка в античной науке // Античные теории языка и стиля (Антология текстов). СПб., 1996.
Трухина Н.Н. Политика и политики «Золотого века» Римской республики (II в. до н. э.). М., 1986.
Тумане X. Рождение Афины. Афинский путь к демократии от Гомера до Перикла. VIII–V вв. до н. э. СПб., 2002.
Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций. М., 1987.
Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977.
Фаррингтон Б. Голова и рука в Древней Греции. Четыре очерка социальных связей мышления. СПб., 2008.
Философия природы в античности и в Средние века. М., 2000.
Флоренский П.А. Первые шаги философии // Флоренский П.А., свягц. Соч.: в 4 т. Т. 2.
Фрейденберг О.М. Миф и литература. М., 1978.
Фрейденберг О.М. Миф и театр. Л., 1989.
Фриц К. фон. Теория смешанной конституции в античности: Критический анализ политических взглядов Полибия. СПб., 2007.
Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). СПб., 2001.
Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. Л., 1991.
Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.
Цивьян Т.В. Образ и смысл жертвы в античной традиции (в контексте основного мифа) // Палеобалканистика и античность. М., 1989.
Цыпин В.Г. Аристоксен. Начало науки о музыке. М., 1998.
Чернышев Б.С. Софисты. М., 2007.
Чистякова Н.А. Сказание об аргонавтах, его история и поэма «Аргонавтика» Аполлония Родосского // Родосский Аполлоний. Аргонавтика. М., 2001.
Чистякова Н.А. Эллинистическая поэзия. М., 1988.
Шайд Дж. Религия римлян. М., 2006.
Шредингер Э. Природа и греки. Ижевск, 2001.
Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. М., 1975.
Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987.
Шталь И.В. «Одиссея» – героическая поэма странствий. М., 1978.
Шталь И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла: Типология художественного мышления и образ человека. М., 1977.
Шталь И.В. Художественный мир гомеровского эпоса. М., 1983.
Штоль Г. Боги и гиганты. М., 1971.
Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990.
Ярхо В.Н. Была ли у древних греков совесть? (К изображению человека в аттической трагедии) // Античность и современность. М., 1972.
Ярхо В.Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
Ярхо В.Н. Семь дней в афинском театре Диониса. М., 2004.
Бельтинг X. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2003.
Евневич ЕЙ. «Время церкви» и ее границы в первом веке // Метафизические исследования. Вып. 16: Христианство. СПб., 2003.
Буркхард Я. Век Константина Великого. М., 2003.
Бычков В.В. Aesthetica patrum. Эстетика Отцов Церкви. I. Апологеты. Блаженный Августин. М., 1995.
Бычков В.В. Эстетика поздней античности (II–III вв.). М., 1981.
Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. Т. 1: Раннее христианство. Византия. М.; СПб., 1999.
Витковский В.Е. Эллинизм и христианство: история возникновения полемики. М., 2005.
Герье В.И. Блаженный Августин. М., 2003.
Дворжак М. Живопись катакомб. Начала христианского искусства // Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2001.
Диесперов А. Блаженный Иероним и его век. М., 2002.
Доддс Э.Р. Язычник и христианин в смутное время: Некоторые аспекты религиозных практик в период от Марка Аврелия до Константина. СПб., 2003.
Дюрант В. Цезарь и Христос. М., 1995.
История Древнего мира. Кн. 3. М., 1983. С. 112–129; 246–264.
Каждан А.Н. От Христа к Константину. М., 1965.
Карминьяк Ж. Рождение синоптических евангелий. М., 2005.
Карсавин Л.П. История европейской культуры. Т. 1: Римская империя, христианство и варвары. СПб., 2003.
Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. М., 1994.
Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994.
Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы. М., 1985.
Комеч А.И. Символика архитектурных форм в раннем христианстве // Искусство Западной Европы и Византии. М., 1978.
Марру А.-И. Святой Августин и августинианство. Долгопрудный, 1999.
Мейендорф И. Единство империи и разделения христиан // Мейендорф И. История Церкви и восточно-христианская мистика. М., 2003.
Муравьев А.В. Первые четыре века христианства. СПб., 1998.
Николаев Ю. В поисках Божества. Очерк из истории гностицизма. Киев, 1995.
Оргиш В.П. Античная философия и происхождение христианства. М., 1986.
Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века. М., 1979.
Преображенский П.Ф. Тертуллиан и Рим // Преображенский П.Ф. В мире античных идей и образов. М., 1965.
Раевская Н.Ю. Раннехристианское изобразительное искусство: «примирение земли и неба» // Метафизические исследования. Вып. 16: Христианство. СПб., 2003.
Рулинский Н. Жизнь и труды святого апостола Павла. М., 1995.
Сандерс Э.П. Павел, Закон и еврейский народ // Христос или Закон? Апостол Павел глазами новозаветной науки. М., 2006.
Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1987.
Светлов Р.В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика. СПб., 1996.
Селиверстов В.Л. Этюды по онтологии Аврелия Августина. СПб., 2008.
Сидоров А.И. Курс патрологии: возникновение церковной письменности. М., 1996.
Ситников А.В. Философия Плотина и традиция христианской патристики. СПб., 2001.
Смирнов М.Ю. Некоторые особенности предыстории и генезиса христианского универсализма // Метафизические исследования. Вып. 16: Христианство. СПб., 2003.
Спасский А.А. История догматических движений в эпоху вселенских соборов. М., 1995.
Трофимова М.К. Историко-философские вопросы гностицизма. М., 1979.
Тульпе И.А. Христианское в раннехристианском искусстве // Метафизические исследования. Вып. 16: Христианство. СПб., 2003.
Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV века. М., 1992.
Флоровский Г.В. Восточные Отцы V–VII века. М., 1992.
Флоровский Г.В. Догмат и история. М., 1998.
Хосроев А.Л. Александрийское христианство. М., 1991.
Чуковенков Ю.А. Антропология классической патристики (по сочинениям грекоязычных авторов) // Историко-философский ежегодник’94. М., 1995.
Швейцер А. Мистика апостола Павла // Христос или Закон? Апостол Павел глазами новозаветной науки. М., 2006.
Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. Киев, 2003.
Эриксен Т.Б. Августин. Беспокойное сердце. М., 2003.
Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1966. № 7, 9. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
Античность и Византия. М., 1975.
Баранов В.А. Образ в контексте эпистемологических подходов иконоборцев и иконопочитателей // AKADHMEIA: Материалы и исследования по истории платонизма. Вып. 5. СПб., 2003.
Белыпинг X. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2003.
Бибиков М.В. Историческая литература Византии. СПб., 1998.
Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.
Бычков В.В. Смысл искусства в византийской культуре. М., 1977.
Вагнер Г.К. Византийский храм как образ мира // Византийский временник. Т. 47. М., 1986.
Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов. М., 1995. Византия между Западом и Востоком. СПб., 2001.
Владышевская Т.Ф. Богодухновенное, ангелогласное пение в системе средневековой музыкальной культуры (Эволюция идеи) // Механизмы культуры. М., 1990.
Диль Ш. Византийские портреты. М., 1991.
Диспут с Пирром: прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия. М., 2004.
Евгпич А., о. Введение в исихастскую гносеологию // Беседа. № 9. Л.; Париж,
1990.
Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 1996.
Зубова М.В. История архитектуры Византии и Западной Европы. Средние века. М., 2011.
Иванов С.А. Юродство в Византии. М., 1994.
Иларион (Алфеев), иером. Жизнь и учение св. Григория Богослова. М., 1998. Иларион (Алфеев), иером. Мир Исаака Сирина. М., 1998.
Каждан А.П. Византийская культура (X–XII вв.). М., 1968.
Каждан А.П. Книга и писатель в Византии. М., 1973.
Каждан А.П. От Христа к Константину. М., 1965.
Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. М., 1994.
Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994.
Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1995.
Киприан (Керн), архим. Золотой век Свято-Отеческой письменности. М., 1996. Клеман О. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии. М., 1994.
Культура Византии. IV – первая половина VII в. М., 1984.
Культура Византии. Вторая половина VII–XII в. М., 1989.
Культура Византии. XIII – первая половина XV в. М., 1991.
Курбатов ЕЛ. Ранневизантийские портреты. К истории общественно-политической мысли. Л., 1991.
Лазарев В.Н. История византийской живописи. Т. 1, 2. М., 1986.
Липшиц Е.Э. Очерки истории византийского общества и культуры. VIII – первая половина IX в. М.; Л., 1961.
Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в IV–VIII вв. Л., 1976.
Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в X–XI вв. М., 1977. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV–XVI вв. М., 1986.
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Мистическое богословие. Киев, 1991.
Лурье В.М. История византийской философии. СПб., 2006.
Любарский Я.В. Византийские историки и портреты. СПб., 1999.
Любарский Я.В. Михаил Пселл. Личность и творчество: к истории византийского предгуманизма. М., 1978.
Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV–XV вв. Л., 1976.
Медведев И.П. Правовая культура Византийской империи. СПб., 2001. Мейендорф И., прот. Византийское богословие. М., 2001.
Мейендорф И., прот. Жизнь и труды святителя Григория Паламы: введение в изучение. СПб., 1997.
Мейендорф И., прот. История Церкви и восточно-христианская мистика. М., 2003.
Минин П. Главные направления древне-церковной мистики // Мистическое богословие. Киев, 1991.
Петров В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII века. М., 2007.
Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в Средние века. М., 1979.
Полевой В.М. Искусство Греции. Средние века. М., 1973.
Полякова С.В. Из истории византийского романа. М., 1994.
Поляковская М.А. Общественно-политическая мысль Византии (40-60-е годы XIV в.). Свердловск, 1981.
Поляковская М.А. Портреты византийских интеллектуалов. СПб., 1998.
Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006.
Поеное М.Э. История христианской церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Киев, 1991.
Прохоров Е.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Статьи. СПб., 2000.
Райс Д.Т. Византийцы. Наследники Рима. М., 2003.
Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия. М., 1998.
Сидоров А.И. Максим Исповедник. Политика и богословие в Византии VII века // Ретроспективная и сравнительная политология. Публикации и исследования. Вып. I. М., 1991.
Спасский А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. М., 6.г.
Тяжелое В.Н., Сопоцинский О.И. Малая история искусств. Искусство средних веков. Византия. Армения и Грузия. Болгария и Сербия. Древняя Русь. Украина и Белоруссия. М.; Дрезден, 1975.
Удальцова З.В., Котельникова Л. А. Власть и авторитет в средние века // Византийский временник. М., 1986. Т. 47.
Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. М., 1989.
Успенский Н.Д. Византийская литургия. Анафора. М., 2003.
Успенский Ф. Очерки византийской образованности. М., 1994.
Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV века. М., 1992.
Флоровский Г.В. Восточные Отцы V–VIII веков. М., 1992.
Флоровский Г.В. Догмат и история. М., 1998.
Фрейберг Л.А., Попова Т.В. Византийская литература эпохи расцвета IX–XV вв. М., 1978.
Хвостова К.В. Византийская цивилизация // Вопросы истории. 1995. № 9.
Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения. М., 1980.
Чичуров И.С. Политическая идеология средневековья (Византия и Русь). М., 1991.
Шмеман А., прот. Догматический союз // Ретроспективная и сравнительная политология. Публикации и исследования. Вып. I. М., 1991.
Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. Киев, 2003.
Шпидлик Ф. Духовная традиция восточного христианства. Систематическое изложение. М., 2000.
Эдельштейн Ю.М. Раннесредневековые учения о происхождении языка // Языковая практика и теория языка. М., 1978.
Этингоф О.Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI–XIII веков. М., 2000.
Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. М., 1992.
Бациева С.М. Историко-социологический трактат Ибн Хальдуна «Мукаддима». М., 1965.
Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. М., 1965.
Бертельс А.Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX–XV веков (Слово и изображение). М., 1997.
Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока. М., 1993.
Герхард М. Искусство повествования: Литературное исследование «1001 ночи». М., 1984.
Гибб Х.А.Р. Арабская литература: Классический период. М., 1960.
Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. М., 1966.
Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам. М., 1988.
Грюнебаум Г.Э. фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры. М., 1981. Еолян И. Традиционная музыка Арабского Востока. М., 1990.
Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990.
Заборов МЛ. Крестоносцы на Востоке. М., 1980.
Земное искусство – небесная красота. Искусство ислама. СПб., 2000.
Игнатенко АЛ. В поисках счастья. Общественно-политические воззрения арабоисламских философов средневековья. М., 1989.
Игнатенко АЛ. Ибн-Хальдун. М., 1980.
Игнатенко АЛ. Как жить и властвовать: Секреты успеха, добытые в старинных арабских назиданиях правителям. М., 1994.
Игнатенко АЛ. Принцип циклизма в средневековой арабо-исламской мысли // Одиссей. Человек в истории. Личность и общество: проблемы самоидентификации. 1998. М., 1999.
Идрис Шах. Суфизм. М., 1994.
Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991.
Исламская культура и мировая цивилизация. СПб., 2001.
История и культура народов Востока (древность и средневековье). Л., 1983.
Каптерева Т.П. Искусство стран Магриба. Средние века и новое время. М., 1988.
Каптерева Т.П. Синтез искусств в мавританской архитектуре. Альгамбра // Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн. 1. М., 1997.
Каптерева Т.П., Виноградова НЛ. Искусство средневекового Востока. М., 1989.
Кирабаев Н.С. Социальная философия мусульманского Востока. М., 1987.
Куделин А.Б. Арабская литература: поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи. М., 2003.
Куделин А.Б. Средневековая арабская поэтика. М., 1986.
Ланд П. Ислам. М., 2003.
Леви-Провансаль 3. Арабская культура в Испании. М., 1967.
Литература Востока в средние века. М., 1970.
Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана. М., 1969.
Луис Б. Ислам и Запад. М., 2003.
Лучицкая С.И. Образ Другого: мусульмане в хрониках Крестовых походов. СПб., 2001.
Максимов Ю. Образ рая в христианстве и исламе // Альфа и Омега. 1999. № 2 (20).
Массэ А. Ислам. Очерк истории. М., 1982.
МецА. Мусульманский Ренессанс. М., 1996.
Музыкальная эстетика стран Востока. М., 1967.
Ортега-и-Гассет X. Пролог к «Ожерелью голубки» Ибн Хазма де Кордова // Ортега-и-Гассет X. Этюды о любви. СПб., 2003.
Очерки истории арабской культуры. V–XV вв. М., 1982.
Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII–XV вв. Л., 1966.
Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века. М., 1979.
Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991.
Проблемы арабской культуры. М., 1987.
Рационалистическая традиция и современность. Ближний и Средний Восток. М., 1990.
Резван Е.Л. Коран и его мир. СПб., 2001.
Родионов М.Л. Ислам классический. СПб., 2003.
Розенфельд Б.А., Юшкевич А.П. Омар Хайям. М., 1965.
Роузенталь Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе. М., 1978.
Рюкуа А. Средневековая Испания. М., 2006.
Сагадеев А.В. Ибн-Рушд. М., 1973.
Сагадеев А.В. Ибн Сина. М., 1980.
Сагадеев А.В. Философская робинзонада Ибн Туфейля // Философия зарубежного Востока о социальной сущности человека. М., 1986.
Сират К. История средневековой еврейской философии. М.; Иерусалим, 2003. Смирнов А.А. Средневековая литература Испании. Л., 1969.
Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. М., 1993.
Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: семиотика и изобразительное искусство. М., 2005.
Средневековая арабская философия: Проблемы и решения. М., 1998.
Стародуб Т.Х. Изображение неизобразимого. О специфике арабо-мусульманского визуального искусства // Одиссей. Человек в истории. Язык Библии в нарративе. 2003. М., 2003.
Стародуб Т.Х. Концепция пространства в средневековом исламском искусстве. Опыт исследования художественных памятников // Эпохи. Стили. Направления. М., 2007.
Стародуб Т.Х. Монументальная живопись эпохи Омейядов – к вопросу о стиле // Стиль – образ – время. М., 1991.
Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. М., 1987.
Сурдель Д. Ислам. М., 2004.
Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989.
Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1978.
Тимофеев И.В. Ибн Баттута. М., 1983.
Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974. Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе. М., 1989.
Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976.
Уотт У.М., Какиа П. Мусульманская Испания. М., 1976.
Фильштинский И.М. История арабов и халифата (750-1517). М., 1999.
Фильштинский И.М., Шидфар Б.Я. Очерк арабо-мусульманской культуры. М., 1971.
Фильштинский И.М. Представление о «потустороннем мире» в арабской мифологии и литературе // Восток – Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Вып. 4. М, 1989.
Фиш Р.Г. Джалаледдин Руми. М., 1985.
Фролова ЕЛ. История средневековой арабо-мусульманской философии. М., 1995.
Фролова ЕЛ. Проблема веры и знания в арабской философии. М., 1983. Хайруллаев М.М. Абу Наср ал-Фараби. 873–950. М., 1982.
Хисматулин А.А. Суфизм. СПб., 1999.
Хисматулин А.А., Крюкова В.Ю. Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. СПб., 1997.
Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия и средневековая классическая традиция (начальный период). М., 1979.
Шидфар Б.Я. Образная система классической арабской литературы (VII–XII вв.). М., 1974.
Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М., 1999.
Шукуров Ш.М. Дискурс мерный и дискурс мятежный. Основания поэтологии искусства и архитектуры Ирана // Искусствознание. 2004. № 1.
Шукуров Ш.М. Искусство и тайна. М., 1999.
Шукуров Ш.М. Образ храма. М., 2002.
Эстетика бытия и эстетика текста в культурах средневекового Востока. М., 1995.
Юнусова В.Н. Ислам – музыкальная культура и современное образование в России. М., 1997.
Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к Средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976.
Андреев А.Р. Монашеские ордена. М., 2001.
Андреев МЛ. Средневековая европейская драма: происхождение и становление (X–XIII вв.). М., 1989.
Арнаутова Ю.Е. Житие как духовная биография: к вопросу о «типическом» и «индивидуальном» в латинской агиографии // История через личность: Историческая биография сегодня. М., 2005.
Арнаутова Ю.Е. Колдуны и святые: Антропология болезни в Средние века. СПб., 2004.
Ауэрбах Э. Данте – поэт земного мира. М., 2004.
Балакин В.Д. Творцы Священной Римской империи. М., 2004.
Бартлетт Р. Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950-1350. М., 2007.
Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурноисторических основаниях и пределах личного самосознания. М., 2000.
Бельтинг X. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2003.
Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994.
Бессмертный ЮЛ. Жизнь и смерть в средние века: Очерки демографической истории Франции. М., 1991.
Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. М., 1995; То же // Бицилли П.М. Избр. труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006.
Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998.
Блок М. Феодальное общество. М., 2003.
Богатырев В.А., Пензиев М.Н., Дьячук И.В. Военно-духовные ордена. СПб., 2010. Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992.
Брайант А. Эпоха рыцарства в истории Англии. СПб., 2001.
Бриллиантов А.И. Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены. М., 1998.
Брук К. Возрождение XII века // Богословие в культуре средневековья. Киев, 1992.
Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000.
Бэймкер К. Европейская философия Средневековья. М., 2011.
Веселовский А.Н. Мерлин и Соломон: Избр. работы. М.; СПб., 2001.
Взаимосвязь социальных отношений и идеологии в средневековой Европе. М., 1983.
Вис Э.В. Фридрих II Гогенштауфен. М., 2005.
Волкова З.Н. Эпос Франции. М., 1984.
Воскобойников О. С. Душа мира: Наука, искусство и политика при дворе Фридриха II. М., 2008.
Воскобойников О.С. Тысячелетнее царство (300-1300). Очерк христианской культуры Запада. М., 2014.
Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века. М., 1989.
Гаспаров М.Л. Поэзия вагантов // Поэзия вагантов. М., 1975.
Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002.
Гис Ф., Гис Дж. Брак и семья в Средние века. М., 2002.
Глогер Б. Император, Бог и дьявол. Фридрих II Гогенштауфен в истории и легенде. СПб., 2003.
Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая литература. М., 1971. Голенищев-Кутузов И.Н. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972.
Грабаръ В.Э. Священная Римская империя в представлении публицистов начала XIV века // Средние века. Вып. 1. М., 1942.
Грабманн М. Введение в «Сумму теологии» св. Фомы Аквинского. М., 2007. Григорианский хорал. М., 1997.
Гуревич А.Я. Индивид. Статья для возможного в будущем «Толкового словаря средневековой культуры» // От мифа к литературе. М., 1993.
Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970.
Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1900.
Гуревич А.Я. Средневековье как тип культуры // Антропология культуры. Вып. 1. М., 2002.
Данилова И.Е. Искусство Средних веков и Возрождения. Работы разных лет. М., 1984.
Даркевич В.П. Аргонавты средневековья. М., 1978.
Даркевич В.П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX–XVI вв. М., 2006. Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда. М.; СПб., 2001.
Дворжак М. Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи // Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2001.
Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. М., 1987.
Доброхотов А.Л. Данте Алигьери. М., 1990.
Душин О.Э. Исповедь и совесть в западноевропейской культуре XIII–XVI вв. СПб., 2005.
Дюби Ж. Время соборов. М., 2002.
ДюбиЖ. Европа в Средние века. Смоленск, 1994.
Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщины во Франции XII века // Одиссей. Человек в истории. Личность и общество. 1990. М., 1990.
Дюби Ж. Тысячный год от Рождества Христова. М., 1997.
Еврейская средневековая поэзия в Испании. Свердловск, 1986.
Ефремова Н.В. Философия, теология и политика в творчестве У. Оккама // История политической мысли и современность. М., 1988.
Жебар Э. Мистическая Италия. Томск, 1997.
Жильсон Э. Избранное. Т. 1: Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. М.; СПб., 1999.
Жильсон Э. Разум и Откровение в Средние века // Богословие в культуре средневековья. Киев, 1992.
Жильсон 3. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века. М., 2004.
Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980.
Зарецкий Ю.П. Феномен средневековой автобиографии // История субъективности: Средневековая Европа. М., 2009.
Зеленина Г.С. От скипетра Иуды к жезлу шута: Придворные евреи в средневековой Испании. М.; Иерусалим, 2007.
Зубова М.В. История архитектуры Византии и Западной Европы. Средние века. М., 2011.
Зубова М.В. Франция. Синтез искусств в романскую эпоху // Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн. 1. М., 1997.
Зюмтор П. Опыт построения средневековой поэтики. СПб., 2003.
Иванов В.Г. История этики Средних веков. Л., 1984.
Иванов К. А. Трубадуры, труверы, миннезингеры. М., 2001.
Идейно-политическая борьба в средневековом обществе. М., 1984.
История лингвистических учений. Позднее средневековье. СПб., 1991.
История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. М., 1986.
Каптерева Т.П. Искусство Испании: Средние века. Эпоха Возрождения. М., 1989.
Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987.
Карл Великий: реалии и мифы. М., 2001.
Карсавин Л.П. История европейской культуры. Т. 1: Римская империя, христианство и варвары. СПб., 2003.
Карсавин Л.П. Культура средних веков. М., 1992.
Карсавин Л.П. Мистика и ее значение в религиозности средневековья // Карсавин Л.П. Малые сочинения. СПб., 1994.
Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. М., 1992.
Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках, преимущественно в Италии. СПб., 1997.
Кёнигсбергер Г. Средневековая Европа: 400-1500 годы. М., 2001.
Керов В.Л. Братья свободного духа. XIII–XIV вв. // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 3. М., 2001.
Керов В.Л. Идеи Апокалипсиса в Средние века (Иоахим Флорский, Оливи, бегины Южной Франции). М., 1994.
Керов В.Л. Народные восстания и еретические движения во Франции в конце XIII – начале XIV в. М., 1986.
Кин М. Рыцарство. М., 2000.
Клестов А.А. Святой Бернард и его время (Хроника жизни и трудов) // Бернард Клервоский. О любви к Богу. О благодати и свободном выборе. СПб., 2009.
Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действительность. М., 1977.
Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья. М., 2002.
Коплстон Ф. Ч. Аквинат. Введение в философию великого средневекового мыслителя. Долгопрудный, 1999.
Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. М., 1997.
Королевский двор в политической культуре средневековой Европы. Теория. Символика. Церемониал. М., 2004.
Крыжановская М.Я. Искусство западного Средневековья. Л., 1963.
Кудрявцев О.Ф. Жажда наживы и религиозное благочестие (о принципах хозяйственного мышления в средние века) // Экономическая история: проблемы, исследования, дискуссии. М., 1993.
Культура и искусство западноевропейского средневековья. М., 1981.
Курантов А.П., Стяжкин НМ. Уильям Оккам. М., 1978.
Левандовский А.П. Карл Великий. Через Империю к Европе. М., 1995.
Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. Екатеринбург, 2000.
Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. Долгопрудный, 1997.
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001.
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2007.
Ле Гофф Ж. С небес на землю. Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII–XIII вв. // Одиссей. Человек в истории. Культурноантропологическая история сегодня. 1991. М., 1991.
Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001.
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург, 2005.
Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в средние века. М., 2008.
Ли Г.Ч. Инквизиция // Бемер Г. Иезуиты. Ли Г.Ч. Инквизиция. СПб.; М., 1999. Ливера А. де. Средневековое мышление. М., 2004.
Лиманская Л.Ю. Некоторые особенности образа художника у античных и средневековых авторов // Метаморфозы творческого Я художника. М., 2005.
Лобковиц Н. Иоахим Флорский и Миллениум // Вопросы философии. 2002. № 3.
Лобковиц Н. От субстанции к рефлексии. Пути западноевропейской метафизики // Вопросы философии. 1995. № 1.
Лозовская Н.М. Энциклопедическое знание раннего Средневековья. М., 1988.
Лосский В.Н. Отрицательное богословие и познание Бога в учении Мейстера Экхарта // Богословские труды. Сб. 38. М., 2003.
Лучицкая С.И. Концепция imago в средневековой культуре и средневековые изображения // Антропология культуры. Вып. 2. М., 2004.
Лясковская О.А. Французская готика XII–XIV веков. М., 1973.
Майоров Г.Г. Формирование средневековой патристики. М., 1979.
Мартиндейл 3. Готика. М., 2001.
Мейлах М.Б. Язык трубадуров. М., 1975.
Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М., 1963.
Мелетинский Е.М. Средневековый роман: происхождение и классические формы. М., 1983.
Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968.
Мельвиль М. История ордена тамплиеров. СПб., 1999.
Мельникова Е.А. Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987.
Мельникова Е.А. Образ мира. Географические представления в Западной и Северной Европе V–XIV вв. М., 1998.
Мешков А.Н. Генезис и эволюция взаимоотношений государства и церкви в Григорианской реформе XII века. М., 2002.
Михайлов А.Д. Средневековые легенды и западноевропейские литературы. М., 2006.
Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть «фаблио» и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры. М., 1986.
Михайлов АД. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 1976.
Мишо Г. История крестовых походов. М., 2003.
Морисон С. Крестоносцы. М., 2003.
Музыкальная культура Средневековья. Теория. Практика. Традиция. Л., 1988. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. М., 1966.
Муратова К.М. Мастера французской готики XII–XIII веков. Проблемы теории и практики художественного творчества. М., 1988.
Мюссо-Гулар Р. Карл Великий. М., 2003.
Неретина С.С. Тропы и концепты. М., 1999.
Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. Л.; М., 1964. Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. М., 2003.
Обри П. Трубадуры и труверы. М., 1932.
Ольденбург 3. Костер Монсегюра. История альбигойских крестовых походов. СПб., 2001.
Опыт тысячелетий. Средние века и эпоха Возрождения: быт, нравы, идеалы. М., 1996.
Осокин Н.А. История альбигойцев и их времени. М., 2000.
Оссовская М. Рыцарь и буржуа: исследования по истории морали. М., 1987.
Офм Л.Х. История христианского монашества. СПб., 1993.
Панофский Э. Аббат Сюжер и Аббатство Сен-Дени // Богословие в культуре средневековья. Киев, 1992.
Панофский 3. Готическая архитектура и схоластика // Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика. СПб., 2004.
Перну Р. Крестоносцы. СПб., 2001.
Петрушевский Д.Н. Очерки по истории средневекового общества и государства. М., 2003.
Послушник и школяр, наставник и магистр: средневековая педагогика в лицах и текстах. М., 1996.
Поснов М.Э. История христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Киев, 1991.
Право в средневековом мире. СПб., 2001.
Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. М., 1986.
Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего нового времени. СПб., 1996.
Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового общества. Л., 1980.
Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.
Рабинович В.Л. Роджер Бэкон. Видение о чудодее, который наживал опыт, а проживал судьбу. СПб., 2014.
Рабинович В.Л. Ученый человек в средневековой культуре // Наука и культура. М., 1984.
Райт Дж. К. Географические представления в эпоху крестовых походов: Исследование средневековой науки и традиции в Западной Европе. М., 1988.
Ран О. Крестовый поход против Грааля. М., 2002.
Рапп Ф. Священная Римская империя германской нации. СПб., 2009.
Рассел Дж. Б. Люцифер. Дьявол в средние века. СПб., 2001.
Рехт Р Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков. М., 2014.
Рожков В. Очерки по истории римско-католической церкви. М., 1994.
Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. М., 2001.
Ротенберг Е.И. Искусство готической эпохи. Система художественных видов. М., 2001.
Руа Ж.Ж. История рыцарства. М., 2001.
Самарина М.С. Исламский Восток во францисканских текстах XIII века // Художественный текст: Структура и поэтика. СПб., 2005.
Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в средние века. М., 1976.
Сапонов М.А. Менестрели: очерки музыкальной культуры западного средневековья. М., 1996.
Сергеев К.В. Театр судьбы Данте Алигьери: введение в практическую анатомию гениальности. М., 2004.
Сесиль М. Крестоносцы. М., 2003.
Сидоров А.И. К вопросу о культуре чтения в каролингскую эпоху // Антропология культуры. Вып. 3. М., 2005.
Сказкин СД. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в Средние века. М., 1981.
Смирнов А.А. Средневековая литература Испании. Л., 1969.
Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979.
Сопоцинский О.И. Искусство западноевропейского Средневековья. М., 1964. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения. Ч. 1–5. М., 1995.
Средневековый тип рациональности и его античные предпосылки. М., 1990.
Стам С.М. Средние века: город, ереси, Возрождение, Реформация. Избр. труды. Саратов, 1998.
Стамп 3. Аквинат. М., 2013.
Стеблин-Жаменский М.И. Древнескандинавская литература. М., 1979.
Стецюра ТД. Категория собственности в Высокой схоластике: Альберт Великий и Фома Аквинский // Общественная мысль в контексте истории культуры. М., 2004.
Столяров А.А. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. М., 2000.
Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып. I: Средневековая христианская философия Запада. М., 2001.
Тайны соборов, или Соборы тайны / под ред. А. Черинотти. М., 2007.
Такман Б. Загадка XIV века. М., 2013.
Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974. Тогоева О.И. «Истинная правда»: Языки средневекового правосудия. М., 2006.
Топоров В.Н. Мейстер Экхарт – художник и «ареопагитическое» наследство // Палеобалканистика и античность. М., 1989.
Традиции и новации в изучении западноевропейского феодализма. М., 1995.
Тяжелое В.Н. Малая история искусств. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М.; Дрезден, 1981.
Удальцова З.В., Тушнова Е.В. Власть и авторитет в средние века // Византийский временник. М., 1986. Т. 47.
Удальцова З.В., Котельникова Л.А. Генезис феодализма в странах Европы. М., 1970.
Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V – начало VII века). М., 1989.
Усков Н.Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего Средневековья. Германские земли П/Ш – середины XI в. СПб., 2001.
Федотов Г.П. Абеляр // Федотов Г.П. Собр. соч.: в 12 т. Т. 1. М., 1996.
Филиппов И.С. Средиземноморская Франция в раннее Средневековье: проблема становления феодализма. М., 2000.
Философия западноевропейского Средневековья. СПб., 2005.
Философия природы в античности и в Средние века. М., 2000.
Философия Уильяма Оккама: традиции и современность // Verbum. Вып. 4. СПб., 2001.
Хёйзинга Й. Осень Средневековья. СПб., 2011.
Хоппер В.Ф. Числовая символика Средневековья. Тайный смысл и форма выражения. М., 2014.
Хорьков М.Л. Майстер Экхарт: Введение в философию великого рейнского мистика. М., 2003.
Художественный язык Средневековья. М., 1982.
Царлин Д. Установление гармонии: Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.
Честертон Г.К. Святой Франциск Ассизский. Святой Фома Аквинский // Честертон Г.К. Вечный человек. М., 1991.
Шевкина Г.В. Сигер Брабантский и парижские аверроисты XIII в. М., 1972. Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная культура. М., 2003.
Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2003.
Эксле О.Г. Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья. М., 2007.
Эпоха крестовых походов. Смоленск, 2001.
Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции. СПб., 2000.
Юшкевич А.П. История математики в средние века. М., 1961.
Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры IX–XV вв. Л., 1987.
Ястребицкая АЛ. Западная Европа XI–XIII вв. М., 1978.
Ястребицкая АЛ. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М., 1995.
Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7,9.
Аверинцев С.С. Крещение Руси и путь русской культуры // Контекст-90. М., 1990. Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века. М., 2002.
Акулыиин П.В., Вяземский П. Власть и общество в дореформенной России. М., 2001.
Алексеев М.П. Русская культура и романский мир. Л., 1985.
Алешина Л.С., Стернин Г.Ю. Образы и люди Серебряного века. М., 2005.
Алленов М. Русское искусство XVIII – начала XX века. М., 2000.
Андреева Л.А. Религия и власть в России. М., 2001.
Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
Анисимов Е.В. Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 1999.
Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. М., 1986. Анисов Л.М. Александр Иванов. М., 2004.
Античное наследие в культуре России. М., 1996.
Антонов А.В. Старообрядчество и новое мышление // На пути к свободе совести. М., 1989.
Аржанухин С.В. Философские взгляды русского масонства. Екатеринбург, 1995.
Артемова Е.Ю. Культура и быт России последней трети XVIII века в записках французских путешественников. М., 1990.
Балуев Б.П. Споры о России: Н.Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». М., 1999.
Бандура А.И. Александр Скрябин. Челябинск, 2004.
Барская El.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993.
Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Киев, 1994.
Безлепкин Н.И. Философия языка в России: К истории русской лингвофилософии. СПб., 2002.
Белый царь. Метафизика власти в русской мысли. Хрестоматия. М., 2001. Бердинских В. Крестьянская цивилизация в России. М., 2001.
Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990.
Берлин И. История свободы. Россия. М., 2001.
Биллингтон Дж. Х. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. М., 2001.
Бицилли П.М. Западное влияние на Руси и начальная летопись // Бицилли П.М. Избр. труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006.
Бицилли П. Трагедия русской культуры. М., 2000.
Бло Ж. Иван Гончаров, или Недостижимый реализм. СПб., 2004.
Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб., 1995.
Богомолов Н.А. Русская литература XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999.
Бондаренко И.А. Средневековая Русь. Художественное единство древнерусского города // Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн. 1. М., 1997.
Брандес Г. Русские впечатления. М., 2002.
Будницкий О.В. Терроризм в русском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 2000.
Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской иконы. М., 1995.
Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI–XVII века. М., 1992.
Бычков В.В. Русская теургическая эстетика. М., 2007.
Вагнер Г.К. В поисках Истины. Религиозно-философские искания русских художников. Середина XIX – начало XX века. М., 1993.
Вагнер Г.К. Искусство Древней Руси. М., 1993.
Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. М., 1987.
Валицкий А.П. Русская эстетика XVIII века. М., 1983.
Валицкий А. Философия права русского либерализма. М., 2012.
Вацуро В. Готический роман в России. М., 2002.
Вдовин Г.В. Персона – индивидуальность – личность: Опыт самопознания в искусстве русского портрета XVIII века. М., 2005.
Вейдле В. Умирание искусства. М., 2001.
Век Просвещения: Россия и Франция. М., 1989.
Верещагин Е.М. Христианская книжность Древней Руси. М., 1998.
Верещагина А.Г. Критики и искусство. Очерки истории русской художественной критики середины XVIII – первой трети XIX века. М., 2004.
Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986.
Виницкий И.Ю. Дом толкователя: Поэтическая семантика и историческое воображение В.А. Жуковского. М., 2006.
Вихавайнен Т. Внутренний враг: борьба с мещанством как моральная миссия русской интеллигенции. СПб., 2004.
Волгин И.Л., Наринский М.М. «Развенчанная тень». Диалог о Достоевском, Наполеоне и наполеоновском мифе // Метаморфозы Европы. М., 1993.
Восприятие русской культуры на Западе. Л., 1975.
Гальцева Р.А., Роднянская И.Б. К портретам русских мыслителей. М., 2012.
Гаспаров Б.М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре. М., 2009.
Гегель и философия в России. 30-е годы XIX в. – 20-е годы XX в. М., 1974.
Генералова Н.П. И.С. Тургенев: Россия и Европа. Из истории русско-европейских литературных и общественных связей. СПб., 2003.
Глинчикова С.Н. Раскол или срыв «русской Реформации». М., 2008.
Голлербах Е.А. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910–1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000.
Головков Г., Бурин С. Канцелярия непроницаемой тьмы. М., 1994.
Грабарь ИЗ. О русской архитектуре. М., 1969.
Грабарь ИЗ. Петербургская архитектура XVIII–XIX веков. СПб., 1994.
Грацианский П.С. Политическая и правовая мысль России второй половины XVIII века. М., 1984.
Гринберг М.С., Успенский Б.А. Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-х – начале 1750-х годов. М., 2001.
Громов М.Н. Структура и типология русской средневековой философии. М., 1977.
Гуляницкая Н.С. Русская музыка: становление тональной системы XI–XX вв.: исследование. М., 2005.
Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. М., 1989.
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). М., 1999.
Даниэль С.М. От иконы до авангарда: Шедевры русской живописи. СПб., 2000.
Дергачева И.В. Посмертная судьба и «иной мир» в древнерусской книжности. М., 2004.
Дмитриева Н.А. Русское неокантианство: «Марбург» в России. Историко-философские очерки. М., 2007.
Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай. М., 2003.
Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988.
Долгушин Д.В. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма. М., 2009.
Евангулова О. С. Художественная «вселенная» русской усадьбы. М., 2003. Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин, 2005.
Егоров Б.Ф. Очерки по истории русской культуры XIX века //Из истории русской культуры. Т. V: XIX век. М., 1996.
Еремина Т.С. Русский православный храм. История. Символика. Предания. М., 2002.
Жидков В.С., Соколов КБ. Десять веков русской ментальности: Картина мира и власть. СПб., 2001.
Жураковский Г.Е. Из истории просвещения в дореволюционной России. М., 1978.
Заборов П.Р. Русская литература и Вольтер. Л., 1978.
Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005.
Западов А.В. Поэты XVIII века. М., 1979.
Зверев В.М. Социологическое прочтение философских идей России XVIII века: контент-анализ. СПб., 1998.
Зеленин Д.К. Избр. труды. Статьи по духовной культуре, 1917–1934. М., 1999.
Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1–2. Л., 1991.
Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. М., 1995.
Зорин АЛ. Кормя двухглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001.
Зубов В.П. К истории слова «нигилизм» // Избр. труды по истории философии и эстетики. 1917–1930. М., 2004.
Иванов Вяч. Вс. Избр. труды по семиотике и истории культуры. Т. II: Статьи о русской литературе. М., 2000.
Иванова Л.В. Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI–XX вв. М., 2001.
Ивенина ТА. Культурно-просветительные организации и учреждения общей и частной инициативы в дореволюционной России (1900–1916 гг.). М., 2003.
Из истории русской культуры. Т. 1–5. М., 1996–1997.
Из истории символистской журналистики: «Весы». М., 2007.
Исаев И.А. История государства и права в России. М., 1993.
История европейской цивилизации в русской науке. Античное наследие. М., 1991.
История и культура древнерусского города. М., 1989.
История иконописи: Истоки. Традиции. Современность. М., 2002.
История русской музыки. Т. 1–3. М., 1983–1985.
История русской поэзии. Т. 1. Л., 1968.
Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси в XIV–XVI вв. М.; Л., 1955.
Калугин В.И. Струны рокотаху… Очерки о русском фольклоре. М., 1989. Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: Традиции и модернизация. М., 1999.
Кантор В.К. «…Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Историософские очерки. М., 1997.
Кантор В.К. Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). М., 2001.
Кантор В.К. Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России. М., 2008.
Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. М., 1996. Карташев А.В. История Русской Церкви. М., 2004.
Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.
Кеннан Дж. Ф. Маркиз де Кюстин и его «Россия в 1839 году». М., 2006.
Кириллов В.В. Архитектура русского модерна. М., 1979.
Кириченко Е.И. Архитектурные теории в России XIX века. М., 1986.
Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830–1910 годов. М., 1978.
Кириченко Е.И. Эстетические утопии «серебряного века» в России // Художественные модели мироздания. XX век. Взаимодействие искусств в поисках нового образа мира. Кн. 2. М., 1999.
Кпибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1994.
Кнабе Г.С. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М., 1999.
Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985.
Колесов КВ. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986.
Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М., 1994.
Кондаков И.В. Культурология: история культуры России: курс лекций. М., 2003.
Конявская ЕЛ. Авторское самосознание древнерусского книжника (XI – середина XV в.). М., 2000.
Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. СПб., 1998.
Котляревский Н.А. Литературные направления Александровской эпохи. М., 2007.
Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма. СПб., 1994.
Кошель П. История российского терроризма. М., 1995.
Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры. XVIII в. М., 1972.
Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII – начала XIX в. М., 1983.
Кузьмина В.Д. Рыцарский роман на Руси. М., 1964.
Кулакова И.П. Университетское пространство и его обитатели. Московский университет в историко-культурной среде XVIII века. М., 2005.
Культурное наследие древней Руси. М., 1976.
Курбановский А. «…Под воспаленным прахом». Творчество К.П. Брюллова и романтическая эзотерическая традиция // Искусствознание. 2006. № 2.
Кюстин А. дe. Россия в 1839 году. СПб., 2008.
Лавров А.В. Русские символисты: этюды и разыскания. М., 2007.
Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVII в. М., 1983.
Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971.
Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 гг. М., 1981. Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995.
Ливанова Т.Н. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом. Т. 1, 2. М., 1952–1953.
Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М., 2007. Лившиц А.Я. Экономические реформы в России и их цели. М., 1994.
Лимонов Ю.А. Культурные связи России с европейскими странами в XV–XVII вв. Л., 1978.
Лифшиц Л.И. Русское искусство X–XVII веков. М., 2000.
Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1967.
Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X–XVII вв.: Эпохи и стили. Л., 1973. Лихачев Д.С. Русская культура. СПб., 2007.
Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. М., 1985.
Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.
Лихачев Д.С, Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.
Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. СПб., 2000.
Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVII – начало XIX века). СПб., 1994.
Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала XVI в. М.; Л., 1960.
Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. Л., 1988.
Любимов Б.Н. Действо и действие. Т. 1. М., 1997.
Майофис М.Л. Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. М., 2008.
Макогоненко Г. Николай Новиков и русское просвещение. М.; Л., 1952.
Манн Ю.В. Динамика русского романтизма. М., 1995.
Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма. М., 1976.
Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма. М., 2007.
Марасинова Е.Н. Власть и личность: очерки русской истории XVIII века. М., 2008.
Марасинова Е.Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века. М., 1999.
Масарик Т.Г. Россия и Европа. Т. 1–3. СПб., 2000–2004.
Мейендорф И. Византия и Московская Русь // Мейендорф И. История Церкви и восточно-христианская мистика. М., 2003.
Мейендорф И. О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии Восточной Европы в XIV в. // Мейендорф И. История Церкви и восточно-христианская мистика. М., 2003.
Мериме П. Статьи о русской литературе. М., 2003.
Мильчина В.А., Осповат А.Л. Комментарии к книге Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». СПб., 2008.
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М., 1993–1995.
Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.) Т. 1, 2. СПб., 2003.
Моисеева Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980.
Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия Запада (В. Соловьев. Н. Бердяев. С. Франк. Л. Шестов). М., 2006.
Мочалов Л. От передвижничества к авангарду. Логика мутации (общие контуры) // Искусствознание. 2004. № 1.
Музыкальная эстетика России XI–XVIII вв. М., 1973.
Мюллер Л. Понять Россию: Историко-культурные исследования. М., 2000.
Нащокина М.В. Античное наследие в русской архитектуре николаевского времени: Его изучение и творческая интерпретация. М., 2011.
Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. М., 1991.
Никс Н.Н. Московская профессура во второй половине XIX – начале XX века. Социокультурный аспект. М., 2008.
Оболенская С.В. Германия и немцы глазами русских. М., 2000.
Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора и новая административная ментальность: очерки истории формирования. М., 1997.
Очерки русской культуры XIX века. Т. 1: Общественно-культурная среда. М., 1998.
Очерки русской культуры XIX века. Т. 2: Власть и культура. М., 2000.
Очерки русской культуры XIX века. Т. 3: Культурный потенциал общества. М., 2001.
Очерки русской культуры XIX века. Т. 4: Общественная мысль. М., 2003.
Очерки русской культуры XIX века. Т. 5: Художественная литература. Русский язык. М., 2005.
Очерки русской культуры XIX века. Т. 6: Художественная культура. М., 2002. Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 1–4. М., 1985–1990.
Павловская А.В. Россия и Америка. Проблемы общения культур. М., 1998.
Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993.
Пайне Р. Русский консерватизм и его критики. М., 2008.
Панченко А.А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М., 2002.
Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000.
Парин А. Хождение в невидимый град. Парадигмы русской классической оперы. М., 1999.
Пархоменко ТА. Культура России и просвещение народа во второй половине XIX – начале XX века. М., 2001.
Первухина-Камышникова Н.М. В.С. Печерин: Эмигрант на все времена. М., 2006. Перси У. Модерн и слово: стиль модерн в литературе России и Запада. М., 2007. Песков А.М. Германский комплекс славянофилов // Россия и Германия. Опыт философского диалога. М., 1993.
Песков А.М. «Русская идея» и «русская душа»: Очерки русской историософии. М., 2007.
Петрухин В.Я. Крещение Руси: от язычества к христианству. М., 2006.
Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI вв. М., 1995.
Пивоваров Ю.С. Две политические субкультуры пореформенной России: проблема взаимодействия // Ретроспективная и сравнительная политология. Публикации и исследования. Вып. I. М., 1991.
Пивоваров Ю.С. Полная гибель всерьез: Избр. работы. М., 2004.
Писарев К.В. Русская литература и изобразительное искусство (XVIII – первая четверть XIX века). М., 1966.
Платонов О.А. Экономика русской цивилизации. М., 1995.
Познанский В.В. Очерк формирования русской национальной культуры. М., 1975.
Поспелов Г. Русская художественная культура второй половины XIX века. Картина мира. М., 1991.
Проблемы истории русской книжности, культуры и общественного сознания. Новосибирск, 2000.
Пропп В.Я. Русские аграрные праздники: Опыт историко-этнографического исследования. Л., 1963.
Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. СПб., 2000.
Пумпянский Л.В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000.
Пыпин А.П. Масонство в России. XVIII – первая четверть XIX века. М., 1997. Пыпин А.П. Религиозные движения при Александре I. СПб., 2000.
Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII – начала XVIII в. М., 1989.
Рапацкая Л.А. Искусство «серебряного века». М., 1996.
Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. Принятие христианства. М., 1988.
Ревзин Г.И. Неоклассицизм в русской архитектуре начала XX века. М., 1992. Репников А.В. Консервативная концепция российской государственности. М., 1999.
Роднянская И.Б. Движение литературы. Т. 1, 2. М., 2006.
Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. Л., 1947.
Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989.
Россия и внешний мир. Диалог культур. М., 1997.
Россия и Европа в XIX–XX вв.: Проблема взаимовосприятия народов, социумов, культур. М., 1996.
Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения. СПб., 1995. Россия Russia. Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII – начало XX века. М., 1999.
Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М., 1995.
Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы. Л., 1980.
Русская мысль в век Просвещения. М., 1991.
Русская философия собственности (XVII–XX вв.) / сост. К. Исупов, И. Савкин. СПб., 1993.
Русская художественная культура второй половины XIX века. Картина мира. М.,
1991.
Русская художественная культура конца XIX – начала XX века (1908–1917). Зрелищные искусства. Музыка. М., 1977.
Русская цивилизация и соборность. М., 1994.
Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1–5. М., 1989–2007. Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1982.
Русский классицизм второй половины XVIII – начала XIX века. М., 1994. Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика. М., 2000.
Русский романтизм. М., 1974.
Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси: сб. / сост. М. Назаров. М., 1991.
Русское искусство барокко. М., 1977.
Русское православие: вехи истории. М., 1989.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1997.
Сарабьянов Д. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX – начала XX века. М., 1993.
Сарабьянов Д. Русская живопись XIX века среди западноевропейских школ: Опыт сравнительного исследования. М., 1980.
Сараскина Л.И. «Бесы»: роман-предупреждение. М., 1990.
Сахаров И.П. Русское народное чернокнижье. СПб., 1997.
Семенова Л.Н. Очерки истории быта и культурной жизни России (первая половина XVIII в.). Л., 1982.
Серков А.И. История русского масонства (1845–1945). СПб., 1997.
Скрынников РГ. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX–XVII вв. СПб., 2000.
Скрынников РГ. Третий Рим. СПб., 1994.
Славянская мифология: Словарь. М., 1995.
Словарь славянской мифологии. Н. Новгород, 1996.
Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 2007.
Соколов Б. Образ сада в русском искусстве конца XIX – начала XX века // Искусствознание. 2006. № 2.
Соколов К.Б. Российская интеллигенция XVIII – начала XX вв.: картина мира и повседневность. СПб., 2007.
Соловьев Э.Ю. Дефицит правопонимания в русской моральной философии // Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. М., 1991.
Сравнительное литературоведение: Россия и Запад. XIX век. М., 2008.
Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870 годов. М., 2003.
Стахорский С.В. Искания русской театральной мысли. М., 2007.
Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.
Степанова С. Русская живопись XIX века в контексте десакрализации искусства // Искусствознание. 2006. № 2.
Степун Ф.А. Дух, лицо и стиль русской культуры // Степун Ф.А. Соч. М., 2000. Стернин Г.Ю. Два века. Очерки русской художественной культуры. М., 2007. Страда В. Этика террора. От Федора Достоевского до Томаса Манна. М., 2014.
Тарасов Б.Н. «Мыслящий тростник»: Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей. М., 2004.
Тарасов Б.Н. Николай Первый и его время. Т. 1, 2. М., 2000.
Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале XX века. История императорских православных духовных академий. М., 2005.
Тахо-Годи Е.А. Великие и безвестные: Очерки по русской литературе и культуре XIX–XX вв. СПб., 2008.
Твардовская В.А. Достоевский в общественной жизни России (1861–1881). М., 1990.
Театр и русская культура на рубеже XIX–XX веков. М., 1998.
Тиме Г.А. Россия и Германия: философский дискурс в русской литературе XIX–XX веков. СПб., 2011.
Тимошина Т.М. Экономическая история России. М., 2002.
Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. М., 1995.
Топоров В.Н. Из истории русского аполлинизма: его золотые дни и его крушение. М., 2004.
Традиции русского фольклора. М., 1986.
Традиции русской музыкальной культуры XVIII века. М., 1983.
Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. Новосибирск, 1991.
Туманова А.С. История общественных организаций дореволюционной России. М., 2006.
Туманова А.С. Общественные организации и русская публика в начале XX века. М., 2008.
Турчин В.С. Александр I и неоклассицизм в России. Стиль империи, или Империя как стиль. М., 2001.
Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. К истории русского искусства первой трети XIX столетия. Очерки. М., 1981.
Туръян М.А. Русский «фантастический реализм». Статьи разных лет. СПб., 2013.
Уоршман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. Т. I: От Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002; Т. II: От Александра II до отречения Николая II. М., 2003.
Успенская А.В. Античность в русской поэзии второй половины XIX века. СПб., 2005.
Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. М., 1989.
Федотов Г.П. Русская религиозность. Ч. 1: Христианство Киевской Руси. X–XIII вв. // Федотов Г.П. Собр. соч.: в 12 т. М., 2001.
Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990.
Философия русского религиозного искусства. М., 1993.
Фирсов С. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М., 2002. Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
Фролов Э.Д. Русская наука об античности. Историографические очерки. СПб., 2006.
Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. СПб., 1999.
Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм. Космическая символика. СПб., 2003.
Ходасевич В.Ф. Державин. М., 1988.
Хренов Н., Соколов К. Художественная жизнь императорской России (субкультуры, картины мира, ментальность). СПб., 2001.
Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI–XVII веков. М., 1996.
Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986.
Человек в культуре русского барокко. М., 2007.
Шмелев А.Д. Русская языковая картина мира. Материалы к словарю. М., 2002.
Штранге М.М. Демократическая интеллигенция в России в XVIII в. М., 1965.
Щукин В.Г. Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М., 2007.
Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. М., 1989.
Экономика русской цивилизации. М., 1995.
Экштут С.А. Тютчев. Тайный советник и камергер. М., 2003.
Элитарное и массовое в русской художественной культуре. М., 1996.
Эткинд А.М. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1998.
Эткинд А.М. Хлыст: Секты, литература и революция. М., 1998.
Эткинд А.М. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб., 1993.
Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
Яковлева Н.А. Русская икона. М., 2004.
Янов А.Л. Россия против России. Очерки истории русского национализма 1825–1921. Новосибирск, 1999.
Янов А.Л. Россия: у истоков трагедии. 1462–1584. Заметки о природе и происхождении русской государственности. М., 2001.
Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М., 2006.
Абрамсон М.Л. Человек итальянского Возрождения. Частная жизнь и культура. М., 2005.
Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.
Андреев М.Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1993.
Андреев М.Л., Хлодовский Р.И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.
Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.
Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурноисторических основаниях и пределах личного самосознания. М., 2000.
Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М., 1995.
Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.
Баткин Л.М. Петрарка на острие собственного пера. М., 1995.
Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.
Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996.
Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV–XV вв. М., 1977.
Брагина Л.М. Флорентийская Платоновская академия // Проблемы итальянской истории. М., 1993.
Бранка В. Бокаччо средневековый. М., 1983.
Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М., 2004.
Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М., 1996.
Валери П. Введение в систему Леонардо да Винчи // Валери П. Об искусстве. М., 1976.
Варбанец Н.В. Йохан Гутенберг. М., 1980.
Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в итальянское Возрождение. М., 2004.
Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии. СПб., 2004.
Веселовский А.Н. Противоречия итальянского Возрождения // Веселовский А.Н. Мерлин и Соломон: Избр. работы. М.; СПб., 2001.
Визгин В.П. Герметизм, эксперимент, чудо // Философско-религиозные истоки науки. М., 1997.
Виллари П. Джироламо Савонарола и его время: в 2 т. М., 1995.
Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII–XVI вв. Курс лекций по истории изобразительного искусства и архитектуры. Т. 1, 2. М., 1977.
Габричевский А.Г. Морфология искусства. М., 2002.
Гарднер Д. Жизнь и время Чосера. М., 1986.
Гарэн 3. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986.
Герольд В. Философия и теология в европейской культурно-образовательной среде XIV – начала XV века // Новые идеи в философии. М., 1991.
Гершензон-Чегодаева Н.М. Нидерландский портрет XV века. Его истоки и судьбы. М., 1972.
Головин В.П. Мир художника раннего итальянского Возрождения. М., 2003. Головин В.П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения: влияние и взаимосвязь. М., 1985.
Горбунов А.Н. Чосер средневековый. М., 2010.
Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980.
Гращенков В.Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. Т. 1, 2. М., 1996.
Гринблатт С. Формирование «я» в эпоху Ренессанса: От Мора до Шекспира // Новое литературное обозрение. 1999. № 35.
Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Л., 1990.
Гуманистическая мысль, школа и педагогика эпохи позднего Средневековья и начала Нового времени. М., 1990.
Данилова И.Е. От Средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М., 1975.
Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1, 2. М., 1978.
Девятайкина Н.М. Мировоззрение Петрарки: этические взгляды. Саратов, 1988. Демонология эпохи Возрождения. М., 1996.
Дживелегов А.К. Творцы итальянского Возрождения. Кн. 1, 2. М., 1998.
Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. М.; Иерусалим, 2000.
Евдокимова Ю.К., Симакова Н.С. Музыка эпохи Возрождения (cantus prius factus и работа с ним). М., 1982.
Егорова К.С. Пейзаж в нидерландской живописи XV века. М., 1999.
Егорова К.С. Ян ван Эйк. М., 1965.
Знамеровская Т.П. Проблема кватроченто и творчество Мазаччо. Л., 1972.
Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти // Леон Батиста Альберти. М., 1977. Зубов В.П. Леонардо да Винчи. 1452–1519. М., 2008.
Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976.
Исторический лексикон. XIV–XVI век: Энцикл. справочник. М., 2001.
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. М., 2001. Итальянское Возрождение. Л., 1966.
Кассирер Э. Индивид и космос в философии Возрождения // Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. М.; СПб., 2000.
Коннов В. Нидерландские композиторы XV–XVI веков. Л., 1984.
Конрад Н.И. Об эпохе Возрождения: Восток и Запад. М., 1972.
Кудрявцев О.Ф. Флорентийская Платоновская Академия. Очерк истории духовной жизни ренессансной Италии. М., 2008.
Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения (Наука XIV–XVI вв. в свете современной науки). М., 1979.
Культура Возрождения и власть. М., 1999.
Культура Возрождения и общество. М., 1986.
Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. М., 1997.
Культура Возрождения и средние века. М., 1993.
Культура эпохи Возрождения. Л., 1986.
Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981.
Лазарев В.Н. Начало Раннего Возрождения в итальянском искусстве. М., 1979. Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения: в 3 т. М., 1956.
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2007.
Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М., 1967. Лосев А.Ф. Эстетика Ренессанса. М., 1978.
Марчукова С.М. Наука и религия в культуре Ренессанса. СПб., 2001. Матвиевская Г.П. Альбрехт Дюрер – ученый. М., 1987.
Миф в культуре Возрождения. М., 2003.
Мокульский С.С. Итальянская литература: Возрождение и Просвещение. М., 1966.
Монроз Л. Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры // Новое литературное обозрение. 2000. № 42.
Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / сост. В.П. Шестаков. М., 1966.
Наследие Николая Кузанского и традиции европейского философствования // Verbum. Вып. 9. СПб., 2007.
Немилое А.Н. Немецкие гуманисты XV в. Л., 1979.
Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. XV век. М., 1982.
Никулин Н.Н. Искусство Нидерландов XV–XVI вв. Л., 1987.
Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: быт, нравы, идеалы. М., 1996.
От Средних веков к Возрождению. СПб., 2003.
Панофский Э. Перспектива как «символическая форма» // Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика. СПб., 2004.
Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998.
Патер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М., 2006.
Петров М.Т. Итальянская интеллигенция в эпоху Ренессанса. Л., 1982.
Пинский Л.М. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961.
Попов П.С., Стяжкин П.И. Развитие логических идей в эпоху Возрождения. М., 1983.
Природа в культуре Возрождения. М., 1992.
Проблемы культуры итальянского Возрождения. Л., 1979.
Ракитская И.Ф. Политическая мысль итальянского Возрождения. Л., 1984. Ревякина Н.В. Гуманистическое воспитание в Италии XIV–XV веков. Иваново, 1993.
Ревякина Н.В. Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV – первой половины XV в. М., 1977.
Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблемы стилей в западноевропейском искусстве XV–XVII веков. М., 1966.
Ренессанс. Образ и место Возрождения в истории культуры. М., 1987.
Ротенберг Е.И. Искусство Италии. Средняя Италия в период высокого Возрождения. М., 1974.
Рутенбург В.И. Итальянский город от раннего Средневековья до Возрождения. Л., 1987.
Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. Л., 1976.
Сапрыкин Ю.М. От Чосера до Шекспира: этические и политические идеи в Англии. М., 1985.
Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII–XIX веков. М., 2010.
Силюнас В.Ю. История испанского театра XIII–XVI вв. М., 1995.
Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV–XVII вв.: Реальность и символика. М., 1994.
Соколов М.Н. Время и место. Искусство Возрождения как перворубеж виртуального пространства. М., 2002.
Соколов М.Н. Мистерия соседства. М., 1999.
Стам С.М. Средние века: город, ереси, Возрождение, Реформация: Избр. труды. Саратов, 1998.
Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XIV–XV века. СПб., 1993, 1995.
Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб., 2009.
Театр и театральность в культуре Возрождения. М., 2005.
Типология и периодизация культуры Возрождения. Л., 1978.
Тучков ИМ. Классическая традиция и искусство Возрождения. М., 1992.
Тэн И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов. Лекции, читанные в Школе изящных искусств в Париже. М., 1995.
Успенский Б.А. Композиция Гентского алтаря Ван Эйка в семиотическом освещении (Божественная и человеческая перспектива) // Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
Фергюсон А.Б. Золотая осень английской рыцарственности. Исследование упадка и трансформации рыцарского идеализма. СПб., 2004.
Франческо Петрарка и европейская культура. М., 2007.
Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988.
Херманн X. Савонарола. Еретик из Сан-Марко. М., 1982.
Хлодовский Р.И. Декамерон. Поэтика и стиль. М., 1982.
Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М., 1974.
Хоментовская А.И. Лоренцо Валла – великий итальянский гуманист. М.; Л., 1964.
Царлин Д. Установление гармонии: Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.
Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. Очерки об искусстве Ренессанса и неоплатоническом гуманизме. М.; СПб., 2001.
Штейн АЛ. История испанской литературы (Средние века и Возрождение). М., 1976.
Алташина В.Д. Поэзия и правда мемуаров (Франция, XVII–XVIII вв.). СПб., 2005.
Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1974.
Асмус В. Ф. Декарт. М., 1956.
Ахутин А.В. Как возможна научная революция // Традиции и революции в истории культуры. М., 1991.
Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в новое время («фюсис» и «натура»). М., 1988.
Базен Ж. Барокко и рококо. М., 2001.
Балашов Н.И. Испанская классическая драма (в сравнительно-литературном и текстологическом аспектах). М., 1975.
Барг М.А. Место XVII века в истории Европы // Вопросы истории. 1985. № 3. Барг М.А. Шекспир и история. М., 1979.
Барг М.А., Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII–XVIII веков в структуре переходной эпохи от феодализма к капитализму. М., 1990.
Барт Р. Из книги «О Расине» // Барт Р. Избр. работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
Баткин Л.М. Пьетро Аретино и конец итальянского Возрождения. М., 2009.
Бахмутский В.Я. На рубеже двух веков // Спор о древних и новых. М., 1985.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
Бёмер Г. Иезуиты // Бёмер Г. Иезуиты; Ли Г.Ч. Инквизиция. Происхождение и устройство. СПб.; М., 1999.
Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.
Берлин И. Оригинальность Макиавелли // Берлин И. Подлинная цель познания. М., 2002.
Бернштейн Б.М. Уникальность художника как проблема первых историй искусства // Метаморфозы творческого Я художника. М., 2005.
Бирюкова Н.Б. Логическая мысль во Франции XVII – начала XIX столетий: Французские предвосхищения идей математической логики. М., 2006.
Бицилли П.М. Игнатий Лойола и Дон Кихот // Бицилли П.М. Избр. труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006.
Бобкова М.С. Жан Боден: история жизни в эпоху катастроф // История через личность: Историческая биография сегодня. М., 2005.
Бобкова М.С. Исторический метод Жана Бодена как способ теоретического осмысления прошлого // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 1/99. М., 1999.
Богуславский В.М. Монтень и философия культуры // История философии и вопросы культуры. М., 1975.
Богуславский В.М. У истоков французского атеизма и материализма. М., 1964.
Богуславский В.М. Франциско Санчез – французский предшественник Френсиса Бэкона. М., 2001.
Бойко С.П. Шарль Перро. М., 2005.
Бокль Т.Г. История цивилизаций. История цивилизации в Англии. Т. 1. М., 2000; Т. 2. М., 2002.
Большаков В.П. Корнель. М., 2001.
Большаков В.П. Мишель Монтень – великий гуманист эпохи Возрождения. М., 1983.
Большаков В.П. Французская драматургия первой половины XVII века и мировоззрение Нового времени. Орехово-Зуево, 1992.
Боссан Ф. Людовик XIV, король-артист. М., 2002.
Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Италия, Испания, Англия. Л., 1973.
Брендлер Г. Мартин Лютер. Теология и революция. М.; СПб., 2000.
Брион М. Дюрер. М., 2006.
Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, 1993.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1–3. М., 1987; 1988; 1992.
Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. 1: Роль среды. М., 2002; Ч. 2: Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. М., 2003; Ч. 3: События. Политика. Люди. М., 2004.
Булычева А.В. Сады Армиды: Музыкальный театр французского барокко. М., 2004.
Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М., 2004.
Бурлацкий Ф.М. Никколо Макиавелли. Советник государя. М., 2002.
Валери П. Взгляд на Декарта (фрагмент) // Вопросы философии. 2003. № 10.
Вдовина Г.В. Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII века. М., 2009.
Вебер М. История хозяйства. Город. М., 2001.
Вейт Я.Я. Религия и церковь в Англии. М., 1976.
Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии. СПб., 2004.
Вер Г. Якоб Бёме. Челябинск, 1998.
Верховский Н.П. Борьба за Шекспира в эпоху классицизма и раннего Просвещения. Рязань, 2004.
Визгин В.П. Герметический импульс формирования новоевропейской науки: историографический контекст // Одиссей. Человек в истории. Личность и общество: проблемы самоидентификации. 1998. М., 1999.
Виппер Б.Р. Борьба течений в итальянском искусстве XVI в. (1520–1590). К проблеме кризиса итальянского гуманизма. М., 1956.
Виппер Б.Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII–XVIII вв. М., 1966.
Виппер Ю.Б. Влияние общественного кризиса 1640-х годов на развитие западноевропейских литератур XVII в. // Виппер Ю.Б. Творческие судьбы и история (О западноевропейских литературах XVI – первой половины XIX века). М., 1990.
Виппер Ю.Б. Поэзия Плеяды: Становление литературной школы. М., 1976.
Виппер Ю.Б. Формирование классицизма во французской поэзии начала XVII века. М., 1967.
Виргинский А.С. Очерки истории науки и техники XVII–XVIII вв. М., 1984.
Волькенштейн М.В. Рембрандт и Гюйгенс, или Две «Данаи» и две оптики // Знание – сила. 1987. № 2.
Воронина Т.С., Мальцева Н.Л., Стародубова В.В. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. М., 1994.
Гайденко П.П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура // Три подхода к изучению культуры. М., 1997.
Гайденко П.П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания // Философско-религиозные истоки науки. М., 1997.
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. М., 1980.
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв.). Формирование научных программ нового времени. М., 1987.
Герасимова-Персидская Н.А. Место музыки в общественной культуре XVII века // Музыка. Культура. Человек. Свердловск, 1988.
Геръе В.И. Лейбниц и его век. СПб., 2008.
Гинзбург К. Сыр и черви: Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000.
Гобри И. Лютер. М., 2000.
Гольдман Л. Сокровенный Бог. М., 2001.
Горбунов А.Н. Джон Донн и английская поэзия XVI–XVII вв. М., 1993.
Гордеев Н.П. Пражская научная школа конца XVI – начала XVII века. М., 2001.
Городская культура: Средневековье и начало нового времени. Л., 1986.
Горфункель А.Х. Томмазо Кампанелла. М., 2010.
Гуманистическая мысль, школа и педагогика эпохи позднего Средневековья и начала Нового времени. М., 1990.
Гучинская Н.О. Ангел Силезский и немецкая мистика // Ангелус Силезиус. Херувимский странник (Остроумные речения и вирши). СПб., 1999.
Давыдов Ю.Н. «Война всех против всех» в идеальнотипическом истолковании // Полис. 1993. № 6.
Давыдов Ю.Н. Укрощение Левиафана, или Социальные потенции обычного согласия // Полис. 1994. № 2.
Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб., 2003.
Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII века. Л., 1986.
Дасса Ф. Барокко: Архитектура между 1600–1750 годами. М., 2002.
Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2001.
Декарт в канун XXI столетия: Материалы междунар. конф. М., 1998.
Демин А. Поэма Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» в переводе В.С. Лихачева // Тассо Т. Освобожденный Иерусалим. СПб., 2007.
Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. М.; Иерусалим, 2000.
Дмитриев И.С. Искушение святого Коперника: ненаучные корни научной революции. СПб., 2006.
Дмитриев И.С. Неизвестный Ньютон: Силуэт на фоне эпохи. СПб., 1999.
Европа: XVII век. М., 1997.
Европейское дворянство XVI–XVII вв. М., 1997.
Егорова К.С. Портрет в творчестве Рембрандта. М., 1975.
Жиль К. Никколо Макиавелли. М., 2005.
Жильсон Э. Учение Декарта о свободе и теология // Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. М., 2004.
Жирмунская Н.А. От барокко к романтизму: статьи о немецкой и французской литературах. СПб., 2001.
Жуковский Ю.Г. Политические и общественные теории XVI века. М., 2012.
Западная Европа. XVI век: цивилизация, культура, искусство. М., 2009.
Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII века – первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983.
Звездина Ю.Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта. К проблеме прочтения символа. М., 1997.
Зиммель Г. Микеланджело // Зиммель Г. Избранное. Т. 1: Философия культуры. М., 1996.
Iberica. К 400-летию романа Сервантеса «Дон Кихот». СПб., 2005.
История зарубежной литературы XVII века / под ред. Н.Т. Пахсарян. М., 2007. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Искусство 17 века. Голландия, Франция, Англия, Германия. М., 1995.
История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Искусство 17 века. Италия, Испания, Фландрия. М., 1988.
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. М., 2001. Йейтс Ф.А. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000.
Йейтс Ф. Розенкрейцерское Просвещение. М., 1999.
Кадышев В.С. Расин. М., 1990.
Каптерева Т.П. Искусство Испании: Средние века. Эпоха возрождения. М., 1989.
Каптерева Т.П., Быков В.Е. Искусство Франции XVII века. М., 1969.
Карпенко Е. Морфология религиозной утопии. Творчество и философия Бернара Палисси // Искусствознание. 2004. № 1.
Каспэ С.И. Новый свет. Опыт социального конструирования (иезуиты в Парагвае) // Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения. Ч. 4. М., 1995.
Катасонов В.Н. Метафизическая математика XVII в. М., 1993.
Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2001.
Кеменов В. Картины Веласкеса. М., 1969.
Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500–1789 годы. М., 2006. Кирсанов В.С. Научная революция XVII века. М., 1987.
Кихле Ш. Игнатий Лойола. Учитель духовности. М., 2004.
Кляус Е.М., Погребысский И.Б., Франкфурт У.И. Паскаль. М., 1971.
Кожокин Е.М. Государство и народ: от Фронды до Великой французской революции. М., 1989.
Козлова Н.П. Ранний европейский классицизм (XVI–XVII вв.) // Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
Койре А. Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI века. Долгопрудный, 1994.
Койре А. От бесконечного мира к замкнутой вселенной. М., 2001.
Комарова В.П. Личность и государство в исторических драмах Шекспира. Л., 1977.
Комарова В.П. Монтень и Шекспир. М., 1983.
Конен В.Д. Клаудио Монтеверди. 1567–1643. М., 1971.
Конен В.Д. Пёрселл и опера. М., 1978.
Коннов В. Нидерландские композиторы XV–XVI веков. Л., 1984.
Конрад Н.И. О барокко // Конрад Н.И. Избр. труды. История. М., 1974.
Копелевич Ю.Х. Возникновение научных академий (середина XVII – середина XVIII в.). Л.; М., 1974.
Корзо М.А. Образ человека в проповеди XVII века. М., 1999.
Коробочко А.И. Из истории социальных движений во Франции в первой половине XVII века // Французский ежегодник, 1965. М., 1966.
Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 1997.
Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени. М., 1989.
Котарбинъский Т. Программа Бэкона. Основная мысль методологии Фрэнсиса Бэкона. Бэкон о будущем науки // Котарбиньский Т. Избр. произведения. М., 1963.
Красноглазое А.Б. Сервантес. М., 2003.
Креленко Н.С. «Пуританская» революция и английская общественная мысль XVII–XIX вв.: Исторический миф в контексте политической борьбы. Саратов, 1990.
Кристен О. Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм. М., 2005.
Кротов А.А. Фенелон и Мальбранш: две тенденции религиозной философии XVII века // Историко-философский ежегодник’ 2009. М., 2010.
Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991.
Кузнецов Б.Г. Галилео Галилей. М., 1964.
Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения (Наука XIV–XVI вв. в свете современной науки). М., 1979.
Культура Возрождения XVI века. М., 1997.
Культура и общество Италии накануне нового времени. М., 1993.
Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981.
Лабутина Т.Л. Воспитание и образование англичанки в XVII веке. М., 2001.
Лабутина Т.Л. Общественно-политические взгляды Джонатана Свифта // Общественная мысль в контексте истории культуры. М., 2004.
Лабутина Т.Л. У истоков современной демократии. Политическая мысль английского Просвещения. М., 1995.
Лазарев В.В. Становление философского сознания Нового времени. М., 1987. Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи. М., 1969.
Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972.
Левина И. Искусство Испании XVI–XVII вв. М., 1965.
Либман М.Я. Дюрер и его эпоха. М., 1972.
Либман М.Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения. М., 1991.
Ливанова Т.Н. Западноевропейская музыка XVII–XVIII веков в ряду искусств. М., 1977.
Лившиц Г.М. Реформационное движение в Чехии и Германии. Минск, 1978.
Лобанова М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
Лобанова М.Н. Принцип репрезентации в поэтике барокко // Контекст. 1988. М.,
1989.
Локтев В.И. Барокко от Микеланджело до Гварини (проблема стиля). М., 2004.
Лооренте Х.А. История испанской инквизиции. Т. 1, 2. М., 1999.
Маграт А. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994.
Майер П. Парацельс – врач и провидец. Размышления о Теофрасте фон Гоген-гейме. М., 2003.
Майоров Г.Г. Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница. М., 1973.
Маккенны R XVI век. Европа. Экспансия и конфликт. М., 2004.
Малов В.Н. Был ли кризис XVII века? // Новая и новейшая история. 1985. № 5.
Малявина Л.А. У истоков языкознания нового времени. Универсальная грамматика Ф. Санчеса «Минерва» 1587 года. М., 1985.
Маритен Ж. Три реформатора // Маритен Ж. Избранное: Величие и нищета метафизики. М., 2004.
Маркиш С.П. Знакомство с Эразмом из Роттердама. М., 1971.
Матвиевская Г.П. Альбрехт Дюрер – ученый. М., 1987.
Матвиевская Г.П. Рене Декарт. М., 1976.
Махов А.Б. Тициан. М., 2006.
Мережковский Д.С. Испанские мистики. Томск, 1998.
Мережковский Д. С. Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль. Томск, 1999.
Метивье Ю. Франция в XVI–XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. М., 2005. Микеланджело и его время. М., 1978.
Миролюбова А.Ю. Искусство острого ума // Поэзия испанского барокко. СПб., 2006.
Митер Г.Х. Основные идеи кальвинизма. СПб., 1995.
Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность. СПб., 1997.
Михайлов А.В. Поэтика барокко // Михайлов А.В. Избранное. Завершение риторической эпохи. СПб., 2007.
Мокульский С.С. Итальянская литература: Возрождение и Просвещение. М., 1966.
Монтер У. Ритуал, миф и магия в Европе раннего Нового времени. М., 2003. Морозов С.В. Искусство барокко. М., 1972.
Мортон А.Л. Английская утопия. М., 1956.
Мортон А.Л. От Мэлори до Элиота. М., 1970.
Моруа А. Монтень // Моруа А. Шестьдесят лет моей литературной жизни: сб. статей. М., 1977.
Мотрошилова Н.В. Жизнь и идеи Джордано Бруно // Рождение и развитие философских идей. Историко-философские очерки и портреты. М., 1991.
Мотрошилова Н.В. Познание и общество. Из истории философии XVII–XVIII веков. М., 1969.
Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков. М., 1971.
Надъярных М. Изобретение традиции, или Метаморфозы барокко и классицизма // Вопросы литературы. 1999. № 4.
Нарский И.С. Философия Джона Локка. М., 1960.
Неклюдова М.С. Дважды два четыре, или Математическая проблема в «Дон Жуане» Мольера // Arbor Mundi. Мировое древо. 2006. № 13.
Неклюдова М.С. Искусство частной жизни: Век Людовика XIV. М., 2008. Некрасова И.А. Религиозная драма и спектакль XVI–XVII веков. СПб., 2013.
Нестеров А.В. Фортуна и лира: некоторые аспекты английской поэзии конца XVI – начала XVII вв. (У Шекспир, Д. Донн, Э. Спенсер, У. Рэли). Саратов, 2005.
Нечаев С.Ю. Торквемада. М., 2010.
Никитин Е.П., Никитина А.Г. Загадка «Государя» (политизм как идеология политики) // Вопросы философии. 1997. № 1.
Никколо Макиавелли: pro et contra. Антология. СПб., 2002.
Никулин Д.В. Пространство и время в метафизике XVII века. Новосибирск, 1993.
Никулин Н.Н. Искусство Нидерландов XV–XVI вв. Л., 1987.
Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. М., 1968.
Образы культуры и стили мышления: иберийский опыт // Verbum. Вып. 5. СПб., 2001.
Озерков Д. Неестественная природа. Испанский пейзаж XVII века // Метафизические исследования. Вып. 13: Искусство. СПб., 2000.
Ордине Н. Граница тени. Литература, философия и живопись у Джордано Бруно. СПб., 2008.
Орловская Н.К. Восточные мотивы в европейском галантном романе XVII–XVIII вв. // Взаимодействие культур Востока и Запада: сб. статей. М., 1987.
Ортега-и-Гассет X. Веласкес // Ортега-и-Гассет X. Веласкес. Гойя. М., 1997.
Ортега-и-Гассет X. Вокруг Галилея (схема кризисов) // Ортега-и-Гассет X. Избр. труды. М., 1997.
Осиновский И.Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, Реформация. М., 1978.
Осминская Н.А. Традиция универсального музея: коллекционирование как мировоззрение // Arbor Mundi. Мировое древо. 2004. № 11.
Оссовская М. Рыцарь и буржуа: исследования по истории морали. М., 1987. Очерки истории западноевропейского либерализма (XVII–XIX вв.). М., 2004.
Ошис В.В. История нидерландской литературы. М., 1983.
Павлова ТА. Милтон. М., 1997.
Панофский Э. «Et in Arcadia ego»: Пуссен и элегическая традиция // Новое литературное обозрение. 1998. № 33.
Перроа А. Святой Игнатий Лойола // Символ. № 26. Париж, 1991.
Перцев А.В. Почему Европа не Россия (Как был придуман капитализм). М., 2005.
Петров М.Т. Итальянская интеллигенция в эпоху Ренессанса. Л., 1982.
Петрусевич Н. Искусство Франции XV–XVI вв. М., 1973.
Пинский Л.Е. Бальтасар Грасиан и его произведения // Грасиан Б. Карманный оракул. Критикой. М., 1981.
Пинский Л.Е. Шекспир: основные начала драматургии. М., 1971.
Пискунова С.И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. М., 1998.
Плавскин З.И. Испанская литература XVII – середины XIX в. М., 1978.
Погоняйло А.Г. Философия заводной игрушки, или Апология механицизма. СПб., 1998.
Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646–1716. М., 1971.
Подорога В.А. Ночь и день. Миры Рене Декарта и Жоржа де Ла Тура // Художественный журнал. 1996. № 14.
Порозовская Б.Д. Мартин Лютер: Его жизнь и реформаторская деятельность. СПб., 1997.
Поршнев Б.Ф. Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII века. М., 1970.
Природа в культуре Возрождения. М., 1992.
Проблемы генезиса капитализма. М., 1978.
Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего Нового времени. СПб., 1996.
Проказина Н.В. Стиль, жанр, манера. К вопросу о недостаточности метода. Теория искусства XVII века // Классическое искусство от Древности до XX века. М., 2007.
Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648. СПб., 2008.
Прусс И.Е. Малая история искусств. Западноевропейское искусство XVII в. М.; Дрезден, 1974.
Разумовская М.В. Ларошфуко, автор «Максим». Л., 1971.
Ранер X. Игнатий Лойола и историческое становление его духовности. М., 2002.
Раппапорт А.Г. Пространство театра и пространство города в Европе XVI–XVII вв. // Театральное пространство. М., 1979.
Рафаэль и его время. М., 1986.
Ревуненкова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1989.
Рембрандт. Художественная культура Западной Европы XVII века: Материалы науч. конф. М., 1970.
Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблемы стилей в западноевропейском искусстве XV–XVII веков. М., 1966.
Репина Л.П. Кризис XVII века и Великая английская революция // Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения. Ч. 4. М., 1995.
Реутин М.Ю. Народная культура Германии. М., 1996.
Риклин А. Никколо Макиавелли: искусство властвовать. СПб., 2002.
Ротенберг Е.И. Голландское искусство XVII века. М., 1972.
Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века. Тематические принципы. М., 1989.
Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI–XVII вв. М., 1989.
Ротенберг Е.И. Искусство Италии. Средняя Италия в период Высокого Возрождения. М., 1974.
Ротенберг Е.И. Микеланджело. М., 1965.
Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1982.
Рутенбург В.И. Жизнь и творчество Макьявелли // Макьявелли Н. История Флоренции. М., 1987.
Рутенбург В.И. Италия и Европа накануне нового времени. Л., 1974.
Рыбка Е., Рыбка П. Коперник: Человек и мысль. М., 1973.
Самарин Р.М. Творчество Джона Мильтона. М., 1964.
Сапрыкин Д.Л. Политико-теологический и юридический контекст ранней ново-европейской философии науки // Философия науки в историческом контексте. СПб., 2003.
Сапрыкин Д.Л. Regnum Hominis (Имперский проект Френсиса Бэкона). М., 2001.
Сапрыкин Ю.М. От Чосера до Шекспира: этические и политические идеи в Англии. М., 1985.
Свидерская М.И. «Арте Сакра» (Arte sacra) – искусство итальянской Контрреформации // Религия и искусство. М., 1998.
Свидерская М.И. Искусство Италии XVII века. Основные направления и ведущие мастера. М., 1999.
Свидерская М.И. Караваджо – первый современный художник. СПб., 2001.
Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII–XIX веков. М., 2010.
XVII век в диалоге эпох культур. СПб., 2000.
Семнадцатый век в европейском литературном развитии: сб. статей. СПб., 1996.
Семнадцатый век в мировом литературном развитии: сб. статей. М., 1969.
Сервантес и всемирная литература. М., 1969.
Серкова П.А. Эсхатология и этика пиетизма: от позднего Средневековья к раннему Новому времени // Verbum. Вып. 10. Религиозно-нравственные трансформации европейской культуры: от Средних веков к Новому времени. СПб., 2008.
Сигал Н.А. «Поэтическое искусство» Буало // Буало. Поэтическое искусство. М., 1957.
Сигал Н.А. Пьер Корнель. Л.; М., 1957.
Силюнас В.Ю. Театр Золотого века. М., 2012.
Симон Ж. Культурная историчность разума. Пример Кеплера // Разум и культура: труды междунар. франко-советского коллоквиума. М., 1983.
Сказкин СД. Проблема абсолютизма в Западной Европе // Сказкин С.Д. Избр. труды по истории. М., 1973.
Скиннер К. Свобода до либерализма. СПб., 2006.
Слесарева Г.Ф. С. Пуфендорф об источнике власти, права и обязанностей в гражданском обществе // Международный исторический журнал. 2000. № 8.
Смагин Ю.Е. Оккультная философия и становление английского эмпиризма: опыт сравнительного анализа // AKADHMEIA: Материалы и исследования по истории платонизма. Вып. 5. СПб., 2003.
Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. М., 1976.
Смоляницкий С.В. Три века Яна Амоса Коменского. М., 1987.
Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV–XVII вв. Реальность и символика. М., 1994.
Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик. Мартин Лютер и его время. М., 1984.
Социально-экономические проблемы генезиса капитализма. М., 1984.
Спекторский Е.В. Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. I, II. СПб., 2006.
Сперанский Н.В. Ведьмы и ведовство: Из истории борьбы церкви с еретическими движениями. XV–XVII вв. М., 2012.
Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. СПб., 2007.
Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб., 2009.
Степанов Ю.С. Пор-Рояль в европейской культуре // Арно А., Лансло Кл. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М., 1998.
Стрельцова Г.Я. Паскаль и европейская культура. М., 1994.
Стригалев А.А. «Город Солнца» Кампанеллы как идеал миропорядка // Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн. 1.М., 1997.
Ступников И. Английский театр. Конец XVII – начало XVIII века. Л., 1986.
Тананаева Л.И. Некоторые концепции маньеризма и изучение искусства Восточной Европы конца XVI и XVII века // Советское искусствознание. 1987. Вып. 22.
Тананаева Л.И. О маньеризме и барокко. Очерки искусства Центрально-Восточной Европы и Латинской Америки конца XVI–XVII века. М., 2013.
Тананаева Л.И. Рудольфинцы. Пражский художественный центр на рубеже XVI–XVII веков. М., 1996.
Тарасов Б.Н. Паскаль. М., 1982.
Тарасов Ю.А. Голландский пейзаж XVII в. М., 1983.
Темкин А.А. Принципы иезуитского воспитания // Отечественные записки. 2004. № 3(18).
Тешке Б. Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных отношений. М., 2011.
Томашевский Н. Театр Кальдерона // Кальдерон П. Пьесы. М., 1961.
Турчин В.С. Французское искусство от Людовика XVI до Наполеона. L’ ancien regime, революция и империя. XVIII – начало XIX вв. М., 2007.
Уваров П.Ю. Французы XVI века: взгляд из Латинского квартала. М., 1993.
Узин В.С. Общественная проблематика драматургии Сервантеса и Лопе де Вега. М., 1963.
У истоков классической науки. М., 1968.
Федоров С.Е. Пуританизм и общество в стюартовской Англии (позднее индепендентство). СПб., 1993.
Федоров С.Е. Радикальные идеи в среде английского дворянства в первой половине XVII в. (к вопросу о синтезе неоплатонизма и протестантства) // AKADHMEIA. Материалы и исследования по истории платонизма. Вып. 4. СПб., 2003.
Физика на рубеже XVII–XVIII вв. М., 1974.
Филиппсон М. Религиозная контрреволюция в XVI веке: Инквизиция. М., 2011.
Философия западноевропейского Средневековья. СПб., 2005.
Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983.
Фомин Г. Иероним Босх. М., 1974.
Франсиско Суарес и европейская культура XVI–XVII веков // Verbum. Вып. 1. СПб., 1999.
Хамаза Е. Французский театр: от Средневековья к Новому времени. Образ мира и человека во французском драматическом театре XVI – первой трети XVII века. СПб., 2003.
Харитонович Д. Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца, братство Розового Креста и сам Христиан Розенкрейц // Андреэ И.В. Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459. М., 2003.
Хачатуров С. Романтизм вне романтизма. М., 2010.
Хеншелл Н. Миф абсолютизма: Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени. СПб., 2003.
Хёйзинга Й. Культура Нидерландов в XVII веке // Хёйзинга Й. Культура Нидерландов в XVII веке. Эразм. Избранные письма. Рисунки. СПб., 2009.
Хёйзинга Й. Эразм // Хёйзинга Й. Культура Нидерландов в XVII веке. Эразм. Избранные письма. Рисунки. СПб., 2009.
Хёсле В. Гении философии Нового времени. М., 1992.
Хилл К. Английская библия и революция XVII века. М., 1998.
Хома О.И. Мифы о Паскале: к проблеме многообразия направлений в философии XVII столетия // Паскаль Б. Трактаты. Полемические сочинения. Письма. Киев, 1997.
Хома О.И. Провинциалии и культура Нового времени: к проблеме диссидентства Паскаля // Паскаль Б. Письма к провинциалу. Киев, 1997.
Цвейг С. Кастеллио против Кальвина. Совесть против насилия. М., 1986.
Чекалов К.А. Маньеризм во французской и итальянской литературах. М., 2001.
Чекалов К.А. Мари-Мадлен ле Лафайет и ее творчество // Лафайет М.-М де. Соч. М., 2007.
Чекалов К.А. У истоков паралитературы: Проза французского барокко // Arbor Mundi. Мировое древо. 2006. № 13.
Чекалов К.А. Формирование массовой литературы во Франции. XVII – первая треть XVIII века. М., 2008.
Человек XVI столетия. М., 2000.
Человек XVII столетия. Ч. 1,2. М., 2005.
Черчилль У. Британия в Новое время (XVI–XVII вв.). Смоленск, 2006.
Чиколини Л.С. Социальная утопия в Италии XVI – начала XVII в. М., 1980.
Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: Проблемы методологии. М., 1985.
Чистозвонов А.Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI в. М., 1964.
Шведов Ю.Ф. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.
Шекспир в мировой литературе. М.; Л., 1964.
Шестаков В.П. Шекспир и итальянский гуманизм. М., 2009.
Шичалин Ю.А. Жизненный путь Эразма Роттердамского и становление новоевропейского самосознания // Контекст-1988. М., 1989.
Шмонин Д.В. В тени Ренессанса: вторая схоластика в Испании. СПб., 2006.
Шмонин Д.В. Фокус метафизики. Порядок бытия и опыт познания в философии Франсиско Суареса. СПб., 2002.
Штекли А.Э. «Город Солнца»: утопия и наука. М., 1978.
Штейн АЛ. Литература испанского барокко. М., 1983.
Шушарин Д.В. Швабский союз. 1488–1534 // Шушарин Д.В. Две реформации. Очерки по истории Германии и России. М., 2000.
Щедровицкий Д. Библия в переводе Лютера // Христианин. 1991. № 1.
Эйзенштейн С.М. Станиславский и Лойола // Точки – Puncta. 2002. № 3–4 (2).
Эльфонд И.Я. Тираноборцы. Из истории французской политической мысли XVI в. Саратов, 1991.
Эразм Роттердамский и его время. М., 1989.
Юревыч А.В. Психологические основания науки Нового Времени // Вопросы истории естествознания и техники. 1998. № 2.
Юсым М.А. Этика Макиавелли. М., 1990.
Яйленко Е.В. Венецианская античность. М., 2010.
Якимович А.К. Искусство непослушания. О художественном процессе Нового времени // Вопросы философии. 2006. № 5.
Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII–XVIII веков. СПб., 2004. Якимович А.К. Художник и дворец. Диего Веласкес. М., 1989.
Аберт Г. Моцарт: в 2 ч. М., 1989.
Абуш А. Шиллер. Величие и традиция немецкого гения. М., 1964.
Авдеев В.Б. Расовая историософия. М., 2001.
Азадовский К.М. Пейзаж в творчестве К.-Д. Фридриха // Проблемы романтизма. 2. М., 1971.
Азаркин Н.М. Монтескьё. М., 1988.
Акимова О.В. Этика и эстетика Оскара Уайльда. СПб., 2008.
Акройд П. Уильям Блейк. М., 2004.
Алексеев М.П. Уильям Хогарт и его «Анализ красоты» // Хогарт У Анализ красоты. Л., 1987.
Аллен Г. Эдгар По. М., 1987.
Алпатов М.А. Политические идеи французской буржуазной историографии XIX века. М.; Л., 1949.
Алябьева Л. Литературная профессия в Англии в XVI–XIX веках. М., 2004.
Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.
Аникин Г.В. Эстетика Джона Рёскина и английская литература XIX века. М., 1986.
Аникст А.А. Творческий путь Гёте. М., 1986.
Аникст А.А. Творческий союз Гёте и Шиллера и эстетика веймарского классицизма // Гёте И.-В., Шиллер Ф. Переписка: в 2 т. Т. 1. М., 1988.
Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.
Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX в. Эпоха романтизма. М., 1980.
Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.
Аркан Ю.Л. Очерки социальной философии романтизма. Из истории немецкой консервативно-романтической мысли. СПб., 2003.
Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века. М., 2004.
Amapoea К.Н. Лоренс Стерн. Жизнь и творчество. М., 2014.
БажакК. История фотографии. Возникновение изображения. М., 2003.
Базен Ж. Барокко и рококо. М., 2001.
Бальзак О. Монография о парижской прессе // Бальзак О. Изнанка современной истории. М., 2000.
Бальтазар Г.У. фон; Барт К.; Кюнг Г. Богословие и музыка. Три речи о Моцарте. М., 2006.
Барбе д’Оревильи Ж.-А. О дендизме и Джордже Браммелле: эссе. М., 2000.
Барг М.А. Историческая мысль английского Просвещения: Болингброк // Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978.
Барг М.А., Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII–XVIII веков в структуре переходной эпохи от феодализма к капитализму. М., 1990.
Барт Р. Сад, Фурье, Лойола. М., 2007.
Батикль Ж. Гойя: Легенда и Жизнь. М., 2002.
Бачко Б. Как выйти из террора? Термидор и революция. М., 2006.
Бельский А.А. Английский роман 1800–1810 гг. Пермь, 1968.
Беньямин В. Париж – столица XIX столетия // Историко-философский ежегодник’90. М., 1991.
Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб., 2004.
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
Берлин И. Марксизм и Интернационал в XIX веке // Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001.
Берлин И. Национализм: Вчерашнее упущение и сегодняшняя сила. // Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001.
Блаукопф К. Пионеры эмпиризма в музыкальной науке: Австрия и Богемия – колыбель социологии искусства. СПб., 2005.
Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.
Богомолов А.С. Немецкая буржуазная философия после 1865 года. М., 1969.
Богомолов С.А. Имперская идея в Великобритании в 70-80-е годы XIX века. Ульяновск, 2000.
Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция, конец XIX – начало XX века. М., 1987.
Бойл Д. Импрессионисты. М., 2005.
Бокадорова Н.Ю. Французская лингвистическая традиция XVIII – начала XIX века. Структура знания о языке. М., 1987.
Болховитинов Н.Н. Теоретические и историографические проблемы американской революции. М., 1973.
Ботникова А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. М., 2005.
Брянцева В.Н. Жан Филипп Рамо и французский музыкальный театр. М., 1981.
Брянцева В.Н. Французская комическая опера XVIII века. Пути становления и развития жанра. М., 1985.
Будагов P.A. Развитие французской политической терминологии в XVIII веке. М., 2002.
Булгаков С.Н. Маркс как религиозный тип // Булгаков С.Н. Соч.: в 2 т. Т. 2: Избр. статьи. М., 1993.
Булычева А.В. Сады Армиды: Музыкальный театр французского барокко. М., 2004.
Буржуазия и Великая Французская революция. М., 1989.
Бъюмонт М. Мир как универсальный магазин: утопия и политика потребления в конце XIX века // Новое литературное обозрение. 2004. № 70.
Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2005.
Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М., 1966.
Васильев В.В. История философской психологии. Западная Европа – XVIII в. Калининград, 2003.
Васильев В.В. Учение о душе в метафизике XVIII века. Барнаул, 2000.
Васильева Т.Н. Английская сатирическая поэзия XVIII века, 1760–1800. Кишинев, 1981.
Васкиневич А.И. Образ-символ в эстетике гейдельбергских романтиков // Гётевские чтения. 1999. М., 1999.
Век Просвещения. М.; Париж, 1970.
Великий романтик Байрон и мировая литература. М., 1991.
Великовский С.И. Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. М.; СПб., 1999.
Вера и знание. Соотношение понятий в классической немецкой философии. СПб., 2008.
Верховский Н.П. Борьба за Шекспира в эпоху классицизма и раннего Просвещения. Рязань, 2004.
Верцман И.Е. Эстетика Гёте // Верцман И.Е. Проблемы художественного познания. М., 1967.
Вершинин И.В. Предромантические тенденции в английской поэзии XVIII века и «поэтизация» культуры. Самара, 2003.
Вершинин И.В., Луков Вл. А. Европейская культура XVIII века. Самара, 2002.
Виат О. Граф Жозеф де Местр // Местр Ж. де. Санкт-Петербургские вечера. СПб.,
1998.
Вильмонт Н. Гёте: История его жизни и творчества. М., 1959.
Виндельбанд В. История новой философии. Т. 2: От Канта до Ницше. М., 2000.
Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни XIX столетия. М., 1993.
Виппер Р.Ю. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе. М., 2007.
Владимирова А.И. Франция на рубеже XIX и XX веков: Литература, живопись, музыка, театр. СПб., 2004.
Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1977.
Волгин В.П. Сен-Симон и сенсимонизм. М., 1961.
Волгин В.П. Французский утопический коммунизм. М., 1979.
Волжин С.В. Значение проблемы религии в развитии классических систем немецкого идеализма // Гаман И.Г., Якоби Ф.Г. Философия чувства и веры. СПб., 2006.
Волков Е. Немецкий натурализм: Роман. Повесть. Новелла. Иваново, 1980.
Володина Т.И. Модерн: проблемы синтеза искусств // Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн. 1. М., 1997.
Воркунова Н.И. Тулуз-Лотрек. М., 1972.
XVIII век: женское/мужское в культуре эпохи. М., 2008.
XVIII век. Искусство жить и жизнь искусства. М., 2004.
XVIII век: Литература в контексте культуры. М., 1999.
XVIII век: Литература в эпоху идиллий и бурь. М., 2012.
XVIII век: Литература как философия, философия как литература. М., 2010. XVIII век: театр и кулисы. М., 2006.
XVIII век: топосы и пейзажи. СПб., 2014.
Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.
Вышеславцев Б.П. Философская нищета марксизма // Вышеславцев Б.П. Соч. М., 1995.
Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: Гёльдерлин. Шлейермахер. М., 1989.
Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: Фр. Шлегель, Новалис. М., 1978.
Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. М., 1979.
Гайм Р. Вильгельм фон Гумбольдт. Описание его жизни и характеристика. М., 2004.
Гайм Р. Гегель и его время. СПб., 2006.
Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума. СПб., 2007. Геллнер 3. Пришествие национализма // Путь. 1992. № 1.
Гельмгольц Г. Об академической свободе в немецких университетах // Отечественные записки. 2003. № 6(15).
Генифе П. Политика революционного террора 1789–1794. М., 2003.
Гольдзамт Э. Уильям Моррис и социальные истоки современной архитектуры. М., 1973.
Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 1995.
Грей Г. Вагнер. Челябинск, 2000.
Гречаная Е.П. Литературное взаимовосприятие России и Франции в религиозном контексте эпохи (1797–1825). М., 2002.
Грешных В.И. Мистерия духа: Художественная проза немецких романтиков. Калининград, 2001.
Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм. Фрагментарный стиль мышления. Л., 1991.
Гринцер П.А. Образ Индии в немецком романтизме // Arbor Mundi. Мировое древо. 1994. № 3.
Громадна Й.Л. Перелом в протестантской теологии. М., 1993.
Громыко Н.В. Иоганн Готлиб Фихте и Жан-Поль Рихтер // Историко-философский ежегодник’1988. М., 1988.
Гупыга А.В. Гегель. М., 1994.
Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 1986.
Гупыга А.В. Шеллинг. М., 1994.
Гупыга А.В., Андреева И.С. Шопенгауэр. М., 2003.
Гуляев Н.А., Карташова И.В. Введение в теорию романтизма. Тверь, 1991.
Дапин В.М. Историки Франции XIX–XX веков. М., 1981.
Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб., 2003.
Даниэль С.М. Рококо: От Ватто до Фрагонара. СПб., 2007.
Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770–1990. СПб., 2003.
Два Адепта. Сен-Жермен и Калиостро. Сакральная история Европы. М., 2005.
Делон М. Искусство жить либертена. Французская либертинская проза XVIII века. М., 2013.
Джонстон У.М. Австрийский Ренессанс. Интеллектуальная и социальная история Австро-Венгрии 1848–1938 гг. М., 2004.
Длугач Т.Б. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо). М., 1995.
Длугач Т.Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. Руссо (от концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества). М., 2006.
Дмитриев А.С. Романтическая эстетика А.В. Шлегеля. М., 1974.
Дмитриев И. С. «Союз ума и фурий»: французская наука в эпоху революционного кризиса конца XVIII столетия. СПб., 2000.
Доусон К.Г. Боги революции. СПб., 2002.
Друскин М.С. История зарубежной музыки второй половины XIX века. М., 1963.
Дубашинский И.А. Памфлеты Свифта. Рига, 1968.
Дьяконова Н.Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978.
Дьяконова Н.Я. Из истории английской литературы. Статьи разных лет. СПб., 2001.
Дюмон Л. Homo aequalis. Генезис и расцвет экономической идеологии. М., 2000.
Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в политике и идеологии. М., 2001.
Европейский романтизм. М., 1973.
Европейский символизм. СПб., 2006.
Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещения. М., 1966.
Елистратова А.А. Наследие английского романтизма и современность. М., 1960.
Ерасова Е. Жизнетворчество в английском эстетическом движении 1860–1890 годов // Искусство versus литература: Франция – Россия – Германия на рубеже XIX–XX веков: сб. статей. М., 2006.
Ерофеев Н.А. Английская буржуазная историография о социальных последствиях промышленного переворота // Новая и новейшая история. 1983. № 2.
Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии. М., 1963.
Ерофеев Н.А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 1825–1853. М., 1982.
Желубовская Э.А. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции. М., 1956.
Жеребин А.И. Стиль рококо как пространство культуры // XVIII век: литература в контексте культуры. М., 1999.
Жеребкин С.В. Театр и война. Образы солдата и учителя в философии и драматургии (Германия, вторая половина XVIII в.) // Историко-философский ежегодник’94. М., 1995.
Жирмунская Н.А. От барокко к романтизму: статьи о немецкой и французской литературах. СПб., 2001.
Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур. Л., 1981.
Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., 1972.
Жучков В.А. Из истории немецкой философии XVIII века. Предклассический период. От вольфовской школы до раннего Канта. М., 1996.
Жучков В.А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения. М., 1989.
Занин С.В. Общественный идеал Жан-Жака Руссо и французское Просвещение XVIII века. СПб., 2007.
Западная философия XIX века. М., 2005.
Западноевропейская художественная культура XVIII века. М., 1980. Западноевропейское искусство второй половины XIX века. М., 1975.
Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: в 2 т. / под ред. В.М. Толмачева. М., 2007.
Захарова О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII века – первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983.
Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. М., 1964.
Зелдин Т. Франция, 1848–1945. Честолюбие, любовь и политика. Екатеринбург, 2004.
Зенкин С.Н. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999.
Зигстедт О. Эмануэль Сведенборг: жизнь и труды // Сведенборг Э. Избранное. М., 2003.
Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII–XX вв.).М., 1997.
Зильберфарб И.И. Социальная философия Шарля Фурье и ее место в истории социалистической мысли первой половины XIX века. М., 1989.
Золотов Ю.К. Французский портрет XVIII века. М., 1968.
Зубов В.П. Жан-Поль Рихтер и его «Эстетика» (Материалы к характеристическому анализу) // Избр. труды по истории философии и эстетики. 1917–1930. М., 2004.
Зубов В.П. Натурфилософские взгляды Гёте // Избр. труды по истории философии и эстетики. 1917–1930. М., 2004.
Зыкова Е.П. Восток в творчестве американских трансценденталистов // Восток – Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988.
Зюилен Г. Все сады мира. М., 2001.
Ибсен, Стриндберг, Чехов: сб. статей. М., 2007.
Иванов Р.Ф. Франклин. М., 1972.
Иерусалимская Е.В. Вклад Генри Болингброка в общественно-политическую мысль эпохи Просвещения // Общественная мысль в контексте истории культуры. М., 2004.
Импрессионисты, их современники, их соратники. М., 1976.
Ионин Л. Консерватизм // Логос. 2005. № 3 (48).
Искусство романтической эпохи: Материалы науч. конф. (1968). М., 1969. Исторические этюды о Французской революции. М., 1998.
История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Искусство XIX века. Кн. 1: Франция, Испания. СПб., 2003; Кн. 2: Германия, Австрия, Италия. СПб., 2004; Кн. 3: Англия, Скандинавия, Восточная Европа. СПб., 2004.
Йегике В. Лицо и личность. Заметки по поводу немецкой классической философии // Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. М., 2007.
Кабанес О., НассЛ. Революционный невроз // Революционный невроз. М., 1998.
Кагарлицкий Ю.И. Шекспир и Вольтер. М., 1980.
Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века. Л., 1985.
Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII–XX веков. Л., 1990.
Калитина Н.Н. «Эпоха реализма» во французской живописи XIX века. Л., 1972. Кан С.Б. История социалистических идей. М., 1967.
Кан С.Б. Немецкая историография революции 1848–1849 гг. в Германии. М., 1962.
Кантор А.М., Кожина Е.Ф. и др. Малая история искусств. Искусство XVIII в. М.; Дрезден, 1977.
Капустин Б. Либерализм и Просвещение // Логос. 2005. № 3 (48).
Кар Л. be. Прерафаэлиты: Модернизм по-английски. М., 2002.
Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.
Карельский А.В. Комедия не окончена // Немецкая романтическая комедия. СПб., 2004.
Карельский А.В. Метаморфозы Орфея: Беседы по истории западных литератур. Вып. 1: Французская литература XIX века. М., 1998.
Карельский А.В. Метаморфозы Орфея: Беседы по истории западных литератур. Вып. 3: Немецкий Орфей. М., 2007.
Каримский А.М. Революция 1776 года и становление американской философии. М., 1976.
Карлейль Т. История Французской революции. М., 1991.
Карсавин Л.П. Великая французская революция и Западная Европа // Новая Европа. 1992. № 1.
Карсавин Л.П. Жозеф де Местр // Вопросы философии. 1989. № 3.
Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. СПб., 1997.
Кассирер Э. Идея и образ // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.
Кассирер Э. Философия Просвещения. М., 2004.
Кёнигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500–1789 годы. М., 2006. Кессель Л.М. Гёте и «Западно-восточный диван». М., 1973.
Кеттл А. Введение в историю английского романа. М., 1966.
Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М.: Московская консерватория, 2009.
Кириллина Л.В. Галантность и чувствительность в музыке XVIII века // Гётевские чтения. 2003. М., 2003.
Кириллина Л.В. К истории понятий «классика» и «классицизм» в музыке // Гётевские чтения. 1997. М., 1997.
Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков. Самосознание эпохи и музыкальная практика. М., 1996.
Кириллина Л.В. Реформаторские оперы Глюка. М., 2007.
Киссель М.А. Принципы 1789 года (Генезис и первое применение) // Вопросы философии. 1989. № 10.
Классический французский либерализм. М., 2000.
Ковалев Ю.В. Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт. Л., 1984.
Ковалева О.В. О. Уайльд и стиль модерн. М., 2002.
Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003.
Кожина Е.Ф. Искусство Франции XVIII века. Л., 1971.
Кожина Е.Ф. Романтическая битва. Очерки французской романтической живописи 1820-х годов. Л., 1969.
Кожокин Е.М. Государство и народ: от Фронды до Великой французской революции. М., 1989.
Кожокин Е.М. История бедного капитализма. Франция XVIII – первой половины XIX века. М., 2005.
Козлов С.Л. Проблема рококо и французское литературное сознание XVII–XVIII вв. М., 1985.
Кондратьев Е.А. Автор – персонаж: совпадение и расхождение точек зрения (К.Д. Фридрих) // Метаморфозы творческого Я художника. М., 2005.
Конен В.Д. История зарубежной музыки. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 до середины XIX века. М., 1989.
Конен В.Д. Театр и симфония. М., 1975.
Кононенко Е. Лектор и его лекции // Рескин Дж. Лекции об искусстве. М., 2006.
Конради К. О. Гёте. Жизнь и творчество. Т. 1, 2. М., 1987.
Копелевич Ю.Х. Возникновение научных академий (середина XVIII – середина XIX вв.). Л., 1974.
Копелевич Ю.Х., Ожигова Е.П. Научные академии стран Западной Европы и Северной Америки. Л., 1989.
Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. М., 2004.
Корнилова Е.Н. Мифологическое сознание и мифопоэтика западноевропейского романтизма. М., 2001.
Косиков Г.К. Теофиль Готье, автор «Эмалей и камей» // Готье Т. Эмали и камеи. М., 1989.
Косиков Г.К. Шарль Бодлер между «восторгом жизни» и «ужасом жизни» // Бодлер Ш. Цветы зла. М., 1993.
Кошен О. Малый народ и революция. М., 2004.
Креленко Н.С. «Пуританская» революция и английская общественная мысль XVII–XIX вв.: Исторический миф в контексте политической борьбы. Саратов, 1990.
Кротов А.А. Философия Мен де Бирана. М., 2000.
Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве: Франция и Бельгия, 1870–1900. М., 1994.
Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия XVIII века. М., 1986.
Кузнецова И.А. Французский портрет эпохи романтизма // Проблемы романтизма. 2. М., 1971.
Культура эпохи Просвещения. М., 1993.
Курбановскый А.А. «Загустение зрения». К реконструкции проблемы «телесного видения» в живописи рубежа XIX–XX веков // Метаморфозы творческого Я художника. М., 2005.
Кучеренко Г.С. Исследования по истории общественной мысли Франции и Англии: XV – первая половина XIX в. М., 1981.
Кучеренко Г.С. Сен-симонизм в общественной мысли XIX в. М., 1975.
Лабутина Т.Л. Культура и власть в эпоху Просвещения. М., 2005.
Лагутина И.Н. Россия и Германия на перекрестке культур: Культурный трансфер в системе русско-немецких литературных взаимодействий конца XVIII – первой трети XX века. М., 2008.
Лагутина И.Н. Символическая реальность Гёте. М., 2001.
Ладыгин М.Б. Романтический роман. М., 1981.
Лазарев В.В., Рау А.И. Гегель и философские дискуссии его времени. М., 1991.
Лаку-Лабарт Ф. Musica ficta. Фигуры Вагнера. СПб., 1999.
Ланина Е.Е., Ланин Д.А. Идеи и знаки: Семиотика, философия языка и теория коммуникации в эпоху Французской революции. СПб., 2004.
Ланштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984.
Лаптева Л.П. История Чехии периода позднего феодализма и раннего нового времени (1648–1849). М., 1998.
Левандовский А.П. Сен-Симон. М., 1973.
Левенсон П.Я. Беккариа и Бентам // Адам Смит. Беккариа и Бентам. Джон Милль. Прудон. Ротшильды: Биографические повествования (Биографическая библиотека Фл. Павленкова. Т. 32). Челябинск, 1998.
Левер М. Маркиз де Сад. М., 2006.
Левик Б.В. История зарубежной музыки. Вторая половина XVIII века. М., 1974.
ЛевикБ.В. Рихард Вагнер. М., 1978.
Левина И.М. Гойа и испанская революция 1820–1823 гг. Л., 1950.
Лёвит К. От Гегеля к Ницше. СПб., 2002.
Леру а М. Миф о иезуитах от Беранже до Мишле. М., 2001.
Лессинг Т. Шопенгауэр. Вагнер. Ницше // Культурология. XX век: Антология. М.,
1995.
Лефор К. Политические очерки (XIX–XX века). М., 2000.
Либинзон З.Е. Фридрих Шиллер. М., 1990.
Ливанова Т.Н. Западноевропейская музыка XVII–XVIII веков в ряду искусств. М., 1977.
Ливен Д. Аристократия в Европе. 1815–1914. СПб., 2000.
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
Лихачев Д.С. Поэзия садов. Л., 1982.
Лобъе П. de. Социологическая альтернатива: Аристотель – Маркс. М., 2000. Лозинская Л. Фридрих Шиллер. М., 1960.
Лосев А.Ф. Конспект лекций по истории эстетики Нового времени // Тахо-Годи А.А., Тахо-Годи Е.А., Троицкий В.П. А.Ф. Лосев – философ и писатель: К 110-летию со дня рождения. М., 2003.
Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М., 1987.
Лукач Д. Философско-историческая обусловленность и значение романа // Вопросы философии. 1993. № 4.
Луков Вл. А. Предромантизм. М., 2006.
Лукъянец И.В. Французский роман второй половины XVIII в. (автор, герой, сюжет). СПб., 1999.
Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1: Под знаком Аркадии. М., 1998.
Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 2: Эпоха Метастазио. М., 2004.
Луцкер П.В., Сусидко И.П. Моцарт и его время. М., 2008.
ЛюбакА. де. Драма атеистического гуманизма. Милан; М., 1997.
Люблинская А.Д. Французские крестьяне в XVI–XVIII вв. Л., 1978.
Люблинская А.Д. Французский абсолютизм в первой трети XVIII в. М., 1975. Людвиг Э. Гёте. М., 1965.
Людвиг Э. Последний Гогенцоллерн: Вильгельм II. М., 1991.
Макдоно Дж. Последний кайзер: Вильгельм Неистовый. М., 2004.
Маклинн Ф. 1759. Год завоевания Британией мирового господства. М., 2009.
Максимов В.И. Французский символизм – вступление в двадцатый век // Французский символизм. Драматургия и театр. СПб., 2000.
Малинин В.А., Шинкарук В.И. Левое гегельянство. Киев, 1983.
Малов В.Н. Ж.Б. Кольбер. Абсолютистская бюрократия и французское общество. М., 1991.
Мандельштам О.Э. Девятнадцатый век // Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987.
Манн Т. Гёте как представитель бюргерской эпохи. Путь Гёте как писателя. Фантазия о Гёте. Слово о Шиллере. Страдание и величие Рихарда Вагнера. Искусство романа. Философия Ницше в свете нашего опыта. Памяти Лессинга // Манн Т. Собр. соч. Т. 10. М., 1961.
МантелХ. Робеспьер // Интеллектуальный форум. 2000. № 3.
Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983.
Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 1986.
Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1989.
Маритен Ж. Три реформатора // Маритен Ж. Избранное: Величие и нищета метафизики. М., 2004.
Маркиз де Сад и XX век. М., 1992.
Маркин Ю.П. К концепции общественного монумента в Европе в XIX – начале XX века // Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн. 1. М., 1997.
Марков Г.Е. Немецкая этнология. М., 2004.
Маркус С.А. История музыкальной эстетики. Т. 1 (С середины XVIII до начала XIX века). М., 1959.
Маркус С.А. История музыкальной эстетики. Т. 2 (Романтизм и борьба исторических направлений). М., 1968.
Мартен-Фужъе А. Элегантная жизнь, или Как возник «весь Париж». М., 1998.
Матковская И.Я., Букреева Л.Л. Философская проблематика романа Гёте «Избирательное сродство» // Гётевские чтения. 1997. М., 1997.
Математика XIX века. М., 1978.
Матъез А. Французская революция. Ростов н/Д, 1995.
Махлина С.Т. Романтизм в интерьере // Мир романтизма. Т. 11 (35). Тверь, 2006.
Махов А.Е. Ранний романтизм в поисках музыки: слух, воображение, духовный быт. М., 1993.
Мееровский Б.В. Эдмунд Бёрк как эстетик // Бёрк Э. Философское исследование о присхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М., 1979.
Мееровский Б.В. Эстетика Френсиса Хатчесона // Хатчесон и др. Эстетика. М., 1973.
Мейлих Е.И. Феликс Мендельсон-Бартольди. Л., 1973.
Мелешинский Е.М. Начало психологического романа. М., 2002.
Мидан Ж.-П. Модерн. Франция. М., 1999.
Микешин ММ. Социальная философия шотландского Просвещения. СПб., 2005.
Мильчина В.А. Жермена де Сталь и ее «философическая география» // Сталь Ж. де. Десять лет в изгнании. М., 2003.
Мильчина В.А. Париж в 1814–1848 годах. Повседневная жизнь. М., 2013.
Мильчина В.А. Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб., 2006.
Мир Просвещения. Исторический словарь. М., 2003.
Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры: Очерки из истории филологической науки. М., 1989.
Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997.
Михайлов А.Д. Два романа Кребийона-сына – ориентальные забавы рококо, или Раздумия о природе любви // Кребийон-сын. Шумовка, или Танзай и Неадарне. Японская история. Софа. Нравоучительная сказка. М., 2006.
Михайлов А.Д. Мариво и его роман «Удачливый крестьянин» // Мариво П. Удачливый крестьянин. М., 1970.
Михальская Н.П. Взаимодействие литературы и живописи в истории культуры Англии // Традиция в истории культуры. М., 1978.
Михеева Л.В. Густав Малер. Л., 1972.
Мишаткина М.В. Теория романа в эстетике Фридриха Шлегеля //Из истории западноевропейской культуры. М., 1979.
Мишина И.А., Жарова Л.Н. Становление современной цивилизации. Ч. 1: История раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.). М., 1995.
Модерн. Модернизм. Модернизация. М., 2004.
Мокульский С. Французская драматургия эпохи Просвещения // Французский театр эпохи Просвещения. Т. 1. М., 1957.
Молок Н.Ю. Качели Фрагонара. Вуайеризм и реформа видения в эпоху Просвещения // Из истории классического искусства Запада. М., 2003.
Молчанов Н.Н. Монтаньяры. М., 1989.
Молчанов Н.Н. Огюст Бланки. М., 1984.
Монархия и народовластие в культуре Просвещения. М., 1995.
Моретти Ф. Буржуа: между историей и литературой. М., 2014.
Морозов А.А. Немецкая волшебно-сатирическая сказка // Немецкие волшебно-сатирические сказки. Л., 1972.
Моррас Ш. Будущее интеллигенции. М., 2002.
Мортон А.Л. «Вечносущее евангелие» // Мортон А.Л. От Мэлори до Элиота. М., 1970.
Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к «Науке логики». М., 1984.
Мотрошилова Н.В. Социально-исторические корни немецкой классической философии. М., 1990.
Музыкальная эстетика Германии XIX века. Т. 1, 2. М., 1981–1982.
Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков. М., 1971. Музыкальная эстетика Франции XIX века. М., 1974.
Муравьев В.С. Джонатан Свифт. М., 1968.
Муравьев В.С. Путешествие с Гулливером (1699–1970). М., 1972.
Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств: Очерки теории. М., 1982.
Мухина Г.А. Шатобриан: Революция и ностальгия по «старой монархии» // История через личность: Историческая биография сегодня. М., 2005.
Мягкова Е.М. «Необъяснимая Вандея»: сельский мир на западе Франции в XVII–XVIII веках. М., 2006.
Нарский И. С. Пути английской эстетики XVIII века //Из истории английской эстетической мысли XVIII века. М., 1982.
Нарский И.С. Эстетика Давида Юма и Адама Смита // Хатчесон и др. Эстетика. М., 1973.
Наследие английского романтизма и современность. М., 1960.
Натори П. Социальная педагогика Песталоцци // Наторп П. Избр. работы / сост. В. Куренной. М., 2006.
Неболюбова Л. С. Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX–XX веков. Густав Малер. Рихард Штраус. Киев, 1990.
Некрасова ЕЛ. Романтизм в английском искусстве. Очерки. М., 1975.
Некрасова ЕЛ. Творчество Уильяма Блейка. М., 1975.
Неманов И.Н. Промышленная революция в Великобритании и утопический коммунизм Роберта Оуэна. Смоленск, 1987.
Немецкая историческая школа права. Челябинск, 2010.
Неустроев В.П. Немецкая литература эпохи Просвещения. М., 1958.
Нири К. Философская мысль в Австро-Венгрии. М., 1987.
Новак Л. Йозеф Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение. М., 1973.
Новыченко И.Ю. Чарльз Кингсли и английский христианский социализм середины XIX века. М., 2001.
Новосельская И. Французский групповой портрет XVI–XVIII веков. Л., 1961.
Нольман МЛ. Шарль Бодлер. Судьба. Эстетика. Стиль. М., 1979.
Норт Г. Марксова религия революции: Возрождение через хаос. Екатеринбург, 1994.
Обломыевский Д.Д. Литература Французской революции 1789–1794 гг. М., 1964.
Обломиевский Д.Д. Французский классицизм: Очерки. М., 1968.
Обломыевский Д.Д. Французский романтизм. М., 1947.
Обломиевский Д.Д. Французский символизм. М., 1973.
Образ человека в культуре эпохи Просвещения. Волгоград, 2003.
Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX–XX веков. М., 1974.
Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX–XX веков. М., 1984.
Общественно-политическая мысль европейского Просвещения. М., 2002. Огурцов А.П. Философия науки эпохи Просвещения. М., 1993.
Огюст Конт: Взгляд из России. М., 2000.
Озуф М. Революционный праздник. 1789–1799. М., 2003.
Орлик О.В. Передовая Россия и революционная Франция в первой половине XIX века. М., 1973.
Орлов С.А. Исторический роман Вальтера Скотта. Горький, 1960. Ортега-и-Гассет X. Гойя // Ортега-и-Гассет X. Веласкес. Гойя. М., 1997.
Ортега-и-Гассет X. Любовь у Стендаля // Ортега-и-Гассет X. Этюды о любви. СПб., 2003.
Осипова Э.Ф. Ральф Уолдо Эмерсон. Писатель и время. Л., 1991.
От Старого порядка к революции. К 200-летию Великой французской революции. Л., 1988.
Очерки истории западноевропейского либерализма (XVII–XIX вв.). М., 2004.
Падни Дж. Льюис Кэрролл и его мир. М., 1982.
Панаев И.А. Разыскатели истины: Фридрих Генрих Якоби. М., 2011.
Парижская коммуна 1871 года: Время – события – люди. М., 1981.
Пассмор Дж. Сто лет философии. М., 1998.
Пахсарьян Н.Т. Генезис, поэтика и жанровая система французского романа 1690-1760-х годов. Днепропетровск, 1996.
Пахсарьян Н.Т. Французская «легкая поэзия» в эпоху Просвещения: рождение интимности // Гётевские чтения. 2003. М., 2003.
Перов Ю.В., Сергеев К.А., Слинин Я.А. Очерки истории классического немецкого идеализма. СПб., 2000.
Петров А.М. Экономическое соприкосновение Запада и Востока (процесс и итоги к началу XIX столетия) // Эволюция восточных сообществ: синтез традиционного и современного. М., 1984.
Петров Д.Р. «Девятнадцатый век» как понятие истории культуры. Опыт музыкознания 1960-1990-х годов. М., 1999.
Петров М. Пейзаж с масками. Артистическое переживание мира в поэзии французского символизма // Искусствознание. 2007. № 1–2.
Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой Французской революции. М., 1986.
Плавскин З.И. Испанская литература XVII – середины XIX в. М., 1978.
Позитивизм и наука. М., 1975.
Покровский Н.Е. Генри Торо. М., 1983.
Покровский Н.Е. Ранняя американская философия. Пуританизм. М., 1989.
Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб., 2002.
Полемика вокруг книги Ф. Ницше «Рождение Трагедии» (1872–1874) // Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.
Полуяхтова И.К. История итальянской литературы XIX века: Эпоха Рисорджи-менто. М., 1970.
Поляков Л.В. Эдмунд Бёрк: политическая биография // Бёрк Э. Правление, политика и общество. М., 2001.
Поляков О.Ю. Развитие теории жанров в литературной критике Англии первой трети XVIII века (газетно-журнальная периодика). М., 2000.
Пономарева Л. Начало христианской демократии в Европе и русская мысль // Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1994.
Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993.
Портер Р. Происхождение и история Английских клубов // Интеллектуальный форум. 2001. Вып. 6.
Потемкин Ф.В. Промышленная революция во Франции. Т. 1, 2. М., 1971.
Проблемы изобразительного искусства XIX столетия. Л., 1990.
Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970.
Проблемы романтизма. 1. М., 1967.
Проблемы романтизма. 2. М., 1971.
Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. М., 1986.
Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм. М., 1973.
Просветительское движение в Англии. М., 1991.
Раздольская В.И. Евроейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб., 2005.
Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. Л., 1981.
Разумовская М.В. Бюффон-писатель (французские естествоиспытатели XVIII в. и литература). СПб., 1997.
Разумовская М.В. От «Персидских писем» до «Энциклопедии» (роман и наука во Франции в XVIII веке). СПб., 1994.
Разумовская М.В. Становление нового романа во Франции и запрет на роман 1730-х годов. Л., 1981.
Ревякин А.В. Социализм и либерализм во Франции в середине XIX века. М., 1999.
Редонди П. Французская революция и история науки // Природа. 1989. № 7. Реизов Б.Г. Итальянская литература XVIII века. Л., 1966.
Реизов Б.Г. Французская романтическая историография. Л., 1956.
Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958. Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. М., 1977.
Рейман П. Основные течения в немецкой литературе 1750–1848. М., 1959.
Рейтерсверд Р. Импрессионисты перед публикой и критикой. М., 1974. Религиозное образование в России и Европе в конце XVIII – начале XIX в. СПб., 2009.
Решетников Ф.М. Беккариа. М., 1987.
Рихард Вагнер: сб. статей. М., 1987.
Роде П. Сёрен Киркегор. Челябинск, 1998.
Рожков Б.А. Чартистское движение, 1836–1854. М., 1960.
Розен Ч. Великий изобретатель Иоганн Себастьян Бах // Интеллектуальный форум. 2000. № 2.
Роллан Р. Столкновение двух поколений: Токвиль и Гобино // Роллан Р. Собр. соч.: в 14 т. Т. 14. М., 1958.
Романовская Т.Б. Наука XIX–XX веков в контексте истории культуры. М., 1995. Романтизм: вечное странствие. М., 2005.
Романтизм: Теория, история, критика. Казань, 1976.
Романтизм: Энциклопедия. М, 2001.
Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1982.
РюдеДж. Народные низы в истории. 1730–1848. М., 1984.
Сабо Е.Р Революция машин. История промышленного переворота. Будапешт, 1979.
Саймонс Дж. Карлейль. М., 1981.
Сарабьянов Д.В. Модерн. История стиля. М., 2001.
Cappom Н. Флобер – наш предшественник // Вопросы литературы. 1997. № 3.
Сартр Ж.-П. Бодлер // Бодлер Ш. Цветы зла. М., 1993.
Сартр Ж.-П. Идиот в семье. Гюстав Флобер с 1821 до 1857. СПб., 1998.
Сафрански Р. Гофман. М., 2005.
Сафрански Р. Шиллер, или Открытие немецкого идеализма. М., 2007.
Светлов И.Е. Немецкий и австрийский символизм: этюды. М., 2008.
Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII–XIX веков. М., 2010.
Свирида И.И. Метаморфозы в пространстве культуры. М., 2009.
Севостъянов Г.Н., Уткин А.И. Томас Джефферсон. М., 1976.
Седых Э.В. Взаимодействие искусств в творчестве Уильяма Морриса // Художественный текст: Структура и поэтика. СПб., 2005.
Семенов Ю.И. Франсуа Минье и школа французских историков эпохи Реставрации // Минье Ф. История Французской революции с 1789 по 1814 гг. М., 2006.
Сеннет R Падение публичного человека. М., 2002.
Сидорченко Л.В. Александр Поуп и художественные искания в английской литературе первой четверти XVIII века. СПб., 1992.
Сизеран Р. де ля. Рёскин и религия красоты. М., 2007.
Сили Дж., Крэмб Дж. А. Британская империя. М., 2004.
Символизм в изобразительном искусстве: Франция и Бельгия, 1870–1900. М., 1994.
Символизм и модерн – феномены европейской культуры. М., 2008.
Символисты о символизме // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1993. С. 423–459.
Скворцов А.А. Мораль и расовая теория // Аспекты: сб. статей по философским проблемам истории и современности. Вып. II. М., 2003.
Скрипилев Е.А. Французская декларация прав человека и гражданина в русской литературе XIX–XX вв. // Общественная мысль: исследования и публикации. Вып. 2. М., 1990.
Слуцкий А.Г. Парижская коммуна 1871 года. Краткий очерк. М., 1971.
Слуцкий А.Г. Франц Меринг. Революционер, ученый, публицист. М., 1979.
Смирнов Ю.А. Империя Наполеона III. М., 2003.
Смит ЭД. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004.
Согрин В.В. Идейные течения в американской революции XVIII века. М., 1980.
Согрин В.В. Политическая история США. М., 2001.
Соколов Б.М. Английская теория пейзажного парка в XVIII столетии и ее русская интерпретация // Искусствознание. 2004. № 1.
Соколов Б.В. Германская империя: от Бисмарка до Гитлера. М., 2003.
Соколов И.В. История изобретения кинематографа. М., 1960.
Соколова Н.И. Творчество Данте Габриэля Россетти в контексте «средневекового возрождения» в викторианской Англии. М., 1995.
Соколова Т.В. От романтизма к символизму. Очерки истории французской поэзии. СПб., 2005.
Соколова Т.В. Эволюция повествовательного жанра в символистском романе: От несобственно-прямой речи к «потоку сознания» // Художественный текст: Структура и поэтика. СПб., 2005.
Соколянский М.Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения: Проблемы типологии. Киев; Одесса. 1983.
Соловьев А.Э. Истоки и смысл романтической иронии // Вопросы философии. 1984. № 12.
Соловьев В.С. Идея человечества у Августа Конта // Соловьев В.С. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1988.
Соловьев В.С. Статьи из энциклопедического словаря. Гегель // Соловьев В.С. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1988.
Соловьев Э.Ю. Категорический императив нравственности и права. М., 2005. Соловьева Н.А. Английский предромантизм и формирование романтического метода. М., 1984.
Соловьева Н.А. Англия XVIII века: разум и чувство в художественном сознании эпохи. М., 2008.
Соловьева Н.А. Античность и английский романтизм // Мир романтизма. Т. 9 (33). Тверь, 2004.
Спадолини Дж. Европейская идея в период между Просвещением и Романтизмом. СПб., 1994.
Стерноу С.А. Арт Нуво. Дух прекрасной эпохи. М., 2001.
Стефанов Ю.Н. Скважины между мирами. Литература и традиция. М., 2002.
Строев А.Ф. Судьбы французской сказки // Французская литературная сказка XVII–XVIII веков. М., 1999.
Строев А.Ф. «Те, кто поправляет Фортуну». Авантюристы Просвещения. М., 1998.
Струве П.Б. Карл Маркс и судьба марксизма // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2000 год. М., 2000.
Струве П.Б. Социализм. Критический опыт // Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997.
Ступников И. Английский театр. Конец XVII – начало XVIII века. Л., 1986. Ступников И. Дэвид Гаррик. Л., 1969.
Судьбы гегельянства: философия, религия и политика прощаются с модерном. М., 2000.
Сундуков Р. Значение термина «историчность» в немецкой философии XIX века // Логос. 2000. № 5–6 (26).
Тевзадзе Г.В. Иммануил Кант. Тбилиси, 1979.
Темница и свобода в художественном мире романтизма. М., 2002.
Theologia teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала XX в. о религии, искусстве, философии: сб. произведений. СПб., 2006.
Теория литературных стилей: Типология стилевого развития XIX века. М., 1977.
Теория литературных стилей: Типология стилевого развития Нового времени. М., 1976.
Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии. М., 2011.
Трапезникова Н. Эволюция романтизма в романе (Проблема взаимосвязи направлений во французской литературе 60–80 гг. XIX века). Казань, 1980.
Тройская МЛ. Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи Просвещения. Л., 1965.
Трыков В.П. Зарубежная журналистика XIX века. М., 2004.
Трыков В.П. Французский литературный портрет XIX века. М., 1999.
Typaee С.В. От Просвещения к романтизму (Трансформация героя и изменение жанровых структур в западноевропейской литературе конца XVIII – начала XIX в.). М., 1983.
Турнье М. Жермена Неккер де Сталь. Портрет одной женщины // Турнье М. Полет вампира. Заметки о прочитанном. М., 2004.
Турчин В. С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII–XIX веков. Франция, Англия, Германия. М., 1987.
Турчин В.С. Французское искусство от Людовика XVI до Наполеона. L’ ancien regime, революция и империя. XVIII – начало XIX вв. М., 2007.
Тырсенко А.В. Фельяны (У истоков французского либерализма). М., 1999.
Тюлар Ж. Наполеон, или Миф о «спасителе». М., 1997.
Уилсон Э. Мир Чарльза Диккенса М., 1975.
Уин Ф. Карл Маркс. М., 2003.
Уиттекер 3. История теории эфира и электричества. Ижевск, 2001.
Урнов Д.М. Дефо. М., 1978.
Урнов Д.М. Робинзон и Гулливер: Судьба двух литературных героев. М., 1973.
Фабиани Ж.-Л. Философы республики // Логос. 2004. № 3–4 (43).
Фаге Э. Политические мыслители и моралисты первой трети XIX века. М., 2009.
Фар-Беккер Г. Искусство модерна. М., 1999.
Фармонов Р.Ф. Развитие французской общественно-политической мысли в годы Второй республики (1848–1851). М., 1992.
Федоров Ф.П. Художественный мир немецкого романтизма: Структура и семантика. М., 2004.
Федорова М.М. Метаморфозы принципов Просвещения в политической философии Франции эпохи буржуазных революций. М., 2005.
Федорова М.М. Модернизм и антимодернизм во французской политической мысли XIX века. М., 1997.
Федорова М.М. Французский либерализм (Руссо – Констан) // Полис. 1993. № 4.
Феномен артистизма в современном искусстве. М., 2008.
Физика XIX–XX вв. в общенаучном и социокультурном контекстах: Физика XIX в. М., 1995.
Философский век. Альманах. Вып. 34. Человек в философии Просвещения. СПб., 2008.
Фор 3. Опала Тюрго, 12 мая 1776 г. М., 1979.
Фосскамп В. Классика как историко-литературная эпоха. Типология и функция веймарской классики // Контекст-90. М., 1990.
Французская живопись второй половины XIX века и современная ей художественная культура. М., 1972.
Французская литература 30-40-х годов XIX века: «Вторая проза». М., 2006.
Французская революция XVIII века: экономика, политика, идеология. М., 1988.
Французский либерализм в прошлом и настоящем. М., 2001.
Французское Просвещение и революция. М., 1989.
Фрейденберг О.М. К изучению источников Энгельса. Баховен // Русская антропологическая школа. Труды. Вып. 1. М., 2004.
Фрейзер Д. Фридрих Великий. М., 2003.
Фуко М. Что такое Просвещение? // Вестник Московского университета. Сер. 9 «Филология». 1999. № 2.
Фурбанк Ф.Н. Жалоба Токвиля // Интеллектуальный форум. 2000. № 2.
Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. Л., 1978.
Фюре Ф. Постижение Французской Революции. СПб., 1998.
Хайек Ф.А. фон. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом. М., 2003.
Хайченко Е.Г. Великие романтические зрелища. Английская мелодрама, бурлеск, экстраваганца, пантомима. М., 1996.
Ханмурзаев К.Г. Немецкий романтический роман. Махачкала, 1998.
Харди У. Путеводитель по стилю Ар-Нуво. М., 1998.
Харц Л. Либеральная традиция в Америке. М., 1993.
Хачатуров С. Романтизм вне романтизма. М., 2010.
Хеммер Б. Ибсен: путь Художника. М., 2010.
Хёсле В. Гении философии Нового времени. М., 1992.
Хобсбаум 3. Век Империи. 1875–1914. Ростов н/Д, 1999.
Хобсбаум 3. Век Капитала. 1848–1875. Ростов н/Д, 1999.
Хобсбаум 3. Век Революции. 1789–1848. Ростов н/Д, 1999.
Ходаковский Е.В. Каспар Давид Фридрих и архитектура. СПб., 2003.
Хохлов Ю.Н. Венская классическая школа и музыкальный романтизм //Из истории классического искусства Запада. М., 2003.
Хохловкина А. Западноевропейская опера. Конец XVIII – первая половина XIX в. М., 1962.
Храповицкая Г.Н. Ибсен и западноевропейская драма его времени. М., 1979.
Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США). М., 2003.
Храповицкая Г.Н., Солодуб Ю.П. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский реализм (1830-1860-е гг.). М., 2005.
Художественная культура Австро-Венгрии: Искусство многонациональной империи. 1867–1918. СПб., 2005.
Художественная культура XVIII века. М., 1974.
Художественный мир Э.Т.А. Гофмана. М., 1982.
Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.
Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994.
Цахер И.Б. Бетховен как современник Гёте: Типологические параллели // Гётевские чтения. 2003. М., 2003.
Чавчанидзе Д.Л. Феномен искусства в немецкой романтической прозе: средневековая модель и ее разрушение. М., 1997.
Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн: Историко-культурологический очерк. СПб., 2001.
Чекалов К.А. Формирование массовой литературы во Франции. XVII – первая треть XVIII века. М., 2008.
Человек эпохи Просвещения. М., 1999.
Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры. Вып. 1–2. Долгопрудный, 1994.
Черепанова Е.С. Австрийская философия как самосознание культурного региона. Екатеринбург, 2000.
Черепенникова М.С. Гёте и Италия. Традиции. Диалог. Синтез. М., 2006. Черкаилина М.Р. Историческая опера эпохи романтизма. Киев, 1986.
Черная Е. Австрийский музыкальный театр до Моцарта. М., 1965.
Черная Е. Моцарт и австрийский театр. М., 1965.
Черневич М.Н. Жизнь и творчество Жермены де Сталь // Сталь Ж. де. Коринна или Италия. М., 1969.
Черников И.И. Гибель империи. М.; СПб., 2002.
Честертон Г.К. Диккенс. М., 2002.
Чигарева Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. М., 2001.
Чигарева Е.И. Романтизм в музыке // Романтизм: эстетика и творчество. Тверь, 1994.
Чичерин Г. Моцарт. Л., 1970.
Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. М., 2007.
Шайтанов И.О. Мыслящая муза: Открытие природы в поэзии XVIII века. М., 1989.
Шайтанов И.О. «Столетье безумно и мудро…» // Англия в памфлете: Английская публицистическая проза XVIII века. М., 1987.
Шарль К. Интеллектуалы во Франции: Вторая половина XIX века. М., 2005.
Шартъе Р. Культурные истоки Французской революции. М., 2001.
Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 2004.
Швейцер А. Четыре речи о Гёте. СПб., 2005.
Швидковский Д.О. Архитектура и монументальное искусство Великой Французской революции // Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн. 1. М., 1997.
Шерток Л., Соссюр Р. де. Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда. М., 1991.
Шестаков В.П. Генри Фюзели: дневные мечты и ночные кошмары. М., 2002. Шестаков В.П. Прерафаэлиты: мечты о красоте. М., 2004.
Шимов Я. Австро-Венгерская империя. М., 2003.
Шиффер Д.С. Философия дендизма. Эстетика души и тела (Кьеркегор, Уайльд, Ницше, Бодлер). М., 2011.
Шкловский В.Б. Английский классический роман // Шкловский В.Б. Повести о прозе. Т. 1. М., 1966.
Шлезингер А.М. Циклы американский истории. Ч. 1,2. М., 1992.
Шнайдер У.И. Преподавание философии в немецких университетах в XIX веке // Логос. 2004. № 3–4 (43).
Шнедельбах Г. Университет Гумбольдта // Логос. 2002. № 5–6 (35).
Шорске К.Э. Вена на рубеже веков: Политика и культура. СПб., 2001.
Штейнпресс Б. Музыка XIX века. М., 1968.
Штекли А.Э. Утопии и социализм. М., 1993.
Шубин А.В. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007.
Шульц Г. Новалис, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни. Челябинск,
Шюц А. Моцарт и философы // Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. М., 2007.
Элленбергер Г.Ф. Открытие бессознательного. История и эволюция динамической психиатрии. Ч. 1. СПб., 2001.
Эмбер А. Луи Давид, живописец и член Конвента. М.; Л., 1939.
Эстетика Морриса и современность. М., 1987.
Этика Канта и современность. Рига, 1989.
Юнгер Ф.Г. Итальянский, французский и английский парки // Юнгер Ф.Г. Восток и Запад: эссе. СПб., 2004.
Яворская Н.В. Западноевропейское искусство XIX века. М., 1962.
Яворская Н.В. Романтизм и реализм во Франции в XIX веке. М., 1938.
Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII–XVIII веков. СПб., 2004. Якимович А.К. Шарден и французское Просвещение. М., 1981.
Яковенко Б.В. Жизнь и философия Иоганна Готлиба Фихте. СПб., 2004.
Ямпольский М. Физиология символического. Кн. 1: Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого Режима. М., 2004.
Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978.
Ясперс К. Стриндберг и Ван Гог. Опыт сравнительного патографического анализа с привлечением случаев Сведенборга и Гёльдерлина. СПб., 1999.
Авангард 1910-х – 1920-х годов. Взаимодействие искусств. М., 1998.
Аверинцев С.С. Образ античности в западноевропейской культуре XX в. Некоторые замечания // Новое в современной классической филологии. М., 1979.
Аверинцев С.С. Христианство в XX веке // Аверинцев С.С. София-Логос. Словарь. Киев, 2006.
Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. М., 1977.
Адорно Т.В. Введение в социологию музыки // Адорно Т.В. Избранное: Социология музыки. М.; СПб., 1999.
Адорно Т.В. Оглядываясь на сюрреализм // Синий диван. 2006. Вып. VIII.
Аксенов И. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. М., 1991.
Андреев Л.Г. Сюрреализм. М., 2004.
Антология французского сюрреализма. 20-е годы. М., 1994.
Anm С.К. Томас Манн. М., 1972.
Аристарко Г. История теорий кино. М., 1966.
Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.
Аронов В. Художник и предметное творчество: Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века. М., 1987.
Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М., 2006.
Арсланов В.Г. История западного искусствознания XX века. М., 2003.
Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления. М., 2010.
Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики: Французская историческая школа «Анналов» в современной буржуазной историографии. М., 1980.
Базен А. Что такое кино? М., 1972.
Батракова С.П. Искусство и миф: Из истории живописи XX века. М., 2002.
Батракова С.П. Художник XX века и язык живописи: От Сезанна к Пикассо. М., 1996.
БеллД. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999.
Бенъямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избр. эссе. М., 1996.
Бергер П. Понимание современности // Социологические исследования. 1990. № 7.
Бердяев Н.А. Новое средневековье // Бердяев Н.А. Смысл творчества. Харьков; М., 2002. С. 548–578.
Берсенева А.А. Европейский модерн: венская архитектурная школа. Екатеринбург, 1991.
Бланк А.С. Из истории раннего фашизма в Германии. М., 1978.
Блауберг И.И. Анри Бергсон. М., 2003.
Бобринская Е.А. Живописная материя в авангардной метафизике искусства // Вопросы искусствознания. 1996. № 2.
Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963.
Бохенский Ю.М. Современная европейская философия. М., 2000.
Брод М. Франц Кафка. Узник абсолюта. М., 2003.
Бурдьё П. О телевидении и журналистике. М., 2002.
Бычков В.В. Феномен неклассического эстетического сознания // Вопросы философии. 2003. № 10, 12.
Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 1996.
Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001.
Вартанов А.С. От фото до видео: Образ в искусствах XX века. М., 1996.
Варунц В.П. Музыкальный неоклассицизм: Исторические очерки. М., 1988.
Великовский С.И. Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. М.; СПб., 1999.
Белый В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. 1992. № 1.
Виноградов В.В. Стилевые направления французского кинематографа. М., 2010.
Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. М., 2002.
Владимирова А.И. Франция на рубеже XIX и XX веков: Литература, живопись, музыка, театр. СПб., 2004.
Влияние Интернета на сознание и структуру сознания. М., 2004.
Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. М., 1990.
Гадамер Г.-Г. Философские основания XX века // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.
Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека. М., 1994.
Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. Кн. 1: Социализм в одной стране. М., 1995.
Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. М., 1997.
Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб., 2003.
Герман М.Ю. Парижская школа. М., 2003.
Германия. XX век. Модернизм, авангард, постмодернизм. М., 2008.
Гидденс Э. Постмодерн // Философия истории. Антология. М., 1995.
Гинзбург К. Германская мифология и нацизм. Об одной старой книге Жоржа Дюмезиля // Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. М., 2004.
Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. М., 1970.
Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М., 1998.
Голомшток И.Н. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке. М., 2004.
Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М., 1994.
Горных А.А. Формализм: От структуры к тексту и за его пределы. Минск, 2003.
Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна. СПб., 1992.
Грей Д. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. М., 2003.
Грецкий М.Н. Французский структурализм. М., 1971.
Григорьева Г.В. Музыкальные формы XX века. М., 2004.
Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003.
Громадка Й.Л. Перелом в протестантской теологии. М., 1993.
Грякалов А.А. Структурализм в эстетике. Л., 1989.
Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. М., 2004.
Гумбрехт Х.У. В 1926 году: На острие времени. М., 2005.
Гурьянова Н.А. Эстетика анархии в теории раннего русского авангарда // Вопросы искусствознания. 1996. № 2.
Гюрбнер Ф.М. Экспрессионизм. М., 1996.
Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры. Критический анализ. М., 1980.
Далин В.М. Историки Франции XIX–XX веков. М., 1981.
Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770–1990. СПб., 2003.
XX век и история музыки. Проблемы стилеобразования: сб. статей. М., 2006. Деготь Е.Ю. Русское искусство XX века. М., 2000.
Декомб В. Современная французская философия. М., 2000.
Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
ДжоллД. Истоки первой мировой войны. Ростов-н/Д, 1998.
Джонсон П. Современность: мир с двадцатых по девяностые годы. Ч. 1, 2. М., 1995.
Джонстон У.М. Австрийский Ренессанс. Интеллектуальная и социальная история Австро-Венгрии 1848–1938 гг. М., 2004.
Дирак П.А.М. Воспоминания о необычайной эпохе: сб. статей. М., 1990.
Дмитриева Н.А. Китч // Дмитриева Н.А. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет. М., 2009.
Добренко Е. Формовка советского писателя. СПб., 1999.
Добренко Е. Формовка советского читателя. СПб., 1997.
Друскин М.С. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973.
Дубин Б. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2001.
Европейский символизм. СПб., 2006.
Ерофеев В.В. К вопросу об истории и поэтике комикса // Лики массовой литературы США. М., 1991.
Жаккар Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995.
Житомирский Д.В. К изучению западноевропейской музыки XX века // Современное западное искусство. М., 1971.
Завадская Е.В. Культура Востока в современном западном мире. М., 1977. Западное искусство. XX век. М., 1978.
Западное искусство. XX век. Мастера и проблемы. М., 2000.
Западное искусство. XX век. Между Пикассо и Бергманом. СПб., 1997.
Западное искусство. XX век. Образы времени и язык искусства. М., 2003.
Западное искусство. XX век. Проблема развития западного искусства XX века. СПб., 2001.
Западное искусство. XX век. Современные искания и культурные традиции. М., 1997.
Западное литературоведение XX века. М., 2004.
Зарубежная литература XX века / под ред. Л.Г. Андреева. М., 2004.
Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: в 2 т. / под ред. В.М. Толмачева. М., 2007.
Зелдин Т. Франция, 1848–1945. Честолюбие, любовь и политика. Екатеринбург, 2004.
Зингерман Б. Очерки истории драмы 20 века. М., 2003.
Зингерман Б.И. Парижская школа. М., 1993.
Iberica: Культура народов Пиренейского полуострова в XX веке. Л., 1989.
Иванов С.Г. Архитектура в культуротворчестве тоталитаризма: философско-эстетический анализ. Киев, 2001.
Измозик В.С. Глаза и уши режима. Государственный и политический контроль за населением Советской России в 1918–1928 годах. СПб., 1995.
Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: в 2 т. М., 2001–2003.
Иконников А.В. Советская архитектура – реальность и утопии // Художественные модели мироздания. XX век. Взаимодействие искусств в поисках нового образа мира. Кн. 2. М., 1999.
Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. М., 1998.
Ильин И.П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996.
Ильичева А.В., Иофис Б.Р. Европейская музыка XX века. М., 2004.
Имамичи Т. Моральный кризис и метатехнические проблемы // Вопросы философии. 1995. № 3.
Исаев С.А. Теология смерти: Очерки протестантского модернизма. М., 1991.
Искусство нового времени. Опыт культурологического анализа. СПб., 2000.
Историческая наука в XX веке. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки. М., 2002.
Канетши Э. Масса и власть. М., 1997.
Каптерева Т.П. Модернизм: Анализ и критика основных направлений. М., 1987.
Каралагивили Г. Мир романа Германа Гессе. Тбилиси, 1984.
Карельский А.В. Метаморфозы Орфея: Беседы по истории западных литератур. Вып. 2: Хрупкая лира. Лекции и статьи по австрийской литературе XX века. М., 1999.
Карцева Е.Н. Вестерн. Эволюция жанра. М., 1976.
Карцева Е.Н. Кич, или Торжество пошлости. М., 1977.
Касшельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
Катасонов В.Н. Боровшийся с бесконечным. Философско-религиозные аспекты генезиса теории множеств Г. Кантора. М., 1999.
Кестлер А. Дух в машине // Вопросы философии. 1993. № 10.
Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. М., 1989.
Кимелев Ю.А. Современные зарубежные исследования в области философской теологии. М., 1991.
Кино Италии: Неореализм. М., 1989.
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2005.
Кнабе Г.С. Диалектика повседневности // Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993.
Кнабе Г.С. Жажда тождества: Культурно-антропологическая идентификация. Вчера. Сегодня. Завтра. М., 2003.
Кнабе Г.С. Проблема контркультуры // Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993.
Козлов А. Рок: истоки и развитие. М., 1994.
Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
Козловски П. Миф о модерне. М., 2002.
Коллиер Дж. Л. Становление джаза. М., 1984.
Конен В.Д. Рождение джаза. М., 1990.
Конен В.Д. Третий пласт. Новые массовые жанры в массовой культуре XX века. М., 1994.
Конец СМИ? // Отечественные записки. 2003. № 4.
Коркюф Ф. Новые социологии. М.; СПб., 2002.
Косиков Г.К. От структурализма к постструктурализму. М., 1998.
Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2005.
Кракауэр 3. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
Кракауэр 3. Психологическая история немецкого кино. М., 1977.
Краус В. Нигилизм сегодня, или Долготерпение истории. М., 1994.
Крафт В. Венский кружок. Возникновение неопозитивизма. М., 2003.
Крусанов А.В. Русский авангард: 1907–1932 (Исторический обзор): в 3 т. Т. 1: Боевое десятилетие. СПб., 1996.
Крючкова В.А. Живопись – театр – кино. О взаимодействии художественных форм в искусстве XX века // Художественные модели мироздания. XX век. Взаимодействие искусств в поисках нового образа мира. Кн. 2. М., 1999.
Крючкова В.А. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М., 2000.
Кудинова Т.Н. От водевиля до мюзикла. М., 1982.
Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1999.
Культура российского зарубежья. М., 1995.
Курбатская С.А. Серийная музыка: вопросы теории, истории, эстетики. М., 1996.
Кутейщикова В., Осповат Л. Новый латиноамериканский роман. М., 1983.
Кюнг Г. Религия на переломе времен. О соотношении модерна и постмодерна // Arbor Mundi. Мировое древо. 1993. № 2.
Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. СПб., 2002.
Ласло Э. Век бифуркации. Постижение изменяющегося мира // Путь. 1995. № 7.
Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии (1920–1930 годы). СПб., 1999.
Левашов В. Фотовек. Очень краткая история фотографии за последние сто лет. Н. Новгород, 2002.
Левикова С.И. Молодежная культура. М., 2002.
Левинсон А. Заметки по социологии и антропологии рекламы // Новое литературное обозрение. 1996. № 22.
Лейтес Н.С. Немецкий роман 1918–1945 годов. Пермь, 1975.
Ленк Х. Размышления о современной технике. М., 1996.
Лёзов С.В. Теология Рудольфа Бультмана // Вопросы философии. 1992. № 11.
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998.
Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать современное общество // Социология на пороге XXI века: основные направления исследований. М., 1999.
Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005.
Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. М., 2002.
Маклюэн М. Законы медиа // История философии. 2001. № 8.
Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.; Жуковский, 2003.
Малинина Т.Г. Стилевой проект века. Об истоках и природе Ар Деко // Художественные модели мироздания. XX век. Взаимодействие искусств в поисках нового образа мира. Кн. 2. М., 1999.
Манн Т. Германия и немцы. Культура и политика // Манн Т. Собр. соч. Т. 10. М., 1961.
Маньковская Н.Б. «Париж со змеями». Введение в эстетику постмодернизма. М., 1995.
Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000.
Маньковская Н.Б., Могилевская В.Д. Виртуальный мир и искусство // Архетип. 1997. № 1.
Маркин Ю.П. Искусство тоталитарных режимов в Европе 1930-х годов. Истоки, стиль, практика художественного синтеза // Художественные модели мироздания. XX век. Взаимодействие искусств в поисках нового образа мира. Кн. 2. М., 1999. Марков В.Ф. История русского футуризма. СПб., 2000.
Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 2002.
Маркулан Я. Зарубежный кинодетектив. Л., 1975.
Мартенс Г. Витализм и экспрессионизм: о происхождении и толковании экспрессионистических мотивов и стилевых структур. М., 1971.
Массовая культура: современные зарубежные исследования. М., 2005.
Мельников Д., Черная Л. Империя смерти. М., 1987.
Мерло-Понти М. Кино и новая психология // Киноведческие записки. 1992. № 16.
Мизес Л. фон. Либерализм. М., 2001.
Мизес Л. фон. Социализм. М., 1994.
Мир в XX веке. М., 2001.
Мирек А. Красный мираж. М., 2000.
Мириманов В.Б. Европейский авангард и традиционное искусство (проблема конвергенции) // Arbor Mundi. Мировое древо. 1993. №. 2.
Митчем К. Что такое философия техники. М., 1995.
Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX в. Вып. I, II. Томск, 2001–2003.
Модерн. Модернизм. Модернизация. М., 2004.
Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. М., 2003.
Музыка XX века. 1890–1945. Очерки. М., 1976.
Музыкальный театр XX века: События, проблемы, итоги, перспективы. М., 2004.
Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств: Очерки теории. М., 1982.
Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2000.
Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны. СПб., 2007.
Неболюбова Л. С. Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX–XX веков. Густав Малер. Рихард Штраус. Киев, 1990.
Нейсбит Дж. Мегатренды. М., 2003.
Никоненко С.В. Английская философия XX века. СПб., 2003.
Никонов К.М. Современная христианская антропология. М., 1983.
Нирё Л. Единство и несходство теорий авангарда // От мифа к литературе. М., 1993.
Нири К. Философская мысль в Австро-Венгрии. М., 1987.
Новая постиндустриальная волна на Западе. М., 1999.
Новая технократическая волна на Западе. М., 1986.
Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. М., 1978.
Нольте 3. Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм. М., 2003.
Польше 3. Фашизм в его эпохе. Новосибирск, 2001.
Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX века. М., 1984.
Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX–XX веков. М., 1984.
Олива А.Б. Искусство на исходе второго тысячелетия. М., 2003.
Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры. М., 2000.
Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Ортега-и-Гассет X. Камень и небо. М., 2000.
Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
Ортега-и-Гассет X. Размышления о технике // Ортега-и-Гассет X. Избр. труды. М., 1997.
Очерки по истории теоретической социологии XX столетия. М., 1994.
Павлова Н.С. Типология немецкого романа: 1900–1945. М., 1982.
Пайпс R Россия при большевиках. М., 1997.
Пайпс R Русская революция. Ч. 1, 2. М., 1994.
Панофский 3. Стиль и средства выражения в кино // Киноведческие записки. 1989. № 5.
Паперный В. Культура Два. СПб., 1997.
Пассмор Дж. Современные философы. М., 2002.
Пассмор Дж. Сто лет философии. М., 1998.
Пелипенко А.А. Эволюция феномена массового искусства от XVIII к XX веку // Искусство Нового времени. Опыт культурологического анализа. СПб., 2000.
Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории. М., 1994.
Первая мировая война: пролог XX века. М., 1998.
Перрон Р. История психоанализа. М., 2004.
Перси У. Модерн и слово: стиль модерн в литературе России и Запада. М., 2007. Петров Л.В. Массовая коммуникация и культура. Теория и история. СПб., 1999. Петровская Е. Непроявленное. Очерки по философии фотографии. М., 2002. Пенней А. Человеческие качества. М., 1985.
Плаггенборг Ш. Революция и культура. Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб., 2000.
Пленков О.Ю. Триумф мифа над разумом (немецкая история и катастрофа 1933 года). СПб., 2011.
Повель Я, Бержье Ж. Утро магов: Власть магических культов в нацистской Германии. М., 1992.
Подсеваткина Г. Философско-эстетические идеи сюрреализма. М., 1974.
Полевой В.М. Античность и неоклассика в искусстве начала XX века // Проблемы античной культуры М., 1986.
Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. М., 1991.
Поллак П. Из истории фотографии. М., 1983.
Полякова Н.Л. XX век в социологических теориях общества. М., 2004.
Попова Н.Ф. Французский постфрейдизм. Критический анализ. М., 1986.
Поппер К.Р. Квантовая теория и раскол в физике. М., 1998.
Популярная литература: Опыт культурного мифотворчества в Америке и в России. М., 2003.
Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995 Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001.
Понепцов Г.Г. Коммуникативные технологии XX века. М.; Киев, 2000.
Пэнто Л. Эскиз философского поля Франции в 1960-80-е годы // Логос. 2004. № 3–4 (43).
Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919–1939. М., 1994.
Разлогов К.Э. и др. Дар или проклятие? Проблемы массовой культуры. М., 1994. Райх В. Психология масс и фашизм. СПб., 1997.
Рапп Фр. Многоаспектность современной техники // Вопросы философии. 1989. № 2.
Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М., 1993.
Реализм XX века и модернизм. М., 1967.
Римский клуб. Декларация. Миссия // Вопросы философии. 1995. № 3.
Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии. 1890–1933. М., 2008.
Рокмакер Х.Р. Современное искусство и смерть культуры. СПб., 2004.
Рормозер Г. Кризис либерализма. М., 1996.
Россия – Германия: Культурные связи, искусство, литература в первой половине двадцатого века. М., 2000.
Роузфиль С. Сравнительная экономика стран мира: Культура, богатство и власть в XXI веке. М., 2004.
Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. М., 2001.
Русский авангард 1910-1920-х годов в европейском контексте. М., 2000.
Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М., 1999.
Руткевич А.М. Консерваторы XX века. М., 2006.
Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру. Критический очерк экзистенциального психоанализа. М., 1985.
Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М., 1957.
Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
Самутина Н. Авторский интеллектуальный кинематограф как европейская идея // Киноведческие записки. 2002. № 60.
Самутина Н. Культовое кино: даже зритель имеет право на свободу // Логос. 2002. № 5–6 (35).
Сарабъянов Д.В. Русский авангард перед лицом религиозно-философской мысли // Вопросы искусствознания. 1993. № 1.
Сарджент У. Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика. М., 1987.
Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. М., 2002.
Светликова И.Ю. Истоки русского формализма: Традиция психологизма и формальная школа. М., 2005.
Светлов И.Е. Немецкий и австрийский символизм: этюды. М., 2008.
Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968.
Семенов В.А. Массовая культура в современном мире. М., 1991.
Семиотика и Авангард: Антология. М., 2006.
СенэсЖ. и М. Герман Гессе, или Жизнь Мага. М., 2004.
Сере Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного. М., 2004. Сидорина Е. Конструктивизм: Истоки, идеи, практика. М., 1995.
Сидорина Е. Сквозь весь двадцатый век. Художественно-проектные концепции русского авангарда. М., 1994.
Символизм в авангарде. СПб., 2003.
Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М., 2001.
Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001.
Смирнов Б. Театр США XX века. Л., 1976.
Смит Э.Д. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004.
Смородинова П.Л. Новая храмовая архитектура Запада // Художественные модели мироздания. XX век. Взаимодействие искусств в поисках нового образа мира. Кн. 2. М., 1999.
Соболева М.Е. Философия как «критика языка» в Германии. СПб., 2005. Современное западное искусство. XX век. Проблемы комплексного изучения. М., 1988.
Современное западное искусство XX века. Проблемы и тенденции. М., 1982. Современный роман: Опыт исследования. М., 1990.
Согрин В.В. Политическая история США. М., 2001.
Соколов Б.В. Германская империя: от Бисмарка до Гитлера. М., 2003.
Соколов Е.Г. Аналитика масскульта. СПб., 2001.
Соколова М.Н. Современная французская историография: Основные тенденции в объяснении исторического процесса. М., 1979.
Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М., 1997.
Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999.
Социология на пороге XXI века: основные направления исследований. М., 1999. Соцреалистический канон. СПб., 2000.
Стариков Е.Н. Общество-казарма от фараонов до наших дней. Новосибирск, 1996.
Стили в математике: Социокультурная философия математики. СПб., 1999. Ступин С.С. Феномен открытой формы в искусстве XX века. М., 2012.
Суриц Е.Я. Хореографическое искусство двадцатых годов. М., 1979.
Сюрреализм и авангард. М., 1999.
Тавризян ЕМ. Техника. Культура. Человек: критический анализ концепций технического прогресса в буржуазной философии XX в. М., 1986.
Теплиц К.Т. Все для всех. Массовая культура и современный человек. М., 1996.
Террейн Дж. Великая война. Первая мировая – предпосылки и развитие. М., 2004.
Техника в ее историческом развитии. 70-е годы XIX – начало XX в. М., 1982.
Толмачев В.М. От романтизма к романтизму. Американский роман 1920-х годов и проблема романтической культуры. М., 1997.
Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М., 1996.
Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989.
Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997.
Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.
Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге XXI века. М., 2001.
Требин М.П. Терроризм в XXI веке. Минск, 2003.
Трепакова А.В. Ценности американского кино. Жанры, образы идеи. М., 2007.
Туганова О.Э. Современная культура США: Структура. Мировоззренческий аспект. Художественное творчество. М., 1989.
Турчин В.С. Образ двадцатого… М., 2003.
Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004.
Феномен артистизма в современном искусстве. М., 2008.
Ференбах О. Крах и возрождение Германии. Взгляд на европейскую историю XX века. М., 2001.
Философия техники в ФРГ. М., 1989.
Французская литература 1945–1990. М., 1995.
Фремптон К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития. М., 1990.
Фролова С. Мюзикл как феномен культуры // Русская антропологическая школа. Труды. Вып. 1. М., 2004.
Фромм 3. Фрейд. М., 2002.
Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2003.
Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М., 1998.
Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003.
Хайек Ф.А. Дорога к рабству. М., 2005.
Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.
Ханзен-Лёве А. Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М., 2001.
Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Т. 1. М., 1996; Т. 2. М., 2001.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб., 2002.
Харт К. Постмодернизм. М., 2006.
Хёйзинга Й. В тени завтрашнего дня // Хёйзинга Й. Homo Ludens. М., 1992.
Хёсле В. Философия и экология. М., 1994.
Хиллер Б. Стиль XX века. М., 2004.
Хобсбаум 3. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). М., 2004.
Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. М.; СПб., 1997.
Хоружий С.С. «Улисс» в русском зеркале // Джойс Дж. Улисс. М., 1994.
Хренов Н.А. Воля к сакральному. СПб., 2006.
Художественная культура Австро-Венгрии: Искусство многонациональной империи. 1867–1918. СПб., 2005.
Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.
Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994.
Чередниченко Т.В. Между «Брежневым» и «Пугачевой». Типология советской массовой культуры. М., 1994.
Чередниченко Т.В. Наш миф // Arbor Mundi. Мировое древо. 1992. № 1.
Черепанова Е.С. Австрийская философия как самосознание культурного региона. Екатеринбург, 2000.
Чигарева Е.И. Неоромантизм в музыке XX века // Проблемы романтизма в русской и зарубежной литературе. Тверь, 1996.
Шарифжанов И.И. Английская историография в XX веке. Основные теоретико-методологические тенденции, школы и направления. Казань, 2004.
Шахназарова Н.Г. «Авангард» в современной западной музыке // Современное западное искусство. М., 1971.
Шахназарова Н.Г. Проблемы музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского, Шёнберга, Хиндемита. М., 1975.
Шенъе-Жандрон Ж. Сюрреализм. М., 2002.
Шестаков В.П. Мифология XX века. Критика теории и практики массовой культуры. М., 1988.
Шестаков В.П. Трагедия изгнания. Судьба Венской школы истории искусства. М., 2005.
Шлезингер А.М. Циклы американской истории. Ч. 1,2. М., 1992.
Шмейкал Ф. От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996.
Шорске К.Э. Вена на рубеже веков: Политика и культура. СПб., 2001.
Шпигельберг Г. Феноменологическое движение: Историческое введение. М., 2002.
Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. СПб., 2002.
Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры: опыт этнографического исследования системы. 1986–1989. СПб., 1993.
Эко У. О прессе // Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб., 1998.
Эко У. Поэтики Джойса. СПб., 2003.
Эко У. Средние века уже наступили // Иностранная литература. 1994. № 4.
Элиаде М. Ностальгия по истокам. М., 2006.
Элленбергер Г.Ф. Открытие бессознательного. История и эволюция динамической психиатрии. Ч. 2. СПб., 2004.
Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. Л., 1975.
Эрлих В. Русский формализм: история и теория. СПб., 1996.
Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
Юлина Н.С. Теология и философия в религиозной мысли США XX века. М., 1986.
Якимович А. XX век: Эпоха. Человек. Вещь. М., 2001.
Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993.
Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
Ясперс К. Куда движется ФРГ? Факты. Опасности. Шансы. М., 1969.
Европейские судьбы концепта культуры (Россия, Германия, Франция, англоязычный мир). М., 2011.
Сугай Л.А. Термины «культура», «цивилизация» и «просвещение» в России XIX – начала XX века // Труды ГАСК. Вып. II: Мир культуры. М., 2000.
Шохин В.К. Античное понятие культуры и протокультурфилософия: специфика и компаративные параллели // Вопросы философии. 2011. № 3.
Эксле О.Г. Культура, наука о культуре, историческая наука о культуре: размышления о повороте в сторону наук о культуре // Одиссей. Человек в истории. Язык Библии в нарративе. 2003. М., 2003.
Введение в историю цивилизаций
Бэшем А. Цивилизация Древней Индии. Екатеринбург, 2007.
Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005.
Грималь П. Цивилизация Древнего Рима. Екатеринбург; М., 2008.
Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения. Екатеринбург, 2006.
Елисеефф В., Елисеефф Д. Цивилизация классического Китая. Екатеринбург, 2007.
Елисеефф В., Елисеефф Д. Японская цивилизация. Екатеринбург, 2008.
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург, 2005.
Мансуэлли Г. Цивилизации древней Европы. Екатеринбург, 2007.
Сурдель Д. у Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. Екатеринбург, 2006. Шаму Ф. Цивилизация Древней Греции. Екатеринбург; М., 2009.
Шаму Ф. Эллинистическая цивилизация. Екатеринбург; М., 2008.
Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005.
Шоню П. Цивилизация Просвещения. Екатеринбург, 2005.
Энциклопедии, словари и справочные издания
Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990.
Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб., 1995.
Власов В., Лукина Н. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм: Терминологический словарь. СПб., 2005.
Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М., 2004.
Индийская философия: Энциклопедия. М., 2009.
Ислам: Энцикл. словарь. М., 1991.
Католическая энциклопедия. Т. 1–5. М., 2002–2013.
Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. М., 2005.
Краткая литературная энциклопедия. Т. 1–9. М., 1962–1978.
Культура Возрождения: Энциклопедия: в 2 т. Т. 1. М., 2007; Т. 2. Кн. 1, 2. М., 2011. Культурология: люди и идеи. М., 2006.
Культурология: Энциклопедия: в 2 т. М., 2007.
Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
Мень А. Библиологический словарь: в 3 т. М., 2002.
Мифы народов мира. Т. 1, 2. М., 1980, 1982.
Музыкальная энциклопедия: в 6 т. Т. 1–6. М., 1971–1983.
Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990.
Новая философская энциклопедия: в 4 т. М., 2000–2001.
Отечественная история: Энциклопедия. Т. 1–3… М., 1994–2000.
Пави П. Словарь театра. М., 1991.
Постмодернизм: Энциклопедия. Минск, 2001.
Православная энциклопедия. Т. 1–34… М., 2001–2014.
Религиоведение: Энцикл. словарь. М., 2006.
Российская цивилизация: Энцикл. словарь. М., 2001.
Русская философия: Малый энцикл. словарь. М., 1995.
Русская философия: Энциклопедия. М., 2007.
Словарь средневековой культуры. М., 2003.
Смирнова Е.Д., СушкевичЛ.П., ФедосикВ.А. Средневековый мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник. Минск, 1999.
Театральная энциклопедия. Т. 1–5. М., 1961–1967.
Теологический энцикл. словарь / под ред. Уолтера Элвелла. М., 2003. Теоретическая культурология. М.; Екатеринбург, 2005.
Уильямс Н., Уоллер Ф., Роуэтт Д. Полная хронология XX века. М., 1999. Христианство: Энцикл. словарь. Т. 1–3. М., 1993–1995.
Энциклопедия импрессионизма. М., 2005.
Энциклопедия символизма. М., 1998.
Энциклопедия символизма. М., 2003.
Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009.
Этика: Энцикл. словарь. М., 2001.
Темы и задания для письменных работ и устного собеседования
1. Классификация наук о культуре.
2. Предыстория культурфилософской мысли в Античности.
3. Предыстория культурфилософской мысли в Средние века.
4. Предыстория культурфилософской мысли в эпоху Возрождения.
5. Предыстория культурфилософской мысли в XVII в.
6. Учение Вико о культуре.
7. Культурфилософские идеи французского Просвещения.
8. Культурфилософские идеи английского Просвещения.
9. Культурфилософские идеи немецкого Просвещения.
10. Учение Канта о культуре.
11. Культурфилософские идеи немецкой трансцендентальной философии.
12. Культурфилософские идеи немецкого романтизма.
13. Культурфилософские идеи позитивизма XIX в.
14. Культурфилософские идеи философии жизни XIX в.
15. Культурфилософские идеи в гуманитарных науках XIX в.
16. Философия культуры неокантианства.
17. Культурфилософия Зиммеля.
18. Культурфилософские идеи Бергсона.
19. Морфология культуры Шпенглера.
20. Философия культуры Ортеги-и-Гассета.
21. Культурфилософские идеи социальных и гуманитарных наук XX в.: социология, история, искусствоведение, литературоведение, психоанализ.
22. Философия культуры Кассирера.
23. Философия культуры экзистенциализма.
24. Культурфилософские идеи герменевтики.
25. Тема культуры в философской антропологии.
26. Тема культуры в религиозной философии XX в.
27. Структурализм, семиотика культуры и постструктурализм.
28. Науки о культуре в России XIX–XX вв.
29. Определение культуры и его обоснование. Проблемы, связанные с определением культуры.
30. Артефакт как элемент культуры и его структура.
31. Сравнимость артефактов как культурологическая проблема.
32. Механизмы культуры: объективация, отчуждение, интерпретация, трансляция, интеграция.
33. Основные сферы культуры как система.
34. Витальная культура и ее элементы.
35. Социальная культура и ее элементы.
36. Духовная культура и ее элементы.
Задания 1–6: Перескажите содержащиеся во фрагментах идеи, которые можно считать культурфилософскими.
1
Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.)
Труды и дни
Рассказ о смене веков (золотой → серебряный → медный → век героев → железный) (106–201)
Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый,
Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело,
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет.
2
Софокл (496/5-406 до н. э.)
Антигона (332–375)
СТАСИМ ПЕРВЫЙ
Хор
Строфа 1
Много есть чудес на свете,
Человек – их всех чудесней.
Он зимою через море
Правит путь под бурным ветром
И плывет, переправляясь
По ревущим вкруг волнам.
Землю, древнюю богиню,
Что в веках неутомима,
Год за годом мучит он
И с конем своим на поле
Всюду борозды ведет.
Строфа 2
Мысли его – они ветра быстрее;
Речи своей научился он сам;
Грады он строит и стрел избегает,
Острых морозов и шумных дождей;
Все он умеет; от всякой напасти
Верное средство себе он нашел.
Знает лекарства он против болезней,
Но лишь почует он близость Аида,
Как понапрасну на помощь зовет.
Антистрофа 2
Хитрость его и во сне не приснится;
Это искусство толкает его
То ко благим, то к позорным деяньям.
Если почтит он законы страны,
Если в суде его будут решенья
Правыми, как он богами клялся, —
Неколебим его город; но если
Путь его гнусен – ни в сердце мое,
Ни к очагу он допущен не будет…
3
Протагор
Секст. Против математиков (VII 60)
Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют.
4
Горгий
Защита Паламеда
30. <…> В самом деле, кто [своими изобретениями] сделал человеческую жизнь из беспомощной культурной и из беспорядочной цивилизованной? Разве не я изобрел военный строй, это могущественнейшее средство для увеличения своей силы, писаные законы, этих стражей справедливости, письмена – орудие памяти, меры и весы, удобные средства обмена при взаимных куплях-продажах, число – хранителя денег, сигнальные огни – самых лучших и самых быстрых вестников, шашки – веселое препровождение свободного времени? Так вот ради чего же я [все] это вам напомнил?
5
Перикл (ок. 494–429 до н. э.)
Фукидид. Из речи Перикла над могилами воинов (кн. II, гл. 37)
Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве [демоса]. По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству.
Мы живем свободною политическою жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого. Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов главным образом из страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время; в особенности же прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи неписаными, влекут [за нарушение их] общественный позор.
6
Тит Лукреций Кар (ок. 99 – 55 до н. э.)
О природе вещей. Книга пятая
Судостроенье, полей обработка, дороги и стены,
Платье, оружье, права, а также и все остальные
1450 Жизни удобства и все, что способно доставить усладу:
Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй —
Все это людям нужда указала, и разум пытливый
Этому их научил в движенье вперед постепенном.
Так изобретенья все понемногу наружу выводит
1455 Время, а разум людской доводит до полного блеска.
Видели ведь, что одна из другой развиваются мысли,
И мастерство, наконец, их доводит до высших пределов.
7
Прочитайте текст и укажите номер фрагмента, содержащего ответ на каждый из следующих ниже вопросов.
И.Г. Гердер
Идеи к философии истории человечества
(М., 1977. Гл. XV. С. 440–442)
1. Коль скоро человечество в целом, а также всякий индивид, всякое общество и всякая нация есть прочная, постоянная естественная система многообразнейших живых сил, то посмотрим же, в чем заключено постоянство такой системы, в какой точке сходятся величайшая красота, истина и благо и каким путем приближается система к своему первоначальному состоянию, если она смещена, – а опыт и история подсказывают нам множество примеров подобных смещений.
2. Человечество – эскиз плана, столь изобилующий силами и задатками, столь многообразный набросок, а в природе все настолько зиждется на самой определенной, конкретной индивидуальности, что великие и многообразные задатки человечества могут быть лишь распределены среди миллионов живущих на нашей планете людей и как-то иначе вообще не могут проявиться. Рождается на земле все, что может рождаться, и пребывает на земле все, что может обрести постоянство согласно законам природы. Итак, всякий отдельный человек и в своем внешнем облике, и в задатках своей души заключает соразмерность, ради которой он создан и ради которой он должен воспитывать сам себя. Такая соразмерность охватывает все разновидности, все формы человеческого существования, начиная с крайней болезненности и уродства, когда человек едва-едва жив, и кончая прекраснейшим обликом греческого человека-бога, начиная со страстной пылкости мозга африканского негра и кончая задатками прекраснейшей мудрости. И всякий смертный, спотыкаясь и заблуждаясь, переживая нужду, воспитывая себя, упражняя все свои способности, стремится достигнуть положенной соразмерности своих сил, потому что только в такой соразмерности и заключена для него полнота бытия; но лишь немногим счастливцам дано достигнуть полноты бытия совершенно, прекрасно и чисто.
3. Поскольку каждый человек сам по себе существует лишь весьма несовершенно, то в каждом обществе складывается некий высший максимум взаимодействующих сил. И эти силы, неукротимые, беспорядочные, бьются друг с другом до тех пор, пока противоречащие правила, согласно действующим законам природы, никогда не ошибающимся, не ограничивают друг друга, – тогда возникает некий вид равновесия и гармонии движения. Народы видоизменяются в зависимости от места, времени и внутреннего характера; всякий народ несет на себе печать соразмерности своего, присущего только ему и несопоставимого с другими совершенства. Чем чище и прекраснее достигнутый народом максимум, чем более полезны предметы, на которых упражняются совершенные силы его души, чем тверже и яснее узы, связывающие все звенья государства в их сокровенной глубине, направляющие их к добрым целям, тем прочнее существование народа, тем ярче сияет образ народа в человеческой истории. Мы проследили исторический путь некоторых народов, и нам стало ясно, насколько различны, в зависимости от времени, места и прочих обстоятельств, цели всех их устремлений. Целью китайцев была тонкая мораль и учтивость, целью индийцев – некая отвлеченная чистота, тихое усердие и терпеливость, целью финикийцев – дух мореплавания и торговли. Вся культура греков, особенно афинская культура, была устремлена к максимуму чувственной красоты – ив искусстве, и в нравах, в знаниях и в политическом строе. Спартанцы и римляне стремились к доблестям героического патриотизма, любви к отечеству, но стремились по-разному. Поскольку во всех подобных вещах главное зависит от времени и места, то отличительные черты национальной славы древних народов почти невозможно сопоставлять между собой.
4. И тем не менее мы видим, что во всем творит лишь одно начало – человеческий разум, который всегда занят тем, что из многого создает единое, из беспорядка – порядок, из многообразия сил и намерений – соразмерное целое, отличающееся постоянством своей красоты. От бесформенных искусственных скал, которыми украшает свои сады китаец, и до египетской пирамиды и до греческого идеала красоты – везде виден замысел, везде видны намерения человеческого рассудка, который не перестает думать, хотя и достигает разной степени продуманности своих планов. Если рассудок мыслил тонко и приблизился к высшей точке в своем роде, откуда уже нельзя отклониться ни вправо, ни влево, то творения его становятся образцовыми; в них – вечные правила для человеческого рассудка всех времен. Так, например, невозможно представить себе нечто высшее, нежели египетская пирамида или некоторые создания греческого и римского искусства. Они, все в своем роде, суть окончательно решенные проблемы человеческого рассудка, и не может быть никаких гаданий о том, как лучше решить ту же проблему, и о том, что она будто бы еще не разрешена, ибо исчерпано в них чистое понятие своего предназначения, исчерпано наиболее легким, многообразным, прекрасным способом. Уклониться в сторону значило бы впасть в ошибку, и, даже повторив ошибку тысячу раз и бесконечно умножив ее, все равно пришлось бы вернуться к уже достигнутой цели, к цели величайшей в своем роде, к цели, состоящей в одной наивысшей точке.
5. А потому одна цепь культуры соединяет своей кривой и все время отклоняющейся в сторону линией все рассмотренные у нас нации, а также все, которые только предстоит нам рассмотреть. Эта линия для каждой из наций указывает, какие величины возрастают, а какие убывают, и отмечает высшие точки, максимумы достижимого. Некоторые из величин исключают друг друга, некоторые ограничивают друг друга, но, наконец, в целом достигается известная соразмерность, и крайне ложным выводом было бы на основании совершенства, достигнутого нацией в одном, заключать, что совершенна она во всем. Если, например, в Афинах были прекрасные ораторы, то это еще не значит, что форма правления тоже была наилучшей, а если весь Китай был пропитан своею моралью, то это еще не значит, что китайское государство – образец для всех государств. Форма правления сообразуется с иным максимумом – не с тем, что прекрасное изречение или патетическая речь оратора, хотя в конце концов все, чем обладает нация, взаимосвязано, причем одно исключает или ограничивает другое. Максимум совершенства связей между людьми – вот что определяет счастье государства, а не какой иной максимум; даже если предположить, что народу пришлось бы обходиться без некоторых весьма блестящих качеств.
6. Даже у одной и той же нации максимум, достигнутый ее трудами, не всегда может и не всегда должен длиться вечно, потому что максимум – это только точка в линии времен. Линия не останавливается, а идет вперед, и чем многочисленнее обстоятельства, определившие прекрасный результат, тем более подвержен он гибели, тем более зависим от преходящего времени. Хорошо, если образцы стали правилом для народов в другую эпоху, потому что прямые наследники обычно слишком близки к максимуму и даже иной раз скорее опускаются оттого, что пытаются превзойти высшую точку достигнутого. И как раз у самого живого народа спуск тем более стремителен – от точки кипения до точки замерзания.
7. История отдельных научных дисциплин, история отдельных народов должна исчислить подобные максимумы, и мне хотелось бы, чтобы по крайней мере о самых знаменитых народах и о самых известных временах была написана такая история, потому что сейчас мы можем говорить только об истории человечества в целом и об основном ее состоянии, присущем ей в самых разных формах, в самых различных климатических зонах. Вот это основное состояние человеческой истории – гуманный дух, то есть разум и справедливость во всех классах, во всех занятиях людей, и ничто иное.
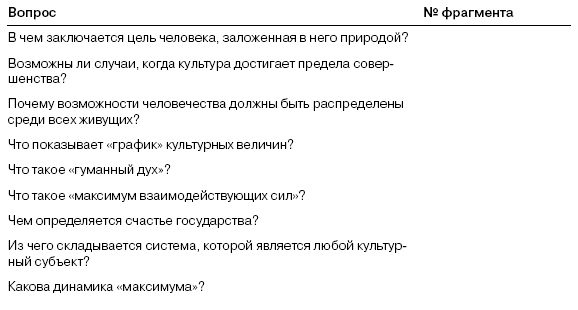
8
Что можно найти в приведенном ниже фрагменте: культурологию или философию культуры?
Толстой Л.Н.
Два гусара
В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, – в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, – когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков, когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, – в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугенд-бунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, – в губернском городе К. был съезд помещиков, и кончались дворянские выборы.
9
К нижеследующим фрагментам приложены таблицы с утверждениями. Необходимо поставить «да» напротив верного утверждения.
Дюркгейм
Ценностные и «реальные» суждения
1
Когда индивидуальные сознания не остаются отделенными друг от друга, а вступают в тесные взаимоотношения, активно воздействуют друг на друга, из их синтеза рождается психическая жизнь нового рода. Она отличается от той жизни, которую ведет одинокий индивид, прежде всего своей особенной интенсивностью. <…> Увлекаемый группой, индивид забывает о себе, о своих собственных интересах, целиком отдаваясь общим целям. Полюс его поведения смещается и переносится вовне его самого. В то же время возникающие таким образом силы, именно потому, что они носят теоретический характер, нелегко поддаются манипулированию, приспособлению к строго определенным целям. Они нуждаются в распространении ради распространения, без пользы и без цели, проявляясь то в деструктивном и глупом насилии, то в героическом безрассудстве. Это деятельность в каком-то смысле чрезмерная, весьма избыточная. По всем этим причинам она противостоит нашему повседневному существованию, как высшее противостоит низшему, идеал – реальности. Именно в моменты эмоционального возбуждения такого рода во все времена создавались великие идеалы, на которых базируются цивилизации. <…>
Существует, с одной стороны, то, что дано в ощущениях и восприятиях, с другой – то, что мыслится в форме идеалов. Конечно, эти идеалы быстро бы угасли, если бы они периодически не оживлялись. Вот для чего служат праздники, публичные церемонии, как религиозные, так и светские, всякого рода проповеди, как в церкви, так и в школе, драматические представления, художественно оформленные манифестации – словом, все, что помогает сближать людей и совместно участвовать в единой интеллектуальной и нравственной жизни. Это как бы частичное и слабое возрождение эмоционального возбуждения творческих эпох. <…> Общество принижают, когда видят в нем лишь тело, созданное для осуществления определенных жизненных функций. В этом теле живет душа: это совокупность коллективных идеалов. Но идеалы эти – не абстракции, не холодные умственные представления, лишенные всякой действенности. Это главным образом двигатели, так как за ними существуют реальные и действующие силы. Это силы коллективные, естественные, следовательно, они, хотя и являются целиком нравственными, близки тем, которые действуют в остальной части вселенной. Сам идеал есть сила такого рода; следовательно, о нем может быть создана наука. Вот как получается, что идеальное может соединяться с реальным: оно исходит из последнего, в то же время выходя за его пределы. Элементы, из которых оно создано, заимствованы у реальности, но скомбинированы по-новому. <…>
Но идеал – это не только нечто недостающее и желаемое. Это не просто будущее, к которому стремятся. Он своеобразен и обладает собственной реальностью. Он воспринимается как безличный, парящий над отдельными волями, которые он приводит в движение. Если бы он был продуктом индивидуального разума, то откуда бы могла у него появиться эта безличность? <…>
Ценность, конечно, проистекает из связи вещей с различными аспектами идеала, но идеал – это не воспарение к таинственным потусторонним сферам, он заключен в природе и происходит из нее. Ясное и четкое мышление властно над ним так же, как и над остальной частью физической или нравственной вселенной. Разумеется, оно никогда не сможет исчерпать его, так же как оно не исчерпывает никакую реальность, но оно может применяться к нему в надежде постепенно овладеть им, хотя и невозможно заранее установить никакого предела бесконечному развитию идеального. Эта точка зрения позволяет нам лучше понять, как ценность вещей может не зависеть от их природы. Коллективные идеалы могут формироваться и осознавать самих себя только при условии, что они фиксируются в вещах, которые можно всем увидеть, всем понять, всем представить, например, в рисованных изображениях, всякого рода эмблемах, писаных или произносимых формулах, одушевленных или неодушевленных существах. <…>
Таким образом, коллективное мышление преобразует все, чего оно касается. Оно перемешивает сферы реальности, соединяет противоположности, переворачивает то, что можно считать естественной иерархией существ, нивелирует различия, дифференцирует подобия. Словом, оно заменяет мир, познаваемый нами с помощью органов чувств, совершенно иным миром, который есть не что иное, как тень, отбрасываемая создаваемыми коллективным мышлением идеалами.
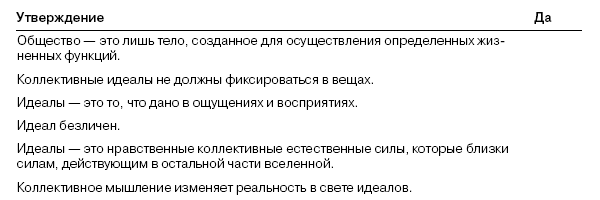
2
Хотя всякое суждение приводит в действие идеалы, последние относятся к различным видам. Существуют такие идеалы, назначение которых только выражать реальности, к которым они прилагаются, выражать их такими, каковы они суть. Это понятия в собственном смысле. Существуют и другие, функция которых, наоборот, состоит в том, чтобы преображать реальности, к которым они относятся. Это ценностные идеалы. В первом случае идеал служит символом для вещи, способствуя ее усвоению мышлением. Во втором, наоборот, вещь служит символом для идеала и дает возможность представить ее себе разным людям. Естественно, суждения различаются согласно используемым ими идеалам. Первые ограничиваются анализом реальности и как можно более верным ее выражением. Вторые, наоборот, содержат высказывание о новом аспекте реальности, которым она обогатилась под действием идеала. <…>
Позитивную социологию иногда упрекали в чем-то вроде эмпиристского фетишизма в отношении факта и в упорном безразличии к идеалу. Мы видим, насколько необоснован этот упрек. Основные социальные явления: религия, мораль, право, экономика, эстетика – суть не что иное, как системы ценностей, следовательно, это идеалы. Социология, таким образом, изначально расположена в области идеала; она не приходит к нему постепенно, в результате своих исследований, а исходит из него. Идеал – это ее собственная сфера. Но она рассматривает идеал лишь для того, чтобы создать науку о нем <…>. Она не стремится его конструировать; как раз наоборот, она берет его как данность, как объект изучения, и пытается его анализировать и объяснять. В способности к идеалу она видит естественную способность, причины и условия которой она ищет с целью по возможности помочь людям отрегулировать ее функционирование.
В конечном счете задача социолога должна состоять в том, чтобы вернуть идеал во всех его формах в природу, но оставив ему при этом все его отличительные признаки. И если подобная попытка не кажется ему безнадежной, то это потому, что общество соответствует всем условиям, необходимым для объяснения указанных противоположных признаков. Оно также происходит от природы, одновременно доминируя над ней. Причина в том, что все силы вселенной не просто завершаются в обществе, но, более того, они синтезированы в нем таким образом, что порождают результат, который по богатству, сложности и мощи воздействия превосходит все, что послужило его образованию. Словом, оно есть природа, но достигшая наивысшей точки своего развития и концентрирующая всю свою энергию с тем, чтобы в каком-то смысле превзойти самое себя.
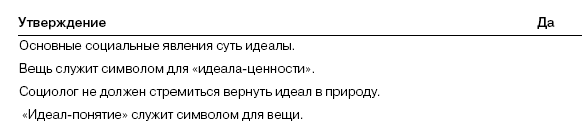
Зиммепь
О сущности культуры
Культура появляется только там, где <…> односторонние совершенства упорядочиваются в целостности души, где уравновешивается разноголосица элементов, поднимающихся на более высокую ступень. Короче говоря, когда все эти совершенства способствуют реализации единого целого. Такова мера, по которой мы можем судить о том, насколько все эти свершения и восприимчивости, определяемые категориями предметных, специализированных рядов, не смешиваясь с другими, подпадают по своему содержанию под категорию культуры, т. е. служат развитию нашей внутренней тотальности. <…> Сколь бы значительным ни было действительное культурное развитие всего поистине великого и личностного, для категории культуры они не являются чем-то первостепенным. Эта категория относится, скорее, к более общим по своей сущности, более безличным творениям, которые объективируются на большем расстоянии от субъекта, а потому в некоем «самоотречении» делаются остановками на пути душевного развития.
Поскольку культура по своему жизненному содержанию есть особым образом затянутый узел, в котором переплетаются субъект и объект, то имеют право на существование два толкования этого понятия. В качестве объективной культуры можно обозначить те вещи, которые в своей разработке, в своем подъеме, свершении ведут к самоосуществлению души либо представляют собой те отрезки пути, по которому индивид или сообщество должны идти к более возвышенному существованию. Под субъективной культурой я подразумеваю достигнутую меру развития личностей, а потому объективная и субъективная культуры только в переносном смысле являются изначально координированными понятиями. А именно там, где речь идет о совершенствовании сущностей, наделенных собственными влечениями, руководствуясь идеей о выходе их развития за пределы чисто природного процесса. Способствующая этому человеческая сила предстает здесь как средство для данной цели. <…>
В более точном смысле, однако, эти два употребления понятия культуры совсем не аналогичны. Субъективная культура – это господствующая конечная цель, а ее мера является мерой участия душевных процессов во всех этих объективных благах и совершенствах. Конечно, субъективной культуры не существует без объективной, поскольку развитие или состояние субъекта лишь настолько является культурным, насколько субъект подключает к своему жизненному пути перерабатываемые им объекты. Более того, объективная культура может обрести относительную самостоятельность по отношению к субъективной культуре, поскольку в ней «культивируются», т. е. создаются, культивируемые объекты, значение которых лишь отчасти востребуется субъектами. В эпохи всеобщего развития и разделения труда культурные достижения разрастаются в самосущие ряды, вещи делаются все совершеннее, духовнее, целесообразнее по внутренней логике предметов, что не сопровождается таким же культивированием субъекта. Он и не может возрасти в той же степени, как все расширяющаяся объективная область вещей, разделенная между бесчисленными ее работниками.
Историческое развитие идет ко все большей дифференциации предметных достижений культуры, равно как и к многообразию культурных состояний индивидов. Диссонансы современной жизни – в особенности все то, что связано с техникой в различных областях и с одновременным недовольством техникой, – проистекают по большей части из того, что вещи становятся все более культивируемыми, тогда как человек все менее способен обрести совершенство субъективной жизни с помощью совершенствования объектов.
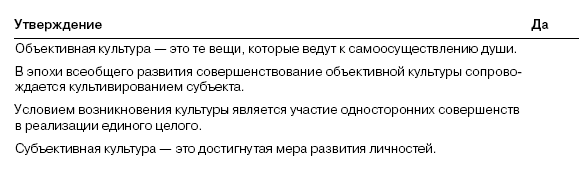
Шпенглер
Закат Европы
1
Культура рождается в тот миг, когда из прадушевного состояния вечномладенческого человечества пробуждается и отслаивается великая душа, некий лик из пучины безликого, нечто ограниченное и преходящее из безграничного и пребывающего. Она расцветает на почве строго отмежеванного ландшафта, к которому она остается привязанной чисто вегетативно. Культура умирает, когда эта душа осуществила уже полную сумму своих возможностей в виде народов, языков, вероучений, искусств, государств, наук и таким образом снова возвратилась в прадушевную стихию. Но ее исполненное жизни существование, целая череда великих эпох, в строгих контурах очерчивающих поступательное самоосуществление, представляет собою сокровенную, страстную борьбу за утверждение идеи против сил хаоса, давящих извне, против бессознательного, распирающего изнутри, куда силы эти злобно стянулись.
Не только художник борется с сопротивлением материи и с уничтожением идеи в себе. Каждая культура обнаруживает глубоко символическую и почти мистическую связь с протяженностью, с пространством, в котором и через которое она ищет самоосуществления. Как только цель достигнута и идея, вся полнота внутренних возможностей, завершена и осуществлена вовне, культура внезапно коченеет, отмирает, ее кровь свертывается, силы надламываются – она становится цивилизацией. <…> Таков смысл всех закатов в истории – внутреннего и внешнего завершения, доделанности, ожидающей каждую живую культуру, – из числа которых в наиболее отчетливых контурах вырисовывается пред нами «закат античности», между тем как уже сегодня мы явственно ощущаем в нас самих и вокруг себя брезжущие знамения нашего – вполне однородного по течению и длительности с названным – события, которое падает на первые века ближайшего тысячелетия, – «заката Европы».
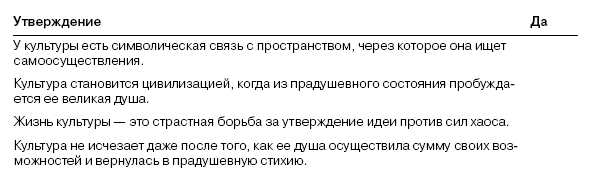
2
Существует большое число прасимволов. Переживание глубины, приводящее к становлению мира, к расширению ощущения до мира, знаменательное для души, к которой оно принадлежит, и только для нее одной, иное в бодрствовании, сновидении, приятии и наблюдении, иное у ребенка и старика, горожанина и крестьянина, мужчины и женщины, осуществляет, и притом с глубочайшей необходимостью, для каждой высокой культуры возможность формы, на которой зиждется ее существование.
Все базисные слова, как-то: «масса», «субстанция», «материя», «вещь», «тело», «протяженность», и тысячи хранимых в языках других культур словесных обозначений соответствующего рода представляют собой безальтернативные, предопределенные самой судьбой знаки, извлекающие во имя отдельных культур из бесконечного избытка мировых возможностей единственно значимые и оттого необходимые. Ни один из них не может быть с точностью перенесен в переживание и познание какой-то другой культуры. Ни один из этих первоглаголов не возвращается вторично. Все решает выбор прасимвола в тот момент, когда душа культуры пробуждается в своем ландшафте к самосознанию, – выбор, таящий в себе нечто потрясающее для каждого, кто способен таким образом рассматривать всемирную историю. Культура, как совокупность чувственно-ставшего выражения души в жестах и трудах, как тело ее, смертное, преходящее, подвластное закону, числу и каузальности; культура, как историческое зрелище, как образ в общей картине мировой истории; культура, как совокупность великих символов жизни, чувствования и понимания: таков язык, которым только и может поведать душа, как она страждет.
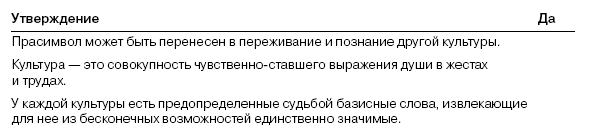
3
Биология называет гомологией органов их морфологическую эквивалентность, в противоположность аналогии, относящейся к эквивалентности их функций. <…> Я ввожу и это понятие в исторический метод. <…> Гомологичны легкое наземных животных и плавательный пузырь рыб, аналогичны – в смысле употребления – легкое и жабры. <…> Гомологичными образованиями являются – упомянем здесь лишь немногое – античная пластика и западная инструментальная музыка, пирамиды 4-й династии и готические соборы, индийский буддизм и римский стоицизм (буддизм и христианство даже не аналогичны), эпохи «борющихся уделов» Китая, гиксосов и Пунических войн, Перикла и Омейядов, эпохи Ригведы, Плотина и Данте. Гомологичны дионисическое течение и Ренессанс, аналогичны дионисическое течение и Реформация. <…>
Из гомологии исторических явлений следует тотчас же совершенно новое понятие. Я называю «одновременными» два исторических факта, которые выступают, каждый в своей культуре, в строго одинаковом – относительном – положении и, значит, имеют строго соответствующее значение. <…> Я надеюсь доказать, что все без исключения великие творения и формы религии, искусства, политики, общества, хозяйства, науки одновременно возникают, завершаются и угасают во всей совокупности культур; что внутренняя структура одной полностью соответствует всем другим; что в исторической картине любой из них нет ни одного имеющего глубокий физиогномический смысл явления, к которому нельзя было бы подыскать эквивалента во всех других, притом в строго знаменательной форме и на вполне определенном месте. <…>
В этой перспективе открывается возможность <…> переступить настоящее как предел исследования, а также предопределить еще не истекшие эпохи западной истории сообразно их внутренней форме, длительности, темпу, смыслу и результату и вдобавок ко всему реконструировать давно минувшие и неизвестные эпохи, даже целые культуры прошлого, руководствуясь морфологическими взаимосвязями <…>. Вполне возможно, допустив наличие физиогномического такта, по разбросанным деталям орнаментики, архитектурного стиля, письма, по отдельным данным политического, хозяйственного, религиозного характера восстановить органические основные черты исторической картины целых столетий, прочитать по элементам языка художественных форм, скажем, современную им форму государственности или по математическим формам характер соответствующих хозяйственных форм – подлинно гётевская, восходящая к гётевской идее первофеномена процедура, вполне привычная в ограниченном диапазоне сравнительной зоологии и ботаники, но и допускающая в самой непредвиденной степени расширение на всю область истории.
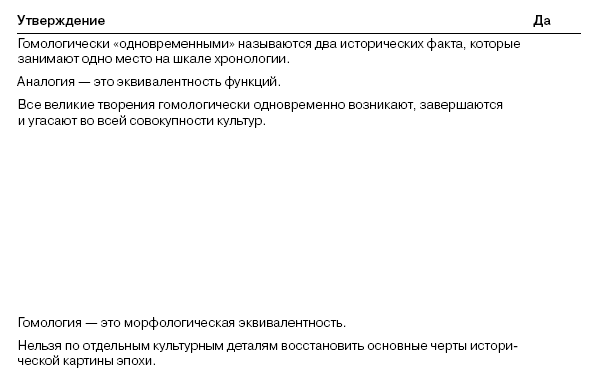
Бергсон
Два источника морали и религии
Закрытое общество – это такое общество, члены которого тесно связаны между собой, равнодушны к остальным людям, всегда готовы к нападению или обороне – словом, обязаны находиться в боевой готовности. Таково человеческое общество, когда оно выходит из рук природы. Человек создан для него, как муравей для муравейника. <…> Неизменно направленная сила, которая для души есть то же, что сила тяжести для тела, обеспечивает сплоченность группы, склоняя в одну и ту же сторону индивидуальные воли. Эта сила – моральная обязанность. Мы показали, что она может раздвигать свои рамки в открывающемся обществе, но что создана она была для общества закрытого. И мы показали также, как закрытое общество может жить, сопротивляться разлагающему в какой-то мере воздействию ума, сохранять и передавать каждому своему члену необходимую веру только посредством религии, происшедшей от мифотворческой функции. Эта религия, названная нами статической, и эта обязанность, состоящая в принуждении, составляют основание закрытого общества.
Путем простого расширения мы никогда не перейдем от закрытого общества к открытому, от гражданской общины к человечеству. Они различны по своей сути. Открытое общество – это то, которое в принципе охватывает все человечество. О нем вновь и вновь мечтают избранные души, и оно каждый раз реализует нечто от самого себя в творениях, каждое из которых, через более или менее глубокое преобразование человека, позволяет преодолевать трудности, до того непреодолимые. Но после каждого раза круг, открывшийся на мгновение, вновь закрывается. Часть нового отлилась в форму старого; индивидуальное стремление стало социальным давлением; и обязанность окутывает все. <…> Этот порыв продолжается, таким образом, через посредство некоторых людей, каждый из которых образует вид, состоящий из одного-единственного индивида. Если индивид полностью осознает это, если бахрома интуиции, окружающая его ум, в достаточной мере увеличивается, чтобы охватывать ее объект, то это мистическая жизнь. Возникшая таким образом динамическая религия противостоит статической религии, происшедшей из мифотворческой функции, так же как открытое общество противостоит обществу закрытому. Но точно так же, как новое моральное стремление обретает плоть, лишь заимствуя у закрытого общества его природную форму, каковой является обязанность, так и динамическая религия распространяется только через образы и символы, обеспечиваемые мифотворческой функцией.
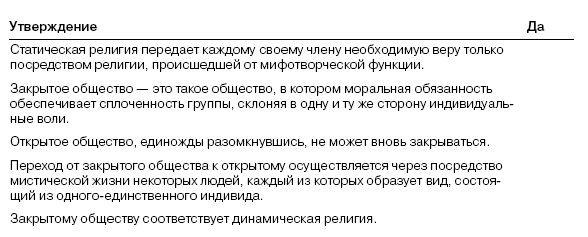
Фрейд
Неудобства культуры
1
Наше исследование счастья до сих пор сообщило нам мало такого, что не было бы общеизвестно. И если мы дополним его вопросом: почему людям так трудно стать счастливыми? – шанс узнать что-то новое, вероятно, не слишком возрастет. Мы уже ответили на него, указав на три источника возникновения наших страданий: всемогущество природы, бренность нашего собственного тела и недостатки учреждений, регулирующих взаимоотношения людей в семье, в государстве и обществе. Относительно первых двух наше решение не может вызвать особых колебаний; мы вынуждены признать эти источники страданий и покориться их неизбежности. Мы никогда полностью не овладеем природой, наш организм – сам часть этой природы – навсегда останется творением бренным и ограниченным в способности приспосабливаться и действовать. Такое признание отнюдь не парализует; напротив, оно указывает направление нашей деятельности. Тысячелетний опыт убедил нас, что мы неспособны устранить все страдания, а только некоторые и другие ослабить. Иначе мы относимся к третьему, к социальному источнику страданий. Его мы вообще не намерены признавать, поскольку не можем понять, почему нами же созданные учреждения не должны быть для всех нас скорее защитой и благом.
Впрочем, если мы задумаемся, как трудно нам удается предотвращение именно этой части страданий, то возникает подозрение, не может ли здесь скрываться часть неодолимой природы, в данном случае наши собственные психические качества. Рассматривая эту возможность, мы попутно ветре-
чаем утверждение столь поразительное, что на нем следует остановиться. Оно гласит: большую долю вины за наши беды несет наша так называемая культура; мы были бы гораздо счастливее, если бы от нее отказались и вернулись к первобытному состоянию. Я считаю это утверждение поразительным, поскольку – как бы ни определяли понятие «культура» – все же неопровержимо, что все, чем мы пытаемся защититься от угрожающих нам страданий, принадлежит именно указанной культуре.
Каким же путем, по всей видимости, значительное число людей пришло к этой удивительной враждебности к культуре? Я думаю, что глубокое и давнее недовольство соответствующим состоянием культуры создало почву, на которой позднее при определенных исторических предпосылках выросло ее осуждение. Полагаю, я обнаружил последнюю и предпоследнюю из этих предпосылок; мне недостает эрудиции, чтобы протянуть их цепь глубже в историю человеческого рода. Возможно, сходная враждебность к культуре соучаствовала уже в победе христианства над языческими религиями. Ведь она весьма близка к недооценке земной жизни, провозглашенной христианским учением. Предпоследний повод появился благодаря успехам географических открытий, приведшим к контактам с примитивными народами и племенами. Из-за недостатков в наблюдении и ошибок в понимании их нравов и обычаев европейцам показалось, что они ведут простую, непритязательную, счастливую жизнь, недоступную их гораздо более культурным гостям.
Последующий опыт внес поправки в некоторые из такого рода суждений; во многих случаях легкость жизни, всецело обязанная щедрости природы и простоте удовлетворения насущных потребностей, была ошибочно приписана отсутствию запутанных требований культуры. Последний повод нам особенно хорошо знаком; он был выявлен после открытия механизма неврозов, грозящих подорвать и без того скромное счастье цивилизованного человека. Было установлено, что человек становится невротиком, потому что не может вынести ограничений, налагаемых на него обществом ради идеалов своей культуры; а из этого сделали вывод: если бы эти ограничения были сняты или значительно уменьшены, это означало бы возвращение утраченных возможностей счастья.
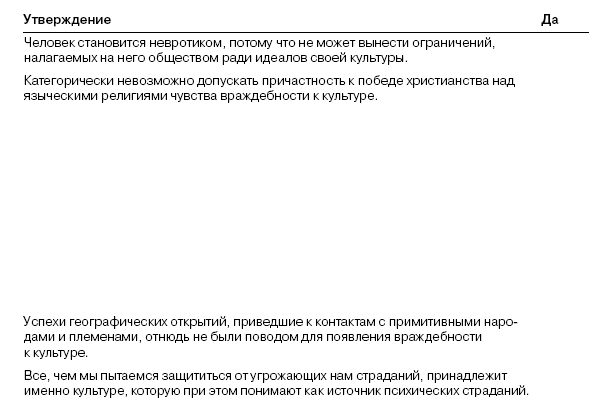
2
По самым различным причинам я весьма далек от желания дать оценку человеческой культуры. Я стремился удержаться от восторженного предрассудка, будто бы наша культура – самое драгоценное из того, чем мы владеем или что можем обрести, а ее путь с необходимостью приведет нас к высотам небывалого совершенства. По меньшей мере, я могу без негодования выслушать критика, который, имея в виду цели культурных устремлений и используемые средства, сделал бы вывод, что все эти усилия не стоят затраченного труда, а их результатом может быть только состояние, воспринимаемое отдельным человеком как невыносимое. Моя беспристрастность дается мне легко, потому что я слишком мало знаю обо всех этих вещах и твердо уверен только в одном, что оценочные суждения людей, безусловно, проистекают из их желания счастья, то есть являются попыткой поддержать свои иллюзии аргументами.
Я очень хорошо понял бы того, кто, подчеркивая особенность человеческой культуры, сказал бы, например, что склонность к ограничению сексуальной жизни или к осуществлению гуманистических идеалов за счет естественного отбора – это направления развития, которые нельзя ни предотвратить, ни устранить и которым лучше всего подчиниться, как если бы речь шла о естественной необходимости. Но мне известны и возражения, что тенденции, считавшиеся неотвратимыми, в ходе человеческой истории часто отбрасывались в сторону или заменялись другими.
Итак, мне недостает мужества предстать перед согражданами в роли пророка, и я принимаю их упрек, что не могу принести им никакого утешения, хотя его, по существу, требуют все – самые ярые революционеры не менее страстно, чем самые кроткие верующие. Мне кажется, что роковой вопрос рода человеческого – это вопрос: удастся ли развитию культуры в какой-то мере овладеть агрессивным и направленным на самоуничтожение человеческим влечением, нарушающим совместную жизнь людей? В этом отношении, быть может, именно современная эпоха заслуживает особого интереса. Ныне люди так далеко зашли в овладении силами природы, что с их помощью они легко могут уничтожить друг друга вплоть до последнего человека. Они знают это, отсюда – значительная доля их теперешнего беспокойства, их несчастья, их чувства страха. И теперь следует ожидать, что другая из двух «небесных сил», вечный Эрос, приложит усилия, чтобы утвердиться в борьбе со своим столь же бессмертным противником. Но кто может предвидеть чей-то успех и исход борьбы?
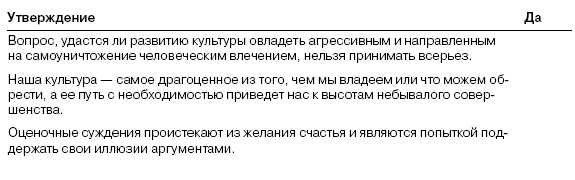
Юнг
Аналитическая психология и мировоззрение
[Архетип] <…> заставляет первобытного человека противостоять природе, чтобы не оказаться в ее власти. Пожалуй, это является началом всей культуры, неизбежным следствием сознательности с ее возможностью уклоняться от бессознательного закона. <…> Если бы в настоящем докладе мне удалось способствовать пониманию того, что в нашей собственной бессознательной душе действенны те силы, которые человек издавна проецировал вовне в образе богов и которым приносил жертвы, то я был бы этим доволен. Благодаря такому пониманию нам бы удалось доказать, что все разнообразные религиозные учения и убеждения, которые с давних времен играли столь важную роль в истории человечества, не сводятся к произвольным измышлениям и воззрениям отдельных людей, а своим происхождением в большей степени обязаны существованию влиятельных бессознательных сил, которыми нельзя пренебрегать без нарушения душевного равновесия. <…>
Все эти факторы по-прежнему действенны в нашей душе, устаревшими являются лишь их выражения и оценки, но не их фактическое существование и действенность. Тот факт, что теперь мы можем понимать их как психические величины, является новой формулировкой, новым выражением, которое, возможно, даже позволит обнаружить пути, на которых может возникнуть новое к ним отношение. Я считаю, что эта возможность – нечто весьма значительное, потому что коллективное бессознательное отнюдь не является чем-то вроде темного закутка, а представляет собой господствующий надо всем осадок сложившегося за бесчисленные миллионы лет опыта предков, эхо доисторических явлений мира, которому каждое столетие добавляет несоизмеримо малую сумму вариаций и дифференциации. Поскольку коллективное бессознательное является осадком явлений мира, который в конечном счете выражается в структуре мозга и симпатической нервной системы, то в своей совокупности это означает нечто вроде не имеющего времени, так сказать, вечного образа мира, противостоящего нашей сиюминутной сознательной картине мира. Выражаясь другими словами, это означает не что иное, как другой, если угодно, зеркальный мир.
Но в отличие от простого зеркального образа, бессознательный образ обладает особой, независимой от сознания энергией, благодаря которой он может оказывать сильнейшие душевные воздействия, воздействия, которые не показываются полностью на поверхности мира, но оказывают на нас тем более мощное влияние изнутри, из темноты, невидимое каждому, кто не подвергает достаточной критике свой сиюминутный образ мира и тем самым остается скрытым для самого себя. То, что мир имеет не только внешнее, но и внутреннее, то, что он видим не только снаружи, но всегда властно действует на нас из самой глубокой и, по-видимому, самой субъективной подпочвы души, я считаю научным фактом, который несмотря на то, что является древней мудростью, в этой форме заслуживает того, чтобы быть оцененным в качестве фактора, формирующего мировоззрение.
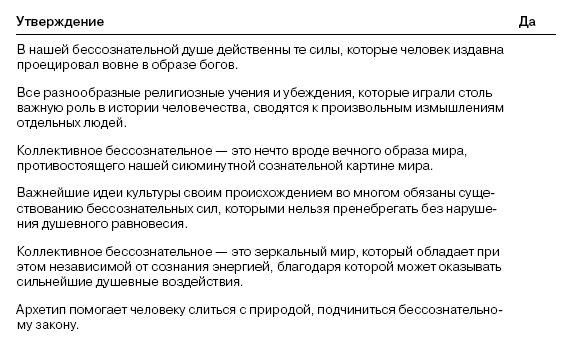
Об архетипах коллективного бессознательного
Конечно, поверхностный слой бессознательного является в известной степени личностным. Мы называем его личностным бессознательным. Однако этот слой покоится на другом, более глубоком, ведущем свое происхождение и приобретаемом уже не из личного опыта. Этот врожденный более глубокий слой и является так называемым коллективным бессознательным. Я выбрал термин «коллективное», поскольку речь идет о бессознательном, имеющем не индивидуальную, а всеобщую природу. Это означает, что оно включает в себя, в противоположность личностной душе, содержания и образы поведения, которые cum grano salis являются повсюду и у всех индивидов одними и теми же. Другими словами, коллективное бессознательное идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе сверхличным. Существование чего-либо в нашей душе признается только в том случае, если в ней присутствуют так или иначе осознаваемые содержания. Мы можем говорить о бессознательном лишь в той мере, в какой способны удостовериться в наличии таких содержаний. В личном бессознательном это по большей части так называемые эмоционально окрашенные комплексы, образующие интимную душевную жизнь личности. Содержаниями коллективного бессознательного являются так называемые архетипы. <…>
«Архетип» – это пояснительное описание платоновского eidos. Это наименование является верным и полезным для наших целей, поскольку оно значит, что, говоря о содержаниях коллективного бессознательного, мы имеем дело с древнейшими, лучше сказать, изначальными типами, т. е. испокон веку наличными всеобщими образами. Без особых трудностей применимо к бессознательным содержаниям и выражение «representations collectives», которое употреблялось Леви-Брюлем для обозначения символических фигур в первобытном мировоззрении. Речь идет практически все о том же самом: примитивные родоплеменные учения имеют дело с видоизмененными архетипами. Правда, это уже не содержания бессознательного; они успели приобрести осознаваемые формы, которые передаются с помощью традиционного обучения в основном в виде тайных учений, являющихся вообще типичным способом передачи коллективных содержаний, берущих начало в бессознательном. Другим хорошо известным выражением архетипов являются мифы и сказки. Но и здесь речь идет о специфических формах, передаваемых на протяжении долгого времени.
Понятие «архетип» опосредованно относимо к representations collectives, в которых оно обозначает только ту часть психического содержания, которая еще не прошла какой-либо сознательной обработки и представляет собой еще только непосредственную психическую данность. Архетип как таковой существенно отличается от исторически ставших или переработанных форм. На высших уровнях тайных учений архетипы предстают в такой оправе, которая, как правило, безошибочно указывает на влияние сознательной их переработки в суждениях и оценках. Непосредственные проявления архетипов, с которыми мы встречаемся в сновидениях и видениях, напротив, значительно более индивидуальны, непонятны или наивны, нежели, скажем, мифы. По существу, архетип представляет то бессознательное содержание, которое изменяется, становясь осознанным и воспринятым; оно претерпевает изменения под влиянием того индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает.
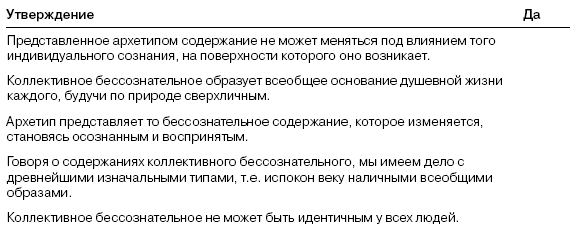
Ортега-и-Гассет
Восстание масс
Разве не величайший прогресс то, что массы обзавелись «идеями», то есть культурой? Никоим образом. Потому что «идеи» массового человека таковыми не являются, и культурой он не обзавелся. Идея – это шах истине. Кто жаждет идей, должен прежде них домогаться истины и принимать те правила игры, которых она требует. Бессмысленно говорить об идеях и взглядах, не признавая системы, в которых они выверяются, свода правил, к которым можно апеллировать в споре. Эти правила – основа культуры. Не важно, какие именно. Важно, что культуры нет, если нет устоев, на которые можно опереться. Культуры нет, если к любым, даже крайним взглядам нет уважения, на которое можно рассчитывать в полемике. Культуры нет, если экономические связи не руководствуются торговым правом, способным их защитить. Культуры нет, если эстетические споры не ставят целью оправдать искусство. Если всего этого нет, то нет и культуры, а есть в самом прямом и точном смысле слова варварство. <…> Мерой культуры служит четкость установлений. <…>
Словом, беда не в большей или меньшей неистинное™ – истина не в нашей власти, – а в большей или меньшей недобросовестности, которая мешает выполнять несложные и необходимые для истины условия. В нас неискореним тот деревенский попик, кто победно громит манихеев, так и не позаботясь уяснить, о чем же они, собственно, толкуют.
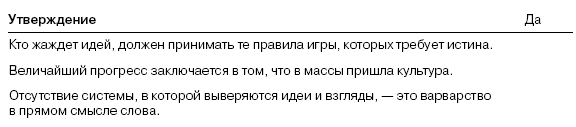
Кассирер
Опыт о человеке
1
Человек сумел открыть новый способ адаптации к окружающей среде. У него между системой рецепторов и эффекторов есть еще третье звено, которое можно назвать символической системой. Это новое приобретение целиком преобразовало всю человеческую жизнь. <…> Человек не может избавиться от своего приобретения, он может лишь принять условия своей собственной жизни. Человек живет отныне не только в физическом, но и в символическом универсуме. Язык, миф, искусство, религия – части этого универсума, те разные нити, из которых сплетается символическая сеть, запутанная ткань человеческого опыта. Весь человеческий прогресс в мышлении и опыте утончает и одновременно укрепляет эту сеть. Человек уже не противостоит реальности непосредственно, он не сталкивается с ней, так сказать, лицом к лицу. Физическая реальность как бы отдаляется по мере того, как растет символическая деятельность человека.
Вместо того чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно обращен на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические формы, художественные образы, мифические символы или религиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без вмешательства этого искусственного посредника. Так обстоит дело не только в теоретической, но и в практической сфере. Даже здесь человек не может жить в мире строгих фактов или сообразно со своими непосредственными желаниями и потребностями. Он живет, скорее, среди воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий и их утрат, среди собственных фантазий и грез. <…>
С этой, достигнутой нами теперь, точки зрения мы можем уточнить и расширить классическое определение человека. Вопреки всем усилиям современного иррационализма определение человека как рационального животного ничуть не утратило своей силы. Рациональность – черта, действительно внутренне присущая всем видам человеческой деятельности. <…> Великие мыслители, которые определяли человека как animal rationale, не были эмпириками, они и не пытались дать эмпирическую картину человеческой природы. Таким определением они скорее выражали основной
моральный императив. Разум – очень неадекватный термин для всеохватывающего обозначения форм человеческой культурной жизни во всем ее богатстве и разнообразии. Но все эти формы суть символические формы. Вместо того чтобы определять человека как animal rationale, мы должны, следовательно, определить его как animal symbolicum. Именно так мы сможем обозначить его специфическое отличие, а тем самым и понять новый путь, открытый человеку, – путь цивилизации.
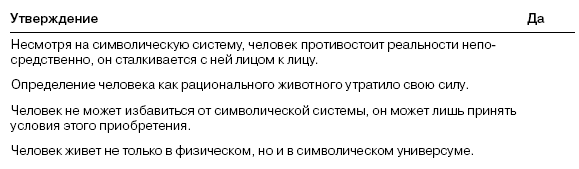
2
Философия символических форм исходит из предпосылки, согласно которой если существует какое-то определение природы или «сущности» человека, то это определение может быть понято только как функциональное, а не субстанциональное. Мы не можем определить человека с помощью какого бы то ни было внутреннего принципа, который устанавливал бы метафизическую сущность человека; не можем мы и определять его, обращаясь к его врожденным способностям или инстинктам, удостоверяемым эмпирическим наблюдением. Самая главная характеристика человека, его отличительный признак – это не метафизическая или физическая природа, а его деятельность. Именно труд, система видов деятельности определяет область «человечности». Язык, миф, религия, искусство, наука, история суть составные части, различные секторы этого круга. «Философия человека» есть, следовательно, такая философия, которая должна прояснить для нас фундаментальные структуры каждого из этих видов человеческой деятельности и в то же время дать возможность понять ее как органическое целое. <…>
Несомненно, что человеческую культуру образуют различные виды деятельности, которые развиваются различными путями, преследуя различные цели. Если мы сами довольствуемся созерцанием результатов этих видов деятельности – мифами, религиозными ритуалами или верованиями, произведениями искусства, научными теориями, – то привести их к общему знаменателю оказывается невозможно. Философский синтез, однако, означает нечто иное. Здесь мы видим не единство следствий, а единство действий; не единство продуктов, а единство творческого процесса. Если термин «человечество» вообще что-то означает, то он означает, по крайней мере, что вопреки всем различиям и противоположностям разнообразных форм всякая деятельность направлена к единой цели. В конечном счете должна быть найдена общая черта, характерная особенность, посредством которой все эти формы согласуются и гармонизируются. Если мы сможем определить эту особенность, расходящиеся лучи сойдутся, соединятся в мыслительном фокусе.
Мы подчеркнули уже, что такая организация фактов человеческой культуры осуществляется в отдельных науках – в лингвистике, сравнительном изучении мифов и религий, в истории искусства. Все эти науки стремятся исходить из некоторых принципов, из определенных «категорий», с помощью которых явления религии, искусства, языка систематизируются, упорядочиваются. Философии не с чего было бы начать, если бы не этот первоначальный синтез, достигаемый самими науками. Но, в свою очередь, философия не может этим довольствоваться: она должна стремиться к достижению гораздо больших конденсации и централизации. В безграничном множестве и разнообразии мифических образов, религиозных учений, языковых форм, произведений искусства философская мысль раскрывает единство общей функции, которая объединяет эти творения. Миф, религия, искусство, язык и даже наука выглядят теперь как множество вариаций на одну тему, а задача философии состоит в том, чтобы заставить нас услышать и понять ее.
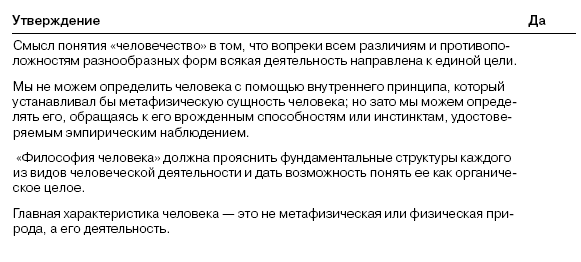
Словарь культурологических терминов[420]
Авуары (культурные)* – духовные активы культуры, обеспечивающие смысл и ценность знаковых выражений артефакта.
Аккультурация – изменения материальной и духовной культуры, происходящие в результате непосредственного контакта различных культур.
Аксиология – учение о ценностях.
Актор* – субъект культурного творчества. «Отправитель» культурно-значимого сообщения.
Акцептор* – субъект, воспринимающий продукт культуры. «Адресат» культурно-значимого сообщения.
Артефакт – целесообразный искусственный объект (вещественный или символический). Универсум артефактов составляет культуру (или – в другом понимании – предметный субстрат культуры). Часто артефактом называют только форму, воплощенную в материи или в событии как единичность. В ряде случаев целесообразно различать артефакт как единичный предмет и воплощенную в нем культурную форму.
Архетип – прообраз. В «глубинном психоанализе» Юнга – формообразующий элемент коллективного бессознательного, воплощающийся при определенных условиях в индивидуальном воображении или в культурном творчестве.
Генотекст/фенотекст – в постструктурализме (Кристева) долингвистический процесс формирования континуума значений (генотекст) и структуры, в которой выявляется содержание генотекста, получив культурное оформление (фенотекст).
Герменевтика – наука о принципах понимания и истолкования. В философии и культурологии – обобщенная теория трансляции смыслов в актах общения, толкования и культурной памяти.
Гештальт* – в философии и культурологии (но не в психологии) – образ различной степени развернутости (от представления до повествования), передающий фиксированный смысл, несводимый к понятийному содержанию. В гётеанской традиции – образная репрезентация прафеномена.
Дискурс – в постструктуралистской философии и культурологии – правила построения речевой коммуникации, заданные стилевой или социальной функцией. Для анализа культуры важны как явные, так и неявные дискурсивные «прописи», по которым оформляется та или иная тема.
Диспарация* – обособление культурной формы от ее артефакта. Диспаратные формы могут быть общими у разных по своей внешней форме типов культурных явлений.
Доминанта* – преобладающая культурная форма. Доминантные формы, в отличие от рецессивных, являются активными и предпочитаемыми способами культурного творчества.
Идентичность – отождествление себя с тем или иным классификационным типом (нация, культура, социальная группа, роль, пол, возраст и т. п.). Может осуществляться в неосознанных формах.
Изоморфемы* – сопоставимые морфемы, принадлежащие разным культурным рядам, но коррелирующие в отношении культурной формы. Например, роман и симфония изоморфны как жанровое решение, найденное XVIII–XIX вв.
Инкультурация – усвоение индивидом (реже – группой) норм и моделей определенной культуры. Синоним – культурализация. Иногда частным случаем инкультурации считают социализацию.
Интернализм – признание определяющей силой развития той или иной области культуры ее собственных внутренних содержательных и формальных факторов. Противоположная позиция – экстернализм. Термины возникли в 30-х годах XX в. в ходе методологических споров в истории и философии науки.
Интертекстуальность – способность текста выражать собой реакцию на другие – предшествующие и синхронные – тексты. Термин введен в оборот постструктурализмом (Кристева, Барт). Интертекстуальность может быть сознательным указанием источников, влияний или оппонентов. Но в первую очередь это бессознательные «цитаты». Постструктурализм утверждает, что каждый текст является интертекстом.
Конфигурация – характеристика культуры с точки зрения своеобразной или уникальной композиции ее элементов, которые могут быть общими с другими культурами. При относительной гибкости и вариативности конфигурация сохраняет свои основные параметры, что позволяет сделать ее основой для описания специфики данной культуры. Категория введена А.Л. Крёбером.
Креатура* – артефакт в аспекте его порожденности субъектом культуры.
Культур а листика* – совокупность наук о культуре и тематических разделов о культуре в разных науках.
Ментальность (менталитет) – умственный и психологический склад, присущий индивидууму, группе или культуре на протяжении значимого исторического времени.
Модернитет* – Новое время. Термин в данном смысле малоупотребим в нашей литературе, но термин «модерн», также употребляемый как синоним Нового времени, кажется нам менее удобным, так как его легко перепутать с принятым в русской традиции обозначением стиля ар-нуво.
Морфогенез – раздел культурологии, изучающий происхождение и становление культурных форм, а также складывание их в устойчивые системы.
Морфология культуры – раздел культурологии, изучающий культурные формы, структуры и закономерности их изменчивости.
Нарратив – повествование, строящееся по определенным правилам речевого или художественного сообщения. Эти правила касаются, в частности, системы субъектов и уровней повествования, различных отношений к адресату и предмету сообщения, особого типа повествовательного времени и т. п. Одна из операциональных категорий постструктурализма. Существует нарратология как литературоведческая дисциплина.
Осевое время – период мировой истории с 800 по 200 г. до н. э., когда были заложены основы и цели цивилизационного развития и постулированы такие принципиально новые ценности, как личность и история. Концепт создан Ясперсом.
Парадигма – базовая концептуальная модель постановки проблем и методов их решения, доминирующая в течение некоторого исторического периода. Понятие введено в науковедение Т. Куном. С его точки зрения, смена парадигм происходит в ходе научных революций, что не позволяет считать развитие науки эволюционной преемственностью.
Программа* – культурная форма в аспекте последовательного осуществления ее возможностей и целей.
Рецессия – см. Доминанта.
Семиотика – наука о свойствах знаков и знаковых систем в культуре и ее отдельных сферах. Изучает также способы передачи информации в человеческом обществе и мире животных.
Символ – 1) знак, который связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл знака и его предмет представлены только самим знаком и раскрываются лишь через его интерпретацию; причем правила интерпретации исключают как однозначную «расшифровку» знака (поскольку у предмета нет другого способа данности, с которым можно было бы соотнести смысл знака), так и произвольное толкование (поскольку знак соотнесен именно с этим, а не с другим предметом); 2) синоним понятия «знак» (например, в лингвистике, информатике, логике, математике); 3) аллегорический знак.
Синдром* – в культурологии обозначает иногда соединение признаков или характеристик, повторяющееся в исторически конкретных случаях, не поддающихся логической генерализации.
Синтаксис культуры* – раздел культурологии, изучающий способы соединения культурных форм в системы (синтагмы), способные стать источником стилей и парадигм.
Социализация – см. Инкультурация.
Субкультура – самостоятельное целостное образование внутри доминирующей культуры (например, конфессиональная, молодежная субкультуры). Зачастую субкультура конфликтует с доминантой или оппонирует ей.
Текст* – любой артефакт как связная система знаков, несущая потенциальное сообщение. Текст может включаться как часть в смысловое целое (контекст) и использоваться (модифицироваться) коммуникативной практикой (дискурсом).
Фенотекст – см. Генотекст.
Форма культурная (морфема) – способ, которым артефакт выражает свое внеутилитарное символическое «сообщение». Например, один и тот же сюжет в искусстве, выполненный в разных стилевых манерах, имеет разные культурные формы.
Экстернализм – см. Интернализм.
Энтелехия – неологизм Аристотеля, означающий целеобладание и воплощение цели в индивидуально очерченной предметности. Обе основные интерпретации энтелехии – как обладание завершенностью и как содержание в себе цели – предполагают внутреннюю работу цели (процесс), приводящую к исполнению и воплощению (результат). Так, по Аристотелю, душа есть энтелехия тела. В оккультно-пантеистической натурфилософии Ренессанса энтелехия – обозначение внутренней жизненной силы. Понятие используется Лейбницем в «Монадологии», Гёте – в его натурфилософских размышлениях, Гуссерлем – в «Кризисе европейских наук». Как культурологический концепт энтелехия работает в культурологии Г.С. Кнабе.
Этаблирование – превращение культурного феномена в институт.
1
Здесь и далее автор уделяет преимущественное внимание средиземноморско-европейской культурной истории. Это обусловлено не европоцентризмом, а большей иллюстративностью и доступностью данного историко-культурного среза для понимания той традиции, к которой принадлежат читатели.
2
Греч, «демиургос» означает «мастер», «ремесленник».
3
Мы, конечно, не можем отождествить эту науку с культурологией. Есть даже мнение, что «созданная Ибн Халдуном наука никак не совпадает ни с каким „аналогом“, который мы могли бы обнаружить в западной мысли, – по той простой причине, что такие аналоги отсутствуют». См.: Смирнов А.В. Ибн Халдун и его новая наука // Историко-философский ежегодник 2007. М., 2008. С. 185–186.
4
См. об этом: Акимова Л.И. К проблеме классики и классического //Из истории античной культуры. М., 1976.
5
Среди наиболее значительных исключений см.: Бахмутский В.Я. На рубеже двух веков // Спор о древних и новых. М., 1985.
6
См.: Кнабе Г.С. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М., 1999. Особенно – раздел II, гл. 8-11.
7
Постижение античности для Гёте было, разумеется, не симультанным озарением, а непростой эволюцией. Но сформировавшаяся достаточно рано – после «итальянского путешествия» – интуиция гармонии чувства и разума, сомкнутых совершенной формой, осталась равной себе до конца его творческого пути. Об этом см.: Арне Е.А. Античность в ранней лирике Гёте // Гётевские чтения. 2003. М., 2003; Михайлов А.В. Гёте и отражение античности в немецкой культуре на рубеже XVIII–XIX веков // Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997; Черепенникова М.С. Гёте и Италия. Традиции. Диалог. Синтез. М., 2006.
8
Здесь термин «энтелехия» употреблен в смысле, приданном ему в философии культуры Г.С. Кнабе.
9
О последнем см.: Федотов В.В. О прообразе некоторых этических тезисов О. Конта в учении Элевсинского культа Древней Греции // Культура Средних веков и Нового времени. М., 1987.
10
См.: Носов АЛ. К истории классического образования в России (1860 – начало 1900-х годов) // Античное наследие в культуре России. М., 1996.
11
См. об этом: Полемика вокруг книги Ф. Ницше «Рождение трагедии» (1872–1874) // Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001. См. также: Россиус АЛ. Введение // Ницше Ф. Рождение трагедии.
12
На русском материале построена история аполлинизма в книге В.Н. Топорова. См.: Топоров В.Н. Из истории русского аполлинизма: его золотые дни и его крушение. М., 2004.
13
См.: Россиус АЛ. Третий гуманизм // Новая философская энциклопедия: в 4 т. М., 2000–2001. Т. IV. С. 106–107.
14
Богатый и детализированный спектр таких интенций развернут в статье С.С. Аверинцева. См.: Аверинцев С. С. Образ античности в западноевропейской культуре XX в. Некоторые замечания // Новое в современной классической филологии. М., 1979.
К числу «скрытых» теорий культуры относится «Божественная Комедия» Данте – один из итоговых шедевров средневековой ментальности. В трех частях (кантиках) Данте представляет грандиозную литературную мистерию, повествующую о странствии автора в 1300 г. по трем загробным мирам: по Аду, Чистилищу и Раю. Данте создает небывалые по художественной детализации и символической насыщенности картины девяти кругов адской воронки, девяти уровней горы Чистилища, девяти небесных миров и райской Розы в Эмпирее, откуда Данте созерцает Троицу. Ведомый сменяющими друг друга проводниками – Вергилием, Беатриче и св. Бернаром Клервоским, герой узнает устройство мира, законы посмертного воздаяния, встречается и беседует с многочисленными персонажами истории и современности. В ходе своего странствия-паломничества автор-герой заново переживает свою жизнь, очищаясь и преображаясь. Таким образом, «Комедия» в символе странствия показывает и путь исторического человечества, и путь внутреннего самоуглубления и спасения. С небывалой для Средневековья смелостью Данте соединяет в воспетом им мистическом событии судьбу конкретного земного человека с судьбой истории и мироздания, оставаясь при этом в рамках церковного христианского гуманизма.
Одна из главных сквозных тем «Комедии» – законы воплощения высшего смысла на разных уровнях бытия. Поскольку это совпадает с основной темой наук о культуре, мы вправе поместить поэму Данте в наш очерк культурологических учений. Важная для нас особенность «Комедии», которую нельзя рассматривать только лишь в рамках дантовской поэтики, это понимание универсума как системы разнородных миров, каждый из которых создан из своей собственной «материи» по своим законам и потому выражается своими образами и символами, своим языком. Дантовский универсум создан по законам божественной поэзии: создатель «Комедии» лишь пересказывает то, что уже до него стало плодом творения.
Шеллинг отмечал скульптурность первой кантики, живописность второй и музыкальность третьей, но это только наиболее общие различия художественных средств. «Комедия» содержит детально продуманную иерархию культурных миров. «Ад» – это культура безжизненного вещества, замкну-
15
Именно этот термин используют французские мыслители, в отличие от немецких просветителей, выбравших термин «культура». Считается, что впервые слово «цивилизация» в современном смысле введено французским экономистом В.Р. Мирабо в книге «Друг людей» (1756).
16
См.: Погоняйло А.Г. Философия заводной игрушки, или Апология механицизма. СПб.,
17
Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Т. 2. Театр эпохи Просвещения (XVIII век). М., 1955. С. 336.
18
См.: Алтагмина БД. Парадокс о Дидро // Д. Дидро: pro et contra. СПб., 2013. С. 22–26.
19
Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980. С. 540.
20
Дидро Д. Эстетика и литературная критика. С. 541.
21
Там же. С. 582.
22
Библер В.С. Век Просвещения и критика способности суждения. Дидро и Кант // Западноевропейская художественная культура XVIII века. М., 1980. С. 159–160.
23
Ямпольский М.Я. Физиология символического. Кн. 1: Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М., 2004. С. 310.
24
Дидро Д. Эстетика и литературная критика. С. 567.
25
Дидро Д. Эстетика и литературная критика. С. 486.
26
Дени Дидро об искусстве / пер. А.С. Гущина. Т. 1. М.; Л., 1936. С. 96.
27
Пожалуй, в данном случае лучше передает мысль Дидро перевод И. Волевич: «именно общее, согласованное действие всех персонажей картины». См.: Дидро Д. Салоны: в 2 т. М., 1989. С. 229.
28
Дени Дидро об искусстве. Т. 1. С. 97–98.
29
Якимович А.К. Об истоках и природе искусства Ватто // Западноевропейская художественная культура XVIII века. М., 1980. С. 56.
30
См. анализ картины в следующих работах: Даниэль С.М. Рококо: От Ватто до Фрагонара. СПб., 2007. С. 84–90; Якимович А.К. Цит. соч. С. 76–78; Герман М.Ю. Антуан Ватто. Л., 1984. С. 195–199. О культурном контексте стиля Ватто см. также: Белова Ю.Н. Рациональные конструкции Антуана Ватто // XVIII век: Литература как философия, философия как литература. М., 2010; Она же. Театральные метаморфозы Антуана Ватто // XVIII век: театр и кулисы. М., 2006.
31
Герман М.Ю. Цит. соч. С. 197–198.
32
Автор термина «культурфилософия» – немецкий романтик А. Мюллер.
33
От „Stürm und Drang“ – названия драмы Ф.М. Клингера (1752–1831), одного из активных деятелей движения. Отсюда и термин «штюрмеры» применительно к участникам «Бури и натиска».
34
Goethe. Kunst und Altertum // Goethe. Sämtliche Werke. Bd. 38. 1903. S. 261.
35
Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 2. М., 1969. С. 233.
36
«Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784); «Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?» (1784); «Предполагаемое начало человеческой истории» (1786); «Религия в пределах только разума» (1793); «Конец всего сущего» (1794); «К вечному миру» (1795); «Антропология с прагматической точки зрения» (1798); «Логика» (1800); «О педагогике» (1803).
37
Кант И. Соч. на немецком и русском языках. Т. 4. М., 2001. С. 701.
38
Там же.
39
Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 453–454.
40
Там же. С. 454.
41
Кант И. Соч. на немецком и русском языках. Т. 4. С. 711.
42
От греч. hypotypösis – набросок, очерк, эскиз, пример, образец.
43
Случай, рассмотренный в «Критике чистого разума».
44
Кант И. Соч. на немецком и русском языках. Т. 4. С. 515.
45
„Das Schöne ist das Symbol des Sittlich-Guten“ (Кант И. Соч. на немецком и русском языках. Т. 4. С. 517).
46
Там же. С. 523.
47
Там же. С. 525.
48
Особо следует отметить различные версии феноменологии духа, данные Гегелем и Шеллингом (и напрямую связанные с методом Канта), и опыт морфологии культуры в виталистских, символических и герменевтических направлениях культурологии XX в.
49
Свой исходный философский «миф» Гегель излагает в «Феноменологии духа», значение которой не умалили более поздние версии системы. Для понимания Гегеля также важны «Лекции», составленные на основе записей его учеников. В нашем случае ценный источник – это лекции по философии права, эстетике, философии религии, философии истории, истории философии.
50
В рецензии на русский перевод произведения Канта Г. Шпет заявляет: «Не резон переводить неважную, всеми забытую, кроме специально призванных помнить о ней, полтораста лет тому назад написанную статью еще не установившегося философа» (Шпет Г. И Вопросы философии и психологии. Год XV. Кн. IV (74). М., 1904. С. 564–566). Рецензия написана задиристым студентом, каковым Шпет был в то время, но более мягкие формулировки этой оценки мы можем встретить во многих обзорных кантоведческих трудах.
51
См. об этом: Im S. A Study of Kant's „Dreams of a Spirit – Seer“: Kant's Ambiguous Relation to Swedenborg. Indiana University, 2008.
52
О «двусмысленности», с которой выражены мысли Канта, писал уже один из первых читателей работы М. Мендельсон. См.: Кант И. Письмо к Моисею Мендельсону // Кант И. Соч.: вбт. Т. 2. М., 1964. С. 363.
53
Кант И. Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики // Там же. С. 329.
54
О жизни Сведенборга см. очерк в хрестоматии, изданной на русском языке в Нью-Йорке: Сведенборг Э. Основы учения / ред. – сост. С. Синнестведт. 1991. Наиболее авторитетная биография: Sigstedt С. О. The Swedenborg Epic. N.Y., 1952.
55
Кант дает ошибочную дату – 1756 г. вместо 1759 г.
56
В действительности – около 300 миль.
57
Письмо к Шарлотте фон Кноблох. Цит. по: Кант И. Трактаты и письма. С. 509–510.
58
Среди прочих работ на эту тему интересны статья нобелевского лауреата Чеслава Милоша «Достоевский и Сведенборг» (Иностранная литература. 1992. № 8–9) и статья Б. Дубина «Милош о Сведенборге, удвоение мира и ереси человекобожества» (там же).
59
См.: Белый А. Начало века. М., 1990. С. 156.
60
«…Я бы взялся защищать грезы самого Сведенборга, если бы кто-нибудь стал оспаривать возможность этих грез…» (Кант И. Письмо к Моисею Мендельсону // Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 2. С. 367. Ср. также общий тон письма к фон Кноблох: Кант И. Письмо о Сведенборге к фрейлейн Шарлотте фон Кноблох // Там же. С. 355–360).
61
Частный случай такого толкования см.: Kirven R.H. Swedenborg and Kant Revisited: The Long Shadow of Kant’s Attack and a New Response 11 Swedenborg and His Influence. Academy of the New Church Book. Bryn Athyn, Pennsylvania, 1988. Автор полагает, что ошибка Канта, частично исправленная в трех «критиках», заключается в применении к Сведенборгу неадекватных критериев оценки его опыта. Но дело в том, что собственно опыт берется Кантом, так сказать, в феноменологические скобки. Критикуется же метафизика, построенная на основе этого опыта.
62
Соловьев В.С. Сведенборг Эммануил // Философский словарь Владимира Соловьева. Ростов н/Д, 1997. С. 440. См. также: Он же. Соч.: в 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 424, 443.
63
Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 3. М., 1965. С. 644.
64
Это аргументированно показано в статье Т.Г. Румянцевой «И. Кант, Э. Сведенборг и метафизика сверхчувственного». См.: <http://journals.kantiana.ru/kant_collection/528/1445/>.
65
Кант И. Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики // Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 2. М., 1964. С. 349.
66
„Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“ (Кант И. Соч. на немецком и русском языках. Т. 2. Ч. 1. М., 2006. С. 32 (В XXX, 16–17)).
67
Данное научное исследование (№ 14-01-0017) выполнено при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014–2015 гг.
68
Тезисы доклада см.: Габричевский А.Г. Морфология искусства. М., 2002. С. 79–80.
69
Там же. С. 219.
70
Там же. С. 221.
71
Там же.
72
Публиковался перевод отрывка из «Пластики». См.: Гердер И.Г. Избр. соч. М.; Л., 1959. С. 179–191.
73
Габричевский А.Г. Цит. соч. С. 79.
74
Там же.
75
Габричевский А.Г. Цит. соч. С. 79.
76
Там же. С. 42–43.
77
См. об этом: Доброхотов АЛ. А.Г. Габричевский о поэтике Гёте // Логос. 2010. № 2 (75). С. 115–121.
78
См.: К вопросу о строении художественного образа в архитектуре // Габричевский А.Г. Цит. соч. С. 448–465.
79
Этот термин сам Дильтей употреблял редко. Но именно он переосмыслил герменевтику Шлейермахера и создал предпосылки для герменевтики Хайдеггера и Гадамера.
80
Хайдеггер критически заметил, что «формальная структура взаимосвязи жизни в конечном итоге определяется у Дильтея гуманистическим идеалом Гёте и Гумбольдта», но сегодня мы в этом скорее можем увидеть преимущество Дильтея, его способность сохранить преемственность европейской гуманитаристики.
81
Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. М., 2000.
82
Интересна, но менее показательна в этом отношении эстетика раннего и среднего Дильтея, представленная в т. 4 издаваемого собрания. См.: Дильтей В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4: Герменевтика и теория литературы. М., 2001.
83
Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта // Манн Т. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. М., 1961. С. 359.
84
Мамардашвили М.К. Кантианские вариации. М., 2002. С. 228–229.
85
Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 5. М., 1966. С. 338.
86
Там же. С. 340.
87
Там же. С. 228.
88
Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966. С. 275.
89
Там же. С. 276.
90
Шеллинг Ф. Философия искусства. С. 279.
91
Там же. С. 281.
92
Михайлов Ал. В. Архитектура как застывшая музыка // Античная культура и современная наука. М., 1985. С. 236–237.
93
Михайлов Ал. В. Архитектура как застывшая музыка. С. 280.
94
Там же. С. 282–283.
95
Зольгер К.-В.-Ф. Диалог третий // Зольгер К.-В.-Ф. Эрвин. Четыре диалога о прекрасном и об искусстве. М., 1978. С. 276.
96
Там же.
97
Там же. С. 282.
98
Шлегель Ф. Основные черты готического зодчества // Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: в 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 260.
99
Там же.
100
Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Часть первая. Введение // Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 1.М., 1968. С. 88.
101
Учение об общине (которое, скорее всего, повлияло на знаменитый отечественный концепт соборности) очень важно для гегелевской системы. См., например: «Существование общины есть ее продолжающееся, вечное становление, основанное на том, что дух есть вечное познавание себя, он рассыпается на конечные искры отдельных сознаний и вновь собирает себя и постигает себя из этой конечности, по мере того как в конечном сознании рождается знание о его сущности и, таким образом, божественное самосознание. Из брожения конечности, превращающейся в пену, рождается благоухание духа» (Философия религии. Т. 2. М., 1977. С. 313 (раздел «Абсолютная религия. Реализация общины»)).
102
Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Часть первая. Введение // Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 1.М., 1968. С. 91.
103
Там же. Часть третья. Первый отдел: Архитектура // Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 3. М., 1971. С. 29.
104
Там же.
105
Там же. С. 30–92.
106
Там же. Часть первая. Введение // Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 1. С. 96.
107
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. М., 1999. С. 187–191 (кн. 3, § 43); Т. 2. М„2001. С. 343–350 (гл. 35); Paralipomena // Там же. Т. 5. М„2001. С. 330 (§ 214).
108
Он же. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. С. 188.
109
Там же. С. 189.
110
Там же. С. 190.
111
Там же.
112
Там же.
113
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. С. 190–191.
114
Намечена даже семиотика повседневности. См., например, статью Самарина «Два слова об одежде» в кн.: Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1997.
115
Зеньковский В.В. История русской философии. Харьков; М., 2001. С. 201.
116
Там же. С. 231.
117
Франк С.Л. Фр. Ницше и этика «любви к дальнему» // Проблемы идеализма: сб. статей [1902]. М., 2002.
118
Там же.
119
Там же.
120
Там же. С. 495.
121
См.: Струве П.Б. Избр. соч. М., 1999. С. 127–150.
122
Там же. С. 135.
123
Там же. С. 132–133.
124
Там же. С. 9–10.
125
Отсюда знаменитое мотто Соловьева: «Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царствие Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад». См.: Соловьев В.С. Право и нравственность. Минск; М., 2001. С. 42.
126
Соловьев В.С. Право и нравственность. С. 4.
127
Новгородцев П.И. Идея права в философии Вл. С. Соловьева // Новгородцев П.И. Соч. М., 1995. С. 286.
128
Там же. С. 287.
129
Трубецкой Е.Н. Труды по философии права. СПб., 2001. С. 300.
130
«Содержанием права является исключительно внешняя свобода лица. Содержанием нравственности является добро, или благо, причем требования добра могут касаться как сферы внутренних, так и внешних проявлений нашей свободы, как действий лица, так и его настроения». «Нравственность и право в их взаимных отношениях могут быть сравнены с двумя пересекающимися окружностями: у них есть, с одной стороны, общая сфера, сфера пересечения, в которой предписания их совпадают, и вместе с тем две отдельные области, в коих их требования частью не сходятся между собой, частью даже прямо противоречат друг другу» (Там же. С. 306).
131
Балицкий А. Нравственность и право в теориях русского либерализма конца XIX – начала XX века // Вопросы философии. 1991. № 8. С. 32.
132
Балицкий А. Нравственность и право в теориях русского либерализма конца XIX – начала XX века. С. 34.
133
Соловьев В.С. Право и нравственность. Минск; М., 2001. С. 40.
134
Последователь Соловьева утверждает: «Идея равновесия, можно сказать, есть кардинальная идея всей синтетической философии Соловьева. Его идеал – свободная общинность; свободная же общинность, по его собственному определению, есть положительное равновесие и внутреннее единство между всеми и каждым, между общественным и личным элементом».
См.: Ященко А.С. Философия права Соловьева // Ященко А.С. Философия права Соловьева. Теория федерализма. СПб., 1999. С. 43.
135
Парадоксальным образом правоведческие тексты Соловьева проникнуты мотивами смягчения пенитенциарных мер, призывами к отмене смертной казни, тогда как Чичерин – решительный сторонник смертной казни. Вспоминаются иезуит Нафта и либерал Сеттембрини из «Волшебной горы», чьи позиции по ходу романной диалектики головокружительно меняли облик.
136
Судьба была благосклонна к мыслителю: он почил за год до того, как его литературнопублицистические образы стали быстро обретать историческую плоть.
137
Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Соч.: в 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 541–542.
138
Ященко А.С. Цит. соч. С. 49–50.
139
Гулыга А.В. Ключевский и русская культурная традиция // Традиция в истории культуры. М., 1978.
140
Там же. С. 219–220.
141
Там же. С. 220.
142
Соловьев Э.Ю. Философско-правовые идеи В.С. Соловьева и русский «новый либерализм» // История философии: учеб, пособие для студентов и аспирантов высших учебных заведений. М., 2001.
143
«Он вызвал русских правоотрицателей на честный диспут перед лицом евангельских текстов» (Там же. С. 141).
144
Так, по поводу соловьевского определения правового «лица» сказано: «Это чистый, можно сказать, хрестоматийный Кант, но звучащий так, как он должен звучать после Бабефа, Сен-Симона, Рикардо, Прудона, Чернышевского и Маркса» (Там же. С. 183). Имени Гегеля в этом перечне нет.
145
Почти наугад выбранная цитата: «Кант – который столько же тяготился своим субъективизмом в области нравственной, сколько гордился им в сфере теоретической – хорошо понимал, что факт совести сам по себе еще не освобождает его от этого субъективизма» (Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Соч.: в 2 т. Т. 1. С. 243). Это какой-то воображаемый русским философом, участвующий в какой-то ему одному ведомой драме, «тяготящийся» Кант.
146
Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия Запада (В. Соловьев. Н. Бердяев. С. Франк. Л. Шестов). М., 2006.
147
Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия Запада (В. Соловьев. Н. Бердяев. С. Франк. Л. Шестов). С. 214–215.
148
Любопытно в этом отношении сравнить модусы «преодоления Канта» у Соловьева и Пирса с его «логическим социализмом». См.: Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001 (глава «От Канта к Пирсу: семиотическая трансформация трансцендентальной логики»).
149
Флоровский Г.В. Вера и культура // Флоровский Г.В. Христианство и цивилизация. Избр. труды по богословию и философии. СПб., 2005. С. 669.
150
Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. III. Брюссель, 1979. С. 391.
151
Там же. С. 391–392.
152
Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. II. Брюссель, 1974. С. 601–602.
153
Цит. по комментариям Г.В. Обатнина к работе Вяч. Иванова «Ответ на статью [Н. Брызгалова] «Символизм и фальсификация» / предисл. Г.В. Обатнина и К.Ю. Постоутенко; публ. и коммент. Г.В. Обатнина // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 170.
154
Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. II. С. 613.
155
Там же. С. 610.
156
Там же. С. 609.
157
Там же. С. 617.
158
Здесь тоже можно усмотреть перекличку с любимой гётевской идеей «отречения», т. е. жертвенного самоограничения художника в жизни и творчестве.
159
Мы бы сегодня добавили: интерсубъективного.
160
Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. II. С. 617–618.
161
Там же. С. 618.
162
Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. II. С. 620.
163
Он же. Ответ на статью [Н. Брызгалова] «Символизм и фальсификация».
164
Там же. С. 167.
165
Там же. С. 168.
166
Там же.
167
Там же.
168
Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. IV. Брюссель, 1987. С. 265.
169
О глубокой близости П. Флоренского интуициям Вяч. Иванова см.: Шишкин А. О границах искусства у Вяч. Иванова и о. Павла Флоренского // Вестник РХД. 1990. № 160 (3).
170
Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. III. Брюссель, 1979. С. 431.
171
Иванов Вяч. И. Роман в стихах // Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. IV. Брюссель, 1987.
172
Тахо-Годи А.А. Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков // Искусство слова. М., 1973.
173
Там же. С. 314.
174
О дионисийских коннотациях речения Гераклита см.: Доброхотов АЛ. Гераклит: Фрагмент В52 // Доброхотов А.Л. Избранное. М., 2008. С. 222–225.
175
Тахо-Годи А.А. Цит. соч. С. 310.
176
«Она, смеясь меж первенцев творенья, / Крутит свой шар, блаженна и светла» (Ад, VII, 95–96).
177
Кнабе Г.С. Нерон // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Версия 2006 г. [Электронный ресурс].
178
См., например: Пинский Л.Е. Шекспир. М., 1971; Киасашвили Н. Скрытая метафора «мир – сцена» как структурный элемент «Гамлета» // Шекспировские чтения 1978. М., 1981; Schramm Н. Karneval des Denkens. Theatralität im Spiegel philosophisher Texte des 16. und 17. Jahrhunderts. Berlin, 1996.
179
«В новом значении аналогия с театром возникает в творчестве И.В. Гёте. Для него театр не есть жизнь, но он важная составляющая жизни, в особенности творца. Его артисты включены в контекст других профессий, каждая из которых тоже творчество. Разница в той степени свободы, которую дает артистическое призвание. <…> Практическая деятельность и служение искусству рассматриваются у Гёте сепаратно, но его герой разрывается между тем и другим, что принципиально для автора, утверждающего равные возможности служить добру и красоте через любой труд. В этом смысле для Гёте любая деятельность есть творчество. Но остальные смыслы уподобления жизни театру к началу XIX века оказались уже утрачены» (Сейбель Н.Э. «Жизнь есть театр». Эволюция тезиса от XVII века к XX столетию // Мировая культура XVII–XVIII веков как метатекст: дискурсы, жанры, стили. СПб., 2002. С. 67–68).
180
Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX–XX веков. М.; Л., 1939. С. 113.
181
Иванов Вяч. И. Предчувствия и предвестия. М., 1991. С. 32.
182
Иванов Вян. И. Предчувствия и предвестия. С. 36.
183
Там же. С. 39.
184
Там же. С. 35–36.
185
Подробнее об этом см.: Стахорскый С.В. Искания русской театральной мысли. М., 2007. С. 116–118.
186
Там же. С. 65.
187
Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. IV. С. 406; Иванов Вяч. И. Лик и личины России: Эстетика и литературная теория. М., 1995. С. 271.
188
Он же. Предчувствия и предвестия. С. 47.
189
Об извилистом пути этой полемики с ее притяжениями и отталкиваниями см.: Стахорский С.В. Цит. соч. С. 190–209; Николеску Т.Н. Андрей Белый и театр. М., 1995. С. 76–97.
190
Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 158.
191
Там же. С. 153.
192
Там же. С. 159.
193
Волошин М. Организм театра // Волошин М. Лики творчества. Л., 1989. С. 113.
194
Там же.
195
Там же. С. 114.
196
Там же. С. 115.
197
Волошин М. Организм театра. С. 119.
198
Евреинов Н.Н. Театрализация жизни // Евреинов Н.Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002. С. 43.
199
Там же. С. 44.
200
См. об этом: Вислова А.В. «Серебряный век» как театр. Феномен театральности в культуре рубежа XIX–XX веков. М., 2000; Тихвинская Л. Кабаре и театры миниатюр в России: 1908–1917. М., 1995.
201
Там же. С. 45–46.
202
См. характеристику плотиновской картины мира-театра: Тахо-Годи АЛ. Цит. соч. С. 312–314.
203
Вехи: Pro et contra. Антология. СПб., 1998. С. 98.
204
Вехи. Из глубины. М„1991. С. 176–177.
205
Там же. С. 178.
206
Там же. С. 191.
207
Там же. С. 40.
208
Вехи. Из глубины. С. 42.
209
Там же. С. 68.
210
Там же. С. 153.
211
Там же. С. 154.
212
Там же. С. 155.
213
Там же. С. 160–161.
214
Вехи. Из глубины. С. 12–13.
215
Там же. С. 19.
216
Там же. С. 18.
217
Там же. С. 123.
218
Там же. С. 117.
219
Вехи. Из глубины. С. 9–10.
220
Франк С.Л. Фр. Ницше и этика «любви к дальнему» // Проблемы идеализма: сб. статей [1902]. М., 2002. С 447.
221
Там же.
222
Франк С.Л. Фр. Ницше и этика «любви к дальнему». С. 454.
223
Ясперс К. Ницше и христианство. М., 1994. С. 7.
224
Там же. С. 113.
225
Трубецкой С.Н. Чему учит история философии // Проблемы идеализма: сб. статей [1902]. М., 2002. С. 492.
226
Там же. С. 501.
227
Там же. С. 495.
228
Там же. С. 494–495.
229
Там же. С. 503.
230
Трубецкой С.Н. Чему учит история философии. С. 504.
231
Huizinga /. Over historische levensidealen // Verzamelde Werken. IV/2. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & N.V. Zoon, 1949. P. 432.
232
Русские философы о войне. М.: Жуковский, 2005. С. 402–404.
233
Русские философы о войне. С. 54.
234
Там же. С. 55.
235
Там же. С. 57.
236
Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 20 т. Т. 18. М., 1965. С. 159.
237
Соловьев В.С. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 701–702.
238
Струве П.Б. Избр. соч. М., 1999. С. 135.
239
Там же. С. 132–133.
240
Бердяев Н.А. Война и возрождение // Бердяев Н.А. Футуризм на войне. М., 2004. С. 11.
241
Там же. С. 17–21.
242
Франк С.Л. О поисках смысла войны // Русские философы о войне. С. 404.
243
Там же. С. 405–406.
244
Там же. С. 408.
245
Там же. С. 409.
246
Там же. С. 411.
247
Там же.
248
Там же.
249
Там же. С. 412.
250
По замечанию А.А. Тахо-Годи, «в течение своей многолетней научной деятельности А.Ф. Лосев никогда не занимался специально теоретическими вопросами культуры» (Тахо-Годи А.А. А.Ф. Лосев как историк античной культуры // Традиция в истории культуры. М., 1978. С. 259).
251
См.: Тахо-Годи А.А., Тахо-Годи Е.А., Яковлев С.В. Краткий библиографический список работ о жизни и творчестве А.Ф. Лосева // Тахо-Годи А.А., Тахо-Годи Е.А., Троицкий В.П. А.Ф. Лосев – философ и писатель: К 110-летию со дня рождения. М., 2003.
252
Лосев А.Ф. История эстетических учений // А.Ф. Лосев. Форма. Стиль. Выражение. М.,
1995.
253
Он же. Античная философия истории. СПб., 2001.
254
Он же. Философия культуры // Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., 1988.
255
Он же. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976; Он же. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. М., 1982. Последняя книга содержит «аксиоматику знака»: весьма плодотворную для культурологии теорию классификации типов смыслопорождения.
256
Лосев А.Ф. Философия культуры // Лосев А.Ф. Дерзание духа. С. 218–220.
257
Там же. С. 233.
258
Там же. С. 237–238.
259
Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 694.
260
Там же. С. 63–64.
261
Этот символизм не был вполне автохтонным философским порождением. Он был связан тонкими, но прослеживаемыми нитями с религиозной традицией, в частности с латентным эстетическим диалогом протестантизма и католицизма. Это способствовало религиозной окраске символизма конца XIX в. и, видимо, облегчило его адаптацию к православной мысли XX в.
262
Лосев А.Ф. Философия имени // Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 700.
263
Сжатую интерпретацию см.: Гоготигивипи Л.А. Абсолютная мифология // Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995. С. 7–8.
264
Троицкий В.П. Типология культур А.Ф. Лосева и символ фокстрота // Троицкий В.П. Разыскания о жизни и творчестве А.Ф. Лосева. М., 2007. С. 81–82.
265
Лосев А.Ф. Диалектика творческого акта (Краткий очерк) // Контекст-81. М., 1982. С. 48–78.
266
В первую очередь я имею в виду: Лосев А.Ф. Конспект лекций по истории эстетики Нового времени // Тахо-Годи А.А., Тахо-Годи Е.А., Троицкий В.П. А.Ф. Лосев – философ и писатель…
267
См. прежде всего: Тахо-Годи А.А. Выразительный лик бытия в «Истории античной эстетики» // Тахо-Годи А.А., Тахо-Годи Е.А., Троицкий В.П. А.Ф. Лосев – философ и писатель…; Тахо-Годи А.А. А.Ф. Лосев как историк античной культуры // Традиция в истории культуры. М., 1978; Она же. «История античной эстетики» А.Ф.Лосева как философия культуры // Лосев А.Ф. История античной эстетики. М., 2000. Т. 1: Ранняя классика. С. 3–38.
268
Аверинцев С. С. «Мировоззренческий стиль»: подступы к явлению Лосева // Аверинцев С.С. Собр. соч. София-Логос. Словарь. Киев, 2006; То же // Вопросы философии. 1993. № 9.
269
Он же. «Мировоззренческий стиль»: подступы к явлению Лосева // Аверинцев С.С. Собр. соч. София-Логос. Словарь. С. 724–725.
270
Лосев А.Ф. Конспект лекций по истории эстетики Нового времени // Тахо-Годи А.А., Тахо-Годи Е.А., Троицкий В.П. А.Ф. Лосев – философ и писатель…
271
Там же. С. 353.
272
Лосев А.Ф. Конспект лекций по истории эстетики Нового времени. С. 360–361.
273
Там же. С. 364.
274
Там же. С. 366.
275
Там же. С. 364.
276
Тахо-Годи М.А. Лосевская концепция второй части «Фауста» Гёте // Лосевские чтения. Образ мира – структура и целое. М., 1999. С. 252.
277
Лосев А.Ф. Конспект лекций по истории эстетики Нового времени. С. 364.
278
Он же. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995.
279
Там же. С. 34–36. См. эту тему также в «Диалектике мифа».
280
Там же. С. 149–150; 174–175.
281
Там же. С. 220–226.
282
Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. Киев, 1994.
283
Там же. С. 41.
284
Там же. С. 40–41.
285
Там же. С. 41.
286
Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. С. 4L
287
Он же. Диалектика художественной формы // Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 251.
288
Там же. С. 252.
289
Там же. С. 228.
290
Там же. С. 230.
291
Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы. С. 78–79.
292
Там же. С. 74–77.
293
Там же. С. 106–112.
294
Цит. по: Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 320–339.
295
Там же. С. 320.
296
Там же. С. 324.
297
Там же. С. 325.
298
Там же. С. 326.
299
Там же.
300
Там же.
301
Там же. С. 329.
302
Там же. С. 327.
303
Там же.
304
Там же. С. 328.
305
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. С. 330.
306
Там же. С. 334–335.
307
Там же. С. 336.
308
Там же. С. 337.
309
Там же.
310
Ср. апокалиптическое «времени больше не будет».
311
Мамардашвили М.К. Цит. соч. С. 338.
312
Там же.
313
Филология // Краткая литературная энциклопедия. Т. 7. М., 1972. С. 973–979.
314
Там же. С. 976.
315
Махлин В. Возраст речи. Подступы к явлению Аверинцева // Вопросы литературы. 2006. № 3.
316
Аверинцев С. «Морфология культуры» Освальда Шпенглера // Вопросы литературы. 1968. № 1; То же // Новые идеи в философии. Вып. 6. М., 1991.
317
Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (Противостояние и встреча двух творческих принципов) // Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. М., 1971; На перекрестке литературных традиций (Византийская литература: истоки и творческие принципы) // Вопросы литературы. 1973. № 2; Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к Средневековью //Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976; Образ античности в западноевропейской культуре XX в. Некоторые замечания // Новое в современной классической филологии. М., 1979; Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7, 9.
318
Очертив для своей статьи временной промежуток в 700 лет, автор говорит о географических пределах: «Речь идет об огромном и пестром регионе, возникшем на исходе существования Римской империи и в ее пределах – от Египта на юге до Британии на севере, от Сирии на востоке до Испании на западе». См.: Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к Средневековью //Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 17.
319
Аверинцев С.С. Ритм как теодицея // Аверинцев С.С. Собр. соч. Связь времен. Киев, 2005. С. 410.
320
Там же.
321
Гальцева Р.А. Аверинцев Сергей Сергеевич // Культурология: Энциклопедия: в 2 т. Т. 1. М., 2007. С. 34.
Культурология не только исследует свой предмет как гуманитарная дисциплина, но и разделяет его историческую судьбу как часть культуры:
322
См.: Кнабе Г.С. Общественно-историческое познание второй половины XX века и наука о культуре // Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 157–159.
323
Блюменкранц М. В поисках имени и лица. Киев; Харьков, 2007. С. 136.
324
Кнабе Г.С. Энтелехия культуры // Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. С. 139–156. Поздняя версия этой работы опубликована в изданиях: а) Культурология. XX век: Энциклопедия. Т. 1, 2. СПб., 1998; б) Культурология: Энциклопедия: в 2 т. М., 2007. Ее особенности будут отмечены ниже.
325
Более детальный очерк см.: Бородай Т.Ю. Энтелехия // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 4. М., 2001. См. также: Franzen W, Georgulis К., Nobis Н.М. Entelechie // Ritter J., Gründer К. Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel: Schwabe, 1971–1992.
326
Гуссерль 3. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004.
С. 32.
327
Там же. С. 352.
328
Кнабе Г.С. Внутренние формы культуры // Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. С. 127–138.
329
Там же. С. 134.
330
Там же. С. 135–136.
331
Там же. С. 136–137.
332
Поздняя версия работы Г.С. Кнабе включает тему воплощения архетипов в смысле Юнга и Элиаде, а также концепт «встречного движения» А.Н. Веселовского (Энтелехия // Культурология: Энциклопедия: в 2 т. Т. 2. С. 1068), но мне такое расширение кажется рискованным. Если идея Веселовского может быть сопряжена с «энтелехией», то в случае теории архетипов необходимо специальное логическое опосредование, которое «обезвредило» бы имманентный детерминизм юнгианства.
333
Так, борьба «корпускулы» и «поля» наметилась уже в XVII в. в физике Декарта и Гюйгенса, в спорах вокруг Караваджо, в полемике «пуссенистов» и «рубенсистов», в философских стратегиях Бэкона и Гоббса… Но до поры до времени доминантой осталась «корпускула» как предпочтительное решение. Сама эта возможность различать в приближении к оптимальной культурной форме удачу и неудачу говорит о том, что мы имеем дело с телеологической реальностью.
334
Кнабе Г.С. Энтелехия культуры // Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. С. 142.
335
Там же. С. 141–142.
336
Кнабе Г.С. Энтелехия культуры. С. 148–150.
337
Еще одно мотто А. Блока.
338
Кнабе Г.С. Энтелехия культуры // Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. С. 153.
339
Он же. Энтелехия // Культурология: Энциклопедия: в 2 т. Т. 2. С. 1069.
340
Наши гуманитарии были в этом, конечно, не одиноки. Вот что пишет немецкий писатель о своем шедевре: «Приглядевшись к роману поближе, читатели обнаружили, что миф изменил в нем свои функции, причем настолько радикально, что до появления книги никто не счел бы это возможным. С ним произошло нечто вроде того, что происходит с захваченным в бою орудием, которое разворачивают и наводят на врага. В этой книге миф был выбит из рук фашизма, здесь он весь – вплоть до мельчайшей клеточки языка – пронизан идеями гуманизма, и если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа…» (Манн Т. «Иосиф и его братья»: доклад // Манн Т. Собр. соч. Т. 9. М., 1961. С. 178).
341
Васильева Т.В. Афинская школа философии (философский язык Платона и Аристотеля). М., 1985.
342
Там же. С. 4.
343
Там же. С. 15.
344
Там же. С. 71.
345
Васильева Т.В. Афинская школа философии (философский язык Платона и Аристотеля). С. 71.
346
Она же. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. М., 1999.
347
Васильева Т.В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. С. 186.
348
Васильева Т.В. Комментарии к курсу истории античной философии. М., 2002.
349
Васильева Т.В. Семь встреч с Хайдеггером. М., 2004.
350
Там же. С. 12.
351
Концепция представлена в статьях сборника Л.М. Баткина «О всемирной истории». М.,
352
Баткин Л.М. О всемирной истории. С. 24.
353
Баткин Л.М. О всемирной истории. С. 89.
354
Он же. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания: Августин. Абеляр. Элоиза. Петрарка. Лоренцо Великолепный. Макьявелли. М., 2000. С. 7.
355
Там же. С. 8.
356
Баткин Л.М. Данте и его время: Поэт и политика. М., 1965.
357
См.: Он же. Спор о Данте и социология культуры // Средние века. 1971. Вып. 34.
358
Он же. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1978; Он же. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.
359
Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М.: Искусство, 1990.
360
Там же. С. 367.
361
Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания: Августин. Абеляр. Элоиза. Петрарка. Лоренцо Великолепный. Макьявелли.
362
См.: Там же. С. 856–888.
363
Баткин Л.М. Личность и страсти Жан-Жака Руссо. М., 2012.
364
Там же. С. 8.
365
Там же. С. 13.
366
Там же. С. 13–14.
367
Баткин Л.М. Личность и страсти Жан-Жака Руссо. С. 15.
368
Там же. С. 66.
369
Баткин Л.М. Пристрастия: Избр. эссе и статьи о культуре. М., 2002. Особенно важными в теоретическом плане представляются следующие статьи: «Неуютность культуры»; «Два способа изучать историю культуры»; «От индивидуализирующего метода – к методике»; «Заметки о современном историческом разуме».
370
Там же. С. 157–158.
371
Баткин Л.М. Тридцать третья буква: Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М., 1997.
Научные достижения Азы Алибековны Тахо-Годи в общественном сознании оказались в тени ее подвижнической деятельности как педагога, организатора науки, хранителя наследия А.Ф. Лосева, создателя удивительного очага русской культуры на Арбате. Но – как знать – может, в этом есть и гегелевская «хитрость мирового Разума». Мне кажется, что именно последние десятилетия мировой гуманитаристики с их динамикой
372
Статьи собраны на основе первых публикаций в издании: Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб.: Алетейя, 1999. Часть их также вошла в сборник: Тахо-Годи А.А. Varia Historia: античность и современность. М.: ФАИР, 2008.
373
Необходимо также упомянуть о параллельных течениях научной мысли. Прежде всего это французская школа «Анналов» с ее позднейшими ответвлениями и кембриджская школа истории понятий (К. Скиннер, Дж. Данн, Дж. Покок). Означенная «параллельность» – это, конечно, весьма неточное определение сложных отношений взаимовлияния.
374
Некоторые его небольшие, но принципиальные тексты переведены на русский: 1) Социальная история и история понятий // Исторические понятия и политические идеи в России
XVI–XX века. СПб., 2006; 2) К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий // История понятий, история дискурса, история метафор. М., 2010; 3) Теория и метод определения исторического времени // Логос. 2004. № 5 (44).
375
Основные понятия исторической науки. Историческая энциклопедия социально-политического языка в Германии: в 9 т. 1972–1997 (Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland). Пример применения метода к античной культуре см.: Meier Ch. Die Entstehung des Politischen bei den Griechen. Frankfurt а / M., 1980.
376
Живов В.М. История понятий, история культуры, история общества // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. М., 2009.
377
Введением в методологию исторической семантики могут служить работы Х.Э Бёдекера и В. Дубиной в сборнике «История понятий, история дискурса, история метафор» (М., 2010). См. также: Копосов Н.Е. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века. СПб., 2006; Буссе Д. История понятий – история дискурса – лингвистическая эпистемология // Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. М., 2007; Живов В.М. Цит. соч.; Блюхер Ф.Н. Зачем исследовать истории «понятий»? // Эволюция понятий в свете истории русской культуры. М.: Языки славянских культур, 2012; Хар-хордин О.В. История понятий как метод теории практик // Эволюция понятий в свете истории русской культуры. М.: Языки славянских культур, 2012.
378
С. 443–444. Здесь и далее статьи в этом разделе цитируются по изданию: Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб.: Алетейя, 1999.
379
С. 453.
380
С. 455.
381
С. 457.
382
С 458.
383
С. 467–468.
384
С. 477.
385
С. 480.
386
Там же.
387
С. 442.
388
С. 436–437.
389
С 438.
390
С. 5.
391
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993. С. 151.
392
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 265.
393
Там же. С. 264.
394
Там же. С. 344.
395
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 342.
396
Адорно Т. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. С. 294.
397
«Логическое по своей форме имеет три стороны: а) абстрактную, или рассудочную, ß) диалектическую, или отрицательно-разумную, у) спекулятивную, или положительноразумную. Эти три стороны не составляют трех частей логики, а суть моменты всякого логически реального, т. е. всякого понятия или всего истинного вообще» (Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1: Наука логики. М., 1974. С. 201–202). Обратим внимание на то, что три стороны «логически реального» изображены как два полюса истины. Один – это рассудок, второй – разум в двух нераздельных аспектах: отрицательном и положительном. Наблюдения за тем, как функционирует эта триада в гегелевской системе, достаточно ясно показывают, что на любой ступени развития духа оба полюса присутствуют вместе. Диалектика у Гегеля изначально положена как негативная сила с позитивными задачами хранителя прерогатив абсолюта от посягательств частного и конечного.
398
Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001. С. 513.
399
Там же.
400
Adorno Th. Noten zur Literatur // Gesammelte Schriften. Bd. 11.3. Aufl. 1990. S. 476.
401
Адорно T. Проблемы философии морали. M.: Республика, 2000. С. 218–219.
402
О другом принципиальном союзнике Адорно в открытии «музыкального» метода прочтения Гегеля – о Керкегоре – и о парадоксальной близости отношения к классике у Адорно
и его антипода Хайдеггера см.: Соловьева Г.Г. Хайдеггер и Адорно: философема нетождественное™ // Историко-философский ежегодник’93. М., 1994.
403
Адорно Т. Негативная диалектика. С. 133.
404
Там же. С. 133–134.
405
Там же. С. 128.
406
Там же. С. 131–132.
407
Почему негативность, лишенная своего аффирмативного полюса, не может противостоять социальному насилию, разъясняет гегелевская философия права. См. об этом: Хейде Л. Осуществление свободы: Введение в гегелевскую философию права. М., 1995.
408
См. аргументированный анализ этой динамики в работах: Быкова М.Ф. Гегелевское понимание мышления. М., 1990; Она же. О концепции духа у Гегеля // Сущность и слово. М., 2009; Быкова М.Ф., Кричевский А.В. Абсолютная идея и абсолютный дух в философии Гегеля. М., 1993; Кричевский А.В. Образ абсолюта в философии Гегеля и позднего Шеллинга. М., 2009; Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к «Науке логики». М., 1984.
409
Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 657–716.
410
Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 470–471.
411
См.: Красноглазое А.Б. Артефакт // Культурология: Энциклопедия: в 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 122; Флиер А.Я. Артефакт культурный // Там же. С. 122–123.
412
Осокин А.Б. Методология культурологических исследований // Культурология: Энциклопедия: в 2 т. Т. 1. С. 1309.
413
См.: Тлостанова М.В. Культурные исследования // Культурология: Энциклопедия: в 2 т. Т. 1.С. 1065–1068.
414
См.: Зверева Г.И. Роль познавательных «поворотов» второй половины XX века в современных российских исследованиях культуры // Выбор метода: изучение культуры в России 1990-х годов: сб. науч. статей. М., 2001.
415
См.: Репина Л.П. Интеллектуальная история на рубеже веков // Новая и новейшая история. 2006. № 1.
416
Подробнее см.: История образования и педагогической мысли в эпоху Древности, Средневековья и Возрождения. М., 2004 (гл. 2–6 разд. 2; автор – О.В. Батлук); Европейские судьбы концепта культуры (Россия, Германия, Франция, англоязычный мир). М., 2011; Копосов Н. Культура как категория современной мысли // Коллегиум. 2004. № 1–2; Старобинский Ж. Слово «цивилизация» // Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. Т. 1. М., 2002; Сугай Л.А. Термины «культура», «цивилизация» и «просвещение» в России XIX – начала XX века // Труды PACK. Вып. II. Мир культуры. М., 2000; Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и групп идей // Февр Л. Бои за историю. М., 1991; Шайтанов И.О. Понятия «культура» и «цивилизация» в истории европейской мысли // Культура: теории и проблемы. М., 1995; Шохин В.К. Античное понятие культуры и протокультурфилософия: специфика и компаративные параллели // Вопросы философии. 2011. № 3; Perpeet W. Kultur, Kulturphilosophie // Ritter J., Gründer K. (Hrsg.) Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 1-12. Basel; Freiburg: Schwabe, 1971–1992.
417
Помимо этого, основного для философии культуры значения термин может использоваться и в двух других: синоним понятия «знак» (например, в лингвистике, информатике, логике, математике) и аллегорический знак.
418
Список отражает только авторские предпочтения. Он отвечает на традиционный вопрос студентов о «самом главном» и выстроен в рекомендуемой последовательности чтения.
419
Внутри каждого раздела литература размещена в алфавитном порядке. Разделение на основную и дополнительную литературу и оптимальную последовательность чтения рекомендуется устанавливать преподавателю. Если нет специальных указаний, можно пользоваться другими изданиями рекомендуемого текста.
420
Звездочкой помечены термины, которые в контексте данной работы введены автором или получили авторский смысл.