Книга: Снежная почта
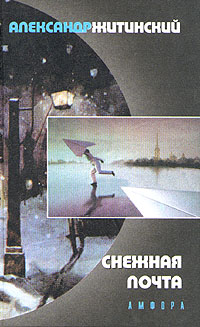
Снежная почта
Благодарю моего сына Сергея
за помощь в издании этой книги
Стихи я начал писать поздно. Мне было почти 22 года, когда я написал первое свое стихотворение. Было это в конце 1962 года в Ленинграде. Чаще всего писать стихи начинают в 15—17 лет или даже раньше, а к двадцати двум это уже проходит. У меня случилось наоборот.
Это было время поэтического бума, который вряд ли когда-либо повторится в России. Издавались сборники, устраивались поэтические вечера, известные поэты собирали стадионы. Сейчас это кажется немыслимым.
Я покупал и читал эти сборники – сначала без разбору, но потом – и довольно скоро – стал формироваться некий поэтический вкус. Во многом он обязан появлению в ту пору в печати стихов, о которых мы ранее не знали. Путеводителем по русской поэзии первой половины века для меня, как и для многих, стала книга Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь».
Писал много, через год – полтора начал предлагать стихи в печать. Результаты были более чем неутешительны. Впрочем, это не очень огорчало меня, ибо по прошествии совсем небольшого времени – двух-трех месяцев – старые стихи уже не нравились и мне самому, возникали новые, как мне казалось, более совершенные. Однако, к уровню, который принято считать профессиональным, я приблизился только через несколько лет.
В 1969 году я принял участие в конференции молодых писателей Северо-Запада, которые проводились тогда регулярно раз в два года. Там мои стихи были основательно разгромлены, однако их заметил Глеб Сергеевич Семенов и пригласил меня в свое литературное объединение.
Тогда же он помог мне составить мою первую книгу стихов и сам отнес рукопись в издательство «Советский писатель». Книжка начала свой долгий путь к изданию.
В 1970 году мои стихи начали печатать – очень редко и помалу: журналы «Юность», «Аврора», альманахи «Молодой Ленинград», потом «День поэзии». Книжку, несмотря на положительные рецензии и старания прекрасного редактора Игоря Кузьмичева, из года в год отодвигали в планах издательства. В результате, когда она через семь лет вышла в свет, стихов я уже практически не писал. Их вытеснила проза.
Первая книжка стихов должна была называться «Снежная почта». Однако издательство почему-то категорически воспротивилось этому названию. Более того, уже в сверстанной книге стихов под названием «Утренний снег» цензурой была выброшена треть – 20 стихотворений. Их не дали ничем заменить, и в таком урезанном виде в декабре 1976 года книжка появилась на прилавках.
Не считая себя более стихотворцем, я перестал предлагать стихи в журналы и альманахи. Кроме того, характер стихов, написанных после 1970 года, как мне ясно давали понять, не подходил для печати. Они остались лежать в столе, хотя стихи этих лет я считаю лучшими своими стихами.
Стихотворения в книге расположены в хронологическом порядке. Огромное большинство их публикуется впервые. В содержании звездочками указаны стихи, ранее появлявшиеся в печати. Только небольшая часть ранних стихов вошла в этот том, скорее, для того, чтобы обозначить точку отсчета. Разделы тома соответствуют названиям стихотворных сборников, писавшихся в те годы и оставшихся лишь в машинописном виде.
Стихотворные переводы, включенные в избранное, делались с подстрочников в разные годы по случаю.
Я мог бы значительно сократить объем книги, однако для меня было важно представить путь, поскольку это не только книга избранной лирики, но в некотором роде документ эпохи.
В одном я уверен: эти стихи не есть то, что обыкновенно называют «стихами прозаика». Независимо от их уровня они представляют собою самостоятельное явление, которому автор сознательно отдал лучшие годы своей жизни.
Александр Житинский
Напишем, напишем друг другу,
Небрежно, подобно мазку,
Про нашу дневную кольчугу,
Про нашу ночную тоску
Напишем, что стыдно кривляться
Особенно с красной строки.
Напишем! Чего нам бояться?
У страха глаза велики.
Напишем, напишем по кругу
Ту снежную почту времен,
Похожую больше на вьюгу
У черных Ростральных колонн.
Когда над Васильевским тучей
Клубится игольчатый снег,
Напишем, надеясь на случай,
Короткие письма для всех.
Напишем, напишем, приятель!
Озябшие руки согрей,
Нащупай во тьме выключатель
И крепкого чаю налей.
Пиши мне мудреные письма
Про бедную совесть и честь,
И если не будет в них смысла,
То будет хоть добрая весть.
И ты, воплощенье отваги,
Мой собственный корреспондент,
Пиши на конторской бумаге
Сюжеты немых кинолент,
Рассказывай долгую повесть
О смысле утраченных лет,
Но все-таки лучше на поезд
Возьми потихоньку билет.
Напишем, напишем все сразу,
Конверт обольем сургучом.
Пускай осторожную фразу
Метель подпирает плечом.
Напишем, дымя сигаретой,
Какой-нибудь дьявольский бред...
Напишем, напишем все это
И в форточку бросим конверт.
1974
(1963-66)
Я часовой потерянного мира.
В руке копье, за поясом – клинок.
Надменная, холодная секира,
Сверкая бронзой, замерла у ног.
Я часовой. Текут минуты мерно.
Настала ночь, и горестно поник
Фонарь над старой вывеской таверны,
Затих вдали последний пьяный крик.
И вот в тиши насторожённо-сонной
По светлым бликам влажной мостовой
Проходит Белоснежка невесомо
И стайка гномов за ее спиной.
Спешит карета с Золушкой. Во мраке
Кот в сапогах крадется вдоль стены,
И только тени черные, как фраки,
Застыли, охраняя чьи-то сны.
Уже дрожат распахнутые двери.
Хозяин ветер в городе пустом.
По мраморным листам – белее смерти —
Проходят гости в полуночный дом.
Немые слуги зажигают свечи,
Вино течет из вскинутых рогов...
Я часовой. Я, как преданье, вечен.
Я охраняю сказку от врагов.
Плывут по залам звуки сонных скрипок,
Танцуют королевские шуты,
А короли среди вина и криков
Давно уже с лесничими на «ты».
Но все проходит. Близок час рассвета.
Бьет колокол, трубит прощальный рог.
В халат потертый Золушка одета,
Стал жалким Кот без шляпы и сапог,
Стол опустел, стоят пустые кубки,
И кучер-крот вскочил на облучок...
А я, как принц, растерянно и хрупко
В руке держу хрустальный башмачок.
1963
«Сказка – это скатерть-самобранка...»
Сказка – это скатерть-самобранка,
Сказкой можно тешиться и жить,
В сказку улетаешь спозаранку,
Не решая – быть или не быть.
На границах сказочных дозоры,
Знающие всё бородачи,
Отворяют пыльные просторы,
Где дрожат стеклянные лучи.
Где пылинки пляшут, паутинки,
Солнцами пронизаны насквозь,
Где висят старинные картинки
В золоченых рамках вкривь и вкось.
Там по слою вековому пыли
Не шуршат небрежные шаги.
Мыши там давно уже забыли,
Что на них есть кошки – их враги.
Там на поседевших перекрестках
Ходики с кукушками стучат,
С потолка упавшая известка
Мажет мелом маленьких мышат.
Я там был – в чердачных сновиденьях,
В шелесте страниц и скрипе рам.
Я еще не раз в своих сомненьях
И надеждах побываю там.
1964
«Вернуться туда, где не был...»
Вернуться туда, где не был,
Подняться по лестнице темной
И, старый звонок нажимая,
Услышать за дверью шаги.
Сказать тебе: «Милая, здравствуй!»
Шагнуть за порог, как в пропасть,
И долго в бедной прихожей
Свой плащ промокший снимать.
И в комнате тесной и теплой
Зажечь свечу и поставить
На стол, и вспомнить о прошлом.
О будущем – не говорить.
1965
«Вот на лестнице хлопнула дверь...»
Вот на лестнице хлопнула дверь.
Ты шагам торопливым поверь
И по скрипу ступеней сумей
Угадать мою тень у дверей.
Вот подходит назначенный час,
А на лестнице – десять пар глаз,
И ушей десять пар – у стены
Караулят запретные сны.
Что же сердце не бьется в груди?
Ах, как страшно к порогу идти!
Страшно дверь, как лицо, распахнуть
И надежде навстречу шагнуть.
Но никто у дверей не стоит.
Только кот на ступеньке грустит.
Только мужа бранит дотемна
За соседнею дверью жена.
1965
«Я отдам тебе все: и веселье и детскую ласку...»
Я отдам тебе все: и веселье и детскую ласку,
Как художник холсту отдает животворную краску.
Только ты отзовись, только ты появись и возникни!
Вот уж осень к земле порыжевшими листьями никнет,
И по крышам и трубам свистит охладелым потоком
Жестяная вода на серебряном ветре высоком.
Как противен оскал дождевой молодящейся рыбы!
Дождь как будто бубнит: если были бы вместе бы вы бы,
Если выли бы белые бури, и синие птицы
Прилетали бы легкими снами над вами кружиться...
1965
Какая ночь!
И красный свет
В окне замерзнувшего дома,
И затаенная истома,
И облаков прозрачный след.
Шаги прохожих в темноте,
И голос тихий и усталый,
И отраженные кварталы
В холодной северной воде.
А где-то плачут поезда,
Совсем по-детски горько плачут.
И надо мной видит звезда,
Но это ничего не значит...
1966
«У нас в деревне дождик проливной...»
У нас в деревне дождик проливной
И тучи, как дворняжки, лают с неба.
А я пишу письмо тебе домой,
И на столе лежит осьмушка хлеба.
Бревенчатые стены. Печь. Ухват.
Ты знаешь, он совсем, как настоящий!
И угли из печи в избу глядят,
Как волки из соседней черной чащи.
В трубе гудит, и дым прибит к земле.
Холодный ветер рвет его на части.
Ты хоть сегодня вспомни обо мне,
О горьком и нескладном нашем счастье.
Погасла печь. Зарылся жар в золу.
И завтра будет так же, как сегодня.
В своем иконном золотом углу
Заснул спокойно Николай-угодник.
И дом заснул. И снова ты со мной.
Он был, тот день?
Мне кажется, что не был.
У нас в деревне дождик проливной
И тучи, как дворняжки, лают с неба.
1965
Я плод, который перезрел.
Меня садовник не срывает.
Он совершенно не скрывает,
Что незавиден мой удел.
И я на веточке дрожу,
Болтаюсь меж землей и небом
И в положении нелепом
Весь прошлому принадлежу.
И солнечный веселый взгляд
Ловлю я ослабевшим оком,
В уединении глубоком
Накапливая горький яд.
Никто в заброшенном саду
Не вздрогнет и жалеть не станет,
Когда, бессильный и усталый,
В траву я молча упаду.
1966
Вот и дождался метели.
Все предвещало метель:
Окна в домах запотели,
Снег заплясать захотел,
Ветер кружиться задумал,
За угол вихри замел,
Кромку сугробную сдунул
И домового привел.
Слушай, приятель! За печкой
Завтра бутылки найдут.
Попика с тонкою свечкой
Под руки в избу введут.
Тот совершит отпущенье.
Мелко тряся бородой,
Он окропит помещенье
Снежной святою водой.
Дух домового изгонит,
Душу мою вместе с ним.
Что ж это ветер так стонет?
Снежный качается дым?
Выпьем, старик! До рассвета,
Как до весны, – канитель!
В снежные стороны света
Рвется шальная метель.
1966
Я виноват перед тобой.
Пришли мне в утешенье
Листок бумаги голубой
В день моего рожденья
Пускай ко мне он прилетит
Морозным ясным утром,
Когда на крышах снег блестит
Хрустящим перламутром.
Когда дыхание, клубясь
Коротким разговором,
Плетет невиданную вязь
Игольчатым узором.
Я перечту твои слова
Раз десять, и не сразу
Поймет хмельная голова
Написанную фразу.
Увижу на краю листа
Зачеркнутое слово,
И круговая пустота
Меня охватит снова.
Потом я молча буду ждать,
Когда наступит вечер,
И можно будет зажигать
Рождественские свечи.
Затеят огоньки игру,
Качаясь и мигая,
И будет виться по двору
Метелица сухая.
1966
«Давай простимся со старым годом...»
Давай простимся со старым годом
И примиримся с его уходом.
И дождь, и листья давай забудем
И убиваться по ним не будем.
Давай простимся с тем днем печальным,
Таким далеким, таким случайным.
С тем днем, в который не возвратимся,
Давай простимся, давай простимся.
1965
Воспоминание о старой квартире
Милые, добрые люди
Носят тазы и бокалы.
Пыль оседает на груде
Старых газет и журналов.
Бабушкина чернобурка
Прочно выходит из моды.
Валится вниз штукатурка
После дождливой погоды.
Жирные синие мухи
Сонно сидят на картине.
Ходят упорные слухи
В старой прокисшей квартире.
Кто-то уехал в Сухуми,
Кто-то в субботу напился,
Кто-то давно уже умер,
Кто-то еще не родился.
1966
«Серый дождик с неба хлещет...»
Серый дождик с неба хлещет.
Он хронически простужен.
Оловянным блеском блещут
Лужи.
И просвета не видать
На унылом горизонте.
Хорошо бы мне достать
Зонтик.
Разноцветный, озорной,
Отгоняющий ненастье,
Чтоб раскрылось надо мной
Счастье.
Чтоб в тугие перепонки,
Выгнутые, словно сабли,
Бились, веселы и звонки,
Капли.
1966
Олегу Осипову
Что ты бродишь, Старый Осип,
По обочинам дорог?
Снова пьяный? – дома спросят
И не пустят на порог.
Презирающий законы,
Расскажи-ка мне опять,
Как ты пил одеколоны
И глотал денатурат.
На тебя смотрю я сонно,
Я тебе не конкурент.
Что поделать, все законно,—
Я гнилой интеллигент.
Я на Севере не плавал,
Не видал барачных стен,
Над судьбой своей не плакал
И себе не резал вен.
Для меня все это внове,
Я не знаю ни черта!
Или, может, группа крови
У меня совсем не та?
Ты пойми меня, как надо.
Видно, каждому свое.
Свой закон, своя отрада
И свое житье-бытье.
Ну, прощай, бродяга старый,
Мой счастливый антипод!
Что с тобою завтра станет?
Что со мной произойдет?
Расстаемся – остаемся
Каждый на своем пути.
Верно, сами разберемся,
Как нам быть, куда идти.
1966
Синий пароходик
С красной полосой,
На ходу урчащий,
Словно пылесос.
Дым, как звон часовни,
Тает над водой.
Ходит пароходик,
Точно заводной.
Никаких волнений,
Никаких забот,
Не понять, что скоро
Кончится завод.
Как малыш беспечен!
Тихая река
Станет ложем вечным
Завтра... Но пока
По весенней Сене!
Бегает босой!
Синий пароходик!
С красной полосой!
1964
Мне сегодня весело.
В зоопарке тесно.
Хохочу над хоботом
Серого слона.
И этюды Гнесина
Грамотно и пресно
Пианисты-роботы
Шпарят из окна.
На чугунной клетке
Надпись «обезьяна».
И толпа смеется:
Зверь танцует твист.
Воробей на ветке
Перья чистит рьяно,
А к нему крадется
Кот-рецидивист.
Выхожу из парка.
На окошках шторы.
Велосипедисты
Бешено летят.
Завтра будет жарко.
Заперев запоры,
Дома пианисты
Безмятежно спят.
1966
Ах, черт!
Поди-ка, что за шутка?
Смотри, ты видишь, видишь, там
Гуляет жареная утка
По телеграфным проводам.
Смотри, она еще дымится,
Румяной корочкой хрустит,
И, аппетитное на вид,
Крыло на солнце золотится.
Но кто позволил?
Почему
Там не душа парит, а тело?
Царит промасленный Отелло
В горячем кухонном дыму.
Он говорит:
– Сегодня пир.
Духовной пищи жаждет мир.
С душою поменявшись, тело
На небеса лететь хотело,
Но не смогло и ходит там
По телеграфным проводам.
1966
«Чего я стою? Сколько дважды два?...»
Чего я стою? Сколько дважды два?
Четыре – отвечают. Я старею.
Уже за мной недобрая молва
Торопится, вытягивая шею.
Опомнишься в квартире городской,
В чужом пиру – и темном, и невнятном,
Где свечи обливаются тоской
И на паркете оставляют пятна.
Опомнишься – великой тесноты
Не пережить в полуметровом свете,
И обречен бессмертию не ты,
А бронзовый подсвечник на буфете.
1966
По белому свету шатался
Один пожилой армянин.
Он грамоты где-то набрался
И жил совершенно один.
Жены не имел он и дочки,
Жилья не имел и стола,
Лишь книга на желтых листочках
При нем постоянно была.
Читал он старинную книгу
В гостиничном чахлом дыму,
И гор обнаженные сдвиги
В душе рисовались ему.
Потом он вставал на колени,
Вздыхая от старости лет,
И Бога просил избавленья
От внешних и внутренних бед.
В конце прибавлял он привычно,
Одними губами шепча:
«Пошли землякам горемычным
Покой от огня и меча».
И вновь у подножия храма
В какой-то сторонке глухой
Твердил он в молитве упрямо:
«Пошли горемычным покой».
Он умер, а книга осталась.
Ее под рубахой нашли.
Она армянину досталась,
Не знавшему отчей земли.
И слово родное по буквам
С трудом разобрал армянин,
И горло наполнилось звуком
Гортанных высот и низин.
Тем словом старинным согретый,
Он бросил свой угол и стол
И с книгой по белому свету
Искать свое счастье пошел.
1965
«Я раскрываю книжную страницу...»
Я раскрываю книжную страницу,
А где-то мальчик плачет в Аргентине
По мертвому тореро. Кровь по каплям
Струится с перевернутых рогов
Оранжевого месяца. Они
Похожи на рога быка, который
Убил тореро во вчерашней схватке.
Толпа дразнила красного быка.
А в стороне, укрывшись черной шалью,
Стояла, ослепленная несчастьем,
Вдова тореро. Мальчик видел зуб
Акулы – этот знак удачи,
Который, никому теперь ненужный,
Лежал в пыли у ног ее. Она,
Еще не веря в торжество беды,
Стояла и ждала, когда любимый
Поднимется и встанет во весь рост
На солнечной арене, и победа
Слетит к нему в приветствиях и криках,
И лепестках цветов.
Толпа редела.
Потом с вдовой остался только мальчик.
Он осторожно вышел из рядов,
Ступил на землю, залитую кровью,
И, подобрав с земли обломок шпаги,
Взмахнул перед собой им, поражая
Опасное чудовище. Тогда
Нагнулась женщина и подняла с земли
Нагретый пылью белый зуб акулы.
1966
Я – Исикава Такубоку.
Лежу под солнцем на боку.
Молясь языческому богу,
Слезы сдержать я не могу.
Среди разбросанного хлама
Лачуг и сосен, недвижим,
Сияет вечный Фудзияма,
И облака стоят над ним.
Мой остров мал, как панцирь краба,
И так же тверд, и так же сух,
Но, словно стяг, пылает храбро
Над ним несокрушимый дух.
И европейские привычки
Его не могут изменить.
Не подобрать к замку отмычки
И нашу волю не сломить.
Я – Исикава Такубоку.
Я вижу птицу и змею.
Своей стране, надежде, Богу
Я никогда не изменю.
И пусть немилостив упрямо
Ко мне годами дом родной,
Я буду горд, как Фудзияма,
Своею древнею страной.
1966
Анне Ахматовой
Еще по мостикам горбатым
Пролетки черные скользят,
И, снами тяжкими объятый,
В туманах виснет Петроград.
Еще гуляют на Фонтанке,
Но свечи гаснут. Три, одна...
Еще промчится на тачанке,
Как пыль, привычная война.
Еще несчастье не случилось,
И счастье тоже не пришло.
Кровь по ступеням не струилась,
Вино рекою не текло.
Но дни безумные листая
При тусклом свете фонарей,
Спешит Россия белой стаей
К судьбе назначенной своей.
1966
У Императорского сада
Стоит чугунная ограда,
А я шагаю вдоль Невы,
Не поднимая головы.
Когда-то в этом полумраке
На бал я поспешал во фраке,
И газовые фонари
Росли из неба до земли.
Когда-то, пьяный от решеток,
Испуганно и отрешенно
Стрелял я в батюшку-царя,
Как позже выяснилось, – зря.
Теперь живу в двадцатом веке,
И только вздрагивают веки,
Когда шагаю вдоль Невы,
Не поднимая головы.
1966
Играют полутени
На пепельной стене,
И кажется, что стены
Качаются во сне.
И где-то возникает
Мелодия тайком
И тайно проникает
В мой опустевший дом.
В кривых виолончелях
Танцует снегопад,
И, словно на качелях,
По стенам сны скользят.
В их отблеске, летящем
Из темноты на свет,
Является все чаще
Знакомый силуэт.
Сначала ярче, ярче
Его чеканный вид.
А печь горит все жарче,
И дым в трубе кипит.
Потом огонь темнеет,
Слабеет силуэт,
Он тает, он стареет
И сходит он на нет.
Теряя очертанья
И сходство на лету,
Как древнее преданье,
Сползает в темноту.
И звуки с перепугу,
Признав свою вину,
Покорно друг за другом
Уходят в тишину.
1966
По молодости лет не воевал,
Не странствовал, не плакал, не судился.
Свой век по-городскому куковал —
В квартирах пыль на лезвиях зеркал —
Опомнился – в окурок превратился.
Не важно, что мосты разведены,
Чугунные ворота на засове.
Не добежал до крепостной стены —
Мгновения за годы зачтены,
На флаге незаметна капля крови.
Куда вы делись, милые мои?
В Царицыне или под Перекопом?
Я опоздал. Закончились бои.
В живых остались только воробьи,
Вон за окном они дерутся скопом.
Тридцатый год цирюльнику служил,
На хищных птицах окровавив перья.
Тянули страхи из лаптей и жил,
И не было ни опыта, ни сил
Остановить поветрие поверья.
На черных тучах выросли кресты.
Я страх запомнил, не запомнив детства.
С сомнением на чайные мечты
История взирала с высоты
И строила преграды по соседству.
Из магазина запах колбасы.
Семейный быт налаживался прочно,
И Сталин улыбался мне в усы.
Кому же верить? Врут мои часы,—
Двадцатый век закончился досрочно.
Рыдайте! Век отходную поет.
Приобретайте новый холодильник!
Храните, как в сберкассе, старый лед,
А я на три столетия вперед
Перевожу поломанный будильник.
Когда наступит, – что там? новый быт? —
На всей Земле и даже на Аляске,
Мой сломанный будильник зазвонит,
Напомнив, торжествуя и навзрыд,
Все войны, революции и встряски.
Когда наступает бесшумный парад арлекинов,
Гудят провода, осыпая весенние струны,
На черных дощечках показываются луны,
И гаснут огни, напряженное небо покинув,
Приходит безумие. Острым крылом разрезая
Полночное небо, свернувшееся в клубок,
Оно говорит: да будет твой сон глубок!
Свободу покоя твоей судьбе разрешаю.
А мне припеваючи жить
Давно надоело.
Наряды зевакам шить —
Нехитрое дело.
Не плачу и не смеюсь,
Привык улыбаться.
Удачи одной боюсь —
Счастливым остаться.
Приятные вести приносят печальную радость,
И голуби тусклые на подачках жиреют.
Над городом флаги. Флаги над городом реют.
На голубем – знамя, освещающее дорогу
Бездомному рыцарю, неприкаянному богу,
Безумцу на миг, калифу на час – наградой
За полночь, не знающую преград.
«Это ты, это я, это наша судьба...»
М. Хуциеву
Это ты, это я, это наша судьба.
Так бескровно дрожит в переулке труба!
Так по лицам осенним скользит пешеход,
Забегая глазами немного вперед,
И давно уже согнуты стрелки часов
Завитками кошачьих семейных усов.
Надо ночь – напролет, надо день – наугад.
Соловьи не тревожат уснувших солдат.
Это ты, это я, это наша беда
Накалилась, как черная сковорода,
И не видно дождя, и не видно огня,—
Это осень шуршит на губах у меня.
Расскажи мне свою кругосветную быль.
Там на книжных картинках свинцовая пыль.
Распахни в переулок кривое окно,—
Дождевое раздумье свежо и темно.
Это град, это мир в тесном клекоте птиц,
В непрерывном движении замкнутых лиц.
Но не надо, не надо смотреть мне в глаза,—
На ресницах сухих невозможна гроза.
Моя больная муза
Явилась на порог.
– Зачем пришла, обуза?
– Не выполнен оброк.
– А много ли оброку?
– Сполна не заплатить.
Стране, надежде, Богу
Ты должен угодить..
– Страна меня не знает,
Надежды нет давно,—
По кабакам гуляет,
А Богу все равно.
– Скорей плати по счету,
Выкладывай товар!
Да мне не позолоту,
А золото давай!
– Мне золота не жалко.
Напрасная цена.
Гадала мне гадалка,
Неволила весна.
По линиям лиловым
Гуляет шум и гам.
Я музыкой и словом
Оброк тебе отдам.
Я слово это выну,
Его дугою выгну
И радугой зажгу.
И горем, как заплатою,
Его я запечатаю
И радостью зашью.
Чудотворство ремесла:
Перепутанные звуки
Наугад и без науки
Выпускать из-под крыла.
От души их отделять,
Перерезав пуповину,
И за следствие причину
Без причины выдавать.
Оставляет не у дел
Эта черная работа —
Довести до поворота
Удивления предел.
На подрубленном суку
Всласть раскачивать качели,
Пролетая мимо цели
И сгорая на скаку.
Я счастливей вас,
Милые коллеги.
В этот синий час
Не спускаю глаз
С путеводной Веги.
Если пустота —
Это только термин,
Я лечу туда,
Где горит звезда
В ореоле терний.
Если наугад
Сказанное слово
Возвратить назад,
Подновить наряд
И промолвить снова,
Подойдешь на шаг
К верхнему пределу,
Где звериный страх
Стынет на губах
И мешает делу.
Не к лицу лучу
Огибать преграды.
Перед ним смолчу.
Слову по плечу
Собственные взгляды.
И своя звезда
Каждому от Бога.
Горе не беда,
Если никогда
Не менять дорогу.
В ремесле своем укромном
Упражняясь тихой ночью
Под осколками луны,
В час, когда, забыв печали,
Все влюбленные заснули,
Я тружусь в звенящем свете
Не для славы или хлеба,
Иль заносчивой улыбки
Популярного маэстро,
Но для простенькой оплаты
Тайны сердца твоего.
Не для гордого счастливца
И растерзанной луны
Я пишу свои страницы;
Не церковной колокольне
С хорами и соловьями,
А влюбленным – эти руки
Оплели печали века
И не требуют оплаты,
Но внимают волшебству.
Перевод с английского
Надо быть немного выше
Самого себя.
Вот сидишь ты, что-то пишешь,
Перышком скребя.
На кефирной промокашке
Оставляешь след,
Копишь царские замашки,
А короны нет.
Посмотри на рваный полдень
Сбоку, с высоты.
Воробьи спешат наполнить
Маленькие рты.
Позабыть бы им заботы,
Кинуться в полет,
Да куда там! До икоты
Набивают рот.
Ни к чему коню мочало,
Воробью – цветы.
Нас валило и качало
В приступе мечты.
Мне вытряхивали душу
Мысли невпопад.
Думал, вот – приду, нарушу
Глянцевый уклад.
По кирпичику, по нитке
Растащу тряпье.
Но пожитки, как пожитки,—
Снова за свое.
Это хитрость для ребенка,
Рыжая мечта.
Глохнет, сохнет перепонка,
Музыка не та.
Просто перышко потише
Крика воробья.
Надо стать немного выше
Самого себя.
Наступает вечер.
Посиди со мной.
Будет бесконечен
Разговор ночной.
Вечные вопросы
Нам не разрешить.
От житейской прозы
Некуда спешить.
Я достался ветру,
Ветру и огню.
Тоненькую ветку
До земли нагну.
Опалю ресницы
Золотом лесов,
А тебе приснится
Кружево крестов.
Скажешь: не бывает
Дыма без огня.
Аист улетает
И зовет меня.
И гнездо на крыше
Пусто до поры.
Говори потише,
Тихо говори.
Сердце спать не дает,
Все стучит да стучит.
Это времени ход
Током крови звучит.
Тяжело сироте
Алым светом дышать,
Новый день суете
В тесноте возвещать.
Из артерий и вен
Льется дым на стекло.
Дай мне слово взамен,
Чтобы свечкой зажгло
Ледяных петушков
И скорлупки, и сны,
Словно ключик в ушко
Деревянной луны.
Знай, что я еще другой,
Не такой, как тот, старинный
Пастушок с печалью длинной
И печатью восковой.
Знай, что я еще могу
Весь рассыпаться на части,
Если глиняное счастье
Улыбнется пастуху.
В ожиданье перемен
Или скорого ответа
Не сворачивай на лето
Этот пыльный гобелен.
Знай, что я уже готов
Жить на шелковой подкладке,
Уважая все порядки
Карамельных городов.
«Задумавшись, как птица канарейка...»
Задумавшись, как птица канарейка,
Булавочным глазком кося в тетрадь,
Я не устану молча повторять:
Зима-злодейка! Замели метели
По всем дорогам, и не видно цели,
Себя в неволе попусту не трать!
И клювик приоткрыв от удивленья,
Линейкой ржавых прутьев окружен,
Я буду заметен, запорошен.
На рисовом зерне нельзя пророчить!
Но так легко метелью одурачить,
Когда вертлявый хохолок смешон!
Когда пшено с водою на подносе,
И песню петь по расписанью в час,
Оставь вопросы разрешать за нас
Тому, кто корм по клетке рассыпает.
Он знает много, ничего не знает,
Пропой ему, дружок, в последний раз!
«Я оглянулся и увидел вдруг...»
Я оглянулся и увидел вдруг
Очерченный чертой непониманья
Своей судьбы заветный полукруг
И лица напряженного вниманья.
Мне истину открыть не суждено.
Но почему застольные беседы
Кружат мне голову, как легкое вино,
Ребяческим желанием победы?
И почему старик на том конце,
Где так легко поверить кривотолкам,
Внезапно изменяется в лице,—
Его задело солнечным осколком!
И вот – прорыв! По тонкому лучу
Мой голос через головы доходит.
Вы слышите – я в сердце вам стучу,
Но внешне ничего не происходит.
Бессонницы чуткое ухо
Часов различает настрой.
То глухо, то звонко, то сухо
Стучит по стеклу домовой.
Он вертит пружинки, заводит
Часы на тик-так и всю ночь
Над танцем теней верховодит
И шлет сновидения прочь.
Неужто запечный бродяга
И впрямь привязался ко мне?
Пугает на полке бумага,
И знаки ползут по стене.
Внимательный и устрашенный,
Прислушаюсь: ветер гудит,
И дождь поливает газоны,
И месяц сквозь тучи летит.
И ходят часы по паркету,
Кукушка на кухне поет,
Ругает бессонницу эту,
Минуты векам продает.
Мне нынче очень плохо.
Весна. Холодный сон.
Спускается полого
На землю небосклон.
И в зябкой лихорадке
От солнечной возни
Листаю, как тетрадки,
Я прожитые дни.
Осенняя страница.
И мысли невпопад.
Там курица-не-птица
Пасет своих цыплят.
По осени считают,
А по весне крадут.
Тетрадочки листают,
Пропажи не найдут.
Холодная страница.
Снега, как на войне.
Там рыжая лисица
Сидит на черном пне.
Метель, моя хозяйка,
Свистит, слепит глаза,
И ластится всезнайка,
Пушистая лиса.
Весенняя страница.
Прохожих детский сад.
Их шелковые лица
На солнышке блестят.
И я уже не промах,
Невнятен, как в бреду,
Я шелковых знакомых
По улицам веду.
И к горлу подступает
Ненужная слеза.
Лиса, метель – все тает,
Как леса голоса.
И память в беспорядке
Прокручивает вновь
И осень, и тетрадки,
И письма, и любовь.
И новая страница
Опять белым-бела.
И снова повторится
И курица-не-птица,
И рыжая лисица,
И все сгорит дотла.
Т. Г.
Магнолии тяжелый цвет,
Ко времени цвети.
Сожми в ладошках десять лет —
И счастье есть, и счастья нет,
И счастье на пути.
Наступят средние века.
Ступеньки – три струны.
Настанет полдень, а пока
Твоя прощальная рука
С магнолией луны.
И десять лет – в единый миг,
И струны все – порви!
Не спросят – что там? Смолк и стих
Последний сон, последний стих,
И лестница в крови.
А дом снесли. Зачем ему
На привязи стоять?
Забывши эту кутерьму
Цветут в Анапе и Крыму
Магнолии опять.
Не стоит плакать! По весне
Ни слез, ни счастья нет.
Взмахни магнолией во сне,
Пускай наградой будет мне
Ее тяжелый цвет.
«Ты приснилась: так печально...»
Ты приснилась: так печально
Поглядела на меня,
Иль испытывая тайно,
Иль по-прежнему виня
В неудавшейся развязке,
Где навек оборвались
Наши Золушкины сказки
И дороги разошлись.
«Испания, опасная, как сон...»
Испания, опасная, как сон,
Где трижды умираешь до рассвета!
Севилья в саван пепельный одета,
В Мадриде слышен похоронный звон.
Валенсия вальсирует неловко,
Молчит Гранада, в камень обратясь,
Крадется ночь по городу, таясь,
Ее кинжал мерцает, как подковка.
Кордова крови до краев полна.
Летит по небу красная луна,
Как глаз быка, убитого в субботу.
Ворочаясь, заснул тореадор,
С корриды проклиная до сих пор
Свою неблагодарную работу.
«Барометр, бродяга лунных стрелок!...»
Барометр, бродяга лунных стрелок!
На бурю поверни. Великой суши
Уже печали трубочкой свернулись,
И каждый стих свивает тонкий кокон.
Ю. Карпову
Пора. Осыпается лето.
У красных вагонов трамвая
Свои прицепные секреты,
Колес перестуки. Глаза
Откроются. Я без билета
В прозрачную осень вплываю,
Горят ослепительным светом
Сосновые сказки – леса.
И золотом, золотом – залом
В огнях, зеркалах, музыкантах —
Слепит близоруким пожаром
Соснового строя стена.
И солнце малиновым шаром
Раскатится – девочки в бантах
Бегут по садам и бульварам,
А осень – чужая вина.
Я счастлив. Осеннего блеска
Волна перепутала звуки.
Лежат протяженно и резко
Теней разлитые стволы.
А там, на губах перелеска —
Одно только слово: разлука,
Разлука – сияющим всплеском,
Уколом зеленой иглы.
Бережно храни
Лист китайской розы,
Шелковые дни,
Ситцевые грезы.
Память, как трамвай.
Не бери билета.
Увезет на край
Нынешнего лета.
Каменный тупик
Преградит дорогу.
Надо напрямик,—
Обойди немного.
Там на самом дне
Куст китайской розы
В предрассветном сне
Пляшет на стене.
На кленовых расписных листах
Напишу два слова: «Слава, осень!»
Ветер слезы дождевые носит
И развешивает на кустах.
Не сумела удержать разлив
Острова гранитная преграда.
Смертный час не города, но града
Требует расплаты за разрыв.
Стылая высокая вода
Так прозрачна, так неуловима,
Словно там без голоса и грима
Лицедейство холода и льда.
День сгорел без пламени, тайком
Дотлевают срезанные сучья.
Истончилось кружево паучье
И свернулось в сероватый ком.
Забрести так грустно одному
На венецианские аллеи,
Где петровских парков брадобреи
Ножницами щелкают в дыму.
Еле дышащий пар от полей,
Словно иней на привязи танца,
И лицо, потемнев от румянца,
Провожает стрелу журавлей.
Третий слева – твой истинный брат,
Окольцованный беглой жестянкой,
Обрученный навек с испанкой
На испанский летит закат.
Ты склоняешь: разлука, разлук,
За разлукой не слышно тревоги,
За излукой не видно дороги,
Но натянут конвой, как лук.
Третий слева – и сердце в крови.
Но не вынуть звено из цепи.
Перед ними горы и степи,
А любовь на земле лови,
Что податлива и черна,
Дышит инеем или паром
И скрывает лицо покрывалом,
Как покинутая жена.
«Сентябрь наколесил ветров...»
Сентябрь наколесил ветров.
Он нездоров. Он роет яму,
Как зверь, и дергает упрямо
Проспект за струны проводов.
Он выметает, как песок,
Из подворотен чьи-то взгляды,
Походки, платьица, парады
Зонтов и шарфиков вальсок.
Нашепчет на ухо: квартал
Нельзя пройти без передышки.
Заводит мелкие интрижки,
Как баловень, спешит на бал.
Очки наденет, в зеркалах
Витрин изобразит гримасу,
Но беспокойней час от часу
Его усмешка на устах.
Пройти квартал – и решено
Заклеить раму. Скоро снеги,
Как искры, – выплеснут на бреги
Зимы шипучее вино.
Поэма
Шаманство бубна и метель,
Повадки старых арестантов,
Сам черт качает колыбель
В кругу блестящих адъютантов.
Талантов? Нет! Подделан хмель
Красавиц, бабочек, курантов
Непобедимая печаль,
И хмеля истинного жаль.
Увлечь легко, лукаво, тайно,—
Сам не заметишь, как пропал.
Не может быть! Необычайно
Необычаен карнавал.
Подборка лиц весьма случайна:
Букинистический развал
Стихов, дешевого картона,
Виньеток и дурного тона.
Умчаться! Выбор предрешен.
Лети, ладья, напропалую
От слитности мужей и жен,
Разбитости сердец. Тоскую,
Угаром общим поражен,
Серьезен, плачу, комикую
И, оторвавшись сгоряча,
Лечу, как пробка пугача.
Позвольте осмотреть планету!
Мадам, простите, я готов
Набрать для каждой по букету
Чудесных утренних цветов,
Но одинокому поэту
Другой удел – небесный кров,
Щепотка пепла, щедрость духа,
Немного голоса и слуха.
Я оставляю вам кусты
Благоухающей малины,
Мои весенние мечты,
Мои осенние кручины.
Они приятны, но пусты,
По виду только исполины.
Задует ветер – что там? страх!
Бегут на четырех ногах.
Подумав коротко, навечно
Я оставляю вам стихи.
На вашей совести, конечно,
Судить, рядить – они плохи,
Они прекрасны, но беспечны...
Не вынести тройной ухи
Суждений, выговоров, стонов
Моих знакомых Цицеронов.
Пойдем со мною, помолчим,
Присядем в парке на скамейку.
Октябрь беснуется; пред ним
Стоят, вытягивая шейку,
Осины, клены. Едкий дым
Сворачивает в ту аллейку,
Где над скамейками, как встарь,
Разбитый дребезжит фонарь.
Скажи два слова. Нет, не надо.
Я отлучен от этих слов.
Густого лиственного сада
Давно осыпался покров.
А мне уроки листопада
Сдвигают сроки, портят кровь,
Напоминают эти лужи,
Что я не тот, остыл, простужен.
И я один. Немудрено.
Тебя я на ходу придумал,
Случайно заглянул в окно,
На свечку тоненькую дунул
И распустил веретено
Волшебных сказок, но колдуний
Увидел розовый оскал,
Смешался, съежился, сбежал.
Теперь прости. Адмиралтейство
Законным лучиком горит
Сквозь городское лицедейство,
Трамвайный грохот и гранит.
Так просто совершить злодейство
Средь кирпичей, бетонных плит,
Подъемных кранов, труб и окон,
Опутанных электротоком.
Так просто позабыть слова,
Что были в детстве. Тише, дети!
У каждого свои права,
Свои потемки, доски, клети,
Своя больная голова,
Которой надоели сети
Ежеминутных перемен —
Ни сна, ни отдыха взамен!
Не торопитесь, торопыги!
Со вкусом сядьте на диван,
Листая избранные книги —
Монтеня, Пушкина. Ведь вам,
Должно быть, надоели фиги,
Упрятанные тут и там
В томах дражайших драгоманов
И фантастических романов.
А то махнем со мной в леса,
В деревню тихую Коржово.
Сейчас там осени глаза
Печальны. Песню на два слова
Выводят птичьи голоса,
Поэты золота лесного,
В краю, где счастья не видать,
Оставшиеся зимовать.
Не спрашивай. Тебе понятно.
Там дед Василий на печи
Кряхтит, ругается невнятно
И в чае мочит калачи.
Поговорить бы с ним занятно,
Но, знаешь, лучше помолчим
И посидим за самоваром,
Окутанные важным паром.
А за окном дожди, дожди...
Поля распаханы, раскисли.
От девяти и до шести
Дожди – ни проблеска и мысли
О том, чтоб выйти и дойти
До той рябины, где повисли,
Корявым пламенем горя,
Глаза рябого октября.
Начнем застольную беседу.
Ты мой герой, я твой слуга.
Куда потянет непоседу,
Туда летит моя строка.
Я сам решил было – уеду,
Да мне дорога нелегка.
Бродить с котомкою по свету
Теперь невесело поэту.
Что скажешь мне, товарищ мой?
Каким поделишься секретом?
Твой дом остался над Невой,
Отпал, как пепел сигареты.
Скривился некогда прямой,
Как след ножа и свет ракеты,
Твой путь от первого звонка
До ящика гробовщика.
Тебя тогда не волновали
Вопросы зла или добра.
Стояла осень. Напевали
Часы – пришла, пришла пора
Задуматься о карнавале,
Где все всерьез и все – игра.
Ты выбрал шаткую основу,
Доверившись слепому слову
Как случаю. Из деревень
Струились жилистые токи.
Давай забросим дребедень:
Морали мерзкие уроки,
Хороший тон, воскресный день
По магазинам, стиль эпохи
И мелочную кутерьму
Забот – ни сердцу, ни уму.
Смотрите – скачет подстаканник,
Высокий чин, мордоворот.
Полковник или окаянник —
Сам черт его не разберет.
Мазурку пляшет, как посланник,
Заморский обер-обормот.
Несется вскачь, ведя по кругу
Свою законную супругу.
За ним раскрашенный злодей,
Фигляр в доносах и цитатах,
Погрязший в патоке идей
Закоренелых супостатов.
Куда бежать нам от блядей?
В деревню к тетке? в глушь? в Саратов?
Должно быть, там у наших дам
Наступит полный Амстердам!
А вот еще – проныра, плут.
Чего изволите? Лакейски
Изогнут несколько минут,
Потом разогнут компанейски.
Марионетки там и тут
Висят на ниточках житейских,
Пока со стуком лба о лоб
Не упадут в открытый гроб.
Вот карнавал. Его герои
Смешны, не более. Зачем
Ты разлучился сам с собою,
Меланхоличен стал и нем?
Архангел прилетел с трубою
И протрубил одну из тем
В спектакле Страшного Суда
Взамен смущенья и стыда.
Однако новые замашки
Недолго волновали ум.
Давай сыграем лучше в шашки
Иль шахматы – утеху дум.
Там пешки, будто бы монашки,
Идут гуськом, заслыша шум
Великой битвы королей,
Прекрасных в трусости своей.
У легких лаковых фигурок
Свои понятия о зле.
Вот скачет конь, как старый турок
С кинжалом в кожаном седле —
Такой воинственный придурок
При благородном короле.
Ваш ход, милейший! Сделан выбор.
А христианство пахнет рыбой.
Бежав лампадок и свечей,
Отдался ты литературе.
Ты в услужении у ней.
Апоплектической фигуре
Не нужен новый грамотей,
А равно мировые бури.
Главой заслуженной скорбя,
Она не приняла тебя.
Но волшебство родного слова,
Его волнение и пыл,
Ты, словно бы родившись снова,
Почувствовал и полюбил.
Боясь бесславного итога,
Ты для себя установил
Каноны, жесткие уроки,
Наметил уровни и сроки.
И вот тогда твоя страна
Пришла к тебе всерьез, надолго.
Ее святые имена,
Герои пламени и долга
Являться стали, и темна,
Уже звала куда-то Волга,
Леса, овраги, родники,
Амбары, горницы, замки,
Грибы, натопленные бани,
Далекий перебор собак,
«Зимой – телегу, летом – сани»,
Ухваты, дедовский армяк,
Бирюльки незлобивой брани,
Мол, молод, так тебя и так! —
Хватил бы прежнюю годину,
Сам запросился б на осину.
А карнавал? Что карнавал?
Он продолжается, клокочет
Среди хлопушек и зеркал,
Он крови жаждет, славы хочет,
Притягивает – не узнал? —
И на себя доносы строчит.
А там, гляди, с морского дна
Встает китайская стена.
Ты возмужал. Твои заслуги
Пора проверить. Стой, малыш!
Уж я-то знаю все недуги
Ненапечатанных афиш,
Твои сомнения, испуги,—
Опасен, думаешь, молчишь,
А крик о помощи Вселенной
Не слышен в музыке военной.
Теперь довольно. Наши сборы
Пора ускорить. Я – домой.
Уже не радуют узоры
Осины красной, золотой,
Как мирные переговоры
Средь передышки боевой,
Когда убьют парламентера,
Доказывая вечность спора.
Ты остаешься? Ах, прости,
Ты мой двойник, поедем вместе.
Мы параллельные пути
Проходим. Козыри не крести,—
Кресты, которые нести
Есть дело совести и чести.
Об этом стоит, так и быть,
Читателя предупредить.
В разгар броженья, карнавала
Закончу песню и строку.
Судьба нести не перестала,
Свистит и рубит на скаку.
Ей дела нет, вернее, мало,
Что стих повиснет на суку,
Готовый с легкостью паяца
Взлететь над миром и сорваться.
Кленовый лист, мой талисман,
Свернулся трубочкой к ненастью.
Герой попался, как в капкан,
В тиски обиднейшей напасти,
Строки волосяной аркан
Сдавил его. Не в нашей власти
Освободить, и ни к чему:
Три карнавала, три предела —
Войны, любви, мирского дела —
Уж уготованы ему.
26—28 октября 1967 г.
«Покров показался. Трехглавая церковь...»
Покров показался. Трехглавая церковь,
Погост, за околицей лес.
Скрипучий автобус по самому центру
На пыльную улицу влез.
Бегут ребятишки, гармошка играет,
С кошелками бабы стоят,
А в небе над ними от края до края
Малиновый зреет закат.
Свои пересуды – какая погода?
К дождю или сызнова сушь?
Кругом молчаливая стынет природа —
Овраги, осинники, глушь.
И если взобраться на верх колокольни,
На купол, где ржавленый крест,
Увидишь, как лес далеко и привольно
Раскинул вершины окрест.
Подняться на облако – птицам на зависть —
И Волгу увидишь вдали.
А вот и Покров, как зеленая завязь
На светлых проселках земли.
И солнце зашло, и закат догорает,
Еловая чаща черна.
В далеком Покрове гармошка играет,
И вышла из лесу луна.
В далеком Покрове... Искал, как иголку
В стогу, – эту землю свою,
Где сосны и ели стоят вдоль проселка
В тяжелом и ровном строю.
Где чистый родник за лесным поворотом
И трудно от хвои вздохнуть,—
Береза и камень у края болота
Укажут мне правильный путь.
Рогожская губерния,
Соломенный уезд.
Петух зарю вечернюю
Скликает под насест.
На поле недокошенном
Косилка тарахтит.
Затеряна, заброшена
Дерйвенька стоит.
Проветривают валенки
Ценою медный грош.
Крапиву у завалинки
Косою не возьмешь.
Три дома с огородами.
Живут двенадцать душ.
Страдают недородами
В распутицу и сушь.
Живут своим обычаем:
Богаты чем – к столу.
С иконами привычными,
Забытыми в углу.
На стенке фотографии
Артистов и родни
С гармошками и граблями,
Семейством и одни.
И новости неспешные,
И письма раз в году.
– Живем, покуда, грешные,
Себе же на беду.
Мальчонки отрываются.
В ремесленном один,
Другой по свету мается,
Считай, что блудный сын.
Посылка новогодняя
Да к Пасхе перевод.
Кровать его свободная
Уже который год...
...На невысокой местности
Амбары да плетни.
Бегут недели, месяцы
И годы, словно дни.
Неслышно осыпается
Каленый цвет осин.
В дорогу собирается
Последний, третий сын.
Я не сплю. На избах тени
Шевелящихся берез.
Бабка встала на колени,
Задремал под лавкой пес.
За поваленным забором
Поле темное лежит,
И звезда над черным бором
Потихонечку дрожит.
Наступает та минута
Напряженной тишины,
Для которой мы как будто
Не слышны и не нужны.
Для которой только поле,
Только тени под луной
Да запрятанное горе
Там, за дальнею избой.
Утром выйти на дорогу —
Грузовик промчит в пыли —
И шагать за солнцем в ногу
С песней утренней земли.
В полдень мокрую рубаху
Снять и полем в березняк,
Где невидимая птаха
Подает условный знак.
Там на глянцевых листочках,
На полянах меж стволов
Перепутанные строчки
Молодых курносых слов.
Собираешь, как малину,
В рот, на запах и на вкус,
В туесок, ведро, корзину
Эту лиственную Русь.
Береста, береза, брага
Допьяна поит людей.
В земляничных листьях влага
Спелой ягоды вкусней.
Тени, вырубка, подлесок,
Ельник чистый, как шатер.
Гриб серьезен, полон, весок
Привораживает взор.
На поляне врассыпную
Шляпки масляных маслят.
Ловишь присказку лесную,
Не нашел – иди назад.
Лесом, полем ли, оврагом,
Сквозь осинник напрямик,
По тропинке скорым шагом...
Солнце село. Лес поник.
Избы, серые заборы,
Благодарственная лень.
И звенят в ушах, как хоры,
Гроздья слов за целый день.
«Хорошие люди, читайте хорошие книги!...»
Хорошие люди, читайте хорошие книги!
На стертых страницах зеленый царит полумрак,
Там плещут моря, затеваются балы, интриги,
Крадется по городу серый с прожилками враг.
Там сразу не скажешь, какой из миров нереален.
Надейся на детство, а правду подскажет строка.
Почетному слову ты будешь слуга и хозяин —
Стесненным дыханьем свинцовая пыль дорога.
Когда буквоеды-филологи насмерть рубили
Священные рощи олив на библейских холмах,
И песни Гомера, покорные, словно рабыни,
Сгорали смешно и позорно у них на губах,
На каждое слово броню толстозадого смысла
Навешивал школьный заслуженный архиерей
И мелом стучал по доске, но не вышло, не вышло!
Посмейтесь над ним, покорители книжных морей!
И дрожь узнавания наивернейшего слова,
И собственный лепет без голоса, без пастуха
Испробуйте снова, счастливцы, испробуйте снова,
Пока острый глаз и пока перепонка туга!
В этом наспех придуманном мире
На глаголах – бубенчики лиц.
Разлетаются выше и шире
Разноцветные хлопья зарниц.
И кудесник-вагоновожатый
Видит в щелочку выгнутый рельс
И ведет свой короткий и важный
Перезвоном наполненный рейс.
Наступает веселое утро.
На маршрутном листе – небеса.
Осыпается жалкая пудра,
Без остатка пылит полчаса.
Слово за слово – корень, приставка,
Снова корень, такой корневой,
Что белеет немытая лавка,
И тропа зарастает травой.
Исчезают колеса и скобы,
А трамвайные дуги в лесу
Долго ищут железные тропы
И тихонько звенят на весу.
Светлой осени костры
И ленивые качели
Нас как будто научили
Новым правилам игры.
Это день перед войной.
Посмотри: оркестр военный
Венский вальс благословенный
Чертит кисточкой одной.
Впереди седой трубач,
Академик флюгельгорна
Дует важно и упорно,
Будто вальс еще горяч.
День кружит на высоте,
На три четверти, по ноте
Он припомнится пехоте,
Как зарубка на версте,
Отделяющей века,
Смену правил и привычек
Блеском звездочек и лычек,
Пулей-дурой у виска.
«Сегодня встретился хороший человек...»
Сегодня встретился хороший человек.
Такая редкость! Шел и улыбался,
Как будто улицы неосторожный бег
Его души нисколько не касался.
Счастливый обитатель корабля
Без паруса, без якоря и флага
Он плыл, куда звала его земля,
И это было больше, чем отвага.
На мудреца довольно простоты,
А простаку спокойнее живется.
В порыве недоношенной мечты
Святая правда в людях ошибется.
А этот улыбается, чудак!
Несет авоську с пойманным арбузом.
Я шел и любовался просто так
Его зеленым полосатым грузом.
Приходи ко мне запросто.
Вечерами я дома.
Мы послушаем записи
Наших старых знакомых.
Там стеклянные кубики
Невесомостью дышат,
И почтенную публику
Слезы совести душат.
Это Моцарт рассерженный
Притворяется тихим,
Но, на землю поверженный,
Вдруг становится диким.
На лету превращается
В первородного Баха.
Там, где месса кончается,
Начинается плаха.
Далеко, далеко еще
Заведут нас молитвы!
В этом мире ликующем
Вечны первые битвы.
И на счастье подаренный
Разбивается Моцарт,
Потеряв под ударами
Блеск мятежных пропорций.
Не прислала мне повестку
Комариная война
И под окнами в отместку
Голосила дотемна.
Первый голос: ярче ментик,
Королевский трубадур!
Стиль высокий – франтик, шпентик,
Весельчак и балагур.
На второго накричали,
Он совсем ушел в себя.
Лезут перышки печали
У седого воробья.
Третий голос – деревенский
Плач побитого в кустах.
Ярославский ли, смоленский,
Волчий шорох, птичий страх.
Строчка, точка, запятая,
Понарошке и вразброд
Эта троица святая
На дремучий суд идет.
Обсудили, осудили,
Пропечатали приказ
И частушечные были
Разорили напоказ.
Прицепили строчки к смыслу,
Словно ведра к коромыслу.
Синий ментик был неправ,
Он упал, траву примяв.
Только перышки печали
Ни за что не отвечали.
«Напряжение внутренней жизни...»
Напряжение внутренней жизни
Так легко от друзей укрывать.
Суета на веревочке виснет,
И летит одуванчиков рать.
На лугу непрерывно-зеленом
От цветка до цветка, второпях,
Как положено вечным влюбленным,
Скачут мошки на первых ролях.
Им не стягивать узел Вселенной.
Легкомыслие – ветер в крови.
На земле музыкальной и пенной
Ноту счастья за хвостик лови!
А тебе – ни ромашек, ни пенья,
И за лодкой чужой не грести.
Ток высокого напряженья
Держит душу, как землю в горсти.
Стучатся в дверь, и стук висит в прихожей.
Я рад вам, гости, заходите. Выпьем чаю,
Поговорим о завтрашних делах
И проведем непринужденно вечер.
Вы слышите? Играют где-то Баха,
И в окна бьют органные приливы,
Волнуются, но стекла не дрожат.
Почудилось. Прошу вас, проходите,
Садитесь на диван. Отрезок жизни
Я постараюсь вам преобразить.
Скрип половиц. И темнота, и шорох.
Из темных нор ползут немые крысы,
Они жирны и щелкают зубами,
Глаза горят – их сотни! – друг на друга
Они взбираются. Что, страшно? На паркете
Царапины глубокие белеют,
И смрад витает в воздухе сыром.
Мне вспомнилось: сегодня утром дети
В войну играли. Пленных повели
Расстреливать, и командир отряда,
Какой-то рыжий незнакомый мальчик,
Сказал: перестреляем, словно крыс!
И вот теперь из сумрачных углов
Пожаловали крысы! крысы! крысы!
Смотрите – дисциплина и порядок
В крысиных сотнях. Строй предельно четок,
Как будто связан дудкой Крысолова.
Ряды смыкаются. На приступ! Понемногу
Передние влезают на диваны.
Ну, берегитесь, гости! Будет бой!
А впрочем, нет. Бороться бесполезно.
Но покориться крысам? Покориться
Кишащей массе темно-серых шкурок?
Ах, лучше смерть! И смерть с косой приходит...
А мы хотели просто выпить чаю!
Не выйдет, дорогие, я встречаю
Непрошенную гостью. Стынет ужин,
Хозяин никому уже не нужен.
...Как мило провели мы этот вечер!
А музыка! А легкая беседа!
Мы к вам пожалуем еще через неделю.
Спасибо. До свидания. Прощайте.
И дверь закрылась. Что же, мне приснились
И крысы, и шуршащие колонны?
Их гости не заметили. Бог с ними!
Блаженно их неведенье. Хоралы
По-прежнему откуда-то несутся.
Закрыть окно. Законопатить щели.
Все выходы и входы запереть
И этим крыс вторжение отсрочить.
А Иоганна Себастьяна Баха
Забыть до Страшного Суда. Аминь!
Прощайте, гости! Помните о крысах.
Я в этот парк весною не приду.
Стоят пустые черные скамейки,
И ветер носит скомканные звуки
Из репродуктора, висящего уныло
На мокром покосившемся столбе.
А стрелки на часах Адмиралтейства
Безжизненно повисли. Полшестого.
Последний отзвук праздничного дня,
И лопнувших шаров, и красных бантов,
И голосов нестройное «ура!»,
И щеки напряженных музыкантов,
И ржанье милицейского коня,—
Исчезли все. Оставили меня
Перед решеткой парка. На дорожках
Обрывки лент, конфетные обертки
И сломанная палка транспаранта.
А летом здесь цыганки в пестрых платьях
Гадали простофилям и влюбленным,
Украдкой вынимали талисманы
Из шелкового черного платка.
Влюбленные смеялись. Простофили
Испуганные брови поднимали
И наскоро во внутреннем кармане
Нащупывали мелочь... Уходили...
Влюбленные смеялись! Им-то что!
Рука в руке, и никаких секретов
В далеком будущем, а тайны – для других.
Колокола над ними – дили-дили,
На облаке седом, как на экране,
Два имени, пронзенные стрелой,
И крошечный амур, для посторонних
Невидимый. Движения цыганки
Нелепы, как немые кинолеты,
А предсказанья темные смешны.
А лето перемешивает лица,
Косынки, стоптанные босоножки,
Стаканы с газированной водой,
Шипит и дразнит, носится над парком
И оставляет солнечные пятна
В причудливой узорчатой тени,
И бухает полуденною пушкой.
Как я тогда завидовал влюбленным!
А осенью в аллеях поскучнело.
Ходили старики-пенсионеры,
Да дворники сгребали листья в кучи
И поджигали. Вился огонек,
Дым стлался по земле, и понапрасну
Мальчишки ворошили горы листьев —
Огонь не разгорался. Я бродил
По тем местам, садился на скамейки
И, кажется, был счастлив. Вспоминаю:
Ведь не было решительно причины
Мне быть счастливым. Отчего же листья,
Их шорох, дым и голоса мальчишек
Мне говорили явственно – ты счастлив.
Но скоро, скоро зимние картины
Укрыли осени неприбранные знаки
И залили бесстрастным ровным светом
Дорожки и часы Адмиралтейства,
И стрелки, что топорщатся игриво
И ждут весны. Ну что ж, начнем сначала.
Я в этот парк весною не приду.
1. Здравствуй, зима!
Здравствуй, зима! Эта грусть на границе
Времени года – да будет светла!
В темной передней не спится зарнице,
Снегом сухим замело зеркала.
Выйдешь на улицу, скрипнули двери,
Слезы от ветра, и голос колюч.
Ехать – не ехать? Слепой от доверья
К первому следу и шествию туч.
Лужи заснули, а дальше на стройке
Дергает кран посиневшей рукой.
Булочный воздух, душистые слойки
Тянут к теплу и зовут на покой.
Здравствуй, зима! Узнаешь по рисунку,
Словно немного воды утекло,
Эти дома, подведенные в струнку,
Это забитое снегом стекло?
Эту поземку, игру завихрений,
Корку мороза на красном лице
И надоевшую от повторений
Долгую песню метели в конце.
2. Утренний снег
Тихо падал белый снег,
За прозрачной занавеской,
Падал медленно и веско,
Падал на виду у всех.
Падал и упасть не мог.
Он был внутренне спокоен,
Нет, скорее, – сдержан, строен,
Был не выдох он, а вдох.
Падал, словно бы ни в чем
Никогда не сомневался.
Я-то знаю, он держался
На дыхании моем.
3. Вид из окна
Дорога промерзла до скрипа,
Иголками схвачены тени
Трех сосен, и облачко крика
Пришито к раскрытому рту,
Но звука не слышно. Ступени
Засеяны желтым песком,
И дворник, ругая природу,
Орудует острым скребком.
На стройке воскресное царство
Морозной кирпичной тоски,
Где варварство, словно лекарства,
Бруски навалило и трубы
И красным фанерным щитом
Проводит опасную зону,
Где вмерз недостроенный дом
В небесный пустой окоем.
А дальше – фигурки детей,
Творожный рассыпчатый воздух,
И падает голубь с балкона
Почти до земли.
4. Игра в хоккей
Угол зимнего двора,
Где на льду сороконожкой
Поддевает шайбу клюшкой
Разудалая игра.
Лед круглится, как орех,
И, раскалываясь с треском,
Он решимостью и риском
Обволакивает всех.
И подобием штрихов
Карандашного наброска
Искры в воздухе нарезком
Отлетают от коньков.
И попробуй, удержись,
Чтобы детская отвага
Не шепнула – как убога
Наша мелочная жизнь!
5. Сказка
Достаточно взглянуть в окно,
Чтоб убедиться, как прекрасно
Зимы пушистое вино,
А легкое веретено,
Как предсказание, опасно.
Вот укололась невзначай,
Взглянув на белый двор, принцесса,
И серебристая печаль
Скользит по залам, как завеса,
И стынет на подносе чай.
Веретено из рук упало,
И солнце синее зашло.
Метель проносится по залам,
И запоздалым снежным балом
Искрится тонкое стекло.
Ты слышишь, музыка играет.
Сосульки крохотный орган
Прозрачным звуком замирает.
За тридевять земель и стран
Принц белого коня седлает.
Теперь проснись и повтори
За мной два слова: жизнь прекрасна.
На снег в окошко посмотри:
В тяжелых шапках фонари
Горят светло, печально, ясно...
6. Мороз
Тяжелое дыхание мороза
Двойную раму приступом берет.
Сначала струек гибкие поводья
Сквозь щели проникают, а потом
Сам бородач, клубясь еловым паром,
На тройке леденцовых лошадей
Сухие стекла разом вышибает
И в комнате на стенах вышивает
Узоры для снегуркиных детей.
7. Снегирь
Прилетел снегирь на мой балкон,
Покрутил головкой, как в кино,
Красной грудью окровавил снег.
Почему-то не заметил он,
Что его разглядывал в окно
Хитрый, но бескрылый человек.
8. В летнем саду
Скворешники Летнего сада,
Где зимуют мраморные птицы,
За решеткой северной столицы
Долгую тяжесть снегопада
Стряхивают, как знакомый сон,
И глядят на них со всех сторон
Сонные дворцы Петрова града.
9. Новогодний базар
Предзакатным жидким светом
Освещен Гостиный Двор,
И толпа, как рыба, дышит.
Ходит там карманный вор,
Он косит вороньим глазом,
Пальцы тряпочкой скрутив,
Новогодний разговор
Побелевшим ухом слышит,
И назойливый мотив
Сердце сладкое колышет.
Двухэтажный Дед Мороз
Напирает на прохожих,
И на лампочках похожих
Нити спутанных волос,
И молочные деревья,
И кондитерский туман.
Как разбойник, ресторан
Свищет светом полосатым,
И любуются закатом
Дед Мороз, Гостиный Двор
И карманный вор.
10. Вечером
День – пустой, холодный
Дровяной сарай.
Связанный, свободный,—
Все равно прощай.
У молвы народной
Черствый каравай.
Не пришел покуда
Гость, приятель, брат.
Не дождался чуда
Убитый солдат.
Не было бы худо,—
Снегу я не рад.
Смотрит исподлобья
Черное надгробье,
И летят подряд —
Пушистые хлопья,
Белый маскарад,
Чуткий слух передней
И, смешней наград,
Лампочки соседней
Нищенский наряд.
11. Ночью
Ни души, и метель метет
По Садовой и по Литейному,
Вензелями снега затейливо
Заметая за поворот.
И над городом наугад,
Наступая на крыши гнутые,
Рыщут вулками ветры лютые,
Фонарями глаза горят.
Страшно, страшно в такую даль
Одинокому, одинокому
След искать, а ветру высокому
На земле никого не жаль.
12. Две ели
Два призрака елей в ночной глубине
Сегодня привиделись мне.
Тяжелыми лапами белых ветвей
Они заросли у корней
И легкими стрелками – там, в высоте,
Они прикасались к звезде.
Их синие тени на ровном снегу
Покоились в чистом кругу
Волшебного света звезды и луны —
Двойного зрачка тишины.
(1968-71)
На темной лестничной площадке
Шаги тихи, а речи кратки.
Опять ругают беспорядки,
Ждут перемен.
Философ местного значенья
Вскрывает донные теченья
Из каменного заточенья
Квартирных стен.
На карте крупного масштаба,
Подобно маршалу Генштаба,
Он от ухаба до ухаба
Проводит путь.
Те правы, эти виноваты...
Его движения крылаты,
Он не ручается за даты,
Но знает суть.
Его всевидящее око
Заглядывает так далёко!
Проверить тайного пророка
Не хватит сил.
Но ты, поэт, скажи по чести:
– Я ошибался с вами вместе,
Надеялся и слушал вести.
Я просто жил.
1970
Не суди меня строго,
Я не царь, не герой.
В канцелярии Бога
Я чиновник простой.
Вот бреду я устало
Над невзрачной Невой,
Заморочен уставом,
Одурачен молвой.
Тень Петра и собора
Укрывает меня
От соблазна и спора
Уходящего дня.
Я, потомок и предок
Петербургских повес,
На Сенатской был предан,
На Дворцовой – воскрес.
Где-то скрыты пружины
Тех немыслимых лет.
Я не знаю причины,
Только вижу ответ.
Но темны и невнятны
Города и века,
Как чернильные пятна
На сукне сюртука.
1968
Тень восемнадцатого века,
Где свечи таяли в чаду,
Где среди говора и смеха
Узришь алмазную звезду
На вицмундире у вельможи,
Где друг на друга все похожи,
Все носят букли, парики —
Майоры, дамы, старики;
Где пушек гром, и дым, и звон
Бокалов, поднятых во здравье,
Где легковерное тщеславье
И суета со всех сторон.
Тень восемнадцатого века!
Твоих сынов угрюмый слог,
Фонарь, бессонница, аптека,
Императрицы тяжкий вздох
Над сочинительством наказов,
Немецкий и французский сброд...
Еще в помине Стенька Разин,
Но Пугачев минуты ждет.
Дух просветительства французский
Царил в Европе. Короли
Дрожали, но в столице русской
Приют философы нашли.
Уж при дворе входили в моду,
Как башмаки, – Вольтер, Дидро.
Вельможи, чувствуя погоду,
Творили вечное добро,
Екатерина до рассвета
Строчила письма. Было лето.
Стояла засуха. Народ
Не знал ни слова по-французски
И валом заполнял кутузки
И каторги в голодный год.
Свеча коптит. Святое дело
Свободы – в трепете строки.
На край стола ложатся смело
Запретные черновики.
Чиновники, чинуши, воры
Богатства русского – прочтут
Безжалостные приговоры —
Да будет скорым правый суд!
Да будет так! Из Петербурга
В Москву тащиться по грязи,
По деревням – и громом бунта
Двору надменному грозить.
Все испытать – тоску, нападки,
И страх, и в горле тесноту,
Но чтобы мчалось без оглядки
Перо по чистому листу.
Свеча коптит, и повесть длится.
Радищев пишет до утра.
И содрогается столица,
Как дерево от топора.
И золота багровый отсвет,
Пиров роскошных канитель —
Все находило странный отзвук
В душе. Маячила метель
Над Петербургом, и ночами
Станки печатные стучали.
Наборщики до ломоты
В руках – перебирали кассы,
И не монаршие указы,
А книг заветные листы
Ложились в стопки, укрывались
Обложками, и от ворот
Громады груженых подвод
По книжным лавкам направлялись.
В трудах заканчивался год.
Бумаги сжечь, меняя место,—
В деревню! Слухи, как ножи.
И в ожидании ареста
Бродить устало вдоль межи,
В уме предупреждать вопросы
На следствии и наперед
Все знать – и крепость, и допросы,
И что останется народ
Как был – неграмотным, забитым,
А Новикуву быть забытым...
Он слышит топот лошадей.
За ним идут. Зовет столица.
И только лица, лица, лица
Дворовых плачущих людей.
И только версты вдоль дороги,
В пыли казачий эскадрон...
Упасть императрице в ноги?
Нет, не бывать! Он погружен
В раздумья. Если б не интриги,
Успел бы многое за век.
И то сказать – читает книги
Теперь в России человек.
А значит – не пропало дело,
А слава – это пустяки...
И солнце медное горело
Над желтой скатертью реки.
1968
Кудрявый Пушкин, враг порядка,
Душа лентяев и задир,
Пылится в сгибах и на складках
Твой камер-юнкерский мундир.
Подобно сплетням и доносам,
Он сохранил пристойный вид.
Музейный сторож с пылесосом
Его торжественно хранит.
И если где-то существует
Мундира пыльная душа,
Она, должно быть, торжествует,
Таким вниманьем дорожа.
Она, привыкшая к скандалам,
Давно осталась не у дел.
Ах, Пушкин! Стал бы генералом,
Когда бы голову имел!
Играл бы в карты или шашки,
Закладывался б на пари,
Смотрел спокойно бы на шашни
Своей супруги Натали.
Писал бы оды и сонеты
В альбом княгине Шаховской
И в декабристов у Сената
Стрелял бы твердою рукой.
Носил Владимира в петлице
И умер бы не в тридцать семь,
А в семьдесят три года, в Ницце,
Разбитый астмою совсем.
1968
Как памяти легко!
Воспомним наш Лицей!
Бутылочка Клико
И шумный круг друзей.
Но кто там в стороне,
Задумавшись, молчит?
Топи печаль в вине
И радуйся, пиит!
Друзья твои уже
Продвинулись в верхи,
А у тебя в душе
Стихи, одни стихи.
Чиновник, дипломат,
Мундир, еще мундир...
Чего же ты не рад,
И пир тебе не в пир?
Судьба ли подвела?
Попутали ль грехи?
Но все твои дела —
Стихи, одни стихи.
Случаен этот дар,
Как нйчет или чёт,
А твой душевный жар
И труд ночной – не счет!
Ах, легкость! Ах, игра
Пера при свете свеч!
«Пора, мой друг, пора...»
И жизни не сберечь.
1971
Он прекрасен без прикрас,
Это цвет любимых глаз.
Это взгляд бездонный твой,
Напоенный синевой
Далекая картина
Из дедовских времен:
Княжна Екатерина
И колокольный звон.
Из церкви полутемной
Домой спешит легко
Княжна в одежде скромной,
А рядом с ней Нико.
О юноша невзрачный,
Хромой канцелярист!
Зачем с улыбкой мрачной
Пером ты чертишь лист?
Зачем стихи слагаешь
И даришь ей тетрадь?
Неужто ты не знаешь,
Что счастью не бывать?
Не станет ждать поэта
Спокойная княжна.
Княжне тетрадка эта
Почти что не нужна.
Княжна как бы в тумане
Предчувствует в душе,
Что с князем Дадиани
Обручена уже.
Обречена пылиться
Тетрадка до поры.
Ленивая столица,
Уснувшие дворы...
Воистину далёко
До будущих времен.
И на горе высокой
Белеет Пантеон.
1970
(Из Николоза Бараташвили)
Мчит меня без путей Мерани.
Ворон криком мне сердце ранит.
Выше гор, Мерани, взлетай!
Мои думы ветрам отдай.
Разрезай седую волну,
По ущельям неси меня,
Сократи минуту одну
Моего тревожного дня.
Не страшны нам холод и зной,
И великая сушь в пути.
Мчи, Мерани! Хозяин твой
Все невзгоды готов снести.
Буду я отчизну искать,
Потеряю верных друзей,
Не увижу отца и мать,
Не услышу любви моей.
Приютит меня чуждый край,
Я иную встречу зарю.
Ты, звезда моя, мне сияй!
Тайны сердца тебе дарю.
Я любовь доверяю морю
И порыву Мерани в горе.
Выше гор, Мерани, взлетай!
Мои думы ветрам отдай.
Вдалеке от родных могил
После смерти буду зарыт.
Мне на грудь склоняясь без сил
Не заплачет любовь навзрыд.
Черный ворон лишь прокричит
Среди темных высоких трав,
Буря дикая закружит,
Мне песком могилу убрав.
Не слезами – ночной росой
Будет этот оплакан миг.
Не рыдания над собой
Я услышу, а волчий крик.
Так лети, мой Мерани, вдаль,
Выноси за предел судьбы!
Несгибаем всадник, как сталь,
И достоин вечной борьбы.
Пусть умру я один, без крова,
Буду биться с судьбой сурово.
Выше гор, Мерани, взлетай!
Мои думы ветрам отдай.
Не напрасно быстрее стрел
Мчались помыслы седока.
Где Мерани, как вихрь, летел,
След останется на века.
Мой собрат, отправляясь в путь,
Избежит на тропе невзгод.
Может статься, когда-нибудь
По моим следам он пройдет.
Мчит меня без путей Мерани.
Ворон криком мне сердце ранит.
Выше гор, Мерани, взлетай!
Мои думы ветрам отдай.
1968
Перевод с грузинского
Баллада о капитане Роберте Скотте
«В память капитана Р. Ф. Скотта, офицера флота, доктора Э. А. Уилсона, капитана Л. Э. Дж. Отса, лейтенанта Г. Р. Боуэрса, квартирмейстера Э. Эванса, погибших при возвращении с полюса в марте 1912 г.
„Бороться и искать,
Найти и не сдаваться!“»
Тему пробуя, легкую с виду,
Собираясь, как в дальний отъезд,
Ясно вижу в снегах Антарктиды
Деревянный обструганный крест.
Перекладина грубой работы,
И на ней – имена пятерых
Англичан экспедиции Скотта,
А внизу теннисоновский стих.
Вам, мужчины особого склада
Из породы железных парней,
Посвящается эта баллада
Ледяных антарктических дней.
Разве в полюсе чертовом дело?
Кто там первым пришел – все равно!
Вы другого коснулись предела
И другое вам право дано.
Я хочу сквозь пространство и время
Обратиться к тебе, Роберт Скотт,
В час, когда говорил ты со всеми,
Кто на свете огромном живет.
О родных и о близких печалясь,
Ты писал на полях дневника
И Земля над тобою качалась,
Как резиновый шарик, легка.
Неужели к бессмертью стремился
Или славы за гробом искал,
Когда рядом твой верный Уилсон,
Твой товарищ, твой брат умирал?
Нет! Сжимая предсмертною хваткой
Непослушный уже карандаш,
Не за этим писал ты в тетрадку,
Чтобы выстроить памятник ваш.
Не за этим, пока не остыла
В жилах кровь, ты царапал листок.
Все, как было. И только – как было.
В этой правде твой главный итог.
Я, живущий в уютной квартире,
Обладающий ясной судьбой,
Вижу звезды такие же в мире,
Что горели тогда над тобой.
Если мужества мне не хватает,
Я смотрю, оглянувшись назад,
Где палатку твою заметает
Снег, сверкающий, как звездопад.
Если голос мой глохнет от ветра
На российских полях снеговых,
Я ищу в своей жизни ответа
И в записках предсмертных твоих.
Но не смертью дается нам право
Быть услышанным через века.
Только правдой. Одной только правдой
До последней строки дневника.
1970
В ночном трамвае умер человек.
Он, словно тень, без крика или стона
Упал в проходе, не сомкнувши век,
Прижав щекой ребристый пол вагона.
И вот, когда он замер, не дыша,
И равнодушно вытянулось тело,
Его душа тихонько, не спеша
В открытое окошко улетела.
Она была невидима тому,
Кто наблюдал за внешностью явленья,
Кто видел только смерть и потому
Расценивал все с этой точки зренья.
На самом деле было все не так:
Тот человек нелепо не валился,
Трамвай не встал, и не звенел пятак,
Который из кармана покатился.
Подробности тут были ни к чему,
Они изрядно портили картину.
И мало кто завидовал ему,
Вступившему в иную половину.
Его душа существенна была.
Она одна в тот миг существовала.
Расправив два невидимых крыла,
Она уже над городом витала
И видела встающие из тьмы
Тьмы будущих и прошлых поколений,
Всех тех, кого пока не видим мы,
Живя по эту сторону явлений.
1971
Отцу
ЛИ-2, мой старый друг!
Смешны твои повадки.
Тебе последний круг
Остался до посадки.
Дистанцию свою
Кончаешь на пределе,
Но все-таки в строю,
Но все-таки – при деле.
Я слышу, как вдали
Хрипят твои моторы.
С тобой уже с земли
Ведут переговоры.
Мол, хватит, полетал!
Давай другим дорогу!
Истерся твой металл
С годами понемногу.
Мой верный друг ЛИ-2!
В наш век ракетной тяги
Не умерли слова
О чести и отваге.
За ними – бой и труд.
И если приглядеться,
Они еще живут
В твоем железном сердце.
Как говорится, есть
В пороховницах порох,
Пока осталась честь,
Как топливо в моторах!
1969
В каком-то неуютном кинозале,
Когда вот-вот начнется детектив,
Когда еще конфетами шуршали,
Портфели на колени положив,
Возник на бледном полотне экрана
Архивный документ военных лет,
Забытый кадр: зима, лесок, поляна
И чей-то на снегу глубокий след.
Сначала все спокойно, и на елях
Тяжелые, нависшие снега
Как будто не слыхали о метелях,
Не видели ни ветра, ни врага.
Сначала все спокойно, как на даче,
Как на прогулке лыжников, но вот
Экран качнулся, дрогнул – это значит,
Что оператор по снегу ползет.
Он весь – в своих зрачках. Его вниманье
Предчувствует и выстрелы, и взрыв
Гранаты, а горячее дыханье
Туманит на морозе объектив.
Притягивает дуло пулемета
Блестящий механический глазок.
И зал застыл, как будто сжало что-то
За горло. Словно смерть – на волосок.
Еще не поздно. Лед еще не сломан!
Вернуть назад, на студии доснять!
В эпоху комбинированных съемок
Нам трудно оператора понять.
Уже атака. Надо крупным планом!
Глубокий снег от пули не спасет.
Смотрите – небо плещется экраном,
Запоминайте! Это не пройдет.
Ловите лица, белые от крика,
Скорее к лесу! Тяжело дышать.
Пускай нечетко, смазано и криво,—
До лесу бы, до лесу добежать!
Ах, не успел!..
И взрыв уже грохочет,
И небо приближается на миг...
А камера стрекочет и стрекочет,
Своим глазком запоминая мир.
1968
На Четвертом бастионе тишина.
Вся война как на ладони, вся война.
Та, далекая, что в стонах и в дыму
На горбатых бастионах шла в Крыму.
Будто снова свищут ядра надо мной.
Черноморская эскадра под водой.
Батарея и траншея перед ней.
Сзади город, а вернее – горсть камней.
Вот Нахимов, опираясь на банкет,
В полном блеске адмиральских эполет,
Положась демонстративно на судьбу,
Наставляет на противника трубу.
Атакующий французский офицер
С саблей наголо – взят русским на прицел.
Полон удали и шарма, как артист,
Но послал чугунный шар артиллерист.
В завихрении мгновенном, точно смерч,
Только смерть обыкновенна, толькосмерть.
И на кладбищах на братских всех времен
На могилах их солдатских нет имен.
На Четвертом бастионе тишина.
И война, как на ладони, мне видна —
Та, недавняя, что в стонах и в дыму
Все на тех же бастионах шла в Крыму.
1970
Играет военный оркестр.
Глазам непривычно – так близко
Надраенный мелом до блеска
Сияет военный оркестр.
Как птица, головку склонив,
Флейтист изогнулся, обманщик,
А рядом пыхтит барабанщик,
Рукой поправляя мотив.
Построенный в ровный квадрат,
Настроенный по камертону,
Вступает в опасную зону
Оркестра военный отряд.
До первого крика, до слов:
«На приступ!» – он музыку боя
Выводит валторной, трубою,
И каждый в атаку готов.
Что смерть, если кто-то другой
Подхватит, как песню, винтовку —
Флейтист, наклонивший головку,
Трубач, призывающий в бой?
И сам дирижер на пеньке,
Как снайпер, прицелившись точно,
Поставит последнюю точку
Карающим жезлом в руке.
1969
Был вечер на Мтацминде, что когда-то
Нико Бараташвили описал.
Вдали горело лезвие заката,
И к городу Тбилиси воровато
Туман неторопливый подползал.
А наверху, в открытом ресторане,
У всей столицы древней на виду
Плясали палочки на барабане,
Дрожали в такт бокалы с «Гурджаани»
И пахло яблоками, как в саду.
Семь витязей (почти по Руставели,
Вот, разве что, без шлемов и без лат)
Вокруг меня торжественно сидели
И говорили тосты, как умели,
Пока их ждал внизу военкомат.
Был первый тост слегка официален:
«За будущую воинскую честь!»
На фоне исторических развалин
Он прозвучал, но был шашлык навален
В тарелки, и мужчины стали есть.
И мой сосед по имени Нугзари
(На вид неполных восемнадцать лет),
Когда отцов и прадедов назвали,
Потребовал, чтоб витязи привстали,
Старинный соблюдая этикет.
А дальше все смешалось, как в сраженье:
Бокалы, рюмки, вилки и ножи...
И было тостов вечное движенье,
В которых находили отраженье
Различные достоинства души.
И месяц, показавшись на две трети,
Как рог с вином, маячил в облаках.
А речи были обо всем на свете...
Подумал я: «Нас защищают дети
С тяжелыми винтовками в руках».
Поднял бокал Тенгиз Джавахишвили
И, на Тбилиси глядя сверху вниз:
– За Родину, – сказал он, – мы не пили!
– За Грузию! – как эхо повторили
За ним Ираклий и другой Тенгиз.
А Грузия за черными холмами
Лежала, распластавшись перед нами,
В туманах над цветущими садами
И в звездах, словно завязи, тугих.
А там, вдали, Россия, словно небо,
Где ни один из витязей тех не был,
Звала меня, и я подумал: «Мне бы
Сказать о ней...»
Но нету слов таких.
1970
(1408 год)
Наши лица обожжены.
Мы стоим на пороге войны.
Снова ветер горячий с Востока
Гонит пыль и песок скрипит,
И Москва за рекой горит
На Кремлевском холме высоком.
Закрываю глаза и вижу:
Языки колокольню лижут.
А вокруг на дорогах стон,
Речь чужая, чужие лица...
Нам опять не пришлось проститься,
Слишком страшен был сон.
Кочевое, желтое племя,
Ты опять натянуло стремя.
Наше время – иное время,
Мы научены, мы сильны.
Раньше было – вы русских били,
А теперь только кони в мыле,
Только тучи горячей пыли
Вам останутся от войны.
Почему же ночные страхи,
Тени коршунов, крыльев взмахи,
Как топор на дубовой плахе,
Не дают мне спокойно спать?
Виноваты, не виноваты,
Сыновья наши – не солдаты,
Тяжелы им литые латы,
Слишком рано им умирать.
Вот шагают в ряд по четыре.
На ногах сапоги, как гири.
Что-то тихо так стало в мире!
Словно спят на воде круги...
Лишь одно заслужили право —
За Отечество пасть со славой
Иль бесславно...
О Боже правый!
Возвратиться им помоги!
1969
Борису Цейтлину
Ко мне приходит человек,
Мой запоздалый гость.
В прихожей стряхивает снег,
Потом пальто – на гвоздь.
– Ну, как дела? – Да так дела...
По-старому живем.—
Мы с ним садимся у стола,
Вино сухое пьем.
Мы говорим с ним о вещах,
Простых на первый взгляд,
И дети на его плечах
Восторженно висят.
– Ну, как дела? – Да так дела.
С погодой не везет.
И жизнь не то, чтоб вся прошла,
Но скоро вся пройдет.
А что останется от нас,
Пока не знаем мы.
Так будем праздновать свой час
Посереди зимы!
Пускай протягивает ночь
Луну, как апельсин.
Пускай вовсю смеется дочь,
Пускай смеется сын.
Пусть наши несколько минут
Мы проведем с людьми...
– Ну, как дела? – Дела идут
Прекрасно, черт возьми!
1969
В самом деле, что дороже
Этих простеньких минут:
Дети Оля и Сережа,
Взявшись за руки, идут.
О каких они предметах
Потихоньку говорят?
О собаках? О конфетах?
Обо всем, что есть, подряд?
Наш коротенький мужчина
Поспевает за сестрой.
Видно, есть у них причина
Позабыть про нас с тобой.
Наше счастье так обычно,
Что легко его принять
За привычку, за практичность
Или вовсе не понять.
Значит, надо улыбнуться
Птицам, облаку, семье
И нечаянно коснуться
Тайны жизни на Земле.
1971
Колька, мальчик деревенский!
Ярославский ли, смоленский,
Перевязанный платком,
В трудном городе, где даже
На вокзале жди пропажи
Рядом с маминым мешком.
На скамейке деревянной,
Как солдатик оловянный,
У поклажи на часах.
Мать ушла. Закрылись двери.
Заблудилась или съели
Волки в каменных десах?
Колька, спи! Закрой глаза.
Спят смоленские леса.
Лошадь спит. Корова спит.
Над землей звезда висит.
Там, во сне, твоя деревня
Прячет в инее деревья
И пыхтит своим дымком.
Пусть и мне она приснится
Сном, упавшим, как ресница,
Безмятежным детским сном.
Колька, спи! Ровесник малый,
Вестник жизни небывалой,
Позабудь про свой мешок.
В стороне твоей морозной
Ночь шуршит метелью звездной,
Ворошит сухой снежок.
1971
Под Угличем, где рыжая корова
Бредет, не зная ласкового слова,
Где зимний вечер длится, как во сне,
Никто не вспоминает обо мне.
Там дед Василий, выйдя на крыльцо,
Ладонью трет шершавое лицо
И неподвижно смотрит на дорогу.
Гостей не видно... Ну, и слава Богу!
А может быть, ты умер, дед Василий?
Давненько писем мне не приносили,
Давно лекарств тебе не отправлял
И адрес твой, должно быть, утерял.
Ты умер и в Покровском похоронен.
Тебя везли в телеге по дороге
Сквозь три деревни, с Богом, налегке,
В наглаженном широком пиджаке.
Ты умер, дед Василий, навсегда!
Обрезали на доме провода,
Забрали кур, заколотили двери,
Но все-таки я плохо в это верю.
И если ты живешь еще на свете,
Тогда прости мне поминанья эти
И напиши, что на дворе зима,
Что все по-старому,
Что нет от нас письма.
1971
«На темном разъезде разлуки
И в темном прощальном авто
Я слышу печальные звуки,
Которых не слышит никто...»
В Вологде весело пляшут,
В Вологде вволю поют.
В ситцевых платьях Дуняши
Вологду горькую пьют.
Кто мне покажет до нитки
Этот платок расписной,
Этот сугроб у калитки,
Месяца серп над сосной?
Ветер, приляг у порога!
Пес добродушный, приляг!
Дальняя вышла дорога
И потерялась в полях.
Нету над Вологдой песен.
Ветер гудит о своем.
Снег был горяч и чудесен
Кровью, дымящейся в нем.
Январь 1971 г.
Северный ветер стучит за окном
крупными каплями звезд.
Там, над Гренландией,
бродит вином
спелая снежная гроздь.
Там,
над землею Франца-Иосифа,
белое крошево
в воздухе носится,
и, выгибаясь,
под ветром дрожит
древний арктический щит.
Северный ветер!
Северный ветер!
Рамы двойные,
хвойные —
с петель!
Дверь нараспашку!
Ветром пронизан,
дующим верхом,
дующим низом,
каждый мой мускул,
как выстрелом смерти.
Там, над Гренландией,
снежные черти
весело водят свои хороводы.
Периодичность явлений природы
нам угрожает переселеньем
и четвертичным оледененьем.
Только бы в мире
немного тепла
лето оставило,
осень хранила!
Только бы ровная
плоскость стола —
наше спасенье —
нам не изменила!
Только бы верить!
Только бы знать!
Там, над Гренландией,
ветры опять
туго закручивают пружину
и, взгромоздившись
с трубой
на вершину
шара земного,
блестящего,
пестрого,
дуют
до Крымского полуострова!
Северный ветер!
Северный ветер!
Распространитель
безжалостных сплетен!
Ты – полномочный поверенный зла.
Только бы в мире немного тепла!..
1968
Заманила, прикинулась раем
И несет нас незнамо куда.
Что же в прятки друг с другом играем,
Словно знать про нее мы не знаем,
Что не радость она, а беда?
Словно бабочки, неосторожно
Мы слетелись к ее фонарям,
А теперь наблюдаем тревожно
Траекторию, что безнадежно
Приближает нас к мертвым мирам.
Говорили: старушка-планета!
Снисходительно так, по плечу...
Что мы знали? Нам нравилось это:
Карусель, автогонки, ракета...
– Мама, мама, кататься хочу!
И пошлу! Человек – это гордо!
Мы не можем ждать милостей от!..
Но по-прежнему властно и твердо
Усмехается ведьмина морда,
Щерит черный проваленный рот.
Сколько раз обещала нам счастье?
Поделом дуракам, поделом!
Вот летит она, пепельной масти,
Разрывая пространство на части
Безобразным своим помелом.
Вековая посредница наша
Между Господом и Сатаной!
Как кондукторша в валенках, важно:
– Выходите, – кричит, – воля ваша.
Вам обратно войти не дано!
Богохульствую вроде бы грозно,
И насмешливый слышу ответ:
– Не ори, – говорит. – Слишком поздно!
Без того в экипаже нервозно,
Крику много, а толку-то нет!
Слишком черен космический холод,
Чтобы наши слова помогли.
Ожидают нас горе и холод.
Слишком слаб человеческий голос
Для грядущих трагедий Земли.
Чем же мы пред тобой виноваты?
Ты за что нас с собою взяла?
Нет ответа... Несется куда-то
Среди звезд и Галактик косматых
И, должно быть, не ведает зла.
1969
Насторожись, потомок дальний,
Когда услышишь мой привет,
Открыв, как ящик музыкальный,
Тетрадь давно минувших лет.
Не летописи, не призывы —
Заметки гнева и вины,
Написанные торопливо
На грани будущей войны.
С трудом припоминая даты,
Моей судьбой соедини
Дороги, где пройдут солдаты,
С полями, где умрут они.
Поверь: ни слава, ни признанье
Не беспокоили меня,
Лишь торопило ожиданье
Того неведомого дня.
1971
Неоконченная поэма
Итак, продолжим карнавал!
За год ничто не изменилось.
Тот недоволен, тот устал...
Какая мгла! Скажи на милость!
Зима предчувствует провал,
А осень переутомилась,
На стыке многих непогод
Припомнив календарный год.
Зима, весна, любовь, привычка...
Поэт опять не ко двору.
Свеча горела, словно спичка,
А спичка гасла на ветру.
Надеть очки? Придумать кличку?
Затеять новую игру?
Возможности меня погубят,
Бездельников никто не любит.
Тем более немолодых.
Отец семейства! Боже правый!
Напишет бесполезный стих,
Весь день с какой-нибудь забавой.
Ему не надо выходных,
Он наслаждается отравой
Филологических острот
И булку мягкую жует.
А впрочем – жизнью недоволен,
Сатиры пишет на себя
Сидит, сомнениями болен,
По кругу движется семья;
Столы, диваны, антресоли
Забиты грудами старья
И рукописями, в которых
Сокрыт литературный порох.
Что нужно бедному пажу?
Чижу, картонной канарейке?
Признания? Не нахожу...
Любви? И вздохов на скамейке?
Грозят восьмому этажу
Его фальшивые идейки,
Но управдом, как рыба-кит,
На страже совести лежит.
Поэту надобно волненье,
Когда, открыв свое окно,
Он видит робость и смущенье
Природы с небом заодно,
Когда молчанье – преступленье,
А жить серьезно не дано.
В пылу второго карнавала
Ему, как встарь, простору мало.
Попробуем другой подход.
Октябрь не балует погодой.
Поэт попал в круговорот,
Он жалко тешится свободой,
Но знак запрета у ворот
Следит за мыслями, за модой,
За карнавалом и молвой,
Летающей над головой.
Опять по кругу, всё по кругу:
Редакторы и доктора
Дрожат в бреду, не верят другу
Сегодня, завтра и вчера,
Рукою умывают руку,
И верность новая стара,
И новость старая печальна
И не на шутку карнавальна.
Он ищет выхода. Ему
Уже прописаны лекарства.
Его встречают по уму,
Не замечая лени, барства,
Не спрашивая, почему
Коня меняет он на царство.
Пускай немного поцарит!
Поэт имеет бледный вид.
Ему осточертели шутки,
Кутеж, братания в пивных,
Когда, как деньги, тратят сутки,
А денег нету никаких,
И, ощущая резь в желудке,
Летит он на перекладных
Домой, винясь и проклиная
Медлительность последнего трамвая.
И только здесь, наедине
С растерянностью в мыслях,
Он забывает о вине,
Вине в обоих смыслах.
И снова кажется ему,
Что можно без оглядки
Доверить беглому письму
Грехи и беспорядки.
И кажется, что недалек
От истины, от сути,
Но вдохновение не впрок
Потерянной минуте.
Когда слова еще в долгу,
Не выйти им из рамок
Актерской жизни на кругу
Средь авторских ремарок.
Когда искусством сплетены
Осенние невзгоды,
В них на две трети от вины,
На треть от непогоды.
Мы ошибаемся, когда
Приписываем звуку
Науку тяжкого труда
И песенную муку.
Скорее, слабый перевод
Сердечного томленья
Дрожанием неверных нот
В струне стихотворенья.
Ход времени покоя не дает.
Зима случилась важная такая!
Метель по крышам медленно метет,
И дворник шаркает метлою, засыпая.
На новостях построен Новый год,
И, старый год от зависти скрывая,
Спешу сказать, что новости не впрок,
И прошлогодний позабыт урок.
Искал забавы, ласки, перемены...
Четырехстопный ямб мне надоел.
Я так скажу, что иссушает вены
Обыденность стихов, мечтаний, дел.
Ноябрь чернеет, словно от гангрены,
Последний грач на запад улетел.
Так просто обвинять во всем природу!
И осень осыпает листья в воду.
И жаловаться, вроде, не пристало,
И хочется, как жаворонку, петь,
Не видеть суматоху карнавала,
Твою ладонь дыханием согреть...
Ты слышишь? Это время указало
Иметь в запасе мужества на треть,
На треть – любви, на треть – уединенья,
Рождающего страхи и сомненья.
Мы счастливы. Нам суждено векам
Итог подбить в конце тысячелетья.
На полках разместить музейный хлам,
Указы, прибаутки, междометья,
Пожар Москвы, разноплеменный гам,
Знамен Наполеоновых соцветье,
И завитки Дворцового моста,
И пней дубовых лобные места.
Мы поглядим назад, как астронавты,
И только там, в двухтысячном году,
Под старость нам откроются все карты,
И каждый различит свою звезду,
Сиявшую еще со школьной парты,
Не узнанную нами на ходу.
Звезда моя! Откройся мне до срока
На сферах полудённого Востока!
Поторопи! Направь мои шаги
По городу, где мраморные сфинксы
Лежат, тяжеловесны, как враги,
С которыми по надобности свыкся,
А под мостом у Спаса-на-крови
Круги воды расходятся, как мысли,—
Канал горяч, и пар над ним висит,
И над крестом старуха голосит.
Поторопи меня в другие дали,
Умчи на север, унеси на юг,
Уйми на время все мои печали,
Зажги надежду, погаси испуг.
Горят чужие звезды, как медали,
Растет луна кривая, как лопух.
И жадно смотрит старая Европа
На небеса в окошко телескопа.
Наш мир! Ты так далек.
Людей три миллиарда.
Ты шар, ты номерок
На поле биллиарда.
Настал и твой черед
Лететь в кругу созвездий
Под натиском забот,
Под шорохом известий.
Я твой последний миг
Запечатлел на пленке,
Ты падал напрямик,
Как с новогодней елки.
Так в ночь под Новый год,
В кругу планет холодном,
Настал и твой черед
От солнца быть свободным.
Рождественские дни прошли,
И на ресницы снег ложится,
И фонари насквозь прожгли
Туманы северной столицы,
Чуть выступающей из мглы.
Катят кареты, блещут спицы,
Сияют звезды, а мундир
Чиновника – затерт до дыр.
Век девятнадцатый спокоен,
Небрежен и нетороплив.
Он путешественник, он воин,
Поэт, возделыватель нив.
Он явных почестей достоин,
Но суд к нему несправедлив...
Январь 1969 г.
(1970-71)
У Петропавловки, где важно ходит птица,
Поваленное дерево лежит.
Вода у берега легонько шевелится,
И отраженный город шевелится,
Сто раз на дню меняя лица,
Пока прозрачный свет от облаков бежит,
Горячим солнцем заливает шпили
И долго в них, расплавленный, дрожит.
Скажи, мы здесь уже когда-то были?
По льдистым берегам бродили
И слушали вороний гам?
Наверно, это вечность нас задела
Своим крылом. Чего она хотела?
И эта льдинка, что к твоим ногам,
Задумчивая, подплыла и ткнулась —
Она не берега, она души коснулась,
Чтоб навсегда растаять там.
Живи, апрельский день, не умирая!
Еще и не весна – скорей, намек
На теплый солнечный денек,
Когда, пригревшись, рядом на пенек
Присядем мы, о прошлом вспоминая
И наблюдая птицу на лету.
Когда увидим в середине мая
Поваленное дерево в цвету.
«Завтра, весной, я себя обнаружу...»
Завтра, весной, я себя обнаружу
Тоненьким листиком вниз головой.
Почкой проклюнусь, покой ваш наруша
Криком: «Живой! Я живой! Я живой!»
Завтра, весной! Это будет во вторник
Третьего мая. И там, с мостовой,
Свистом своим отзовется мне дворник.
Значит, живой я! Живой! Я живой!
Завтра, весной, меня дождик погладит,
Скатится капля, к земле приклоня...
Только вот, чистого воздуха ради,
Я вас прошу – не срывайте меня!
«Еще трава растет на свете...»
Еще трава растет на свете.
Давайте бегать по траве,
Как будто маленькие дети
С веселым солнцем в голове.
Еще в лесах не смолкли птицы.
Давайте слушать пенье птиц,
Чтоб в небесах зажглись зарницы
От наших просветленных лиц.
Еще любить не устарело
И целоваться под дождем...
Давайте, раз такое дело,
Смелее жить, пока живем!
Адмиралтейский садик
Еще закован в лед,
А поцелуй твой сладок,
Не поцелуй – полет!
Ты нежная, как ветер,
И так ко мне близка,
Что кажется – на свете
Есть только облака,
Деревья, камни, лужи
И дымка над Невой —
Всё то, что в наши души
Вошло само собой.
«Воздух, струящийся сладко...»
Воздух, струящийся сладко,
Полон легчайших затей:
В нем нарушенье порядка
Улиц, мостов, площадей.
Их очертанья смещая,
Путая лики дворцов,
Он балагурит, смущая
Иногородних жильцов.
Как ему не надоело
Ждать повторений одних
И выдавать то и дело
Стены за тени от них?
Даже привычным прохожим,
Вроде тебя и меня,
Вдруг померещится тоже
Сон среди белого дня.
То ли в нем ты, то ли школы
Гуманитарный уклон?
Венецианской гондолы
Тень у Ростральных колонн...
Ты с картины Ботичелли!
Будет то, что быть должно.
Ведь сходить с ума в апреле
В самом деле не грешно.
Пусть щебечут упоенно
Лета дальнего послы
И Ростральные колонны
Пахнут воздухом весны.
Пусть капель алмазной гранью
Точит лед под козырьком
И не справиться дыханью
Даже с легким ветерком.
Пусть случится что случится!
Нет, не так. Пускай легко
Нам придется разлучиться
Там... когда-то... далеко...
«Легко, мой друг! Апрельски блещут воды...»
Легко, мой друг! Апрельски блещут воды,
Печаль светла, а грусть еще светлей.
Мы счастливы от северной природы,
Хотя немного радостей у ней.
Легко, мой друг! Встречать и расставаться
И знать, что где-то на исходе дня
Губами, как в беспамятные двадцать,
Глазами ты заворожишь меня.
Легко, мой друг! Наш город невесом.
Он, словно парус, плавает в тумане.
Все держится на бликах и обмане,
И ты идешь с таинственным лицом.
«Предчувствие любви прекрасней, чем любовь...»
Предчувствие любви прекрасней, чем любовь.
В нем нет упрека,
Нет шелухи ненужных слов
И повторения урока.
Что там случится? Камень и вода,
Да ночи перстенек мерцает.
Предчувствия знакомая звезда
Горит, смеется, тает...
Ты так свободен в мыслях, что порой
Чужой переиначиваешь опыт,
И сердце, увлеченное игрой,
Заранее воспоминанья копит.
И видит улицу и дом,
В котором на ночь окна тушат,
Где лестницы имеют уши,
И двери отпираются тайком.
(Из Жоржа Брассанса)
Через мостик наискосок —
И сразу найдешь ты свободу.
Дай мне сдернуть твой поясок,
Увести тебя на природу.
Как земля на Пасху тепла!
Я скину сабо, ты – галошки,
И туда, где колокола
Нам звонят чуть-чуть понарошке.
Динь-динь-дон! Выводят так тонко,
Нам с тобою счастье даря.
Динь-динь-дон! Молчи! Я тихонько
Позлатил ладонь звонаря.
Дай мне сдернуть твой поясок!
Помчимся, пьяны от веселья,
Через мостик наискосок,
В это царство цветов весенних.
Среди них – о да, это так! —
Я знаю, какой к тебе нежен.
Не ромашка это, не мак,
Слава Богу, это подснежник.
Вот один, укрытый листвою,
Бархатист, как щечка твоя.
Мы его захватим с собою.
Ты – единственная моя!
Лишь один легчайший прыжок —
И сразу звенит тарантелла.
Дай мне сдернуть твой поясок,
Кружева дай тронуть несмело.
Позлащу ладонь пастушка,
Пускай нам сыграет обаду.
А теперь еще три прыжка,
И меня бояться не надо!
Твоя ножка в зелени бьется.
Луг весенний мягче всего,
А репейник будет колоться —
Я зубами вырву его!
Будет смел и нежен мой взгляд.
Как мы захотим, так и будет.
Если это грех – очень рад! —
Вместе мы отправимся в ад
Через мостик наискосок.
Я молюсь на твой поясок.
Перевод с французского
Воскресные прогулки хороши
Не только потребленьем кислорода.
Полезнее гораздо для души
Узнать в тиши, что думает природа,
Какого рода замыслы у ней
И не прошла ли мода у ветвей
Менять прическу в это время года?
Снег ноздреват и так водой богат,
Что кажется – вода богата снегом.
Водители готовы, говорят,
Отметить ледоход автопробегом.
Мелькнул «Москвич», прошелестел «Фиат»,
Автобус финский неизвестной марки,
Как самолет, стремительный и яркий,
Промчался мимо. Финны в нем сидят.
Свой взгляд на человеке необычном
Остановлю. Чудак! Тепло одет!
Передовик труда, его портрет,
Наверное, знаком мне из газет,
И потому его лицом привычным
Доволен я. Кивну ему: привет!
Меж нами, вроде, разногласий нет.
Я тоже был работником приличным.
Легко, мой друг! Благодарю тебя.
Я до сих пор у памяти во власти.
Ты знаешь, наше время торопя,
Мы слишком редко замечаем счастье.
Сегодня же оно, как никогда,
Во мне резвится, прыгая дельфином,
Заметное ударнику труда,
Понятное, наверно, даже финнам!
«Нас ночь на крыльях подняла...»
Нас ночь на крыльях подняла.
Исакий, погруженный в сон,
Виднелся слева, как скала
В потоке ветреном времен.
А справа, темный, как магнит,
Подковой памятники сжав,
Казанский сохранял гранит
Российских каменных держав.
История сплетала сеть,
Религий царственный покрой.
И мусульманская мечеть
Стояла где-то за рекой.
Но не кресты, не купола,
Не роскошь Спаса-на-крови,—
Нас поднимала и влекла
Одна религия любви.
Она умела с давних пор
Упрятать под ним крылом
И ночь, и город, и собор,
И тени на лице твоем.
«Ты послушай, послушай, послушай...»
Ты послушай, послушай, послушай
Тишину белой ночи моей.
Я печали ее не нарушу,
Подожду, помолчу вместе с ней.
Над фигурами Летнего сада,
Что белеют в прозрачной среде,
Разлилась неживая прохлада,
Разошлась, как круги на воде.
И над Марсовом полем, и дальше,
Над Михайловским замком самим,
Ночь раскинула строго, без фальши,
Облаков позолоченный дым.
А на тихой реке, на Фонтанке,
Укрываясь в пролетах мостов,
Серебром потемневшей чеканки
Отражаются стекла дворцов.
В пустоте маслянистого света
Каждый отблеск свечою дрожит,
И проститься с прохладою лето,
Слава Богу, пока не спешит.
«Когда ночного города часы...»
Когда ночного города часы
Раскручивают тонкие пружины,
Парадные просторны и пусты
И фонарями сплющены машины,
Бегущие по влажной мостовой,
По диабазу площади Дворцовой,
Когда Александрийский столп над головой
Торжественным сияньем обрисован,
Когда шестерка бронзовых коней
Почти срывает с арки колесницу
И белый ветер спящих тополей
Окутывает мраморные лица,
Когда событий утренняя связь
Покажется до странности нечеткой,—
Пройдешь под императорской решеткой
И на мосту закуришь, торопясь.
Неслышно тебя обнимая,
Шепну: – Наконец-то, одни!
Как тихо ты дышишь, родная!
Как бледно мерцают огни!
Одни в этой комнате темной,
Где час пролетает, как миг,
Над нами лишь город огромный,
Он тоже достаточно тих.
Любимая! Шепотом вешним
Позволь мне коснуться лица.
Мы спрятались, будто в скворешник,
Два нежных и теплых скворца.
И, взявши друг друга за руки,
Мы тихие песни поем,
И снова лишь час до разлуки
Пробыть нам осталось вдвоем.
Не бойся звуков. Мы одни.
Нас ночь не замечает.
Ты на моем плече усни,
Пускай нас дождь качает.
Не различаю в этот миг,
Что будет впереди.
От губ твоих, от глаз твоих
Я не могу уйти.
Не торопи меня домой,
Не охраняй меня
От этой радости земной,
От своего огня.
Ни слова мне не говори!
Так было суждено,
Давно погасли фонари,
В твоем окне – темно.
Уже незаметное утро
Дотронулось краешков глаз.
Подумай, как просто и мудро
Природа устроила нас.
Она словно знала, как вечны
Признанья твои и нежны,
Как волосы ночью беспечны,
А губы мягки и влажны.
И, день перепутавши с ночью,
Из сна перенесшая в явь,
Она создала нас воочью,
Из утренней мглы изваяв.
Чертой неуловимою
Мелькнула на стене...
Вернись ко мне, любимая,
И задержись во сне!
Чтоб я тебя, летучую
И зыбкую, как дым,
Ласкал, не веря случаю,
Дыханием своим.
Но не достигнуть голосом
Тебя в такую рань.
Твоим упавшим волосом
Мне стянута гортань.
Милая, вспомни луну!
Сонная пропасть Вселенной
Нам заморочила очи,
Держит нас в темном плену.
Милая, так хороши
Звезды, как дырочки в небе,
Чтобы подглядывать тайно
За состояньем души.
В окна мне бьется волна.
Ночь, точно Черное море,
Так же тепла и бездонна,
И солона, и полна
Негою. Грех небольшой
Сном колыбельным оплачен,
Или оплавлен луною,
Или оплакан душой.
Зыбкий лунатик, как дым,
Вьется на угольной крыше.
Он дирижер наших снов,
Мы их ресницами слышим.
Ночь перенаселена.
Кот, изогнувшись, как арфа,
Что-то мурлычет, а хвост
Держит скрипичным ключом.
Рифма сбежала к другим.
Я не ревную. Напротив.
От одиночества сладко
В комнате пахнет луной.
Легкий лунатик и кот,
Вытянувшись, улетают.
На шерстяных облаках
Рифмы печальные спят.
Господи! Как глубоки
Тайны твои и причины
Взгляда, кивка головы
И мановенья руки.
Автомобиль ночной, как жук,
Шершаво едет под балконом,
Согласно мировым законам
Вокруг распространяя звук.
Луна распространяет сны,
А я кладу их в бандероли,
Рассчитывая в этой роли
Пробыть до будущей весны.
Пускай тебе приснится скрипка,
Кота соседского улыбка,
Луна – и в профиль и анфас
Объединяющая нас.
Пускай тебе приснятся птички
Фотографов, зрачки зверей,
Все запятые и кавычки
Печальной повести моей,
Летающие обезьяны,
Бананы, лунная трава,
Изюм из булочки, туманы,
И талисманы, и слова,
Которые другим не снятся,
Пускай приснится астроном,
Экватор, ария паяца,
Бутылка с марочным вином.
Стихи без рифмы и размера,
Ромашки, Золушкин наряд,
Пиратский флаг, святая вера,
Змей-искуситель, рай и ад.
Пускай приснится наше утро,
Халатик, тени на лице,
Соседи, крест из перламутра,
Моя любовь и я в конце.
Пью вино «Напареули»,
Что осталось от гостей...
В темном городе уснули
Все знакомые давно.
Я один сижу на стуле,
Пью армянское вино.
Хоть бы черт какой приехал!
В одиночку пить не в счет.
Мне поет Эдита Пьеха
Про какой-то поворот.
Хоть бы ведьмочку какую
Сатана прислал ко мне!
Я сижу, сижу, тоскую,
А вино на самом дне.
Вижу: чертик из бутылки
Косо смотрит на меня.
Все заснули, как в могилке.
Спит и ведьмочка моя.
«Затворница! В коробке телефона...»
Затворница! В коробке телефона
Неверный отзвук прозвенит.
Тебе пора проснуться, Персефона,
Обидится Аид.
Несчастлива случайная победа,
Но поражение страшней.
Прикованная к скалам Андромеда,
Обидится Персей.
Мне кажется, что преданность – измена,
Но только головою вниз.
Отдай другому яблоко, Елена!
Обидится Парис.
Уставшему от суеты и крика
И отворившему окно
Орфею – кто там сзади? Эвридика? —
Орфею все равно.
«Так легко принять на веру...»
Так легко принять на веру
Блеск твоих опасных глаз,
Эту музыку, не в меру
Опьяняющую нас.
Так легко поддаться ласке
Или выдумать ее,
Отвечая без опаски
На доверие твое.
В танце медленном и страстном
Так легко, теряя нить,
Молодым, желанным, властным,
Как над пропастью, скользить.
Ты – камушек Вселенной,
Ночной метеорит.
Твой след, слепой, мгновенный,
В душе моей сгорит,
Царапиной отметит,
Звездой в окне блеснет,
Всю жизнь мою осветит,
По сердцу полоснет.
Ты – камушек пространства,
Летучая звезда.
Какое постоянство —
Года, года, года...
Так много в них сиянья
И жгучего огня,
Что ты на расстоянье
Испепелишь меня.
Почему ты мне не пишешь?
Может быть, бумаги нет?
Напиши тогда на крышах
Мне ответ за восемь лет.
Напиши его на свечке,
На заснеженном дворе,
На орешке, на дощечке,
На березовой коре.
Напиши его на шпалах,
На билетах проездных,
На слезящихся вокзалах
И бесслезных мостовых.
Нацарапай, как придется,
Тонкой бритвой на руке.
Кровь по капельке прольется
И засохнет в кулаке.
«Оно почти прозрачным было...»
Оно почти прозрачным было,
Когда взглянул я на просвет, —
Письмо, которое вместило
Десяток строк и восемь лет.
Уже забытый этот почерк
И женский правильный нажим,
И вдруг – молниеносный прочерк,
С которым в прошлое спешим.
Еще конверта не вскрывая,
Припомнить точно день и час,
Когда завеса дождевая
В том августе укрыла нас.
Увидеть странными глазами
И мокрый скверик, и канал,
И зонтик крохотный над нами,
Что тщетно нас объединял.
И лишь припомнив поминутно
Тот день с начала до конца,
Прочесть письмо – спокойно, трудно,
Стирая быстрый пот с лица.
Спасибо, ромашка лесная!
Подсказка твоя прописная
Сегодня и мне помогла.
Гадала ты: «Любит – не любит...»
Шептала: «Погубит... Погубит...» —
Бросала и снова рвала.
Когда лепестки облетели
Подумала ты: «В самом деле...» —
Растерянно так, на ходу.
Не верьте, не верьте приметам!
Но верьте цветам и поэтам,
Хотя бы один раз в году.
Поверьте ромашке, июлю,
Свиданью, дождю, поцелую
И паре рифмованных строк.
Все это как будто не ново,
Но вот уже сказано слово
И с венчика снят лепесток.
Хочу простоты, как воды родниковой!
Уже на губах пересохло от лжи.
Бегу от любви бестолковой
На озеро, где камыши
Шуршат, из воды прорастая.
Качается лодка пустая
И хлюпает днищем, и рыбья блестит чешуя,
Присохшая к доскам...
Хочу простоты, как жилья
Над берегом плоским.
Близнец-рыболов тонкой удочкой машет,
Невидимой леской свистит.
Его поплавок, точно бабочка, пляшет,
А мой, одинокий, грустит.
Послушай, приятель! Скажи мне секрет
Удачного лова.
А он улыбается. Он мне в ответ
Ни слова.
Послушай, приятель! Песок под ногами уходит.
Бесшумная рыба, как сторож, по озеру бродит.
Надменная рыба блестит, как зрачок.
И ты одинок, и я одинок.
Хочу тишины,
Разделенной на две половины,
Как на две струны,
Чтоб у каждого были причины
Молчать до поры, вспоминая о том,
Как падала осень, укрывшись листом,
И что ты сказала.
Давно ли, недавно, а может, весной?..
Близнец-рыболов замахнулся блесной
Устало.
«Вдруг на лестничной площадке...»
Вдруг на лестничной площадке,
Выйдя с другом покурить,
Ты поймешь, что на Камчатке
Никогда тебе не быть.
И, ловя себя на слове,
Что порядок, мол, в семье,
Ощутишь броженье крови
Непонятное в себе.
Это давнее томленье,
Зов морей и диких скал
От себя, как преступленье,
Слишком долго ты скрывал.
Ну, скорей! Лови минуту
Непокорности своей!
Разом – бешено и круто,
Как волне, отдайся ей!
Будешь ждать – не хватит духу,
Скажешь сам себе: каприз!..
И застонет зверем глухо
Лифт, проваливаясь вниз.
«Откроешь встречному судьбу...»
Откроешь встречному судьбу,
Сомнения, догадки.
И нет причины никому
Играть друг с другом в прятки.
Расскажешь все наперечет,
Чтоб жизнь твоя, как птица,
Не знала, завершив полет,
Куда ей возвратиться.
И возникала где-то там —
В Сибири, на Кавказе,
Подобно слову по складам
В чужой дремучей фразе.
«Родившись – о смерти не помни...»
Родившись – о смерти не помни.
Она подождет, подождет
В пробоине каменоломни
И в тесных трясинах болот.
Она затаится в засаде,
До времени спрячется в тень,
Покуда, на время не глядя,
Свершаешь ты собственный день.
Спешишь на работу, с работы,
Влюбляешься, ищешь строку,
Как будто бессмертное что-то
Тебе предстоит на веку.
Как будто получишь минуту
Свой труд оценить и понять,
Вздохнуть облегченно – и путы
Назойливой вечности снять.
Но брезжит под лобною костью
Кристаллом прозрачного льда,
Темнея от гнева и злости,
Внезапная наша беда.
Торопит, заждалась, устала
Вести бухгалтерию лет.
Не скажет, что времени мало,
А скажет, что времени нет.
И все-таки – пой, как поется,
Встречая и празднуя час.
Быть может, и смерть ошибется,
Как ты ошибался не раз.
Читая толстые романы
С интригой или без нее,
Я видел города и страны,
Людей, природу, бытие.
Там бушевали чьи-то страсти
В безумном вихре новостей.
Я им внимал. Я был во власти
Психологических затей.
Блестящ, как офицер на вахте,
Герой судьбой повелевал,
Легко выдерживал характер,
А если нужно, то ломал.
И героиня томным взором
Смотрела на него с укором,
Ждала, надеялась напрасно
И мучалась разнообразно.
Их жизни, сложностью маня,
Как с горки, кубарем катились,
Ко мне никак не относились,
Как будто не было меня.
А я стоял в очередях,
Считая мелочь до получки
И в ценах разбирался лучше,
Чем в театральных новостях.
И если что-то день за днем
Внутри меня происходило,
Оно невыразимо было,
Неописуемо пером.
Оно, как понял я поздней,
Припоминая вехи года,
И было – бытие, природа
С душевной сущностью моей.
Дело в том, что над нами горит Орион.
Я тебе говорю: ты отмечен звездой!
Млечный Путь, словно обруч на бочке пустой,
Окружает мерцание мертвых имен.
Я не помню, когда я родился и жил,
Кто созвездием тесным меня окружил,
Кто летел надо мною, бесшумно паря,
В ледяной, неземной пустоте января.
Почему же тебя, мой неузнанный брат,
Полюбил, погубил ледяной звездопад?
На коротком отрезке, прочерченном вбок,
Как царапину сердца, оставил ты срок.
Вычисляя порядок небесных светил,
Я забыл твое имя и путь твой забыл,
Чтобы вновь повторить, как заученный жест,
Круговое движенье сияющих звезд.
Так гори, Орион, на скрещенье путей
Указателем воли забытых людей!
Оставляй нам надежду на лучший исход,
От рожденья до смерти и дальше – в полет!
Я жизнь проживу такую,
какую смогу.
Когда мое сердце
вырвется на бегу,
Когда тишина наступит,
и упадет звезда,
Вырастет дерево
из моего следа.
Я жизнь проживу —
дыханье закончит вдох,
Чтоб я, даже мертвый,
последний шаг сделать мог,
Чтобы упасть лицом
и слышать, как за спиной
Вытягивается дерево
тонкое
надо мной.
Я жизнь проживу такую,
какую смогу.
Лица не сберечь —
сердце свое сберегу,
Корнями сосудов
опутанное в клубок,
Чтобы взошло мое семя,
и деревом стал росток.
Ты знаешь, что клоуны – самые грустные люди?
А клоун со скрипкой – философ, чудак, нелюдим.
Не надо смеяться, когда он дурачиться будет!
Посмейся немного – он снова сегодня один.
Ледышка, синичка, ты рано отвыкла от цирка!
Пройдем за кулисы. Философ сложил чемодан.
Он едет домой, а дома уборка и стирка,
Он спрятал парик и щеки оттер от румян.
Пока он идет по проходу, прощаясь со львами
И кланяясь тиграм (им тоже невесело жить),
Оттайте, ледышка! Он хочет увидеться с вами,
А впрочем, не стоит. Ведь клоуну надо спешить.
Но если хотите – свою он продолжит работу,
Чтоб вы рассмеялись, он снова наденет парик.
Но вот не выходит, не получается что-то.
Он к желтым опилкам и свету арены привык.
А здесь за кулисами он, словно жалкий любитель,
Размахивает руками, фонтаны пускает из глаз...
Ходите в театр, синичка! Шекспира цените!
Стихи изучайте! А цирк – для детей, не для вас.
Я не отвечу, промолчу
И в темноте прихожей
Лицо улыбке научу,
На бабочку похожей.
Пускай садится на уста,
Пуста и бесполезна,
Как тень кленового листа
На желобе железном.
Пускай покажется такой,
Обманывая душу.
Я буду вежлив и покой
Печалью не нарушу.
Я буду тихим, как во сне,
И пить я буду в меру,
И так счастливо будет мне
По вашему примеру.
И так покойно и легко,
Что удивлюсь послушно,
Услышав где-то далеко
Свой голос равнодушный.
Ты спросишь, почему
Тревожно так на свете?
Тебя я обниму
И не смогу ответить.
Твоих касаясь век
Горячими губами,
Скажу, что этот век
Еще не прожит нами.
Скажу: веселой будь!
Им хорошо живется.
Скажу: когда-нибудь
Все в мире утрясется.
Добавлю, может быть,
Уже неторопливо,
Что детям нашим жить
Достанется счастливо.
Вахтангу Кикабидзе
Не горюй!
Наша жизнь – не награда.
На нее обижаться не надо.
Лучше выпей сухого вина,
Чтобы краше казалась она.
Лучше песню запой да спляши,
Чтобы стекла вокруг задрожали
От неловких движений души,
Отыскавшей отраду в печали.
Не горюй!
Горевать – это просто.
Ты мужчина высокого роста.
У тебя благородство и честь,
И друзья неподкупные есть.
Так пусти эту чашу по кругу,
Осуши нашу радость до дна!
Мы в глаза поглядели друг другу.
Не горюй!
В них надежда видна.
В.П.
Сегодня чертова погода.
С чего начать мне разговор?
Друзей все меньше год от года,
Но это, право, не в укор
Тебе, мой друг необходимый.
Тебя я потерял давно,
Поэтому мне все равно,
С кем проведу я эту зиму.
Сегодня снова, как тогда,
Висят на небе провода,
Вовсю оттаивают стекла,
Запахло гриппом и цингой,
Дорога черная намокла
И шевелится под ногой.
Весна накапливает ярость,
Она в конюшне застоялась.
Я написать тебе готов
За десять лет десяток слов.
Мой слог понятен стал и скучен.
Добропорядочность в крови.
Как говорит мой визави,
Я протяженностью измучен,
Ленивый, как портновский метр.
Но впрочем, ты не геометр!
Мы говорили слишком тихо.
Теперь совсем не говорим,
Как будто кончилась интрига,
Любовник цел и невредим.
Мы говорили слишком тонко
И, зная подлинность стихов,
От разговоров ждали толка,
Как возвращения долгов.
Теперь и это надоело!
Ищу цитаты то и дело,
А на дворе стоит февраль,
И календарь открыл кавычки.
Пишу статьи, ломаю спички
И мне Онегина не жаль.
Он перепутал все на свете,
Явившись мне в кордебалете.
И я спешу, пока могу,
На целый год наговориться.
Я тоже у тебя в долгу
И в девятнадцать, и под тридцать.
(Предельный возраст для мечты,
Как говорил когда-то ты).
Теперь, немного успокоясь,
Я в прошлом, как в воде, по пояс.
Опять я вспомнил анекдот.
Неужто это все пустое?
Вот я пишу, как Дидерот,
С оптимистической тоскою.
Я научился рифмовать:
Врагу – могу, собаки – враки.
И все-таки был прав Бетаки,
Он знал, что надо рисковать!
А мы, невольники размера,
Сложили свой иконостас
От Кушнера и до Гомера
Протянутый, как ватерпас.
Но восхищения не видно.
Мы ретроградствуем в тиши.
Ты приуныл? Тебе обидно?
Молчи, скрывайся и... пиши!
Пиши! И тут не оговорка.
Чужие строчки, как свои.
Бреши, критическая сворка!
Я кинул кость тебе, возьми!
Моя не виновата Муза,
Она пока не член Союза.
Вольнонаемная она,
И этим, видимо, сильна.
Старик, прости мне этот слог.
Я лучше выдумать не мог.
Зато вовсю повеселился,
Я целый месяц не писал.
Как говорится, бес вселился
И графоманией связал.
На самом деле, я серьезно
Пишу тебе, пока не поздно.
Итак, я начал о погоде,
Но закругляться надо, вроде.
У нас готовится весна.
А что у вас, на Ординарной?
Облеплен снегом столб фонарный,
Ему, конечно, не до сна.
Сегодня я в своей тарелке
Сижу, как снайпер в перестрелке.
Сегодня снова, как тогда,
Когда нас не было на свете,
Горланили повсюду дети,
Был праздник, падала звезда,
Был праздник. Медною трубой
Он выводил такие звуки!
Дрожали губы, пели руки,
А рядом жили мы с тобой.
Я думал, что тебя теряю.
Дождавшись, наконец, письма,
Теперь я тихо повторяю:
«Какая долгая зима!»
И в этом тихом восклицанье
Слились февральские ветра,
И праздники, и прорицанья,
И разговоры до утра
С самим собою на бумаге,
Осточертевшие бедняге!
Мы пробираемся впотьмах.
Нас мучит дьявольская пытка.
Казалось бы, еще попытка,
Еще один, последний взмах
Пера – и формула готова.
В ней, как всегда, всего три слова.
Любовь, свобода и покой...
По-прежнему в руках – синица,
Свобода борется с тоской,
Покой? Покой нам только снится.
Мы говорим: когда-нибудь!
Но мальчики в кудрявых космах
Толпой загадочной, как космос,
Затопчут незаметный путь.
Подальше от возни мышиной!
Стихи раздавлены машиной,
Их убирают на чердак
Шпион, редактор и дурак,
Садятся рядышком за столик
Дурак, шпион и алкоголик,
Все трое дышат в телефон:
Дурак, редактор и шпион.
Тебя, невольный сын эфира,
Списали временно в резерв.
Ты, как монах, ушел из мира,
Пощекотав немного нерв
Тишунину и иже с ними,
Друзьями тихими моими.
Ты скажешь, как всегда: эпоха...
Все перепуталось... Пора
Молчать от вздоха и до вздоха,
И завтра будет, как вчера.
А я отвечу, что дела,
Что денег нет, но все в порядке.
Решаем вечные загадки
Над вечной плоскостью стола.
Казались противоположны
Подходы наши: ты стратег,
Я тактик. На посылки ложны,
И здесь решает третий снег,
Который медленно, но верно,
На одинаковых правах
Объединяет нас навечно,
Как дождь в кривулинских стихах.
И почта давняя по кругу
Февральскую минует вьюгу,
Но только за четыре дня
Доходят письма до меня.
... Читатель мой! Храни бумаги!
Пускай они лежат в пыли,
Как в трубку свернутые флаги
На корабле вдали земли.
Храни их так, на всякий случай,
На случай гибели летучей,
Когда придется среди скал
Тревожный передать сигнал.
Или когда на горизонте
Земля распахивает зонтик,
Чтобы ими, словно благодать,
Сигнал победы передать.
Храни бумаги и записки,
Стихи подальше убирай,
И в тайны нашей переписки
Неукоснительно вникай.
Биографические знаки,
Приметы времени и мест
Весьма полезны для зеваки,
Которых пруд пруди окрест.
Но ты, внимательный читатель,
За ними душу примечай.
Душа бессмертна. (Это кстати,
Чтоб ты, приятель, не скучал.)
Старик, сегодня тишина.
Твой третий снег лежит на крыше.
Что ты ответил – он не слышал,
Ему подробность не важна.
Он слышал – как. Он бессловесен,
Но зная музыку твою,
Ему других не надо песен,
Как оттепели – февралю.
Итак, я завтра уезжаю,
Портфель вещами нагружаю.
Героя худенькая тень
Качнется за стеклом вагонным.
Лечу в Москву по перегонам,
И лень писать, и думать лень.
Полезна эта терапия
От искусительного змия,
И, если истина в вине,
Она пользительна вдвойне.
... Всю ночь на полке боковой
Болтался я полуживой.
Какой-то пьяный мужичок
Кричал про сельское хозяйство,
Где «произвол и разгильдяйство»
А я никак заснуть не мог.
Как будто заново родившись,
Два века повернув назад,
В Москву я ехал, как Радищев,
Глубокой думою объят.
Москва меня встречала солью
Без хлеба. Соль – на мостовой.
Я удовольствовался ролью
Смешаться с уличной толпой
По улицам и переходам,
По эскалаторам метро,
Несомый бережно народом,
Как по течению – перо.
Вокруг дышала и рвалась,
Теснилась, путалась, дралась,
Стонала, дергалась, текла
Среди бетона и стекла
По Пушкинской и по Неглинной,
Кузнецкий вверх, Петровка – вбок,
Потоком, саранчой, лавиной,
Мильоном рук, мильоном ног,
Как твой мотыль в стеклянной плошке,
Который рыбам – для кормежки,
Передо мной, во мне, слепа
Плыла толпа, толпа, толпа!..
Валерка, я не видел глаз!
Их блеск божественный угас,
Подернутые мглой тумана,
Как птичьей пленкой, как белком,
Без мысли, даже без обмана,
Глаза брели себе пешком
И взгляды мертвые свои
Тащили сзади, как шлеи.
... И вправду, было очень сыро.
Снег навалил до самых плеч
А после, вроде дезертира,
Смываться начал, таять, течь.
Месил я жирные дороги
И в «Юность» обивал пороги.
Сказали (пара реверансов,
Чтоб мне пилюлю подсластить),
Что, мол, в чести у ленинградцев
Манера – отчужденным быть
И прятаться за ширмой слов,
Когда хоть в петлю ты готов,
Что это грамотно, но скушно...
А впрочем, встретили радушно.
Какой-то юноша с тетрадкой
Ждал очереди на разнос
И думал, видимо, украдкой,
Что он бессмертное принес.
Тут некогда сидел и я,
Но вреден возраст для меня.
Все строки – вольные, святые,
Простые, сложные, худые
Уже написаны давно.
Мы повторим их, если сможем,
И аккуратно в стол положим,
Где им уютно и темно.
Вот комментарий мой к письму:
Москва, мещанская столица,
Блестит, ласкает, веселится
В своем стоглавом терему.
Советский труженик – в порядке,
Как ангел. Крылышки торчат.
И только юноши в тетрадки,
Строчат. О чем они строчат?
О чем строчат они ночами,
Обуреваемы речами?
О чем строчим и мы с тобой,
Поэт необходимый мой?
Необъяснимая тревога,
Как чернила, разлита.
Война ли, дальняя дорога,
Полосатая верста?
И волосатый страх на теле
Родной, незнаемой страны,
А ты еще – про Вигорелли!
Смотри, как бы тебя не съели
На масленицу, под блины.
И каждая статья – как рана,
И каждый слух долбит висок.
Как летчик, выйдя из тарана,
От смерти мы на волосок.
А наши четверо детей
Еще не знают новостей
Других, – как мир устроен честно,
В нем ни войны, ни страха нет.
Повсеместно и прелестно:
Ночью – темень, днем – свет
И эта строчка в феврале
Погасла угольком в золе...
Февраль 1970 г.
(1970-71)
«Друг осенний, драгоценный!...»
Друг осенний, драгоценный!
Лист кленовый – ломок, сух.
Мы одни во всей Вселенной
На ветру, осенний друг.
Крови нет в твоих прожилках,
Мой осенний верхолаз.
Ветки тонкая развилка
Ненадежно держит нас.
Сведены одной судьбою,
Если только захотим,
Мы продержимся с тобою,
А сорвемся – полетим
Над землей, над едким дымом,
Сизым вьющимся кольцом, —
Ты с лицом неуловимым,
Я с доверчивым лицом.
Тихая осень случится.
Нам, наконец, повезет.
Слышишь? Какая-то птица
Мягкими крыльями бьет.
Не называя причины
Летних страстей и обид,
Осень, как нож перочинный,
Лезвием тонким блестит.
Кажется, тронь паутины,
И ощутишь на руке
Тени неясной картины,
Видимой там, вдалеке.
Словно штрихи на ладони,
Эти приметы судьбы,
Расположились на склоне
Клены, березы, дубы.
Что ж, загадаем до встречи
Время осенних смотрин
Листьев, упавших на плечи
В легком кругу паутин.
Вот роща виновато
Открылась, всем видна.
Словами небогата
И мыслями бедна.
Не пробегают звери,
И птицы не свистят.
Деревья, точно двери,
Ворочаясь, скрипят.
Из норки только мышка
Блестит глазком на мир.
Вся роща, точно книжка,
Зачитана до дыр.
В природе своя дисциплина.
Огнем по команде горит
В лесу строевая осина,
А гриб от разведки укрыт.
Рябина, взметнувшая круто
Свой горький и праздничный цвет,
Раскинула гроздья салюта
Из красных и желтых ракет.
Вот дуб, поржавевший без смазки,
Готовит десант желудей.
Сейчас они в пробковых касках
Попрыгают в руки детей.
И клюква во мху, как пехота,
Рассыпана перед броском.
Форсировать это болото
Приказано клюкве ползком.
Под елкой, командуя боем,
Кружком мухоморы стоят,
А сзади неправильным строем
Ряды новобранцев-маслят.
Летучих семян самолеты
Расправили крылья свои,
И выстрелы дальней охоты
Звучат, дополняя бои.
Никакого просвета,
Все дожди да дожди.
Вот и кончилось лето,
А другого не жди.
Красный лист на осине,
Как флажок на пути.
Это стрелочник синий
Не дает мне пройти.
Оглянись и запомни
Все живое вокруг.
А казалось бы, чту мне
Эта речка и луг?
Это хлебное поле
И соломенный стог?
Я прощаюсь без боли,
Слава Богу, что смог.
То ли зрелость рассудка,
То ли счастье души?
Задержись на минутку
И слезу задержи.
В тиши первобытной природы,
У целой Земли на виду
Пронзительным криком свободы
Я душу себе отведу.
Я вспомню не слухом, а кожей
Призывный охотничий крик,
Шальной, ни на что не похожий,
Что сам в моем горле возник.
Я крикну, как в черную бездну,
И буду ответа я ждать,
Покуда с земли не исчезну,
Не стану Природой опять.
Сидим и курим на скамейке,
А дождик сыплет, как из лейки.
Старушки толстые, как Швейки,
Поспешно семенят в подъезд.
Мне дела нет, что сигарета
Легчайшей капелькой задета,
Что где-то ждут тебя, а лето
Ушло из наших мест.
Нас разделяют только годы,
Но годы хуже непогоды.
Еще не пробил час свободы,
Чужой петух не прокричал.
Заигрывает дождь с рябиной
И шепчет ей с серьезной миной,
Что в нашей песне лебединой
Начало всех начал.
Так что же? Будем веселиться!
Смотри, как резво серебрится
Дождя отточенная спица
И протыкает наш клубок
Семейных драм, пустых запретов,
Прощаний, проводов, приветов...
Продлить бы надо это лето,
Но я совсем не бог!
Скажи: до встречи! Я отвечу,
Что нам остались только речи.
Замечу с грустью я, что плечи
Твои – уже не для меня.
Так будь же счастлива с другими,
С недорогими, с дорогими.
Мы выйдем из воды сухими,
Не выйдя из огня.
Что еще нам с тобою осталось?
Разве только сегодняшний день.
Потому все длиннее казалась
Уходящего времени тень.
В холодеющих сумерках лета
Различаю тебя все слабей.
Желтый лист, как дурная примета,
Светлой пряди коснулся твоей.
На ресницах твоих, как росинки
Подступивших туманов с реки,
Две слезы, две прозрачных слезинки
Задрожали, по-детски легки.
И когда на созданья природы
Тишина опустилась всерьез,
Лишь кукушка считала нам годы,
Но теперь уже каждому врозь.
(Из Поля Верлена)
В тиши плач души
Под шорох дождя.
Что за странность, скажи,
Вдруг коснулась души?
О песня дождя
По земле, над землей
И в душе, что грустя
Слышит песню дождя.
В тиши этих стен
Заглуши плач души.
Что? Нет измен?
О, грусть этих стен!
Какая печаль!
Не узнать, почему
Любви мне не жаль,
И в душе лишь печаль.
Перевод с французского
«Я вдруг почувствовал, что старость...»
Я вдруг почувствовал, что старость
Уже совсем недалеко.
С утра какая-то усталость,
И жить, и думать нелегко.
В душе планируешь поступки
И, заполняя делом дни,
Вполне согласен на уступки,
Когда к спокойствию они.
Отбросив риск, забыв про смелость,
Ты, кажется, уверен в том,
Что наконец пришла, мол, зрелость,
Но зрелость вовсе не при чем.
Ты просто душу защищаешь,
Но пригодится ли она,
Когда страдания не знаешь
И страсти не испил до дна?
«Приснится серебряный иней...»
Приснится серебряный иней
На легкой, летучей траве.
Утерянный, утренний, синий
Следок на соленой тропе.
Холодные, гладкие сучья,
Как груда костей под кустом,
Ручья паутина паучья,
Покинутый беличий дом.
Случайное солнца в просвете,
На время, на веру, на час,
И памятью зоркой о лете
Рябины разбойничий глаз.
Сентябрь, осенний брат!
Неужто нам за тридцать?
В тебе я снова рад
Душою раствориться.
Тебе лишь одному
Скажу без сожаленья,
Что сердцу моему
Не нужно вдохновенья.
Не нэжны мне стихи.
Слова бедны и стерты.
Леса твои тихи,
Они ко мне простерты.
У них такая стать,
Что невозможно словом
И звуком описать
Цвет золота в багровом.
И перекрест ветвей,
Сухих листов скольженье,
Скорей, души моей
Немое продолженье.
«Гордись, что родился не зря...»
Гордись, что родился не зря
И в ясной сени сентября
Увидел новые приметы.
Гордись, что твой скупой словарь
Был так же беден, как и встарь,
А песни до конца не спеты.
Гордись, что помыслы лесов
Пружинкой тайною часов
Ритмично подвигали время.
Гордись, что радость и печаль,
И ту, неведомую даль
Делил ты поровну со всеми.
Гордись и тем, что беден был,
Как лист, летящий вдаль без крыл,—
Багровый след по золотому,
Как медный отсвет сентября,
Как эта блёклая заря,
Без слов понятная любому.
За окном дожди грибные
Утром, вечером и днем.
Если б не жил я в России,
Я бы тоже стал дождем.
Я бы тучкой синеватой
Проплывал над той страной,
Где родился я когда-то
Перед прошлою войной.
Я смотрел бы долгим взглядом
На Россию с высоты.
Все деревни были б рядом,
Все дороги и мосты,
Все леса, поля и нивы...
И повсюду на Земле
Люди жили бы счастливо,
Улыбаясь снизу мне.
Плыл бы я дождем желанным,
А потом когда-нибудь
Я упал бы безымянным
Тихой родине на грудь.
Какой жестокий свет,
Осенний свет разлуки!
Любви в природе нет,
Есть точные науки.
Просвеченный насквозь
И видный отовсюду,
Живу с душою врозь,
Не доверяю чуду.
Сентябрь как мой судья
И строгий аналитик
Мне доказал, что я
Не более, чем нытик.
Теперь, как геометр
С блестящими глазами,
Тяну портновский метр
Над полем, над лесами,
Над осенью самой,
Измеренной так ловко...
Стих кажется судьбой,
На деле – лишь сноровка.
На меня предъявляют права
Две-три женщины, дети, Марина,
Листопад, мелкий дождик, рябина,
Летний сад, Медный Всадник, Нева.
Перед ними я в равном долгу.
Потому-то, наверно, бесправен,
Что живу как придется, без правил,
Но иначе я жить не могу.
Сохраняющий верность себе,
Ты меня непременно осудишь!
Я на редкость покорен судьбе,
Ты вовеки покорным не будешь.
Находя удовольствие в том,
Что случилось как будто случайно,
Я доволен судьбой чрезвычайно,
Но меня понимают с трудом.
Разве плохо опять и опять
Воздавать всем грехам понемногу,
А потом уже, кончив дорогу,
Только верность земле сохранять?
Летний сад. Пиковая дама.
Листопад. Маленькая драма.
Он, она. Объясненье, скука.
Муж? Жена? Близкая разлука?
Голос был, женщина сказала:
«Нету сил. Если бы я знала!»
Лист упал, медленно вращаясь.
Муж сказал: «Я с тобой прощаюсь».
Дуб и клен. Статуи, аллеи.
«Я влюблен. Мучаюсь, болею».
«Ну, а я? Что со мною станет?»
«Слезы зря. Это очень старит».
Листопад. Аполлон, кифара...
«Говорят: мы такая пара!»
«Это так. Уваженье, дружба...»
«Ты чудак! Мне не это нужно!»
«Может быть, мне удастся все же
Позабыть?..» – «Это не поможет».
«Подождем?..» Мраморные люди
Под дождем думают о чуде.
Летний сад. Маленькая повесть.
Листопад и больная совесть.
Он, она. Ревность и измена.
Муж. Жена. Все обыкновенно.
Он налил в чашку черного кофе,
Он налил молока в чашку с кофе,
А потом два кусочка сахару
В кофе он положил с молоком.
Он мешал кофе маленькой ложкой,
Он потягивал кофе из чашки,
А потом отодвинул чашку,
Мне ни слова не говоря.
На меня не взглянув ни разу,
Он зажег свою сигарету
И, пуская кольца из дыма,
Осторожно стряхивал пепел.
А потом он поднялся со стула,
Он надел не спеша свою шляпу,
Он накинул свой плащ и вышел.
Он ушел от меня под дождем.
На меня не взглянул ни разу,
Не сказал на прощанье ни слова...
Я, упрятав лицо в ладони,
Тихо плакала по нему.
Перевод с французского
Искусство прощать позабыто.
Мы к жалости стали глухи.
И цедим сквозь мелкое сито
Свои и чужие грехи.
Когда все нужнее прощенье
И все виноватее взгляд,
Напрасно ты жаждешь отмщенья.
Подумай, что годы летят.
Хотя бы в минуту прощанья
Прощение мне обещай.
Ведь я не сказал: до свиданья!
– Прощай! – попросил я.
– Прощай!
Другими глазами гляжу
На поле, на лес за рекою.
Кому я шепчу: – Ухожу!..
Кто хочет проститься со мною?
Еще раз вернуться сюда,
Кто знает, когда доведется?
Осока блестит, как слюда,
И к берегу темному жмется.
По заводи, как по стеклу,
Бесшумно скользят водомерки
И усики тычут в иглу
Сосновую – так, для проверки.
Как странно! Неделю прожить
И этих чудес не увидеть!
И в спешке (куда нам спешить?),
И поле, и реку обидеть.
Скажи, у кого мы крадем?
Природе, поди, безразлично,
Что мы, не увидев, уйдем
Степенно, спокойно, привычно.
Она для других сохранит,
Умножив на новых примерах,
Осоки загадочный вид,
Таинственный мах водомерок.
«Не знаю, что может быть проще...»
Не знаю, что может быть проще
Осенней щемящей земли,
Когда осыпаются рощи
А в небе скользят журавли.
Какая иная картина
Могла бы собой заменить
Поля, где плывет паутина
И осень прядется, как нить.
И счастье какое способно
Встать с этим хотя б наравне,
Чтоб родину видеть подробно,
До зернышка в колкой стерне?
Не подвластен я факту рожденья
И сплетению родственных уз.
Среди вас я подобен растенью:
Я ветвями за небо держусь.
Вы не знали меня, но любили.
Посвящу благодарственный стих
Вам за то, что меня не пилили
И корней не рубили моих.
Справедливости ради, замечу,
Что почтенный родительский дом
Не всегда понимал мои речи,
А когда понимал, то с трудом.
За меня заступалась природа,
И звезда охраняла меня.
Не печальтесь! Семья без урода —
Ну, какая же это семья?
Вот я вырос, как дерево, беден.
Листья шепчутся, ветви шумят.
Я для вас совершенно безвреден,
Бесполезен мой жалкий наряд.
Вы простите, но деньги и славу
В мир растений никак не внести.
У деревьев есть лучшее право:
Каждый год, как впервые, цвести!
Мой друг, не верь словам случайным!
Их смысла явного стыжусь.
Каким бы ни был я печальным,
Тебе веселым покажусь.
Каким бы ни был я серьезным,—
Я легкомыслен на словах.
Так дождик не бывает грозным,
Когда он зашумит в ветвях.
И, лишь прислушиваясь к звуку
Отдельных капель над собой,
Ты все поймешь: и стыд, и муку,
И грех необходимый мой.
Я спокоен, поверьте!
Я, как слон, толстокож.
А раздумья о смерти —
Это явная ложь.
Я скажу по секрету
Пару ласковых фраз:
Мне решительно нету,
Нету дела до вас.
Я доволен минутой
И доволен судьбой.
Если плохо кому-то,—
Пусть! Я занят собой.
Я в бирюльки играю
И смеюсь, как дитя.
Я бумагу мараю,
Непременно шутя.
И строка, что печальна
Получилась на взгляд,
Получилась случайно,
Без душевных затрат.
И слеза, что блеснула,—
Не от ветра ли? Нет?
Я спокоен как дуло.
У виска – пистолет.
Маленькая поэма
Глебу Семенову
Автобус вздрогнул и пошел,
Угрюмый, как таран.
Он разрезал ночной туман
Ножами острых фар.
Вот вдалеке возник пожар:
Медлительный закат
Бросал насторожённый взгляд
На дальние поля.
Лежала стылая земля,
Продутая насквозь.
Мы с ней так долго были врозь,
Что я забыл язык.
И голос сник, и глаз отвык
От серых деревень,
Бросающих косую тень
Почти за край небес.
Невидимый и мрачный лес,
Клонящий в сон мотор
Меня втянули в разговор,
Намеченный едва.
Блестела редкая трава
За световой стеной,
Посапывал сосед ночной
На жалобный манер.
Откуда взялся тот размер,
Которым говорю?
Губить вечернюю зарю
Поможет странный ямб,
Хромающий при свете ламп,
Как пьяный инвалид, —
Кривая тень его летит,
Перемещаясь вбок.
Печален родины урок,
Ночной тревожный гул.
И ты, покуда не уснул,
Все голову ломай.
Автобус мчится на Валдай,
Ямщик припал к рулю,
И те, которых я люблю,
Покинули меня.
Что было ясным в свете дня,
Обманчиво-простым,
Тяжелым воздухом густым
Мне сдавливает грудь.
Куда лежит незримый путь?
Кто караулит нас?
Еще один огонь погас,
Последний, может быть.
Но надо жить, и надо плыть
Среди кромешной тьмы,
Спешить от лета до зимы,
До старости – туда,
Где светит дикая звезда
Над родиной моей...
Нет, не туда, еще левей,
Еще больней, еще...
Соседа вечное плечо,
Его могучий сон
Напоминают: есть резон
Послушать голоса.
Когда слипаются глаза,
Когда покой и тишь,
Не спать, не спать, а слушать лишь
Души неясный звук.
И я не знал душевный мук
И спал беспечным сном...
Вот промелькнул аэродром:
Огромный бензовоз
В огнях посадочных полос,
Тревожащих лицо,
Как мамонт, загнанный в кольцо,
От ярости дрожал...
И я не жил еще – бежал,
Блистательный спортсмен,
Еще готов был на размен
И сердца, и ума,
Еще как будто ждал письма,
В котором некий бог
Уведомить меня бы мог,
Что вот я – победил.
Но триста лошадиных сил
Хрипели в глубине,
Деревни спали в стороне
И ночь была сильна.
Лежала целая страна,
Храня слепой покой,
Но не дотронуться рукой
И не остановить.
Летим, плывем... «Куда ж нам плыть?»
Неслышимы никем.
В нагроможденье вечных тем
И вечных неустройств.
Душа полна ненужных свойств,
Сосед мой крепко спит,
Но тот, кто Богом не забыт,
Не должен век смежать...
Еще не утро, но дышать
Приятно самому.
Прилежно рассекая тьму,
Увидеть робкий свет.
Автобус встречный сотню лет
Оставил позади,
А ты оставил боль в груди,
И значит, – уцелел..
Встречай рассвет! Немного дел
Достойных, чтобы жить,
Спешить, и память ворошить,
И выживать с трудом.
Но если пересохшим ртом
Не повторять слова,
То потеряешь все права
На завтра, на потом.
Август 1970 г.
«Расскажи мне что-нибудь такое...»
Расскажи мне что-нибудь такое,
Чтобы все кончалось хорошо.
Хочется душевного покоя,
Хочется покоя за душой.
Не к тому, что страсти надоели
И переживанья не с руки.
Хочется покоя, в самом деле,
Чтобы мысли были высоки.
В сущности, устойчивое что-то
Надобно для отдыха души.
Говори: семья, жена, работа...
Главное, о детях расскажи.
Положи мне руку на висок.
Слышишь, жилка синяя трепещет?
Мой удел, и вправду, невысок.
Поважнее есть на свете вещи.
Положи мне руку на глаза.
У меня под веками зарницы.
Отшумела, отошла гроза.
Почему же мне никак не спится?
Я еще живой, и ты жива.
Улыбнемся радостно друг другу!
Мы вдвоем, и не нужны слова,
Только кровь стучит как бы с испугу.
Кто придумал, будто смерти нет?
Быть бессмертным – это некрасиво.
На твоих ресницах мягкий свет,
И рука горячая на диво.
Мы будем длиться лишь мгновенье
Среди бесчувственного сна.
Придут другие поколенья,
Забудут наши имена.
Когда внимательный потомок
Увидеть пожелает нас,
Что он найдет среди потемок
Без наших лиц и наших глаз?
Набор случайнейших предметов,
Обрывки писем и бумаг
Он соберет, и будет это
Похоже на универмаг.
Там будет все: тарелки, ложки,
Носки, ботинки, стопки книг,
Электробритвы, кольца, брошки...
Не будет только нас самих.
Не будет радости и горя,
Рассудка, совести и лжи,
Души, что век с собою в споре.
А что мы значим без души?
Трамвайной молнии свет
на миг озарил меня.
Увидел: за много лет
не прожил и дня.
Увидел, как видит блиц,
мерцание мертвых лиц,
недвижный, как тень, листок
и мост, уходящий вбок.
Трамвайной молнии свет
короток – памяти нет.
Печать на мосту, как след, —
поэт, пешеход, скелет.
Мы празднуем только миг,
мгновенный, как тень листа.
Трамвайной молнии крик
уже улетел с моста.
Уже оторвавшись от грешной Земли,
Я всю свою жизнь обозрел наудачу.
Я слезы берег, но теперь не заплачу.
Как счастлив я был! Что за годы прошли!
Я вспомнил, как небо манило меня
Сверкающей бездной, как черные крылья
Легко прорастали во мне без усилья
Губящими свет языками огня.
В том черном огне, что горит за спиной,
Сгорели любовь моя, ненависть, сила,
И небо висит надо мной, как могила,
И нет в нем огня, и звезды ни одной.
Теперь в небесах только воля да ночь,
Да теплой Земли восходящие токи.
Заря розовеет на Дальнем Востоке,
Но так далеко, что не сможет помочь.
Умру я – соберитесь
Все вместе за столом,
Но пить не торопитесь,
Оставьте на потом.
Окиньте трезвым взглядом
Весь мир, что я любил,
Людей, что были рядом,
Пока я с вами жил.
Пускай теперь могила
Меня погрузит в мрак.
Простите, если было
Меж нами что не так!
Мы жили, как умели,
Но черт меня возьми,
Мы главное успели —
Живыми стать людьми.
И если смерть украдкой
Взяла кого из нас,
Дружище, все в порядке!
Не надо прятать глаз.
Я не оставлю детям
В наследство ни гроша.
Останется на свете
Одна моя душа.
Она придет к вам снова
В дни счастья и беды.
Придет, как это слово
Пришло из темноты.
Меня вы не жалейте,
Жалеть меня нельзя.
Ну, а теперь налейте,
Налейте всем, друзья!
«Свет сентября, прозрачный свет осенний...»
Свет сентября, прозрачный свет осенний
Освободил мне душу от трудов,
Хотя что может быть обыкновенней
Начала осени и первых холодов?
Вот облако проходит утомленно
Над рощей, порыжевшей на краю,
А я легко и умиротворенно
Смотрю на жизнь прошедшую свою.
Кружится лист, тревога опадает,
Как роща, обнажается душа.
Над полем птица сонная летает,
И молодость уходит не спеша.
Что прошлое? Его уж не поправить.
Свет сентября прозрачен и жесток.
С самим собою незачем лукавить, —
И в этом главный, может быть, итог.
Поэтому, легко и беспристрастно
Обозревая свой недолгий путь,
Я говорю: жизнь все-таки прекрасна!
И думаю: зависит, как взглянуть...
(1970-72)
Он будет собирательным лицом.
Военный летчик был его отцом.
Его мамаша вышла из крестьян.
Так, воля ваша, я начну роман.
Двадцатый век и сорок первый год.
Вот бабушка к герою подойдет
И перекрестит личико его,
А до войны пять месяцев всего.
Героя от бомбежки прячут в щель.
Теперь он тоже маленькая цель.
Он ищет грудь, губами тычась в тьму,
И хочет выжить вопреки всему.
Ну что ему осталось от войны?
Быть может, чувство страха и вины?
Быть может, полуночный чей-то стон?
Скорее, ничего не помнит он.
Он будет собирательным лицом
Для тех, для незнакомых со свинцом.
Поступит в школу, будет петь в строю,
Лелея собирательность свою.
Потом герой поступит в институт,
Еще пять лет спокойно протекут.
Где для него мне отыскать сюжет?
А между тем, прошли еще пять лет.
По совести, роман мой скучноват.
Герой его ни в чем не виноват,
Благополучен, как морковный сок,
И ростом он не низок, не высок.
По совести, романа вовсе нет.
На все дается правильный ответ.
Герой не горевал и не тужил,
Жил тридцать лет и не видал, что жил.
Он был лишь собирательным лицом.
Спасибо, что не стал он подлецом.
Но все же он типичен, как герой,
Хотя другой мне по сердцу, другой!
Да здравствует мой правильный роман!
На город опускается туман.
Герой давно женился, стал отцом.
Сын будет собирательным лицом.
В государстве рабочего класса
Я стою у пивного ларька.
Нет толпы, есть народная масса,
Ничего, что хмельная слегка!
Будь неладна, рабочая тема!
Выпил пива – и вот тебе связь
С гегемонами, с массами, с теми,
Кто стихов не читал отродясь.
Я возьму себе воблу посуше
И, спинной отрывая плавник,
Загляну я в рабочую душу,
Про которую знаю из книг.
Я по-свойски, они – по-простому,
Я по матери, то же они.
Что еще человеку живому?
Нету слов – так рукою махни!
Между ними ничем не отмечен,
Я не буду казаться святым.
Знаю только – один я не вечен,
Ну, а вместе – еще поглядим!
Дирижер рукой дрожащей
Вытащил из-под полы
Звук растерянный, щемящий —
Так птенец глядит из чащи,
Так звезда глядит из мглы.
Дирижер рукой суровой
Воздух мнет над головой.
Фрак его черноголовый
Пляшет в пляске бестолковой
И страдает над толпой.
Дирижер хватает флейту,
Вьет невидимую нить.
Склонен к лирике и флирту,
Он парит, подобно спирту,
И не может говорить.
Как смерч, скользит официант.
Лежит закуска на подносе.
Летит он, светлый, как апостол,
С желанной печенью трески.
Имел бы я такой талант,
Сей миг литературу бросил,
Купил манишку бы, а после
Я удавился бы с тоски.
Умел бы он писать стихи,
Сей миг ушел из ресторана
И сел бы над листом бумаги,
Сжимая пальцами виски.
Узнав, что критики глухи,
Печататься как будто рано
И много надобно отваги,
Он удавился бы с тоски.
Чекист сидит, на водку дышит,
Дрожит могучая рука.
Он ничего вокруг не слышит,
Он вспоминает про ЧК.
Он вспоминает, как с отрядом
Он бандам двигался вослед,
Как вызывал его с докладом
Железный Феликс в кабинет.
Он тоже был тогда железный
И храбро дрался за народ.
А вот теперь он бесполезный
Сидит на кухне, водку пьет.
Старуха вязала носки
Какого-то бурого цвета.
От старости или с тоски,
А может, ей нравилось это.
Старуха петельки клала,
Как жизнь свою изображала,
И лампа в середке стола
Светила и ей не мешала.
Две спицы вились, как волчок,
Вот вытянут нитку живую...
«О Господи, я не горюю,
Живу я еще – и молчок!»
Старуха вязала носки,
Последние петли сплетала.
Как тени от лампы резки!
Как свету приветного мало!
Мой знакомый в зеленом плаще
Торопливо с авоськой шагает,
И снежок у него на плече,
Чуть коснувшись плаща его, тает.
Мне известно, что он одинок,
Не устроилось личное счастье.
Дома ждет его только щенок,
Спаниэль удивительной масти.
Мой знакомый приносит кефир,
Пачку «Севера», свежую булку
И, журнал захватив «Новый мир»,
Спаниэля ведет на прогулку.
Совершая привычный маршрут,
Тянет жизнь, как скрипичную ноту.
Жаль, собаки недолго живут.
У него уже третья по счету.
На носу у дяди Феди
Вырос форменный удав.
Дядя Федя съел медведя,
В зоопарке увидав.
Вот идет он, пролетарий,
Воздух нюхает змеей.
Весь небесный планетарий
У него над головой.
Воздух чист, как умывальник.
Дядя Федя ест озон.
Он фактический ударник
И пострижен, как газон.
А за ним идет машина,
На ходу жуя овес.
Дядя Федя не мужчина,
Он пыхтит, как паровоз.
Свет идет от дяди Феди,
Как от лампочки в сто ватт.
В дяде Феде все медведи
Зычным голосом трубят.
А удав головкой вертит
И сжимается в кольцо.
У питона, как у смерти,
Неприличное лицо.
По радио сказали, что вчера
Какую-то старушку сбили танком.
Она кричала: – Чур меня! Чура! —
Бидончик с молоком упал и покатился,
Дымок за танком синеватый вился.
Была старушка и старушки нет —
Остался рубчиком лишь гусеничный след.
По радио сказали, что войны
Не будет завтра. Завтра будет утро.
Старушки с молоком удивлены:
В очередях стоять, как домино,
Им завтра, наконец, разрешено
И вопрошать сурово: – Кто последний?
Последних нет.
Последнюю старушку
Вчерашний танк впечатал по макушку
В сырую землю, и пропало молоко,
Которое далось ей нелегко.
По радио передают погоду.
На закуску была колбаса.
В сутках двадцать четыре часа.
Капитан переставил будильник,
А на кухне взревел холодильник.
На десерт были изюм в шоколаде.
Капитан без ума был от Нади.
Капитан распоясался, зверь!
Дерматином обтянута дверь.
На паркете пятно от ликера.
Вся надежда теперь на суфлера.
Но Надежда молчит, как комод.
У Надежды малиновый рот.
Тонкой пленкой подернулись шпроты.
Капитан был пятнадцатой роты.
Ночью выдохся весь лимонад.
Капитаны не знают преград.
(Из Жоржа Брассанса)
В Зоопарке прекрасный пол,
Со стыда не пряча лица лица,
Как-то раз наблюденья вел
За гориллой в виде самца.
Дамы пялились, так сказать,
На тот орган в рыжей шерсти,
Что мамаша мне называть
Запретила, Боже прости!
Бойтесь гориллу!
Вдруг открылась эта тюрьма,
Где томился прекрасный зверь.
Распахнулась она сама,
Видно, плохо заперли дверь.
«Ну, сейчас я ее лишусь!» —
Прорычал самец на ходу.
Угадали вы, я боюсь! —
Он невинность имел в виду.
Бойтесь гориллу!
И хозяин кричал: «Скандал!
Зверю нет еще и восьми!
Мальчик в жизни самки не знал,
Он ведь девственник, черт возьми!»
Но бабенки вместо того,
Чтоб использовать данный факт,
Побежали прочь от него.
Это был непонятный акт!
Бойтесь гориллу!
Даже дамы, что час назад
Были мысленно с ним близки,
Мчались в ужасе, доказав,
Что от логики далеки.
Я не вижу в этом причин,
Потому как горилла – хват
И в объятьях лучше мужчин,
Что вам женщины подтвердят.
Бойтесь гориллу!
Все несутся, не взвидя свет,
От четверорукой судьбы,
Кроме двух: старухи ста лет
И расфранченного судьи.
Видя этакий оборот,
Зверь направил свои стопы,
Ускоряя бешено ход,
К ним, оставшимся от толпы.
Бойтесь гориллу!
И вздохнула старуха: «Ох!
Я не думаю, чтоб сейчас
Кто-нибудь, скажем прямо, мог
На меня положить бы глаз!»
А судья говорил, что бред,
И за самку принять его
Невозможно... А впрочем, нет
Невозможного ничего.
Бойтесь гориллу!
Что бы сделал из вас любой,
Если б ночью, ложась в кровать,
Меж старухою и судьей
Был бы вынужден выбирать?
Что касается до меня,
Я бы полностью все учел
И старуху, уверен я,
В роли женщины предпочел.
Бойтесь гориллу!
Но горилла ведь, как на грех,
Избирая собственный путь,
Хоть в любви превосходит всех,
Но не блещет вкусом ничуть.
Потому, не грустя о том,
Что избрали бы я и ты,
Зверь берет судью, а потом
Устремляется с ним в кусты.
Бойтесь гориллу!
Продолжения, как ни жаль,
Не могу рассказать для всех.
Это вызвало бы печаль
Или ваш нездоровый смех.
Потому что, подставив зад,
Звал кого-то и плакал он,
Как несчастный, что днем назад
Был им к смерти приговорен.
Бойтесь гориллу!
Перевод с французского
(Из Жоржа Брассанса)
Она стояла у ворот
«Святой Мадлены»
И наблюдал честной народ
Ее колени.
Она сказала: «Котик мой,
Пора влюбиться...»
И понял я, что предо мной
Лишь ученица
Господь способности ей дал
И часть сноровки,
Но что такое Божий дар
Без тренировки?
Хотя монашкой лучше стать,
Чем жить в притоне,
Как не устанут повторять
У нас в Сорбонне.
Я был взволнован, как никто,
Несчастной крошкой
И показал ей кое-что,
Совсем немножко.
Попутно я ее учил —
Ей это надо! —
Как привлекать к себе мужчин
Посредством зада.
Я ей сказал: «Вся трудность в том,
Что на панели,
Лишь научась вертеть хвостом,
Достигнешь цели.
Но, обращаясь молодцом
С тем инструментом,
Варьируй темп с юнцом, с глупцом,
С интеллигентом...»
И вот тогда, благодаря
Моей услуге,
Я компаньоном стал не зря
В делах подруги.
И как сказал поэт большой
В какой-то строчке,
Мы были телом и душой
Поодиночке.
Когда бедняжка шла домой,
Оставшись с носом,
Я к ней не лез – ни Боже мой! —
С пустым вопросом.
Но, несомненно, от тоски
Я был не в духе
И раздавал ей тумаки
И оплеухи.
Но вот она, к моей беде
И как-то сразу
Вдруг подцепила черт-те где
Одну заразу.
И как подруга или просто так
Для пробы
Мне подарила, как пустяк,
Свои микробы.
Я от уколов и со зла
Не взвидел света
И понял – нету ремесла
Дурней, чем это!
Поняв раскаянье мое,
Она рыдала,
Но все напрасно! До нее
Мне дела мало!
Моя подружка, сев на мель,
Не шита лыком,
Поспешно бросилась в бордель
В объятья к шпикам.
Там покатилась, как ни жаль,
Она все ниже...
Какая жуткая мораль
У нас в Париже!
Перевод с французского
Г. С. Семенову
Хорошо было древним поэтам, Хайям!
Узнавали их не по газетам, Хайям!
На пиру говорил, не заботясь о славе,
И остался бессмертен при этом Хайям
Ты ответь мне, Хайям, на законный вопрос:
Если были, и впрямь, Магомет и Христос,
Почему мы живем уже столько столетий,
А на этой Земле не убавилось слез?
Оптимистом быть трудно, Хайям, помоги!
В этом мире беспутном, Хайям, помоги!
Если веру и цель указать мне не можешь,
Хоть мгновением судным, Хайям, помоги!
Впрочем, будем добры. Люди слабы, Хайям.
Ради денег живут, ради славы, Хайям.
Я не лучше других и не хуже, но все же,
Почему на людей нет управы, Хайям?
Все не так уже серьезно, Хайям, дорогой!
Лучше рано, чем поздно, Хайям, дорогой!
Лучше редко да метко, а если не вышло,
Пусть хотя бы курьезно, Хайям, дорогой!
Современник не тот, кто живет среди нас.
Современник умрет, может быть, через час.
Лишь один, о Хайям, у меня современник —
Кто прочтет и поймет череду этих фраз.
Какая-то пьяная морда
И пластырь на ней, словно хорда.
Глаза нагловатые узки,
И чертиком прыгает мускул.
Вот морда за нею другая:
Ухмылка от края до края
И нос безобразного цвета
Ее выдают как поэта.
Вот третья маячит в тумане:
– Цыгане, – кричит, – где цыгане?
И светятся уши, как свечи,
Ловя бестолковые речи.
Собрались служители музы.
Трещат биллиардные лузы.
– Туза от борта в середину!..
Простите мне эту картину.
Жить по вашим законам – увольте!
Пусть я буду по горло в дерьме,
Хуже негра в республике Вольте,
Горше узника в черной тюрьме.
Пусть я буду последним из нищих
Или первым шутом у ворот.
Пусть свинцовой толпой в сапожищах
Мою душу растопчет народ.
Пусть друзья от меня отвернутся
И семья проклянет навсегда.
Пусть никак от греха не очнуться,
А потом не сгореть со стыда.
Пусть я буду с любимой в разлуке,
Пусть умру я, как зверь, в стороне,
Жизнь сгубив на бесцельные звуки...
Боже мой, протяни ко мне руки,
Протяни свои руки ко мне!
Опять вино, и разговоры,
И разговоры, и еда.
Уже сгорают со стыда
Воспитанные помидоры,
Уж зеленеют от тоски
Огурчики в стеклянной банке,
А сом, разрезан на куски,
Печально спит в своей жестянке.
Обед сверкает, точно зуб
В шикарной пасти метрдотеля.
Вот разговор зашел про суп,
Потом про скульптора Бурделя,
Потом немного про хоккей...
Обед удался. Все довольны.
О Боже! Позвони скорей
С твоей высокой колокольни!
Не презирай меня, Творец!
Я создан по твоим проектам
Не как хлебатель кислых щец
И разговоров «с интеллектом».
Ты создавал меня, старик,
Для равноправного общенья,
Но я утратил Твой язык
И прячу взор в боязни мщенья.
Как надоел мне этот мир
Фиглярства, бешенства и скуки!
Упрятаны в подкожный жир
Души моей живые звуки.
И сердце плавает в груди,
Как рыба, шевеля глазами.
О Господи! Не уходи,
Не пропадай под небесами!
Наверно, я еще не тот,
По ком Ты мучался ночами,
Но, ложечку суя в компот,
Я все же грустен и печален.
А где-то там моя душа,
Оторванная от обеда,
Как бы с восьмого этажа,
Глядит на лысину соседа.
Звенит ленивая гитара,
Небрежно вторя голосам.
Березы, точно струйки пара,
Проистекают к небесам.
Все ладно: песня и природа.
Все хорошо и тут и там.
Сентенции такого рода
Нередко помогают нам.
День пролетел – уже удача.
Десятибалльный ураган
Нас минул. Не сгорела дача.
В поселке не возник вулкан.
Исправно радио молчало.
Под нами не сломался стул.
Весь день корова не мычала.
Никто из нас не утонул.
Никто в обед не отравился
Грибами. Не было грибов.
Никто и в погреб не свалился,
Хотя здесь много погребов.
Лились чаи. Мелькали спицы.
Стучали ходики в виски.
Лес не шумел. Не пели птицы.
Цветы завяли от тоски.
Обо мне шептались за спиной.
Я не знал, что обо мне шептались.
Разговоры те с моей судьбой
Как-то странно так переплетались.
Я себя почти не узнавал.
Неужели все, что говорилось,
Было правдой? В памяти провал!
Будто что-то главное забылось.
Слышите, вы спутали меня!
Я не тот, что есть на самом деле.
Все детали внешние храня,
Вы объединить их не сумели.
На портрете этом все не так:
Там какой-то клоун в пестрой маске.
Живописец был большой чудак
Или, как дальтоник, спутал краски.
Видно, не хватило ремесла
Завершить работу над портретом.
Впрочем, говорили не со зла.
Не со зла. Спасибо и на этом.
Я памятник себе еще не начал.
Да и к чему он – памятник Себе?
И век иной, и думают иначе
О памяти и о судьбе.
Я весь умру или чуть-чуть останусь —
Все это мало трогает меня.
Но главное – я с жизнью не расстанусь
До часа смертного и дня.
Не называя адом или раем
Наш мир, хочу сказать я о своем:
Как часто мы не просто умираем —
Мы жить перестаем.
Предамся лучше сладкому похмелью,
Влюблюсь или сыграю на трубе,
Чем буду мучаться бесплодной целью:
Оставить память по себе.
Ведь наша жизнь, того гляди, обманет
И убежит, и промелькнет, как миг.
Так пусть уж лучше друг меня помянет,
Чем друг степей калмык.
Сердце мое не стыдится
Вам признаваться в грехах.
Знаю, что лучше влюбиться,
Чем объясняться в стихах.
Сколько неслыханной мощи
В соединенье сердец!
С выдумкой все-таки проще:
Сам ей положишь конец.
Будет на правду похожа
И никому не вредна.
Будет красива... И все же,
Господи, как холодна!
Вот окошко, где скрыта
Чья-то жизнь от людей.
– Мастер, где Маргарита?
– Дома нянчит детей.
Много стирки да глажки
И на завтра обед.
Позабыты замашки
Прежних лакомых лет.
Как плыла горделиво
Среди прочих невест
И дарила лениво
То улыбку, то жест.
Нет той силы и власти,
Нету той красоты...
– Ах, наивный мой Мастер!
Ошибаешься ты.
Эта внешность привычки
И погашенный взор
Лучше всякой отмычки
Отпирают затвор.
Ты поймешь, постепенно
Доходя до основ,
Что опасней измены
Прелесть тайная снов.
Пусть до времени скрыты
Эти сладкие сны...
Мастер, где Маргарита?
– На балу Сатаны!
Тихо голуби летают,
Тихо крыльями шуршат.
Люди медленно шагают,
Мысли тоже не спешат.
Ясный сумрак воскресенья
Легок и рассчитан на
Тихое произнесенье
Слова темного: война.
И опять звезда горит в окне.
Милая! Не гасни надо мною!
Я готов сгореть в твоем огне,
Ниточкой сгореть волосяною.
Милая! Ты у меня одна.
Почему же медлишь, выбирая
Полусвет вечернего окна,
Словно шепчешь: «Я не та, другая...»
Надо быть звездой серьезной
В светлой россыпи морозной
Над январским декабрем.
Надо быть невиноватым,
Надо плыть по перекатам,
Надо жить, пока живем
Загадочные лица
Глядят на нас с небес.
Гори, моя сестрица!
Я твой противовес.
В душевном равновесье
Живу лишь оттого,
Что кто-то в поднебесье
Сгорает за него.
Летучим звездопадом,
Созвездием миров,
Не называя братом,
А просто так, без слов.
Непросто тебе поверить,
Себя уличив во лжи.
О Господи, вот потеря!
Что хочешь, то и скажи.
Скажи, что горишь напрасно,
Как эта звезда в окне.
Скажи, чтобы стало ясно,
Зачем ты не веришь мне?
Звезда упала с неба
Совсем не потому,
Что не хватило хлеба
Тебе или ему.
Звезда с небес упала,
Как яблоко, сладка.
Души нам не хватало,
Такого пустяка!
Какое счастье – быть свободным
От разговоров, от статей,
От книг с их жаром благородным,
От любознательных друзей,
От развлечений, от погоды,
От женщин, Бог меня прости! —
От вдохновения, от моды
И от работы до шести.
Какая радость – жить счастливым
Для разговоров, для друзей,
Для книг с их миром молчаливым,
Для праздников, для новостей,
Для размышлений, для природы,
Для женщин, черт бы их побрал! —
Для вдохновенья, для свободы,
Которой так и не узнал.
Чужие столики томились,
Чужая музыка плыла,
Чужое пиво шевелилось
В стаканах чешского стекла.
Вокруг меня чужие взгляды
Скользили вдаль из-под руки,
И чьи-то души были рядом,
Но бесконечно далеки.
И в одиночестве, как в яме,
Я был чужим, я был ничей,
Уже оставленный друзьями,
Еще не встретивший друзей.
Дерябнем по маленькой, что ли?
Посмотрим стакан на просвет.
В моем мутноватом глаголе
Давно уже крепости нет.
Дерябнем по-тихому, чинно,
Без всяких возвышенных фраз.
Причина? Найдется причина!
Была бы возможность у нас.
Мы смирные, мы не деремся,
Не черпаем удаль в вине.
Смирны мы, пока не напьемся,
А если напьемся – вдвойне.
Мы тихие. Так получилось,
Что сдержанность стала лицом.
Не можем, скажите на милость,
Назвать подлеца подлецом!
Не можем мы даже признаться,
Что больше не можем... Каюк!
Остыли мы, милые братцы,
Сгорели внутри, как утюг.
По-прежнему, разве что, в силах
По старой привычке своей
Всем скопом кричать о России,
Когда надо плакать по ней.
Наклонился сугроб вислоухий,
Словно пьяный, держась за фонарь.
Сонно кружатся белые мухи,
На земле происходит январь.
И такое кругом постоянство,
Застарелое, как граммофон,
Что спасаешься чудом от пьянства:
То ли день пролетел, то ли сон?
Подо льдом не шевелятся реки,
И порою представить легко,
Что живешь в восемнадцатом веке,
Где барокко или рококо.
Сядешь в сани. Запахнута полость.
Застегнешь меховой воротник...
Где она, петербургская повесть?
Желтым глазом косит коренник.
Погоняй! За Михайловский замок,
По Фонтанке, мохнатой, как ворс.
Часовой у шлагбаума замер
Или попросту, бедный, замерз?
По Фонтанке!.. Пока не напомнит
О другом и не вывернет руль
В ту же полночь спешащий на помощь
В милицейской машине патруль.
Вот город мой: собор граничит с небом,
Фонтанка, вся засыпанная снегом,
Набухшие от сырости дома
И мокрая, как варежка, зима.
Вот город: он возник за поворотом.
Автомобиль с забрызганным капотом,
Слепой на перекрестке светофор
И день, ушедший крадучись, как вор.
Вот город: он хрипит уже, простужен.
Вот Летний сад: он никому не нужен.
Речной гранит лежит на берегу
И выгибает мостики в дугу.
Вот город мой: принадлежит любому.
Но произносишь: «Нет не мне, другому!»
Но произносишь: «Вовсе никому!» —
Весь до корней принадлежа ему.
В капризном рисунке зимы
Деревья и люди размыты.
Вот в Летнем саду – это мы,
А статуи плотно забиты.
Вот в Летнем саду – это нас
Кружило, как листья, недавно.
Теперь мы взрослее на час,
И снег опускается плавно.
Теперь мы выходим вдвоем
Прогуливаться по аллеям
И вот, обогнув водоем,
Взглянуть друг на друга не смеем.
Черная речка густа и грустна,
Черная речка без дна.
Плачет трамвай, пролетая над ней,
Искрами синих огней.
Редкий прохожий, подняв воротник,
К низким перилам приник.
Черная речка, как чертова вена:
Серая, снежная, смертная пена.
Дворник со скребком,
Музыкант со скрипкой.
Пес бежит бочком,
Сфинкс лежит с улыбкой.
Все обман, все жуть,
Всюду знак вопроса.
Снег летит, чуть-чуть
Наклоненный косо.
И река, и мост
Лейтенанта Шмидта,
И заморский гость
Белой ниткой шиты.
Мало кто знаком
В панораме зыбкой:
Дворник со скребком,
Музыкант со скрипкой.
Мокрый снег за воротник
Опускается бездомно.
Человек к стеклу приник,
Площадь мутная огромна.
Ни души. Один маяк
Александровский подсвечен,
И прохожий, как моряк,
Правит к берегу, поспешен.
Утром все заледенело,
На морозце звякая.
Солнце добела нагрело
Самовар Исакия.
Где там тени, что направо
И налево шастали?
Улыбается застава
Нарвская от счастия.
Улыбается прохожий
С поднятым воротником,
Улыбается, похоже,
Даже дворник со скребком.
Говорит, набычив шею:
– День-то, день-то! Вашу мать!
Ну, а дальше я не смею
Речь его пересказать.
Не декабрь – начало марта!
Ледяной по крышам звон.
И синоптик прячет карты
С указаньем на циклон.
Здравствуй, год семидесятый!
Различаю за чертой
Профиль времени усатый
В тонкой рамке золотой.
То ли память, как овчарка,
По следам моим бежит,
То ли выпитая чарка
Мне несчастье ворожит?
Вижу год, как на ладони,
В отрывном календаре.
Не участвую в погоне,
Не участвую в игре.
Но когда пробьют двенадцать,
Точно обухом, часы,
Надо, надо улыбаться
В золоченые усы!
Кто обидел эту зиму?
Не припомнить на веку:
Ленинград подобен Крыму,
Крым подобен сквозняку.
Навсегда пропала вера.
Старый дедушка Мороз
Неприятен, как холера,
И бессилен, как прогноз.
А зима все плачет, плачет.
Мокнут перья снегирей.
– За окном водичка скачет! —
Как сказал мой сын Сергей.
Зима, как на ватной подкладке,
До марта пошитая в рост,
Играет с автобусом в прятки
И гонит его через мост.
Оттаять дыханьем горячим
Кружок на стекле ледяном
И стать на мгновение зрячим,
Весь мир увидав за окном,
Который бежит торопливо
С поспешностью той же, что ты
Летишь сквозь него молчаливо,
Минуя дома и мосты.
Бог, сидящий в светофоре,
Красным глазом подмигнет.
Это значит – либо горе,
Либо правый поворот.
А когда, усмешку пряча,
Он зажжет зеленый глаз,
Это значит, что удача
Светит каждому из нас.
Но, мигая желтым глазом,
Бог дает такой совет —
Двух цветов избегнуть разом:
Нет удачи – горя нет.
Мой друг необходимый!
Тебе моя печаль,
Таежной струйкой дыма
Протянутая вдаль.
Прости меня: поверил,
Прости: привыкнуть смог
К тому, что срок отмерен
И подведен итог.
Прости, что рядом не был
С тобой в последний миг,
Когда лишь только небом
Услышан был твой крик.
Когда вода сомкнулась,
И черная звезда
Как будто оглянулась
И пала в никуда.
«Организованный свистом автобусных шин...»
Организованный свистом автобусных шин
Или трамвайным трезвоном на улицах нашего града,
Я говорил: ничего мне от жизни не надо,
Ни полушарий Земли, ни сияющих горных вершин.
Думал я так: полушария мозга сильней
Подлинной жизни, а выдумка ярче природы.
Разум, вместивший в себя очертанья свободы,
Счастлив не солнечным светом, а миром теней.
Думал я так, но душа тосковала по ним,
Солнечным людям, не знающим страха и боли.
Значит, свобода души – лишь предчувствие воли,
Я несвободен, но мыслью к свободе гоним.
Александру Кушнеру
Будь осторожен, прохожий!
Ладный, умытый, пригожий
От головы и до пят,
Чувствуешь ли меж лопаток,
Как осторожен и краток
Мой изучающий взгляд?
Точно анбтом над линзой
Или чайханщик над брынзой,
Я над тобою склонен.
Вижу такие детали,
Что до меня не видали
В хрониках прошлых времен.
Плох ли, хорош современник,
Я его преданный пленник,
Он мой заглавный мотив.
Лирика – это не фокус!
Главное – точно на фокус
Свой навести объектив.
Кого-то подслушать украдкой,
Кого-то увидеть, а там
Вдвоем с молчаливой тетрадкой
За ними пройти по пятам.
И, пользуясь свойствами зренья,
Их судьбы – трудны ли? легки? —
В другое продлить измеренье,
В скупое пространство строки.
Поэт, парящий над толпой?
Нет, это не для нас с тобой.
Поэт, невидимый в толпе,
Скорей, по мне и по тебе.
Пророческий и трубный глас —
Он, очевидно, не для нас,
И в позе гордой красоты
Не устоим ни я, ни ты.
Скорей, останется для нас
Полночный час да зоркий глаз,
Да скрытой камеры щелчок.
Никто не видел и – молчок.
Ветер, я снова болен.
Робок мой детский дух.
Я выбирать не волен,
Ты же свободен, друг!
Трудно стоять спиною,
Валит и бьет с боков.
Распоряжайся мною
Там, в глубине веков.
Черный ветер прилетел,
Страшный ветер прошлогодний
Дикой флейтой засвистел,
Дырку высверлил в душе
И вытягивал из тел
Звуки музыки звериной.
На девятом этаже
Я живу с женой Мариной.
Колыбельную нам пел
Довоенный ветер.
Паскудная мысль о поэте,
Поспешно латающем течь,
Покуда на всем белом свете
От ветра ни встать и не лечь;
И вышивка шелковой речи
На ощупь гладка и тепла,
Пока прикрываются свечи
Броней ветрового стекла.
Ветер порывами правит.
Ветер стучится в виски.
Ветер погонщика славит
И ослепляет пески.
Ветер Сахары и страха,
Ветер, как бич пастуха,
Гонит верблюдов Аллаха
К мертвому морю стиха.
Телеграмма далекого века.
Римский Форум, рифмованный зал.
Жил на свете философ Сенека,
По-латыни трактаты писал.
Прилетел этот ветер оттуда,
Чтоб смешать костяной алфавит.
Был убит обыватель Иуда,
А философ Сенека забыт.
Вихрем разве назову
Я тебя, спасая крыши?
Слышишь? Незачем Неву
Загонять до льва и выше.
Наводненья хороши
В историческом аспекте.
Я шагаю. Ни души
На Владимирском проспекте.
Кто прохожих не пугал
И во мраке не скрывался?
Пушкин где-то здесь шагал,
Кушнер где-то ошивался.
Может быть, пора и мне
Быть у ветра на ремне.
В темном провале колодца
Светит живая вода.
Тихое сердце не бьется,
Только вздохнет иногда.
Плоти комочек несчастный
Величиною с кулак.
Чем-то душе сопричастный
Тайный о времени знак.
Слышу, как медленной кровью
Ты прорастаешь во мне.
То, что казалось мне новью,
Все для тебя в старине.
Если поспешного пыла
Полон я в утренний час,
Шепчешь ты: «Все это было.
Все это было не раз.
Нам суждено повториться
Даже в предчувствиях, но
Этой водою напиться
Тоже не всем суждено».
За дверью скрипка заиграла.
Я раньше скрипку не любил.
Теперь то время миновало,
Я навсегда его забыл.
Стою на лестничной площадке
И жадно слушаю, как там
Скрипач в таинственном порядке
Разводит ноты по местам.
Струна пиликает так тонко —
Порой не уследить за ней.
Нужна другая перепонка,
Нежнее, может быть, моей.
Стою, и слушаю, и плачу,
И говорю с самим собой,
Что я совсем немного значу
Пред этой скрипочкой сухой,
Которая вот так, невольно,
Случайно, судя по всему,
Заставит плакать добровольно
И неизвестно, по чему.
Времени тонкие нити —
Елочный дождь от верхушки;
Бусы, гирлянды событий,
Хлопоты, хлопья, хлопушки.
В спешке (куда не успели?),
В блестках (а все же тревожно!)
Не замечаем, что ели
Снегом укрыты надежно.
Не понимаем, что корни
В землю врастают не сразу.
Надо немного спокойней
Каждую новую фразу.
Ю. М.
Сколько бы лет мы ни жили,
Лишь ускользающий час,
Сладкий, как запах ванили,
Дразнит и мучает нас.
Он, неизвестный, манящий
Близостью жизни иной,
Ярче, чем день настоящий,
Даже в минуте одной.
Может быть, в том-то и счастье,
Чтоб, догоняя его,
Жить настоящим отчасти
И не винить никого.
«Милая! Не посмотрев на небо...»
Милая! Не посмотрев на небо,
Многие уходят умирать.
Разве на земле достанет хлеба,
Чтобы накормить всю эту рать?
Мы с тобой, попутчики живые,
Говорим на тихих языках
И глядим, как будто бы впервые,
На просветы в низких облаках.
Там, в провалах туч, в бездонных ямах,
В глубине прощальных наших глаз,
Столько птиц, свободных и упрямых,
В небо улетающих от нас.
Сколько лет!.. Мелькнули, улетели,
Будто краску смазали с холста.
Милая! Предсмертный холод в теле.
Пустота бумажного листа.
"...Боже!
Каким ничтожным, плоским и тупым
Мне кажется весь свет в своих затеях.
Глядеть тошнит...»
Могильщики, как черви. Гнуснее нету харь!
Принц Гамлет держит череп, а череп, как фонарь,
Сияет бледным светом, и челюсти в земле.
Ты, Йорик, был поэтом. Ты светишься во мгле.
Пусты твои глазницы, и отвалился нос.
В партере ищут лица ответа на вопрос.
А принц, как алкоголик, шатается, дыша...
Ты умер, бедный Йорик! Чиста твоя душа.
Не потому ли бедным остался ты для нас,
Что был поэтом вредным и даже в смертный час,
Покуда лесорубы пилили ель на гроб,
Кривил в усмешке губы и морщил бледный лоб?
Принц Гамлет (он философ) сказал бы так: «My God!
Не задавай вопросов и не ищи острот.
Труби про труд ударный и радуйся, трубя.
Язык твой – враг коварный, и он убьет тебя».
Но ты, упрямый Йорик, юродствовал, крича,
Пока блестел топорик в руках у палача.
У прошлого украден, в грядущее не взят...
Как говорят, нагляден, нагляден результат!
Ну что б тебе покоя и безобидных слов?
Пейзажей над рекою, телят, щенят, козлов?
Ну что б сказать, как светел простор родных полей?
Но ты упрямо метил в вельмож и королей!
Покойся, бедный Йорик! Покойся, мертвый шут!
Когда-нибудь историк напишет скучный труд
И разберет до корки, и базу подведет,
И свистнет рак на горке, и рыба запоет...
Погляди, зевака, зритель!
Снизойди до мелочей!
Ты свидетель и святитель
Наших горестных речей.
Без тебя мы, как лекарство
Без почуявшего боль,
Как король без государства
И без цифры круглый ноль.
Не какой-нибудь поклонник
И ценитель громких фраз —
Нам ты нужен как сторонник,
Сборщик хроник про запас.
Погляди, мудрец, зевака —
Пусть немой, но не слепой —
Как там Гамлет-забияка
Машет шпагой над толпой.
Зал черен, как могила.
Качаясь на краю,
Скажу о том, что было.
Что будет – утаю.
Вот выброшен наружу
Последний ком земли.
Разворовали душу,
По крохам унесли.
Вам, девушка в партере,
Вам, девушкин жених,
Дарил ее по мере
Способностей своих.
Но где-то в середине
Шекспировских страстей
Увидел – нет в помине
Меня среди людей.
Я растворился в зале
Средь ваших душ и тел,
Но лучше вы не стали,
А сам я – опустел.
Я стал теперь помельче,
Себя не сохраня,
И лишь немного желчи
Осталось у меня.
Излить ее бумаге,
А там когда-нибудь
Себя подставить шпаге
И глубоко вздохнуть...
«Этот Гамлет, он заслуженный артист,
Поменял двух жен, молоденьких актрис,
А теперь живет с народной из кино.
Впрочем, это для искусства все равно.
Он недавно был в Париже, говорят.
Замечаете, какой надменный взгляд?
И мешочки под глазами. Пьет, как гнус!
Впрочем, это для искусства даже плюс.
А на днях я повстречал его в метро.
Шел с букетиком и щурился хитро.
По всему видать, пройдоха хоть куда!
Впрочем, это для искусства не беда.
Чем заслуженней артист, тем он наглей.
Он за выход получает сто рублей!
И за что ему везде такой почет?..»
Вот вам мой стенографический отчет.
Простите за грубость, искусство,—
Оно вам до лампочки, сэр!
Разбудит в вас бульшие чувства
Красиво нарезанный сыр.
Простите! Еще, кроме сыра,
Копченая есть колбаса.
Зачем же ходить на Шекспира,
Бессмысленно пяля глаза?
На чёрта вам слушать Гамлйта
И прочих дурацких фигур,
Коль есть отбивная котлета,
А также сациви из кур?
Неужто вам так интересно,
Кто будет в финале убит?
Искусство – оно бесполезно
И в целом здоровью вредит.
Но главное даже не в этом!
А вдруг западет вам на ум
Внушенная тем же Гамлйтом
Одна из опаснейших дум?
А вдруг вам захочется тоже,
Безумствуя: «Быть иль не быть?»,
Махать кулаками из ложи
И люстры хрустальные бить?
Шекспир – это все же не шутка!
Прошу вас, ступайте домой!
Уже фарширована утка
И зреет в печи духовой.
Любить людей, угрюмо ненавидя,
Иль ненавидеть, искренне любя?
Не лучше ль, никого из них не видя,
Старательно описывать себя?
Себя – чревоугодника, повесу,
Предателя, фальшивого льстеца,
Актера, наспех вставленного в пьесу,
Болтливого пророка, подлеца.
Себя, в котором тысяча пороков
И столько же блистательных идей,
Усвоившего несколько уроков
Среди людей, на людях, для людей.
Себя – героя, циника, невежду —
Перетрясти, как старый чемодан,
Испытывая тайную надежду,
Что зрители воспримут как обман,
Как зрелище, как позу, как рисовку
Мою с натуры списанную роль.
Обрадуются, разгадав уловку:
«Король погиб? Да здравствует король!»
Орите – на галерке и в партере —
Приветствуя, завидуя, кляня!
Мой судия – внутри, и к высшей мере,
Страдая, он приговорит меня.
7. Лейтенант на приставном кресле
Помощи ждет? Совета?
В зале так мало света!
Не различаю глаз.
Что же сказать вам, зритель?
Ваш офицерский китель —
Он разделяет нас.
Вы человек, который
Служит стране опорой.
Я же служу шутом.
Нет, от моей улыбки
Стены не станут зыбки,
Не покачнется дом.
Быть не должно двух мнений:
В Гамлете тьма сомнений,
Но, как ни странно, вы
Ищете в черном зале
Совести и печали,
Пищи для головы.
Знайте, пока мы рядом:
Вы с напряженным взглядом,
С горькой усмешкой – я,
Надобны в равной мере
Мне – ваша твердость в вере,
Вам – боль и скорбь моя.
Старичок с лицом поганки
В будке сплюснутой сидит,
Как танкист в картонном танке,
Мертвым шепотом свистит.
Он доверенный Шекспира.
Вот трагедия творца:
Точно гроб, его квартира,
У Шекспира нет лица!
Гамлет, видимый на сцене,
Уличен в большой измене.
Он понес какой-то бред,
Чем нарушил весь сюжет.
Этот Гамлет стал опасен!
Старичок стирает пот,
Стонет, делается красен
И, вздыхая, воду пьет.
Побелев потом, как тесто,
Или попросту, как мел,
Старичок теряет место,
На котором век сидел.
Билетерша, седая букашка
С буклями на голове
И буквами в программке,
Ждет антракта, вздыхает, бедняжка, —
Как ей все надоело!
Этот Гамлет еще в годы НЭПа —
Артист был другой,
Фамилию она забыла —
Точно так же кривлялся нелепо.
А что изменилось?
Галерка сегодня тиха
И, скажем, не так откровенна.
Молчит, доходя постепенно
До тайного смысла стиха.
Не то, что тому десять лет
Назад, когда искоркой Божьей
Взлетал на подмостки пригожий
И ладный красавец-поэт.
Тогда заклинанья его,
Признаюсь, и мне приносили
Уверенность в завтрашней силе,
А ныне в них нет ничего.
Теперь все скромнее на вид,
Сложней, я сказал бы, и строже.
И чувства, и мысли дороже,
Но что же галерка молчит?
Прошу прощенья! Сволочи и стервы —
Их мало, но они, конечно, есть —
Пришли пощекотать немного нервы
И услыхать слова про долг и честь.
Как правило, им лучше всех известно,
Где Гамлет слаб, а где явил талант.
Мне кажется, считать им даже лестно
Себя умнее, чем комедиант.
Несчастный Гамлет! Правила наруша,
Как бы ребенок, ждущий похвалы,
Зачем он выворачивает душу
Пред теми, что ничтожны и малы?
Неужто он еще не понимает,
Что самый наилучший приговор —
Их зависть и растерянность немая,
Их озлобленье и его позор?
Он думает, он счастлив – этот тип,
Лениво наблюдающий за мною
В бинокль. Он полагает, что искусство
Сродни послеобеденному сну
В обширном каталоге удовольствий,
Где издавна стоят на первых строчках
Жратва, вино и женщины... Теперь,
В антракте между первыми и третьей,
Он задницей утоп в пружинном кресле
И слушает желудок свой. А я,
Нелепый аккомпанемент желудка,
Кричу со сцены: «Быть или не быть?!»
Конечно, быть! Достигнув положенья,
Купить машину, съездить на Кавказ,
Потом туристом прокатиться в Лондон,
Чтоб там уже, в Шекспировском театре,
С вниманием «to be or not to be»
Прослушать... Ах, несчастный этот Гамлет!
Чего он хочет, бедный англичанин
И датский принц? Неужто, в самом деле,
Прогнило что-то в королевстве Датском?
Накрашенное женское лицо
Круглится, как пасхальное яйцо,
И мысль старательно изображает.
А между тем, слепая, словно крот,
Рука соседа ей коленку мнет
И женщине нисколько не мешает.
Принц Гамлет прочитал свой монолог.
Рука уже почти что между ног
Приподымает юбку осторожно...
Искусство, всем знакомое давно,
Когда в партере бархатном темно
И даже невозможное возможно.
Чулок шершав, а пальцы холодны.
Видны лишь лица. Как они бледны!
Глаза влажны, и стеснено дыханье.
Скорее, Гамлет! Быть или не быть?
Но можно ли Офелию любить,
Не испытав греховного желанья?
Поэтому пускай пристойный лик
Покроет тайной этот жалкий миг.
Поэтому смелей, рука соседа!
О дайте свету! Дайте хоть звонок!
Куда бежать от этих рук и ног?
На коже лишь следы. В душе – ни следа.
Девочка, веточка счастья,
Замерла в третьем ряду.
В ком еще столько участья,
Столько вниманья найду?
Вот она, вроде бы с нами,
Можно потрогать рукой.
Тешится сладкими снами,
Как леденцом за щекой.
Вздрагивая то и дело,
Мятый платок теребя,
Вытянулась, улетела
И позабыла себя.
Это она у кулисы,
Зная всю жизнь наперед,
Голосом взрослой актрисы
Тихую песню поет.
Как сохранить ее веру
И оградить ото лжи?
Вся она – вызов партеру
И утвержденье души.
Смолкни, ненужная лира!
Что ей вся наша игра —
Девочке с совестью мира,
Ветке с ростками добра?
Вперемежку так проскачем:
Гамлет, свита с королем...
Может, что-нибудь да значим?
Может, зрячими помрем?
Так проскачем вперемежку:
Гамлет, Йорик, шут, дурак...
Или спрятать нам усмешку?
Или, вправду, надо так?
Так! Со шпагой на отлете,
Жаля и жалея вас...
Может, что-нибудь поймете,
Хоть потом, хоть не сейчас.
(1972)
Книга стихов «Красная тетрадь» была написана
на военных сборах в ракетном дивизионе
под Ленинградом в июне-июле 1972 г.
Название обязано своим происхождением
общей тетради в красной обложке,
куда записывались стихи.
В расположении воинской части
Я, лейтенант, но лишь только отчасти,
Лежа на травке в цветущем лесу,
Думал о том, как я душу спасу.
Летние сборы – такая морока!
Призванный для прохождения срока
И изученья секретных систем,
Я, признаюсь, занимался не тем.
Вас, мой читатель, спасали ракеты.
Я же в лесу, изводя сигареты,
В небо глядел, по которому плыл
Ангел в сиянье серебряных крыл.
Как и положено, ангел на деле
Выглядел так же, как прочие цели,
Маленькой точкой, сверлящей экран,
Той, за которой следил капитан.
Он был готов, коль сыграют тревогу,
Выстрелить даже по Господу Богу,
Если всевышний (о Боже, прости!)
По индикатору будет ползти.
Он не шутя, с установленным рвеньем
Занят был вашим, читатель, спасеньем.
Он защищал вас в то время, как я
Думал о смысле его бытия.
Каждый из нас исполнял свое дело,
Обороняя кто душу, кто тело,
И в небесах наблюдая полет
Видел кто ангела, кто самолет.
«Загораю на солнышке, веки прикрыв...»
Загораю на солнышке, веки прикрыв.
Надо мною висит одуванчика взрыв.
Муравей свою бедную ношу несет,
Бесконечное время куда-то ползет.
Поневоле подумаешь: сотни веков
Был порядок толков, а порядок таков:
Бессловесные твари рождались, росли,
Свою скромную ношу по жизни несли,
Не ища дополнительных неких причин,
Умирали под видом безвестных личин
И рождались, чтоб снова опять и опять
Просто есть, размножаться, работать и спать.
А теперь я осмысленно в травке лежу,
За свою драгоценную душу дрожу,
Чтоб она, не дай Бог, не пропала зазря,
Точно жизнь одуванчика и муравья.
Полк, в котором я служил,
Был лихой гвардейской частью.
В нем полковник был, но, к счастью,
Нам до Бога далеко.
В молодецких сапогах
Мы ходили по болотам.
Часовой кричал нам: «Кто там?!»
Отвечали мы: «Свои!..»
В смысле атомной войны
Было тоже очень мирно.
Но зато команду «Смирно!»
Мы умеем исполнять.
Там свои и здесь свои,
Смирные, какой мы части?
Господи, в Твоей мы власти!
Все мы смертники Твои.
«Когда подлетает к границе...»
Когда подлетает к границе
Военный чужой самолет,
И в душных кабинах струится
По лицам внимательным пот,
Когда на экране обзора
Мигает возможная цель,
В помехах скрываясь от взора,
Точь-в-точь зарываясь в метель,
Когда в говорящей коробке
Взрывается краткий приказ,
И палец, лежащий на кнопке,
Дрожит незаметно для глаз,
Когда на часах полшестого
И кажется – мир не спасти,
Да будет услышано слово
Последнее наше «Прости!..»
Прости, я думал о тебе
За проволочным загражденьем.
Вращалась в стереотрубе
Земля обманчивым виденьем.
Вращалась близкая земля,
Был каждый камень на примете,
Леса, озера и поля
И в общем, все, что есть на свете.
Простой оптический обман
Позволил мне увидеть разом
Дорогу, утренний туман,
Солдатика с противогазом.
Просвечивался каждый куст.
В трех километрах шел ребенок.
Был воздух невесом и пуст,
А взгляд внимателен и тонок.
Я видел зрением своим,
Усиленным десятикратно,
Ту часть Земли, где состоим
Приписанными безвозвратно.
Она была невелика
В кружке холодного металла,
И смерти черная рука
Еще стекла не закрывала.
Неужели так будет,
Что в назначенный час
Вой сирены разбудит
Перепуганных нас?
Нас, военных и штатских,
Не видавших войны,
Смерть окликнет по-братски
Безо всякой вины:
«Если жил на планете
Голубь ты голубой,
Значит, будешь в ответе
И пойдешь на убой.
С Богом или без Бога,
С чертом иль без души —
Всем одна вам дорога,
Смерти все хороши».
«И все-таки, когда моя душа...»
И все-таки, когда моя душа,
Как говорят, покинет это тело,
Спасительной свободою дыша,
Она не будет знать предела.
Неправда, что всему один конец.
Душа моя – фонарик путеводный
Среди теней, которыми Творец
Не дорожит во тьме холодной.
Неотличим от прочих только тут,
Незримый свет храню я под секретом.
Но если все ослепнут и уйдут,
Кто уследит за этим светом?
В военном городке
Проходит смотр дождей.
Бетонный плац покрыт
Горошинами града.
А где-то вдалеке
От суетных страстей
Суровый Бог сидит
И с нас не сводит взгляда.
С невидимым врагом
Неслышимые мы
Ведем наш разговор
На радиочастотах,
Но спорят о другом
Далекие громы,
И слышен этот спор
На всех земных широтах.
Величествен раскат
Небесного огня.
Я бледен от стыда
Перед лицом Природы.
Прислушайся, мой брат,
И не убий меня
В день Страшного суда,
Постигшего народы.
Был он пойман на пятой позиции,
Где лежал абсолютно без сил.
Наш майор, как сотрудник милиции,
Мигом за уши зайца схватил.
В маскировочной сети запутанный,
Что скрывала ракету от глаз,
Заяц был молодой и запуганный,
Чем-то очень похожий на нас.
С выражением дикого ужаса
Заяц криком отпугивал смерть,
А майор, багровея и тужася,
Постепенно распутывал сеть.
Он кричал, вероятно, о разуме,
Этот заяц, поднявший губу,
А майор равнодушными фразами
Предрекал ему злую судьбу.
Он взывал к человеческой жалости
Или к совести нашей взывал,
Но майор лишь бранил его шалости,
А ушей его не выпускал.
О мыслитель, вопящий о бренности!
О философ, застрявший в сети!
Жалки наши духовные ценности
И бессильны кого-то спасти.
Стареющий полковник не успел
Повоевать. Теперь уже недолго
До пенсии. Я славлю чувство долга,
Но мне обидно за его удел.
Вот вам деталь: когда он говорит,
Он раскрывает рот, как для приказа,
Но мирная обыденная фраза
Заметно портит общий колорит.
Всю жизнь он терпеливо ждал войны,
В то время как вокруг другие лица
Могли спокойно жить и веселиться,
Не ощущая перед ним вины.
Средь прочих я, писатель этих строк,
Мог ворошить свой дедовский рифмовник
Лишь потому, что где-то жил полковник,
Не спал, служил, был к подчиненным строг.
Теперь представьте: где-то в глубине
Америки, у черта на куличках,
Жил некто в соответствующих лычках,
Не спал, служил, готовился к войне.
Он тоже, к счастью, не успел убить,
И тоже будет вскорости уволен.
Не правда ли, наш мир немного болен?
Иначе это трудно объяснить.
Мужчины играют в войну.
Один, побелевший от ярости,
Стреляет в другого без жалости,
Укрывшись от пуль за сосну.
Солдат девятнадцати лет,
Приученных службой к усердию,
Вовек не склонял к милосердию
Полит – извините! – просвет.
Чего же ты хочешь от них,
Твоих молодых современников?
Ужель превратить их в изменников
Посредством читания книг?
Ты сам опоясан ремнем,
Одет в гимнастерку с погонами,
И теми же замкнут законами,
И тем же сгораешь огнем.
Мой брат, капитан третьего ранга,
На взгляд чуть поменьше среднего танка,
Служил в районе Белого моря
И жил, как мне кажется, там без горя.
Ему полагались оклад и форма.
В Крыму отдыхал он, устав от шторма.
Теперь в Академии Вэ эМ Флота,
Как зверь, он секретное учит что-то.
– Ну что? – говорит он. – Как в мире слова?
Пальто, – говорит, – у тебя не ново.
– Ну да, – говорю донельзя нежнее. —
Куда нам, писателям! Вы нужнее.
– Угу, – отвечает, косясь в тетрадку. —
Могу, – говорит, – одолжить десятку.
– Нет-нет, это лишнее. Что я, нищий?
Поэт, – говорю, – сыт духовной пищей.
– Ха-ха! – он смеется. – А кроме шуток?
Стиха не сложить на пустой желудок.
– Ну да! – отвечаю, тетрадь листая. —
Беда – это если душа пустая.
Кукушка с утра завела
В лесу звуковые повторы.
Работы, заботы, дела,
Мечты, суеты, разговоры.
А ну, погадай мне! Ку-ку...
Мой срок отсчитай мне, сестрица.
И жить дальше так не могу,
И некогда остановиться.
Ку-ку... Жил да был индивид.
Ку-ку... Делал, вроде бы, дело.
Ку-ку?.. Может быть, делал вид?
Ку-ку да ку-ку! Надоело...
Вот ведь какая петрушка!
Накуковала кукушка,
Наговорила тоска,
Лампа дрожит у виска.
Вот ведь какая задача!
Так ничего и не знача,
Прожил один гражданин.
Впрочем, он был не один.
Разве была она пыткой,
Жизнь его? Нет, лишь попыткой,
Чтоб оправдаться с трудом
Перед неясным судом.
Он был подопытной мошкой,
Занятый вечной зубрежкой
С тихим восторгом лица
Под микроскопом Творца.
Я за окно глядел, и хитрый взгляд луны,
Сообщницы моей, которой не даны
Пять наших чувств, чтоб мучаться, томясь,
Напоминал, что существует связь
Меж нами. О холодное светило!
Я знаю, в глубине твоей таится сила,
Душевный жар, покрытый мертвым слоем
Песка и камня, но, гордясь покоем,
Холудностью своей, которой все низки,
Ты не заботишься, пробьются ль сквозь пески
Да камни на тебя направленные взгляды,
И от аструномов своих не ждешь награды.
А я, постыдный раб хвалы или хулы,
Желал, но не достиг бесстрастия скалы
И не зажег волшебного огня,
Которым светишь ты надменно на меня.
«Давайте говорить о главном...»
Давайте говорить о главном.
Нет времени на пустяки.
Родившись с именем державным,
Мы от величья далеки.
Мы, покорители пространства,
Забыли, что на бытии
Лежит печать непостоянства,
И хладны Стиксовы струи.
Казалось бы, наш дерзкий разум
Почти с Божественным сравним,
И повинуются приказам
И твердь, и топь, и огнь, и дым.
Но мы, вращаясь в высших сферах,
Как бы в приемной божества,
По-прежнему живем в пещерах
И катакомбах естества.
Темны пустые переходы,
И звук шагов пугает нас.
И дальний светлячок свободы
Уж поколеблен и угас.
«Какая там птичка щебечет, звеня?...»
Какая там птичка щебечет, звеня?
Какая там травка в цвету?
Названья Природы темны для меня,
Признаюсь к большому стыду.
Другие породы, другие цветы
Заучены издавна мной.
Они на земле оставляют следы
Колесами, дымом, броней.
Простите, растения, бедность мою!
Вы, птицы, простите мой слух!
Я сам ведь неназванный песни пою,
А значит, я брат вам и друг.
Вчера мой сверстник в форме капитана,
Вернувшийся на днях из Казахстана,
Где расположен Энский полигон,
(Не дай мне, Боже, выболтать секрета!)
Рассказывал, как действует ракета,
Причем, весьма был этим увлечен.
Он говорил, не в силах скрыть азарта,
Что зрелище ракеты после старта
Божественно и полно красоты.
Земля дрожит, трава на ней дымится,
Горит... Тебе такое, мол, не снится!
(Он незаметно перешел на «ты».)
И странно – я, певец разоруженья,
Не смог унять душевного движенья,
Представив этот грохот и полет.
Так что же сердце заставляет биться?
Неужто жажда крови и убийства,
Что в глубине души моей живет?
Скорее, здесь мальчишеское что-то:
К оружию пристрастье и охота
Зайти, как в детстве, в ярмарочный тир...
Я сверстника разглядывал, тупея.
Запомнились зачем-то портупея
И новенький, с иголочки мундир.
Комариный писк,
Медленный, летучий.
Светел лунный диск.
Ветер гонит тучи.
В сероватой мгле
Четкий контур ставен.
Будто на земле
Я один оставлен.
Будто эта ночь
Долгая, как повесть,
Мне должна помочь
Умереть на совесть.
Завершить дела,
Погасить светильник...
На краю стола
Тикает будильник.
Эта белая ночь так тиха,
Что прохожих шаги под балконом,
Как ударные стопы стиха,
Во дворах отдаются со звоном.
Эта белая ночь так пуста,
Что словами ее не заполнить,
Но пространство пустого листа
Приглашает все это запомнить.
Эта белая ночь так черна,
Так длинна и так тянется сладко,
Что душа, ее свойствам верна,
Растворяется в ней без остака.
Обращаюсь к звезде:
неужели мы так одиноки?
Нет нам братьев нигде,
так зачем ты горишь на востоке?
И зачем ты нас дразнишь
подобием жизни и света?
Нет мучительней казни,
чем видеть твой взгляд без ответа.
Неужели мы все
от простой опечатки природы?
Эти травы в росе,
эти всходы и вешние воды,
Эта жизнь без конца —
неужели она только шутка
Молодого Творца,
от которой становится жутко?
Серебряный кораблик
Над облаком летит.
Мне нравится, мне нравится
Его беспечный вид.
Он легкий и блестящий,
Как щелочной металл.
Ах, век бы я над миром
Корабликом летал!
Чтоб надо мной звенели
Пустые небеса,
Чтоб солнце отражали
Литые паруса,
Чтоб я счастливым не был,
Но пролетал, как дым,
Корабликом по небу,
Живительным, живым.
Наша родная Вселенная
С звездочками во тьме —
Облачко обыкновенное,
Спрятанное в уме.
Крупный масштаб мироздания,
В общем, легко понять.
Он для венца создания
Проще, чем пятью пять.
Но, неразгаданный в вечности
И стерегущий нас,
Жуткий приют бесконечности
Там, за зрачками глаз.
Там, за пределами знания,
Сбивчивы, неясны —
Наши надежды, страдания,
Страсти, сомненья, сны.
«Я родился... Какая загадка!...»
Я родился... Какая загадка!
Нет, послушайте, это про вас.
В мире хаоса и беспорядка
Я родился. Лучинка зажглась.
Значит, были к тому предпосылки,
И имелся такой уголок,
Чтобы пламенем тусклой коптилки
Осветить его хоть на вершок.
Значит, кто-то поставил задачу.
Кто – неважно, но был кто-нибудь.
Я живу, я сгораю, я значу.
Я свечу... В этом, собственно, суть.
Все печальнее речи
И суровее взгляд,
Но сыны человечьи
Не о том говорят.
Как мне сделать понятней
Эту музыку сфер?
Вам бы все позанятней,
Про любовь, например.
Я ль страстей не имею,
На две трети земной?
Но немею, немею
Пред любовью иной.
Продолжение рода —
Это ль главное, друг?
С вечным зовом: Свобода! —
Продолжается дух.
Не желаю лукавить
И грозить вам судом.
Только бы не оставить
Ничего на потом.
«Все совершится только здесь...»
Все совершится только здесь.
Умрешь ты полностью и весь.
Твоя душа ни в ад, ни в рай
Не попадет, и не мечтай.
Все совершится только тут,
За эти несколько минут,
В общенье с этими людьми.
Меня ты правильно пойми.
С так называемым Творцом
Легко казаться мудрецом,
Хотя, по правде, – нет его.
Короче – нету ничего.
И все-таки: Творец... душа...
А жизнь сложна и хороша,
Полна предчувствий и причуд,
Хоть завершится только тут.
Герману Гессе,
автору «Игры в бисер».
Спокойна альпийская крепость
И в дымке почти не видна.
А в мире – такая нелепость! —
Которое лето война.
Осталось, как видно, немного,
Чтоб рухнул весь божеский свет.
Но поза индийского йога —
Единственно верный ответ.
Глядит на цветущую вишню
В безмолвии вещем старик,
И рядом с ним Шива и Вишну
Глядят на больной материк.
Нужны ли защитники духа,
Хранители древних даров,
Коль скоро касается слуха
Лишь пушек воинственный рев?
Но старец глаза прикрывает
И долгим кивком мудреца
Дает убедиться, что знает
О замысле тайном Творца.
Пускай там земные сраженья
Проходят своим чередом...
Служенье, служенье, служенье!
Ты призван нездешним судом.
«В электричке стоящий в проходе...»
В электричке стоящий в проходе,
Изучающий жизнь на бегу,
Что я знаю об этом народе?
Чем помочь его мыслям могу?
Не представить, к примеру, как сложен
Этот розовый пенсионер,
Но меж нами контакт невозможен
По причине хороших манер.
Не узнать, почему эти двое
Так устало в окошко глядят.
Что у них там случилось такое?
Размышленье? Размолвка? Разлад?
Не понять даже самую малость
Из увиденных мною окрест:
И ребенка невинную шалость,
И стареющей женщины жест.
И поэтому в силу привычки
Говорю, как могу, о себе:
– Пассажиры, – прошу, – электрички!
Хоть в моей разберитесь судьбе.
Я такой же случайный прохожий,
Представитель трудящихся масс.
Вот ладонь. Наши линии схожи.
Вот стихи. Они тоже про вас.
И, внимая им на повороте
И в пространстве чертя полукруг,
Может быть, вы себя узнаете
И себе удивляетесь вдруг.
Казалось бы, уже забыл
Тебя за давностью утраты.
Умерен юношеский пыл
И стерлись имена и даты.
Казалось бы, ты далеко,
Мы знать не знаем друг о друге.
Но вот поди ж ты, как легко
Подняться вновь душевной вьюге!
Девчонка, школьница, как ты —
И некрасива, и красива,
Твои далекие черты
Случайным взглядом воскресила.
Она взглянула, как тогда.
Не знаю, что уж ей казалось?
Моя давнишняя беда
Ее, по счастью, не касалась.
Искала, может быть, ответ,
Косясь и с кем-то там толкуя?..
Но я-то прожил столько лет.
Но я-то видел в ней другую.
«Прости, зверек неосторожный...»
Прости, зверек неосторожный,
Попавший в сети хитреца!
С какой улыбкой невозможной
Ты сберегаешь честь лица,
Скрываешь признаки испуга,
Твоя ладонь слегка дрожит.
Мы так опасны друг для друга,
Что, может, вправду нам дружить?
И, прикрываясь легким тоном
Коротких и случайных встреч,
Быть верным всяческим законам
И долг беречь, и дом стеречь.
Напишу ему: «Здравствуй, потомок!
Ты прости, что твой пра-пра-прадйд
Был по вашим понятьям подонок
И к тому же никчёмный поэт.
Ты прости ему бедную лиру,
И обман, и притворство его.
Он хотел лишь понравиться миру
И повсюду играл своего.
Среди русских считался он русским,
Средь евреев казался еврей,
Среди женщин был чуточку грустным
И веселым средь старых друзей.
В этом не было даже расчету,
А скорее, позор да беда.
Но по самому строгому счету
Был чужим он везде и всегда.
Поносили его и венчали,
Улыбался он, скромен и мил.
„В многой мудрости много печали“,—
Повторять он частенько любил.
Утомясь от борьбы постепенно,
Стал он тих и покорен судьбе.
Ну, а если сказать откровенно,—
Он мечтал быть понятным тебе.
Ты прости ему эту записку,
Заготовленную наперед...
Знаю я: наша встреча не близко.
Холод времени пальцы сведет».
Непонятно – где,
Непонятно – как,
На одной звезде
Жил один дурак.
Он не изучал
Книжек мудрецов,
Не видал начал,
Не видал концов.
Только ел да ел,
Только спал да спал,
Но однажды сел
И во сне сказал:
«Объясните мне,
Для чего живу?
Или я во сне,
Или наяву?»
Тут над ним как раз
Ворон пролетал
И, скосивши глаз,
Так ему сказал:
«Я живу в труде
Несколько веков.
Стало на звезде
Много дураков.
Видно, я отстал,
Это верный знак...»
«Долго ли я спал?»,—
Говорит дурак.
Он протер глаза,
Голову поднял,
Глянул в небеса,
Звезды увидал.
«Я не так уж глуп,—
Проворчал дурак.—
Вот звезда Дануб,
Вот созвездье Рак.
Вижу Южный Крест,
Вижу Млечный Путь...
Столько разных мест
Знает кто-нибудь?»
Ворон каркнул раз,
Ворон каркнул два
И, скосивши глаз,
Он сказал слова:
«Черен день-деньской,
Страшен час суда.
Где звезда тоской,
Там близка беда».
И, сказавши так,
Дальше полетел.
Ну, а наш дурак
На звезде сидел.
Чтоб понять мораль
В небо не смотри.
Бесконечна даль.
Истина внутри.
Мертвые, мертвые,
совершенно мертвые люди
Пьют, смеются похабному анекдоту.
Мертвые женщины носят мертвые груди
Так, словно выполняют общественную работу.
Когда же я умер? Какую смертную дату
Прикажете выгравировать на блестящей табличке?
Мертвый мой голос, точно завернутый в вату,
Не имена называет теперь, а клички.
Мертвые лица склонились ко мне с участьем.
Мертвым надеждам не суждено сбыться.
Как?
Вот это и называется счастьем?
И ради этого стоит на миг продлиться?
Обращаюсь к читателю,
А читателя нет.
Предан скоросшивателю
Мой словесный портрет.
В тонких линиях абриса
Невесомый почти,
Он – посланье без адреса,
Кто-нибудь, да прочти!
Не прошу снисхождения
За мое ремесло.
Все мои заблуждения —
Незаметное зло.
Мой потомок с беспечностью
Их осудит, смеясь.
Вот и будет мне с вечностью
Долгожданная связь.
Даты жизни целой
В строчки уложу.
Вот еще незрелый
Вам рукой машу.
В горделивой позе,
Точно чемпион,
Неподвластный прозе
Нынешних времен.
Вот уже умнее
И печальней взгляд.
Что со мною? Старею.
Возраст виноват.
Кое-что усвоил
Из простых манер.
Понял, чту я стоил
Раньше, например.
Вот совсем уж скучный,
Умудренный весь,
Неблагополучный,
Утерявший спесь,
Слабый, виноватый
Напрочь, навсегда.
Вот такие даты.
Месяцы. Года.
«Долго совести до Бога добираться...»
Долго совести до Бога добираться.
Долго сор мести и долго завираться.
Долго книжные осваивать науки.
Всем мы ближние, но в этом столько муки!
Долго, долго драться с собственною тенью.
Чувство долга – многолетнее растенье.
Долго повести печатать на бумаге.
Чувство совести нуждается в отваге.
(1972-79)
Я вспомнил всех, кого я не любил
(Их оказалось на поверку мало):
Приятеля, с которым водку пил,
Его жену, что всё на свете знала,
Ученого соседа моего,
Известного поэта одного,
А может, двух... Учительницу пенья,
Редактора на радио, кому
Высказывал в письме я точку зренья,
Неясную тогда мне самому.
Я вспомнил всех, кого я не любил,
И оказалось: я покладист был.
Я вспомнил всё, к чему был равнодушен
(Я не скажу, что вовсе нетерпим).
Успех у женщин? Он, конечно, нужен,
Но вот хлопот не оберешься с ним.
Тщеславие меня не подгоняло
И зависти я, вроде бы, не знал.
Не требовал от ближних пьедестала,
И то сказать: к чему мне пьедестал?
Всё выходило так, что я не воин,
Хотя в себе уверен и спокоен.
Я вспомнил всё. А то, что позабыл,
Фантазией расчетливо восполнил.
Я вспомнил всех, но я тебя не вспомнил.
Не потому, что тоже не любил,
А потому, что страсти не в почете,
Спокойствие оплачено ценой
Достаточной, и при таком расчете
Тебе одной известно, что со мной.
1972
«Эти письма порви поскорей...»
Эти письма порви поскорей,
Раскроши их на малые дольки
И развей за окошком... но только
Ни о чем, ни о чем не жалей.
Всё, что было когда-то милей
И любого подарка дороже,
Выбрось в форточку разом... и всё же
Ни о чем, ни о чем не жалей.
И вина напоследок налей,
Пригуби из бокала немного
И забудь меня, но... ради Бога,
Ни о чем, ни о чем на жалей!
1974
«Безрадостна любовь в разлуке вековой...»
Безрадостна любовь в разлуке вековой.
Пора уже смахнуть на письмах паутину.
Я в затяжном прыжке лечу вниз головой,
И звездный ветерок мне зябко дует в спину.
Безрадостна любовь без губ твоих и глаз,
Без видимых примет и без прикосновений.
Какой небесный дух отнял ее у нас?
Обнял тебя, унес – какой жестокий гений?
Безрадостна любовь, сгоревшая в два дня.
По Млечному Пути нельзя шататься праздно.
Лети за мной, лети! Не покидай меня!
Но не губи себя – бессмысленно, напрасно...
1974
Печку на ночь затопили,
Принесли вязанку дров,
Стол накрыли, чай попили,
Разогрели чаем кровь.
Все дневные огорченья
И превратности судьбы
Без особого мученья
Вылетели из трубы.
Только влажный шепот сада
И бормочущая печь —
Вот и всё, что было надо,
Чтобы выпрямилась речь.
Чтобы тайные изломы
Нашей жизни суетной
Стали вовсе незнакомы
И ходили стороной.
1976
«На Васильевском острове ночь коротка...»
На Васильевском острове ночь коротка.
Над Васильевским островом спят облака,
Повторяя его очертанья,
Прикрывая ночное свиданье.
В темных сквериках липы наклонно торчат,
И какие-то типы в подъездах молчат.
Сигаретки горят со значеньем,
Приглашая к ночным приключеньям.
На Васильевском острове глуше шаги.
Синий ангел слетает с трамвайной дуги
И лицо твое искрой крылатой
Вырывает из тьмы вороватой.
Сотня окон разинула черные рты
И глотает холодный настой пустоты,
Но не спрятаться нам, не согреться.
В этом городе некуда деться.
1976
Все поэты с ума посходили,
Повлюблялись, забросили стих,
Поглупели, забыли о стиле,
Никакой нет управы на них!
В январе, феврале и апреле,
В сентябре, октябре, ноябре
Всё грустили, печалились, млели,—
Вечерком, среди дня, на заре.
Ревновали, искали предлога,
Уезжали черт знает куда.
И – ни рифмы, ни буквы, ни слога,
Только письма туда и сюда.
Целовали возлюбленных в груди,
Совершали иные грехи...
А другие какие-то люди
Потихоньку кропали стихи.
1974
В. Б.
1.
Зима такая – то заплачет,
То горьким снегом завалит.
Наверно, это что-то значит,
И в этом замысел сокрыт.
Наверно, хитрая природа
Опять готовит недород,
Но все упорней год от года
Наш удивительный народ.
А впрочем, есть такое мненье,
Что потеплело все вокруг.
И теплые стихотворенья
Шлет с юга недалекий друг.
Повсюду теплое участье
В моих немыслимых делах,
И даже тепленькое счастье
В квартирных светится углах.
Сижу на кухне за машинкой,
И капли бьются о карниз.
Вот чертик с бешеной лезгинкой
Из Грузии, без всяких виз,
Блестя кавказскими глазами,
Сжимая узенький кинжал,
Весь в газырях, смешной, с усами,
Ко мне внезапно забежал.
Откуда? Что за наважденье?
Ведь я элегией болел!
Но чертик, чувствуя смятенье
Мое, на табуретку сел
И, наслаждаяся кинжалом,
Полезным духом макарон
И сыра запахом лежалым,
Повел такие речи он:
«Вы думаете, сочинитель,
Что я, шутейный персонаж,
В поэме этой только зритель?
Отнюдь! Я соблазнитель ваш.
Вы думаете, я не смею
Оставить запись на полях?
Все ваши рифмы я имею
В моих блестящих газырях!»
И вслед за этим, как проворный
И ловкий иллюзионист,
Рукою тоненькой и черной
Он стал набрасывать на лист
Такие рифмы: лето-мета,
Зима-письма, тебе-судьбе...
Во всем похожий на поэта
И с бородавкой на губе.
И я, скорее под диктовку,
Чем по велению ума,
Используя его сноровку,
Постыдно начал: «Шла зима.
Летел февраль подбитой птицей.
Я ждал письма. Оно не шло.
Над нашей северной столицей
Пока еще не рассвело...
Я шел по Невскому. Струились
Огни машин по мостовой,
И окна медленно слезились,
И фонари вниз головой
В просторных лужах отражались.
Висела водяная пыль.
Прохожие в сторонку жались,
Когда бежал автомобиль.
Я шел по Невскому на запад,
К Адмиралтейству, но на грех
Дальневосточный дикий запах
На Мойке, на виду у всех,
Меня поймал за нос, и тут же
Я провалился и исчез,
Оставив вам витрины, лужи,
Февраль, тоску и райсобес...»
2.
На берегу того залива,
Почти что на краю земли,
Где волны весело, игриво
Барашки белые несли,
Стояли девочка и мальчик,
Прожившие полжизни врозь...
Такой затейливый кошмарчик,
Что только оторви да брось!
Любовь?.. Скорее, отсвет детства
И юности свободный стих,
За то полученный в наследство,
Что было чистого у них,
Что сберегли они подспудно
И пронесли с собой тайком
По жизни медленной и трудной,
Где на коне, а где пешком.
Три встречи было, три разлуки,
Три ожидаемых беды.
Твои опущенные руки
И рельсов жуткие следы.
Вагон пошел, как нож по вене,
Болтая красным фонарем.
Мы трижды гибли в этой сцене,
Но сколько раз еще умрем?
Нам посчастливилось родиться
В такой обширнейшей стране!
Мы, точно маленькие лица
На брейгелевском полотне,
Разбросаны в углах небрежно
Среди чужих и чуждых лиц
И наблюдаем безнадежно
Парение свободных птиц.
Кричи, зови – не дозовешься!
И щель почтовая узка.
По письмам вряд ли разберешься,
Какие долгие века
Прошли без нас, пока мы ждали,
Пока читали невпопад
Слова вокзальные в журнале
И шли вперед с лицом назад.
Зачем нам память, если болью
Она прорезалась опять?
Зачем нам этой крупной солью
Былые раны посыпать?
Зачем нам долгое мученье
И плач по дурочке-судьбе?
Я хоть в словах ищу спасенья,
Но что останется тебе?
3.
С такими мыслями я вышел
На Стрелку. Серая Нева
Катила мимо. Кто услышал
Мои печальные слова?
Но все казалось мне печальным:
На рострах вид печальных тел,
И ангел в золоте сусальном
Печально крыльями блестел.
Печален был наш тяжкий город,
Тосклив зеленый Эрмитаж.
А тот, кто смолоду был молод,
Далекий современник наш,
Уже на каменной подставке
Стоял с откинутой рукой,
Внеся последние поправки
В свою судьбу своей строкой.
Чужая память колоннады,
Дворцов, торцовых мостовых...
Но почему же мы не рады
Всему великолепью их?
Откуда эта безысходность
И почему печален крик?
Любовь, как малая народность,
Хранит свой собственный язык.
Все было в мире, и наверно,
Любовь различная была.
Любили преданно и верно,
Любовь была добра и зла.
Воспетая в стихах и прозе,
Она всегда была в ходу,
Уподобляясь часто розе,
Цветущей где-то на виду.
Но тайная, полуслепая,
Сплетенная из редких встреч,
Обыкновенная такая,
Вот эта, о которой речь,
Которая случилась с нами,
Со мной случилась и с тобой,
Годами мерянная, днями —
Нет, больше не было такой!
Когда увидимся?.. Кто знает!
Когда расстались мы?.. Давно!
Февральский снег повсюду тает.
Нам больше жизни не дано.
И только город этот странный,
Наверно, впишет пару дней
В строку, но вид его туманный
Не станет ближе и ясней.
Февраль 1974
Верни мне логику сознанья,
Философ Кант Иммануил,
Чтоб это позднее свиданье
Мне выдержать хватило сил.
Напомни каменной гробницей
О тесных рамках бытия,
Где, как в шкатулке, сохранится
Вся жизнь мгновенная моя.
Какое надобно терпенье —
Ее осилить день за днем,
Чтоб превратить в одно мгновенье,
В пробел на камне гробовом,
Чтоб уместились между строчек
С обозначеньем точных дат
Апрельский ветер, женский почерк,
Вокзальный гул, прощальный взгляд.
В просторном городе, продутом
Холодным прусским ветерком,
Мы жизнь копили по минутам,
Подсчитывая их тайком,
Пересыпая на ладони
Их зыбкий золотой песок,
Пока в гробнице, как в вагоне,
Спал Кант, бессмертен и высок.
Он, осуждающий беспечность,
Спокойно ехал сквозь века
До станции с названьем «Вечность»,
Пока встречались мы, пока
Твоя рука в моей лежала,
И ночь качала фонарем,
И ты почти что не дышала,
Уснувши на плече моем.
Любимая! Какой философ
Поможет этакой беде?
Неразрешимей нет вопросов.
Мы в «никогда» с тобой. В «нигде».
Мы вычеркнуты из объема,
Из времени исключены,
У нас нет крова, нету дома,
И до тебя – как до Луны.
Для нас короткое свиданье —
Провал во времени, когда
Бессмертное существованье
Нам тайно дарят поезда.
А философскую систему
Любви – постиг ли кто? открыл?
Что скажет нам на эту тему
Философ Кант Иммануил?
14. 4. 74.
Лови уходящее счастье,
Безумную птичку-любовь!
Ты больше над милой не властен,
Ничто не повторится вновь.
Беги по ночному бульвару,
Глотая осенний туман,
И где-то в гостях под гитару
Пой песни, бессилен и пьян.
Прокручивай в памяти снова
Безвкусное это кино:
Легчайшая сеть птицелова,
Пустая квартира, вино,
Загадка случайного взгляда,
Обман, не любя и любя...
«Не надо, не надо, не надо!» —
Тверди это так про себя.
Измученный медленной жаждой,
Смотри в проходящий трамвай
И с трепетом в женщине каждой
Родные черты узнавай.
1976
«Счастливые стихов не пишут...»
Счастливые стихов не пишут
Ни в будни, ни по выходным.
Они рождаются и дышат
Счастливым воздухом своим.
Спокойные и трудовые,
Приученные ко всему,
Им эти точки, запятые,
Им эти строчки – ни к чему.
У них иное время быта,
Иная светит им звезда.
И что прошло – то позабыто,
А что случится – не беда.
А ты, растерзанный на части
Печалью, ложью и стыдом
Себе изобретаешь счастье
На трудном листике пустом.
1972
Те улочки, где нас не ждут,
Где дверь с замком скрипучим,
По ним бродили там и тут
Мы в детстве невезучем.
Те улочки, где нас не ждут,
Ничто в них не забыто!
По ним бродили там и тут
Мы в юности несытой.
1979
Перевод с польского
«Дарите себя, не стесняйтесь!...»
Дарите себя, не стесняйтесь!
Дарите решительно всем.
Влюбляйтесь, грешите – старайтесь
Себя подарить насовсем.
Дарите себя неумело,
Дарите житье и бытье,
И душу дарите, и тело,
И дело дарите свое.
Дарите пожитки, бумаги,
Дарите свой голос и смех,
Дарите в приливе отваги,
Дарите, не веря в успех.
Дарите себя, забывайте,
Когда подарили, кому...
Дарите, но не продавайте!
Вот, собственно, речи к чему.
1972
Приятель Сирано! Мечтатель с длинным носом!
Пока я пью вино, пока мне все равно,
Смеяться можешь, но... Не приставай с допросом!
Такое вот кино, приятель Сирано.
Покаемся в грехах – и голову на плаху.
Признаемся в строках, рожденных впопыхах,—
Она воскликнет: «Ах!..» Да ну ее к Аллаху!
Понятье о стихах у ней, как о духах.
Приятель Сирано! Ценителем молчанья
Я стал уже давно. В душе все сожжено.
Воистину смешно мне слушать восклицанья.
Спасение одно – вино и домино.
Любимая, молчи! Немая – ты прекрасна!
Пусть в мартовской ночи безумствуют грачи.
Искать к тебе ключи отнюдь не безопасно,
Но глаз твоих лучи темны и горячи.
1972
«Я с радостью стал бы героем...»
Я с радостью стал бы героем,
Сжимая в руке копьецо.
Светилось бы там, перед строем,
Мое волевое лицо.
Раскат офицерской команды
Ловлю я во сне наугад,
Пока воспаленные гланды,
Как яблоки, в горле горят.
Я стал бы героем сражений
И умер бы в черной броне,
Когда бы иных поражений
Награда не выпала мне,
Когда бы настойчивый шепот
Уверенно мне не шептал,
Что тихий душевный мой опыт
Важней, чем сгоревший металл.
Дороже крупица печали,
Соленый кристаллик вины.
А сколько бы там ни кричали —
Лишь верные звуки слышны.
Ведь правда не в том, чтобы с криком
Вести к потрясенью основ,
А только в сомненье великом
По поводу собственных слов.
Молчи, наблюдатель Вселенной,
Аструном доверчивых душ!
Для совести обыкновенной
Не грянет торжественный туш.
Она в отдалении встанет
И мокрое спрячет лицо.
Пускай там герои буянят,
Сжимая в руке копьецо!
1974
«Меньше слов и больше дела...»
Меньше слов и больше дела.
Никому не нужен крик.
Важно, чтоб душа сумела
Для себя найти язык.
Важно быть честнее века,
Твердо стоя на своем,
Чтобы профиль человека
Был яснее с каждым днем.
Важно счастью научиться
И трудиться, а не ныть.
Что случится, то случится,
Значит, так тому и быть.
Значит, эти испытанья
Уготованы тебе,
Точно знаки препинанья
В предначертанной судьбе.
1972
Ничто не проходит бесследно
Из верно служивших вещей.
Подсвечник какой-нибудь медный,
И тот попадает в музей.
Какой-нибудь стул колченогий
Векам оставляет портрет,
Исполненный кистью Ван Гога,
Влюбленного в данный предмет.
И дело не столько в поэте,
В художнике, где б он ни жил,
А больше в том самом предмете,
Который исправно служил.
1972
Выходя из ресторана,
Не забудьте посмотреть
На творенье Монферрана,
Побеждающее смерть.
Можно спорить, осуждая
Архитектора за вкус,
И, себя не утруждая,
Слыть поборником искусств.
Можно даже, как нарочно,
Не заметить храма, но
Все же он поставлен прочно
И стоит уже давно.
А суждения о стиле
Бесполезны и смешны.
Что бы вы ни говорили,
Он стоит и хоть бы хны.
1972
Я расскажу, как стыдно быть немым
В пивной, где виснет папиросный дым,
В трамвае, утомительно бренчащем,
Как мелочью, усталыми людьми,
На пыльном тротуаре, где прохожий
Походит на тебя не только кожей,
Но и душой, которую едва
Возможно ль толком воплотить в слова.
Как стыдно быть немым, когда в тебя
Заглянет человек, стоящий рядом:
«Вы, кажется, листаете словарь?
Ну, что там пишут новенького нынче?»
А что сказать?.. Скажу ему: душа!
Тогда другой (он пьян, стоит нетвердо)
Обидится и скажет: «Ни шиша!» —
И будет прав... Как стыдно быть немым,
Когда взирают на тебя с надеждой
И ждут, что вот сейчас, еще немного,
И будет слово каждому дано.
«Вот, например, – скажу, – любовь. Чем плохо?»
Но женщина вздохнет: «Не та эпоха!»
И дядя согласится: «Нет любви.
Ты что-нибудь другое назови,
А то кругом помешаны на сексе...»
Ах, сердце! Для чего ты бьешься, сердце?
Ты телеграф, но я, не зная кода,
Твержу свое: душа, любовь, природа...
Перевожу: любовь, природа, смерть.
«От взрыва?» – уточняет тот же дядя.
Бегу вперед, ни на кого не глядя,
Растерянный, подавленный, немой.
1972
Несчастные люди – поэты,
Которых не слышит никто.
Блокнот, карандаш, сигареты
В дырявом кармане пальто.
Стоит он на Невском проспекте
И смотрит на время свое,
Решая, в каком же аспекте
Ему трактовать бытие?
На вид ему где-то под тридцать,
И труден решительный шаг...
А время идет, как патриций,
Надменное, с ватой в ушах.
1972
«Не надо бросаться словами...»
Не надо бросаться словами
Такими, как «правда» и «ложь».
Воинственный крик, между нами,
На слабое эхо похож
Того, настоящего крика
Объятой смятеньем души,
Узнавшей, что всё многолико
И нету ни правды, ни лжи.
1973
Где-то новый Монтень в эмбрионе
Ожидает, когда небеса
Уничтожат, как тлю на ладони,
Человечество за полчаса.
Набирается где-то терпенья
На грядущие тысячи лет
В виде клетки – дитя вдохновенья,
Девяностого века поэт.
Может быть, напрягаясь от муки
В той, неведомой нам, тишине,
Он найдет те же самые звуки,
Что сегодня услышались мне.
И строители будущей эры
Позаботятся также о том,
Чтоб принять надлежащие меры
И поэта исправить трудом.
Но Монтень потихоньку напишет,
И поэт потихоньку вздохнет.
Кто услышит, а кто не услышит,
А услышав, не всякий поймет.
1972
Век не знает удачи.
Утомлен пустотой,
Он, как мальчик, заплачет
Над своею мечтой.
Рассыпая игрушки,
Заводные слова,
Он услышит, как пушки
Утверждают права.
Он услышит раскаты
Победительной лжи
На фанерном плакате,
Что закрыл этажи.
Там на площади бравой
Оркестрантов семья
Тешит головы славой
Октября, ноября.
Расступитесь, витии!
Эти беды – не вам.
Все печали России —
Городам, деревням,
Матерям и солдатам,
Что в тревожном строю
Верят чисто и свято
Октябрю, ноябрю.
1976
Живите, как придется,
Любовью и трудом.
Чем больше чашек бьется,
Тем больше счастья в дом.
Учтите, что карьера
И важные дела —
Не более, чем мера
Падения и зла.
Значительно полезней
Быть бедным дураком,
Чем умным, от болезней
Умершим стариком.
Душевное здоровье
Не смогут уберечь
Ни молоко коровье,
Ни праведная речь.
Вы денег накопили,
Достигли вы вершин.
Но помните – могиле
Довольно трех аршин.
Богат не тот, кто может
Купить автомобиль,
А тот, кто вам поможет
Не обратиться в пыль.
И я, поэт бродячий,
Запечатлевший мир,
Значительно богаче,
Чем вор или банкир.
Поэтому не стоит
Жалеть меня, ей-ей!
Ведь тот, кто яму роет,
Всегда бывает в ней.
1975
(Из Жоржа Брассанса)
1.
Заплачу я, как плачет ива,
Когда наш Боженька с утра
Зайдет и скажет мне игриво:
«А не пора ли нам пора?»
Мне этот мир придется бросить,
Оставить навсегда его,
Но... пошумит еще средь сосен
Сосна для гроба моего!
2.
Когда в казенной колеснице
Меня к чертям поволокут,
Я постараюсь тихо смыться,
Хотя б на несколько минут.
Пускай могильщики бранятся,
Пускай пеняют на меня!
Могилы буду я бояться,
Как школьник доброго ремня.
3.
Но перед тем, как в ад спуститься
И души грешников считать,
Мечтаю я слегка влюбиться,
Мечтаю влопаться опять!
Сказать «люблю» какой-то пташке,
А хризантемы, что в венках,
Вполне заменят мне ромашки,
Чтоб погадать на лепестках.
4.
Великий Боже! Растревожа
Вдову, меня отправив в снос,
Ты не потратишь лук, похоже,
Чтоб довести ее до слез.
Когда ж вдова моя, к примеру,
Решится на повторный брак,
Пусть ищет мужа по размеру,
Чтоб он донашивал мой фрак.
5.
Ты, мой преемник незнакомый,
Люби жену мою, вино,
Кури табак мой, только помни —
Ко мне влезть в душу не дано.
Мое останется со мною,
И я смогу – сомнений нет! —
Стоять, как призрак, за спиною,
Коли нарушишь ты запрет.
6.
Итак, я кончил завещанье.
Здесь желтый листик погребен.
У двери надпись на прощанье:
«Нет по причине похорон».
Но я покину мир без злобы,
Зубных врачей покину я!
В могилу я отправлюсь, чтобы
Блюсти законы бытия.
1972
Перевод с французского
«Бросишь взгляд из окна, как монетку...»
Бросишь взгляд из окна, как монетку.
Что случилось? Как будто вчера
Я смотрел на зеленую ветку,
А сегодня она уж черна.
И ко мне наклонясь из потемок,
Ветка тоже угрюмо скрипит:
Что случилось? Вчера был потомок,
А сегодня уж предок глядит.
1977
Австралия по небу плавала,
Как облако с теплым дождем,
А Маша сидела и плакала,
И маму искала на нем.
Уехала мама в Австралию,
В Канберру, в такую дыру!
Ведет она жизнь очень странную
И прыгает, как кенгуру.
Вот с облаком мама сливается
И тонет в стакане вина.
С любовником Маша спивается,
Уходит от мужа она.
Над жизнью проклятие вечное
И в теле любовная дрожь...
Австралия, дура сердечная!
Да разве ж ты это поймешь?!
Пока в океане купается
Далекая эта страна,
Россия, как Маша, спивается
И плачет, как Маша, спьяна.
Никто ее душу не вылечит,
Ее дочерей не спасет...
Вот мама приедет и выручит,
И разных зверей навезет.
1976
«Писатель в ссылке добровольной...»
Писатель в ссылке добровольной
В чужой квартире бесконтрольной
Живет на первом этаже,
Романы пишет на обоях,
Детей не видит он обоих,
Покоя нет в его душе.
А за окном метель шальная,
Собака бегает больная,
Трамвай несется по струне.
Писатель ищет оправданья,
Живет, как в зале ожиданья.
Покоя нет в его стране.
Соединяя душу с телом,
Он занят безнадежным делом.
Нелеп его автопортрет!
Соединяя правду с ложью,
Надеется на помощь Божью,
А Божьей помощи все нет.
Ему бы помощь человечью,
Чтоб сладить с неспокойной речью,
Что в глубине его звучит.
Звонок молчит. Трамвай несется.
Никто за стенкой не скребется
И в дверь тихонько не стучит.
1979
Будем знать, какие люди.
Будем знать, который век.
Будем верить, верить будем
Или слушать первый снег.
Будем в маленьком пространстве
Выбирать себе друзей.
Позабудем и о пьянстве,
И о пользе новостей.
Будем слушать, слушать, слушать,
Как сквозь слезы или смех
Мягко падает к нам в души
Свет небес, нелегкий снег.
1974
Зачем я родился? Зачем я живу?
Зачем сочиняю седьмую главу
Мучительного романа,
И мне это вовсе не странно?
Ведь был, вероятно, какой-нибудь план?
Неужто так важно закончить роман?
Творец потерпел неудачу,
Без цели решая задачу.
Заманчиво было составить меня
Из камня и стали, из льда и огня,
Чтоб я был покоен и вечен
И стойкостью личной отмечен.
Но я получился на редкость другим,
И вот, вопреки начинаньям благим,
Сижу над страницей романа,
Вкушая всю прелесть обмана.
А там, на странице, какой-то герой,
Лишь непреднамеренно схожий со мной,
Гуляет и служит примером
Дошкольникам и пионерам.
Меня он пугает, словами звеня.
Он создан из камня, из льда и огня,
Он равно покоен и вечен
И стойкостью личной отмечен.
А я, незадачливый тихий творец,
Немного мудрец и немного глупец,
Решаю все ту же задачу,
Смотря в темноту наудачу.
1979
Кусты за окном электрички,
Срываясь, бежали назад,
Как будто участвовал в стычке
Кустов тонконогий отряд.
Как будто с Земли стартовали
И там, в невозможной дали,
Подбитые снегом, сверкали
Рапирами в звездной пыли.
Вся жизнь, как нелепая шалость,
В двойном отражалась стекле,
С летящей поземной мешалась
И дергалась нервом в скуле.
Глазами сухими, как буквы,
Глядел я – до срока старик —
И видел английские букли,
Напудренный белый парик.
Спокойное око милорда
За плоскостью виделось мне,
А в тамбуре пьяная морда
Летала от двери к стене.
Милорд! Расскажите, как глухо
В осьмнадцатом веке жилось,
Как вам на перинах из пуха
Просторно и сладко спалось.
Поведайте мне, как писалось
Гусиным скрипучим пером...
Вся жизнь, как нелепая шалость,
Летит за вагонным окном.
От глупостей нету защиты.
Кончается год-черновик.
Качается с виду сердитый
В суконной шинели старик.
Щипцами билет мой хватает...
Куда же я еду? К кому?
Милорд за окошком гадает,
Кусты улетают во тьму.
Не может житейская повесть
До грани такой довести.
Но совесть... Ах, если бы совесть
Могла уберечь и спасти!
1979
Добровольный изгнанник
В комаровской глуши,
Я грызу черствый пряник,
А кругом – ни души.
Собираю по крохам
Твердокаменный мед
И глотаю со вздохом
Запах летних щедрот.
Чудо чудное – пряник!
Сладость высохших губ.
Был любезен избранник,
Но изгнанник – не люб.
Диким медом отравлен,
С перекошенным ртом,
Он забыт и оставлен,
Как прочитанный том.
1976
Когда-нибудь наши обиды
И счеты – кто друг, а кто враг,
Под пристальным оком Фемиды
Бесславно рассыплются в прах.
Исчезнут нелепые тайны,
Остатки неловких острот,
И то, чем мы в мире случайны,
Надежно и прочно умрет.
Останутся, словно в насмешку,
Тетрадки неизданных книг,
Друзья и враги вперемешку
И время, связавшее их.
1974
«Что-то мало счастливых людей...»
Что-то мало счастливых людей
В государстве прекрасных идей.
Как-то мало счастливых минут
В той стране, где господствует труд.
Что-то мало безоблачных лиц
Среди жителей наших столиц.
Видно, только на периферии
Достигают они эйфории...
1978
Памяти Д. Д. Шостаковича
Ах, как грустно и печально! Как судьба страшна!
Потому необычайно музыка слышна.
То ли пение блаженных, то ли простой вой
Наших душ несовершенных в битве роковой.
Вот умрем мы и предстанем пред лицом Творца,
И бояться перестанем близкого конца.
Только музыка Вселенной будет нам опять
О загубленной и бренной жизни повторять.
Пейте жалостнее, флейты! Мучайтесь, смычки!
Подпоют ли нам о смерти слабые сверчки?
От тоски своей запечной, от немой любви,
От разлуки бесконечной в медленной крови.
Мы послушаем и всплачем, музыка-душа!
Ничего уже не значим, плачем не спеша.
На судьбу свою слепую издали глядим,
Утешаем боль тупую пением глухим.
1976
Геннадию Алексееву
Господи, в твоей обители
Невозможны чудеса.
Вот сидим мы, просто зрители,
Пялим сонные глаза.
В соответствии с законами
Проходящих мимо лет
Мы живем хамелеонами,
Изменяющими цвет.
Мы зависим от случайности,
От статьи очередной,
От жены, от урожайности,
От соседей за стеной.
И на каждое событие
Есть согласие Твое.
Боже, разве это бытие?
Разве это бытиё?
Извини, но Ты, мне кажется,
Стал ленивым и слепым.
Как-то, Господи, не вяжется
С прежним обликом Твоим.
Может быть, с позиций вечности
Мелковаты наши дни?
Боже, больше человечности!
Боже, меньше болтовни!
1976
Отпущена норма печали
И норма веселья дана.
Кто Богом считался вначале,
Зовется теперь Сатана.
Кто лириком был ради шутки,
Сатириком стал от тоски, —
Кто знает, которые сутки
До боли сжимая виски.
Кто пил, тот уже излечился,
Кто нй пил еще, тот запьет.
А тот, кто писать отучился,
Навеки лишился забот.
1974
Один-одинешенек в сломанном доме остался.
Распилена мебель, печален и грязен паркет,
Лоскут от обоев, как флаг на ветру, трепыхался,
И выжить старался оставленный кем-то букет.
Ах, этот букет! Семь гвоздик – по рублю за гвоздику.
С кровавыми шляпками – семь длинноногих гвоздей.
Один-одинешенек, мастер по нервному тику,
С досадою смотрит на этих незваных гостей.
Вот жизнь обломилась, как ветка, и хрустнула звонко,
Как выстрел, как косточка в пальце, как старый сухарь.
Свернулась по краю видавшая виды клеенка,
Из зеркала смотрит сквозь пыль незнакомый дикарь.
Один-одинешенек в кухню бредет,
наслаждаясь страданьем.
Он мнителен, грязен, запущен, печален, небрит.
С утра колет в печени. Борется горло с рыданьем.
Под чайником синее пламя бесшумно горит.
Испытывал прочность судьбы,
жил любимчиком Господа Бога,
Бросался друзьями, любимыми – и преуспел.
В душе, как в квартире запущенной – пусто, убого,
Разбитые стекла, со стенки осыпанный мел.
Но странно – чем глубже душа погружается в бездну,
Чем голос слабее и в теле острее печаль,
Тем чище один-одинешенек, ближе к законному месту,
Тем меньше ему своего одиночества жаль.
Подвинув диваны, шкафы, и содрав все обои,
Себя распилив, и разрушив, и выбросив вон,
Из прежней надежды он заново завтра построит
Простое жилище и выкрасит дверь на балкон.
Уже притаились в углу инструменты и лаки,
Рулоны обоев торжественно пахнут весной.
Один-одинешенек слушает тайные знаки,
Сгорая от зависти к кисточке волосяной.
1978
Ах, как много дураков!
Больше, чем растений,
Насекомых, облаков
И других явлений.
Пробираясь сквозь толпу,
Глянешь осторожно:
Не написано на лбу,
Но прочесть возможно.
1976
«Ну что еще сказать? Что снова жизнь прекрасна?...»
Ну что еще сказать? Что снова жизнь прекрасна?
Что ветер над Невой все так же свеж и крут?
Что думать можно всяк, но говорить опасно
И спрятаться нельзя на несколько минут.
Казалось бы, родней не выдумать пространства.
Тянись к нему душой и воздухом дыши.
Истории пиши, где миг и постоянство
Сливаются в одно – и оба хороши.
Но родина стоит на глинах и суглинках,
Лежит тяжелый пласт, неслышим и незрим.
Оглянешься вокруг – и грусть, как на поминках.
Кому я говорю? Кому мы говорим?
Ну что еще сказать? Что жизнь прожить достойно
Случается не всем? Что истина внутри?
Но если не молчишь, то говори спокойно,
И если говоришь, то тихо говори...
1975
«Я хотел с этой жизнью спокойно ужиться...»
Я хотел с этой жизнью спокойно ужиться,
Не ершиться, не буйствовать, не петушиться.
Я считал неуместной ретивую прыть,
Потому что мне сущего не изменить.
Нелегко уподобиться Господу Богу!
Внешний вид нашей жизни внушает тревогу,
Но на всякий вопрос есть двоякий ответ,
Есть сомненья и мненья, а истины нет.
Наблюдая обычаи, нравы и страсти,
Я страшился своей удивительной власти,
Я расследовал каждый отдельный мотив,
Точно Бог-судия или Бог-детектив.
Получалось, что все замечательно правы:
Эти ищут любви, эти – денег и славы,
Третьих больше влекут благородство и честь,
Но нельзя никого никому предпочесть.
Все воюют и борются до одуренья,
Утверждая навечно свою точку зренья.
Я старался понять. Я был каждому брат,
Но остался один я кругом виноват.
Так что, братья мои, на ошибках учитесь!
И ершитесь, и буйствуйте, и петушитесь,
Неприятелей ваших сводите на нет,
Может, что-нибудь выйдет из этих побед.
Ну, а мы потихоньку заварим кофейник,
Наблюдая внимательно наш муравейник,
И, свой век доживая простым муравьем,
Растворимого кофию молча попьем.
1976