Книга: Шерлок Холмс и крест короля
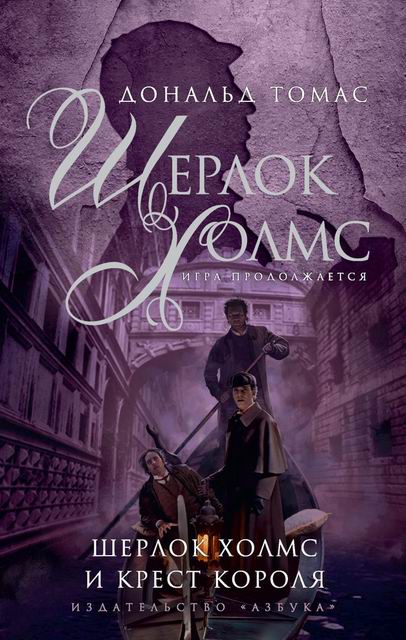
Шерлок Холмс и крест короля
Роберту, Дидре, Джейн и Кристоферу
Я чрезвычайно признателен доктору Линде Шекспир за предоставленную информацию о рукописях Байрона, а также Чарльзу Шлессигеру за интерес, проявленный к новым приключениям великого детектива.
Погожим майским утром 1901 года Холмс и я впервые встретились с Рэймондом Эшли Сэвилом, третьим графом Блэгдонским, которому в ту пору было около сорока пяти лет. Его дед, первый граф Блэгдонский, сколотил состояние и получил титул, открыв Коммерческий банк Сэвила в 1839 году. Он играл заметную роль в жизни лондонского Сити в период расцвета Викторианской эпохи. Прежде чем старого Джона Сэвила возвели в графское достоинство, он заработал свой первый миллион, сумев извлечь выгоду из железнодорожного бума сороковых. Затем, незадолго до того, как мыльный пузырь лопнул, находчивый коммерсант продал свои доли в капиталах Большой северо-восточной железной дороги и ее конкурентов. После этого немалый доход фамилии Сэвил был преумножен благодаря акциям крупной угледобывающей компании и нескольких новых «универсальных» магазинов, украсивших Вест-Энд в последние десятилетия XIX века.
Старик умер в 1897 году. Старший сын и наследник пережил его всего на несколько месяцев, и третьим графом Блэгдонским стал внук Джона Сэвила. По едкому замечанию Шерлока Холмса, аристократический титул через три поколения успел утратить свой «торговый налет», так что теперь Рэймонд Эшли Сэвил заседал в парламенте наравне с потомками Плантагенетов и сановников елизаветинских времен.
Родовое гнездо графов Блэгдонских в поместье Прайорсфилд построили за каких-нибудь сорок лет до того, как мы с Холмсом впервые его посетили. Ценой невероятных усилий была создана иллюзия, будто французский замок XVI века оторвали от берега Луары и поставили в долине Темзы, на полпути из Лондона в Оксфорд.
Вскоре Прайорсфилд оказался в центре нашего внимания, поэтому следует рассказать о нем подробнее. Лучший вид на дом открывался издалека: пассажиры оксфордского поезда могли мельком полюбоваться им, когда он вдруг вырастал за беркширскими лугами близ Виндзора. Вопреки стараниям архитектора и строителей здание в стиле французского Возрождения выглядело чересчур новеньким для того, чтобы представлять собой нечто большее, нежели игрушка успешных коммерсантов. Этот купол меж двух круглых башен с коническими крышами вполне мог бы увенчать павильон зимнего сада или гранд-отель популярного морского курорта.
Представители знатных семейств обычно хранят в своих замках оружие и знамена рыцарских времен, славу же Прайорсфилда составили витрины с изделиями из севрского фарфора, сверкающие золотые вазы с живыми цветами, расставленные на полированных обеденных столах, и писанные маслом помпезные салонные пейзажи. Ходили графы Блэгдонские по коврам с цветочным узором, которые сам Людовик XIV приказал выткать для залов Версаля.
Рэймонд Эшли Сэвил явился на Бейкер-стрит в назначенный час. Он был высок, сухощав и, по всей видимости, находился в расцвете сил, хотя и изрядно сутулился. Кроме того, в облике этого белолицего, гладко выбритого аристократа сквозила удрученность. Казалось, будто он несет на своих плечах всю тяжесть мира. Наш посетитель посмотрел на меня, и в его взгляде мне почудилось беспокойство. Затем он уселся в кресло, взмахнув длинными фалдами визитки, и обратился к моему другу:
— Мистер Холмс, то, что я вам расскажу, должно остаться между нами.
— Разумеется, милорд, — учтиво ответил Холмс. — Однако доктору Ватсону вы можете довериться так же, как и мне. Более того, я даже посоветовал бы вам это, поскольку при разрешении любых трудностей второе мнение оказывается весьма полезным. Будет лучше, если мой друг и коллега выслушает отчет об обстоятельствах дела из ваших собственных уст. Полагаю, что его присутствие необходимо.
Холмсу не раз случалось вот так, вежливо, но твердо, знакомить высокопоставленных клиентов со своими правилами. Лорд Блэгдон помолчал, как будто собираясь встать и уйти, однако вместо этого вздохнул и начал свой рассказ:
— Мистер Холмс, вам, вероятно, известно о том, что младший брат моего отца, лорд Фредерик Сэвил, погиб вместе с молодой женой в клэпемской железнодорожной катастрофе тысяча восемьсот семьдесят девятого года.
— Я знаю об этом, милорд, — тихо сказал мой друг.
— Пятилетний лорд Артур Сэвил остался сиротой, и мой отец воспитал его как родного сына. Конечно, близкой дружбы между нами быть не могло из-за разницы в возрасте — я старше почти на двадцать лет. Однако мои поступки по отношению к нему подтверждают, что Артур всегда значил для меня больше, чем просто младший кузен. Он унаследовал от своего отца лишь «титул учтивости», поэтому не может претендовать на место в парламенте или фамильное состояние, но я позаботился о том, чтобы в средствах мой двоюродный брат не нуждался. Оксфорд он покинул без ученой степени, при этом, как ни странно, приобрел репутацию подающего надежды пианиста. Если бы Артур проявил достаточное упорство, не имея иных средств к существованию, то, смею предположить, его ждала бы музыкальная карьера.
— Я интересуюсь концертной музыкой, — невозмутимо заметил Холмс, — и наслышан о выдающемся даровании лорда Артура. Сожалею, что он не стал его развивать. Его исполнение шопеновского этюда до-диез минор на частном концерте в Прайорсфилде было выше всяческих похвал — так сказал мне сам великий Владимир де Пахман несколько лет назад. Возможно, вашему родственнику и не пристало играть для публики, но он показал себя как блестящий пианист.
Граф наклонил голову в знак согласия.
— К сожалению, мистер Холмс, меня привели к вам не музыкальные достижения моего кузена. Я пришел поговорить о вопросе, касающемся его репутации. Сказать по правде, он известен в кругу богемных эксцентриков куда более, чем мне хотелось бы. Что до музыки, то ею он занимается все меньше и меньше, лишь изредка играя на семейных вечерах. Позвольте мне быть откровенным: я привязан к лорду Артуру и время от времени помогал ему в меру своих возможностей. Но с некоторых пор его поведение внушает мне тревогу.
Холмс приподнял бровь.
— Я не беру на себя смелость, милорд, исправить поведение вашего кузена.
Граф Блэгдонский жестом отклонил возражение моего друга.
— Я не говорю о том, что он проявил порочные наклонности или буйный нрав. Его нельзя упрекнуть в чрезмерном увлечении горячительными напитками, азартными играми или женщинами. Эксцентричность моего кузена заключается в том, что он в некотором роде коллекционирует странности как нечто самоценное, если вы меня понимаете.
— Уверен, что понимаю, милорд.
— Разумеется, я не назвал бы его сумасшедшим. Человек, который считает, будто френология позволяет судить о характере по шишкам на черепе, — не обязательно умалишенный. Того, кто причисляет себя к розенкрейцерам [1], именующимся магами Золотой Зари, психиатры не запрут в Бедламе. Пусть кто-то уверяет, что на спиритических сеансах ему являются души умерших, — у него есть право на свободу мысли. Тем не менее меня беспокоит, что мой брат превратился, скажем так, в собирателя подобных причуд.
— Если здесь не имело места мошенничество или принуждение, — мягко ответил Холмс, — я вряд ли буду вам полезен. Вероятно, доктор Ватсон…
— Но если странности моего кузена связаны с преступлением?
— Это, конечно, совершенно меняет дело.
— Вдруг однажды он безо всякой цели, а просто ради забавы начнет обворовывать по ночам своих родных, живущих с ним под одной крышей? Я пришел к вам, поскольку опасаюсь, что его эксцентричность, предосудительная сама по себе, может привести к нарушению закона.
Холмс выпрямился в кресле.
— Думаю, милорд, вам следует рассказать нам о своих подозрениях более подробно.
Под бременем свалившихся на него забот лорд Блэгдон, казалось, сгибался все ниже и ниже.
— В прошлую пятницу, мистер Холмс, ровно неделю назад, лорд Артур тайно пробрался ночью на земли Прайорсфилда и открыл подъемное окно библиотеки на первом этаже, отодвинув щеколду чем-то вроде ножа. Очевидно, для него не составило труда влезть на подоконник, после чего он прошел в северную гостиную. Там стоит большой застекленный буфет в стиле Луи-Филиппа, где хранятся лучшие образцы фарфоровой коллекции Прайорсфилда. Одна из наших экономок услышала скрип рамы и вышла посмотреть, в чем дело. Она застала лорда Артура в комнате, но он ее не видел. Поскольку мой кузен иногда бывает в доме, женщина не окликнула его, а обратилась к камердинеру, который в свою очередь разбудил меня.
— Полагаю, ваш брат посещал Прайорсфилд регулярно, однако при иных обстоятельствах? Пожелай он приехать, ему стоило об этом лишь попросить?
— Конечно. Он мог бы считать поместье своим домом, каковым, по сути, оно для него и было. Именно поэтому происшествие внушило мне такое беспокойство. В ту ночь я тихо спустился в гостиную, чтобы понаблюдать за лордом Артуром, не привлекая его внимания. Он открыл дверцу буфета, причем сделал это столь быстро, что я не успел заметить, воспользовался ли он отмычкой или ключом, который можно было изготовить по заранее снятому слепку.
— Это мы сумеем установить, — выпалил я, но Холмс, нахмурившись, подал мне знак молчать.
— Включать электрический свет ему не потребовалось, — продолжал лорд Блэгдон, — поскольку той ночью луна освещала комнату через незанавешенные окна. Я не мог хорошо разглядеть, что именно делает мой кузен. Он стоял ко мне спиной, повернувшись к полкам с севрскими вазами, жардиньерками, блюдами и шкатулками. Дверца буфета оставалась приоткрытой. Посуда, которая там хранится, покрыта синей или розовой глазурью, украшена золотым орнаментом и картинами парковых развлечений галантного века или сценами из античной мифологии. Лорд Артур коротко чиркнул спичкой и, как мне показалось, сразу нашел то, что искал. Двигался он быстро и бесшумно. Я не услышал ни звука, пока за ним наблюдал, и не могу вам сказать, брал ли он в руки какие-то предметы, хотя, вероятнее всего, так и было.
— Что он взял? — спросил я.
— Ничего, доктор Ватсон! Ничего! Если бы экономка не услышала, как в библиотеке открывается окно, мы вовсе не узнали бы о ночном визите лорда Артура.
— Закрыв дверцу, — вмешался мой друг, — он запер буфет и прошел из гостиной в библиотеку. Затем вылез наружу и опустил створку, не сумев задвинуть внутреннюю щеколду.
— Совершенно верно, мистер Холмс. При виде кузена я встревожился, подумав, что он попал в историю и теперь обворовывает собственных родственников из необходимости расплатиться с долгами. Или, возможно, он связался с преступниками, которые вынуждают его совершать кражи? Вы меня понимаете?
— О, вполне! Но случалось ли вам с тех пор снова находить окно не закрытым на задвижку?
— Нет. Его проверяли каждое утро.
— Отлично. Куда лорд Артур направился в ту ночь после того, как покинул ваш дом?
— Могу предположить, что он пересек лужайку, пошел по дороге, ведущей в деревню, и на станции дождался утреннего поезда.
— Хорошо, если так. В этом случае у него, скорее всего, не было сообщников и он, вероятно, не действовал по чьему-либо указанию. Конечно, ваш кузен мог осматривать фарфор, чтобы подготовить почву для будущего ограбления. Но, думаю, он легче справился бы с этой задачей, находясь в Прайорсфилде в качестве гостя. Так или иначе, на ближайшей неделе он не возвращался в ваш дом.
— Знай я, что лорд Артур хочет осмотреть коллекцию, я позволил бы ему любоваться ею, сколько угодно. Оттого меня и настораживает его таинственность. Поскольку никакого видимого ущерба моему имуществу он не причинил, я предпочел наблюдать за ним молча.
— Вы поступили правильно, милорд, — успокаивающе произнес Холмс.
— Удивительно, что в ту ночь на нем не было перчаток.
— Они ему и не требовались, — проговорил я. — Генри, главный инспектор Скотленд-Ярда, может читать по отпечаткам пальцев как по книге, однако кто станет ими интересоваться, если нет свидетельств преступления? Не заметь вашего кузена экономка, не было бы ни улик, ни даже подозрения.
Лорд Блэгдон покачал головой.
— Вы неверно меня поняли. На протяжении последних шести месяцев лорд Артур постоянно носил перчатки, зачастую не снимая их даже в помещении. Он не говорит об этом, не желает ничего объяснять, но мы подозреваем, что у него сыпь или другая проблема подобного рода.
— Ваш кузен и на пианино играет в перчатках? — спросил Холмс, и в его тоне мне послышалась нотка скептицизма.
— Конечно нет, — сказал наш посетитель не без некоторого негодования, — но музыку он почти совсем забросил.
— Надевает ли лорд Артур перчатки к обеду?
— Пару раз надевал. Впрочем, в последнее время он, оставаясь погостить в моем доме, ест у себя в комнате. И это наименьшая из его странностей.
— И когда лорд Артур в последний раз без перчаток играл в вашем присутствии на пианино?
— Около четырех недель назад, во второй половине дня. При этом присутствовали лишь несколько членов семьи, да и те обращали на него мало внимания, поскольку были заняты вистом. Брат исполнил первую вещь из «Карнавала» Шумана, потом остановился, закрыл крышку пианино, спрятал руки и ушел к себе.
— Ваш кузен в самом деле виртуозный музыкант, — любезно проговорил Холмс. — Удалось ли вам тогда разглядеть какие-либо отметины на его коже?
— Нет, — ответил лорд Блэгдон. — Правда, я сидел в некотором отдалении и видел только тыльные части рук. Никакой сыпи на них я не заметил.
— Тогда мы можем заключить следующее: что бы ни вынуждало лорда Артура носить перчатки, эта причина позволила ему исполнять Шумана без них. С тех пор кто-нибудь пользовался инструментом?
— Нет. Когда на пианино не играют, крышку опускают и запирают ключом.
— Стирали ли с клавиш пыль?
— Думаю, нет. Клавиатуру, как обычно, закрыли, и я не припомню, чтобы миссис Роули, экономка, просила ключ в последнее время.
— Прекрасно! — сказал Холмс. — В таком случае мы, полагаю, сможем сделать первый шаг к разрешению вашей проблемы.
Когда мы остались одни, мой друг чиркнул на манжете памятную записку из двух или трех слов и посмотрел на меня.
— Признаюсь, Ватсон, что из всех недавних дел это обещает быть самым интригующим. Думаю, в первую очередь мы должны с позволения его светлости осмотреть locus in quo [2], как юристы назвали бы место, где разворачиваются события, связанные с маленькой тайной лорда Артура.
Три дня спустя, в понедельник утром, мы сошли с поезда на тихой станции с деревянной платформой. Нас уже ждала двуколка, запряженная пони. Вязы, растущие у реки, шелестели кронами, в эту пору особенно густыми и пышными. Широкая лента Темзы посверкивала на солнце. То и дело вверх по течению проплывали прогулочные пароходики, везущие пассажиров из Виндзора в Оксфорд.
После увеселений уик-энда огромный Прайорсфилд-хаус стоял опустевший. Парки обезлюдели, и было слышно, как в большом бассейне, украшавшем главный газон, из раковины тритона льется вода. В отсутствие хозяина дома нас встретила экономка, и мы сразу же прошли за ней в северную гостиную. Окна выходили на теневую сторону, чтобы яркий солнечный свет не повредил обивке мебели. Домоправительница маленьким ключиком отперла застекленный буфет.
— Я попросил бы вас открыть и пианино, — учтиво произнес Холмс.
Она по-петушиному приосанилась и сжала руки. С первого взгляда было ясно: эта служанка не из тех, кто станет распространять слухи о странном ночном визите лорда Артура Сэвила.
— Лорд Блэгдон не оставил распоряжений относительно инструмента.
Шерлок Холмс вздохнул.
— Боюсь, мы впустую потратим время его светлости и свое собственное, если нам не предоставят возможности осмотреть клавиатуру. В таком случае я вынужден буду отказаться от дальнейшего расследования.
После короткой паузы этот поединок характеров разрешился в нашу пользу. Экономка подошла к красивому черному пианино фирмы «Бёзендорфер», отперла и откинула лакированную крышку, обнажив безукоризненные клавиши.
— Кажется, — шепнул мне Холмс, скривив рот, — здешние горничные, как водится в большинстве домов, не слишком усердно борются с пылью. Полагаю, на их месте я тоже не проявлял бы особого рвения, вытирая предметы, которые почти тотчас же снова становятся пыльными.
Экономка бесшумно удалилась из комнаты, но мы понимали, что она станет наблюдать за нами, притаившись в укромном уголке за дверью. Холмс повернулся к пианино. В Прайорсфилд он явился с черным кожаным саквояжем, весьма походившим на докторский. Достав футляр с инструментами, мой друг положил его на стол, раскрыл и взял две кисти из верблюжьей шерсти, какие мог бы выбрать живописец для тонкой работы. Затем Холмс извлек из сумки два пузырька. В одном из них был темный порошок — графит, наподобие того, который используется для смазки замков. Во второй склянке мой друг хранил смесь собственного приготовления, состоявшую из двух частей тщательно измельченного мела и одной части металлической ртути. К каждому из пузырьков прилагался порошковдуватель, позволяющий аккуратно распылять содержимое на любую поверхность. Складную увеличительную линзу Холмс, как обычно, держал наготове в жилетном кармане.
На протяжении следующих двадцати минут Шерлок Холмс работал терпеливо и внимательно, его брови были сосредоточенно нахмурены. Сперва он тонким слоем равномерно нанес на черные клавиши пианино светлую ртутно-меловую смесь и удалил небольшой излишек верблюжьей кисточкой. Затем при помощи другого инсуффлятора распылил графит на костяные пластины белых клавиш. Подобно тонкой снежной пелене, порошок лег на поверхность, подчеркнув ее контуры — в данном случае едва заметные следы, оставленные человеческой кожей.
Холмс достал из кармана зеркальце и наклонил его так, чтобы поймать свет, льющийся из окон. Теперь мой друг принялся тщательно изучать каждую клавишу в отдельности, и я знал, что лучше его не отвлекать. Лишь спустя полчаса он выпрямился. Его четко очерченное лицо было оживленным, глаза блестели. Холмс опустил зеркальце, в которое все это время напряженно всматривался, выбирая подходящий угол. Порошки выявили на полированной слоновой кости клавиш следы — такие легкие, что их стерло бы легчайшее прикосновение руки.
— В одном мы можем быть уверены, Ватсон: последний человек, игравший на этом инструменте, исполнил на нем «Преамбулу» великого Роберта Шумана. С тех пор к клавиатуре не прикасались.
На мой взгляд, Холмс был чересчур доволен собой.
— Но как вы можете это утверждать?
— Очень просто, мой дорогой друг. Начнем с того, что нас интересует последний из тех, кто здесь музицировал. Могу вас заверить: все отпечатки оставлены одной парой рук. Только этот человек садился за пианино после того, как с клавиш стирали пыль.
— Лорд Артур?
Холмс поднял палец.
— Посмотрите на две верхние октавы: четыре крайние клавиши остались нетронутыми. Эти соль, ля, фа-диез и соль-диез очень часто оказываются ненужными. О них можно забыть. Но отсутствие отпечатков на других пяти клавишах весьма показательно.
— И что же это значит?
Холмс вздохнул и терпеливо пояснил:
— Это значит, мой дорогой Ватсон, что мы с вами не зря убивали время в концертных залах и боролись со сном в те моменты, когда в воздухе переливались волшебные звуки, рожденные гением Рубинштейна или Падеревского. Перед тем как провести вечер в Вигмор-холле, я имею обыкновение знакомиться с партитурой произведения, которое нам предстоит услышать. И поэтому могу вам сказать, что при исполнении «Преамбулы» Роберта Шумана рука пианиста не касается в общей сложности пяти белых и черных клавиш на правой стороне клавиатуры. Все они находятся в двух верхних октавах: ре-бемоль, две ми и две си. Теперь осмотрите этот великолепный инструмент, и тогда вы сами увидите, на каких из его клавиш не осталось отпечатков пальцев.
Разумеется, Холмс был прав. Но мне не хотелось сдаваться слишком быстро.
— Едва ли ваше открытие свидетельствует о чем-либо, кроме того, что лорд Артур играл Шумана. А это дает нам не слишком много.
— Мой дорогой друг, я еще очень далек от разгадки. Но поверьте, мне есть на что опереться. Кстати, взгляните-ка на левую половину клавиатуры. Какие выводы вы можете сделать?
— На последних двенадцати клавишах, белых и черных, нет отпечатков. К остальным, кажется, прикасались.
— Совершенно верно. Вас, я думаю, не удивит, что эти двенадцать клавиш не используются при исполнении изысканной шумановской пьесы.
— Но, Холмс, разве кто-то спорит о том, какую вещь играл кузен нашего клиента?
— Весьма серьезная дискуссия возникла бы, обратись мы к лорду Блэгдону или самому Артуру Сэвилу за разрешением снять у него отпечатки пальцев, словно этот молодой человек — заурядный преступник. Между тем он принадлежит к аристократическому семейству, и его репутация пока ничем не запятнана. Следовательно, лорд Артур вряд ли потерпит, чтобы с ним обращались как с подозреваемым. Но мы тем не менее получили то, в чем нуждались: отпечатки его пальцев совершенно необходимы для успешного проведения расследования.
Возразить мне было нечего. Я мог лишь признать правоту Холмса либо воздержаться от ответа. Оставив крышку пианино открытой, мой друг повернулся к витрине, где хранилась превосходная коллекция севрского фарфора. Эти вазы, чашки и бонбоньерки представляли собой замечательные образцы декоративного искусства XVIII столетия и были достойны того, чтобы украсить королевскую гостиную. Холмс осторожно открыл отпертую стеклянную дверцу.
— Думаю, здесь отыщется очень мало отпечатков, Ватсон. В подобных домах слуг учат держать дорогую посуду салфеткой в тех редких случаях, когда они стирают с нее пыль, чтобы пальцы не касались блестящей поверхности. Не годится грубым рукам горничной или даже дворецкого осквернять своим прикосновением такие сокровища.
— У лорда Артура не было салфетки.
— Действительно. Согласитесь, удивительно, что человек, который снимает перчатки лишь в том случае, когда садится за пианино (поскольку они помешали бы ему играть), не надел их, решив поупражняться в искусстве совершения кражи! Узнав, почему он так поступил, мы, вероятно, получим ответ и на все остальные вопросы.
— Он рассчитывал на то, что его не поймают.
— Скорее, надеялся, что его не увидят, — тихо произнес Холмс, сделав ударение на последнем слове.
— Если лорд Артур обычно прячет руки, то почему же он согласился прилюдно играть на пианино без перчаток?
— Мы сможем это понять, не выходя отсюда. Ну а пока буду вам признателен, если вы мне поможете: пожалуйста, принимайте у меня предметы по одному и аккуратно расставляйте их на столе позади вас. Постарайтесь не оставлять отпечатков пальцев и не стирать те следы, которые уже имеются. Нам не придется обыскивать весь шкаф, поскольку, если верить лорду Блэгдону, его кузен, стоя вот на этом месте, нашел то, что хотел, без особого труда. Думаю, мы ограничимся осмотром дюжины вещей.
Как оказалось, хватило и восьми. Первые четыре были вазами с золочеными ручками и орнаментом. На глянцевом синем фоне мастер запечатлел парковые сценки, копируя Фрагонара. Холмс нанес на глазурь темный порошок, и стало очевидно, что с тех пор, как ее в последний раз протирали, к ней никто не прикасался. На розовой десертной тарелке с позолоченной каймой удалось обнаружить знаки зодиака, но не отпечатки пальцев. Две мейсенские вазы, расписанные голубыми цветами по белому полю, пришлось покрыть светлым и темным составами, что, однако, ни о чем нам не сообщило. Холмс, как всегда, был прав: все эти предметы очистили от пыли, натерли до блеска и убрали в витрину, не оставив на них ни малейшего следа.
Наконец детектив достал изящную севрскую конфетницу с позолоченным орнаментом из лилий, обильно украшенную росписью по эмали. Она была четырехугольной формы, примерно шести дюймов шириной. Крышку венчала золотая шишечка, на которую с четырех сторон взирали боги северного, южного, восточного и западного ветров: Борей, Нот, Эвр и Зефир. Холмс передал бонбоньерку мне, ни одним пальцем не дотронувшись до глянцевой поверхности.
— На мой взгляд, этот предмет не совсем гармонирует с вазами, — сказал он, бережно поставив вещицу на стол. — Любопытнейший экземпляр, приобретенный, видимо, вдобавок к основной части коллекции. Думаю, для такой светлой глазури подойдет графитный порошок.
Холмс придвинул конфетницу к окну, чтобы осмотреть ее при солнечном свете. С помощью порошковдувателя он тонким слоем нанес темное вещество на все внешние поверхности, сдул излишки, взял увеличительное стекло и принялся изучать набалдашник и левую сторону бонбоньерки. Наконец он выпрямился и протянул лупу мне.
— Требуется более тщательное исследование, Ватсон. Как бы то ни было, отпечатки, кажется, остались только там, где я и ожидал их найти: два полных и два частичных на золотой шишке, четыре на левой стенке и один вот здесь. Предположим, они принадлежат тому, кто придерживал бонбоньерку пальцами левой руки, правой снимая крышку. Уверен, что эти отпечатки в точности совпадут с теми, которые мы обнаружили на клавишах пианино.
Не будучи специалистом в дактилоскопии, я не мог не признать, что сходство папиллярных узоров, указанное Холмсом, очевидно. И на клавиатуре, и на фарфоре три из линий, оставленных левым указательным пальцем, разветвлялись вверх, а две — вниз. Короткие отдельные черточки и так называемые островки тоже походили друг на друга. А самым веским доказательством, на мой взгляд, служили следы от незначительного пореза — нам всем так или иначе случается поцарапаться. Ранка давно уже не причиняла беспокойства тому, чьи отпечатки пальцев мы рассматривали, однако рубец не исчез окончательно.
Холмс осторожно приподнял крышку за края и снял ее.
— Думаю, мы можем заключить, что с тех пор, как прислуга протерла этот предмет и вернула его на место, к нему прикасался лишь один человек. Даже без следов на клавишах пианино все указывало бы на лорда Артура Сэвила, — произнес сыщик и, заглянув внутрь бонбоньерки, воскликнул: — Этого и следовало ожидать, Ватсон! Как говорится, с глаз долой… Горничная смахнула наружную пыль, но не потрудилась открыть конфетницу.
Я наклонился ближе и на белом глянцевом донце увидел два пятна карамельного цвета размером с почтовую марку каждое.
— Эту милую вещицу всего-навсего использовали по прямому назначению, то есть хранили в ней шоколад, — сказал я. — Под действием тепла от разожженного камина или солнечного света конфеты растаяли.
— Две из них, — быстро ответил Холмс, — причем произошло это недавно.
Мой друг дотронулся указательным пальцем до языка, а затем до одного из пятен, придал лицу разочарованное выражение и пожал плечами. Повторив процедуру со вторым пятном, он на несколько секунд замер, после чего прижал ко рту платок, словно сдерживая тошноту, энергично сплюнул в него, в несколько прыжков пересек гостиную и схватил стоявший на столике сифон с содовой. Как певец, полощущий свои миндалины, Холмс плеснул себе в рот воды, а потом, подскочив к окну и распахнув его, снова плюнул, не церемонясь, прямо на клумбу.
Я наклонился к бонбоньерке и обнюхал ее. Пахло лежалыми конфетами и больше ничем. Я осторожно запустил палец внутрь.
— Если вы собираетесь попробовать это на вкус, Ватсон, то, может быть, слово «аконитин» заставит вас передумать. Судя по скорости воздействия на рецепторы языка, именно это вещество, содержащееся в индийском аконите, или борце свирепом, осталось на дне конфетницы. В ней был яд, и вряд ли его туда положил тот, кто не намеревался совершить убийство. Я попробовал лишь самую малость, но мои губы и язык до сих пор ощущают онемение и покалывание. Однако, будучи запрятанным в конфете, аконитин, разумеется, сделал бы свое дело, прежде чем у жертвы возникли бы подозрения.
— Как же лорд Блэгдон?
— Пока мы ему ничего не скажем. Кроме того, в свете новых обстоятельств нам следует проверить рассказ его светлости о визите лорда Артура. Я должен снять отпечатки пальцев с подоконника библиотеки. Не думаю, чтобы наш клиент ввел нас в заблуждение, однако дело приобретает весьма серьезный оборот.
Побывав в библиотеке, мы вернулись в северную гостиную. У эркерного окна маячила длинная сутулая фигура хозяина Прайорсфилда. Он повернулся, чтобы нас поприветствовать.
— Вижу, мистер Холмс, — сказал лорд Блэгдон с оттенком неловкости в голосе, — вы здесь уже поработали. К какому заключению вам удалось прийти?
— Пока я не узнал ничего нового, — твердо ответил Холмс. — Исполняя Шумана, ваш кузен оставил на клавишах полный набор отпечатков пальцев. Они совпадают с теми, которые мы нашли на подоконнике библиотеки, и это подтверждает вашу версию событий.
— Обращаясь к вам, я не знал, что она потребует подтверждения, — укоризненно произнес лорд Блэгдон.
Холмс нисколько не смутился.
— И тем не менее, милорд, мы ее проверили. Те же отпечатки обнаружены на севрской бонбоньерке, стоявшей в витрине. Насколько мы можем судить в данный момент, именно с этим предметом была связана цель визита лорда Артура.
Казалось, новость неподдельно удивила нашего клиента.
— Но чем же бонбоньерка могла его заинтересовать? Бесспорно, он не пытался украсть ее. Да я подарил бы ему эту вещь, если бы он пожелал. В сравнении с другими экземплярами она не такая уж ценная.
— Вряд ли лорд Артур собирался похитить конфетницу. Не затруднит ли вас рассказать, какие события недавнего прошлого связаны с нею?
То, что мой друг взял нить разговора в свои руки, привело лорда Блэгдона в некоторое недоумение.
— Рассказывать совершенно не о чем, мистер Холмс. В витрину с другими фарфоровыми предметами ее поместили исключительно ради удобства. Прежде она принадлежала кузине моего отца Клементине Бичем, или леди Клем, как называли ее в семейном кругу. Подобно многим нашим дальним родственникам, она не имела значительного состояния, но мы в меру своих сил заботились о ней. От моего деда она унаследовала эту бонбоньерку и несколько других вещей. После смерти леди Клементины они перешли к нам.
— Что она оставила вашему кузену?
Лорд Блэгдон приподнял брови.
— Ничего. У нее не было оснований завещать ему что-либо, и он от нее этого не ждал. Ведь именно родственники по моей линии оказывали ей покровительство. Конечно, тетушка любила лорда Артура, и он ее, полагаю, тоже. Впрочем, леди Клем обожала всех — таков был ее характер. Не думаю, чтобы они с моим кузеном знали друг друга особенно близко.
— Однако он наносил ей визиты?
— Разумеется, как и мы все. Насколько часто, я вам сказать не могу.
— Когда леди Бичем умерла?
На лице лорда Блэгдона было написано, что вопросов могло бы быть и поменьше, но он продолжал терпеть назойливость своего частного детектива.
— Почти ровно два месяца назад.
— Где находился в это время лорд Артур?
— Он отправился в Венецию с братом моей жены неделей или двумя ранее. Приехать на похороны Артур не успел. Что ж, если на сегодня это все…
— Боюсь, милорд, это далеко не все.
Тон сыщика уязвил хозяина дома.
— Мистер Холмс! По рекомендации близкого друга я пригласил вас для расследования весьма деликатного семейного дела. Сейчас вы интересуетесь вещами, не имеющими к нему ни малейшего отношения. При всем желании получить от вас ценный совет вынужден сообщить: если вы переступите границы дозволенного, я откажусь от ваших услуг.
— Надеюсь, милорд, этого не произойдет, — невозмутимо ответил Холмс, — ибо в таком случае взамен моих советов вам, боюсь, придется следовать указаниям полицейских. Вероятнее всего, главного инспектора Лестрейда или инспектора Тобиаса Грегсона. Эти джентльмены служат в отделе криминальных расследований Скотленд-Ярда. Ваша светлость, я не намерен участвовать в сокрытии преступления.
Выражение «человек был ошеломлен» давно стало привычным, но именно оно во всей своей первоначальной остроте соответствовало состоянию лорда Блэгдона.
— Я должен сказать вам, милорд, что на дне бонбоньерки, которую вы видите перед собой, мы обнаружили два пятна, напоминающих следы растаявших конфет. Одна из них, очевидно, содержала смертельную дозу аконитина: это опаснейший, но малоизученный яд.
Таким образом, Холмс отрезал графу путь к отступлению. Я ожидал, что сообщение моего друга лишь усилит замешательство нашего клиента, но он, как принято говорить, внезапно перешел в атаку:
— Вздор! Бред! Чушь!
Холмс выдержал паузу, дав мне возможность вмешаться.
— Я медик, лорд Блэгдон, и, вероятно, будет лучше для нас всех, если вы просто расскажете, как умерла леди Клементина.
Он почти рассмеялся мне в лицо.
— Все действительно очень просто: леди Клем умерла от сердечного приступа, случившегося с ней по причине весьма преклонного возраста, сэр! Тетушка бодрилась и старалась как можно чаще выезжать, и все-таки на протяжении долгого времени она была больна, что неудивительно в ее годы. Скорее, поражает то, что она дожила до столь глубокой старости. Я служил в Индии, в Семнадцатом уланском полку, и тоже обладаю кое-какими знаниями о ядах. Симптомы отравления мне известны. У леди Клементины их не наблюдалось.
Лорд Блэгдон посмотрел в окно, словно желая скрыть от нас свое волнение, но через секунду вновь резко повернулся к нам, взмахнув полами своей визитки и подняв палец.
— Можете подозревать меня, если угодно, но я видел леди Клем на смертном одре и могу вам сказать, что она скончалась от сердечной недостаточности! После того как недуг обострился в последний раз, тетушка прожила неделю, и этой конфетницы тогда при ней не было. Поверьте, леди Клементина не пользовалась ею в те дни. Незадолго до смерти тети герцогиня Пейсли нанесла ей визит и отобедала в ее комнате. Бедная старушка могла лишь пить простую воду и бульон. Врач Мэтью Рейд и сиделка постоянно находились рядом с больной. Надеюсь, вы согласитесь, что столь выдающийся медик, как сэр Мэтью, должен уметь отличать сердечную недостаточность от острого отравления. Ваши домыслы совершенно абсурдны!
— Лорд Артур… — начал Холмс, но хозяин дома не дал ему договорить:
— Я уже сказал вам, что он был за сотни миль от Лондона — в Венеции, в отеле «Даниелли». Вы со своими друзьями из Скотленд-Ярда сможете в этом удостовериться. В те часы, когда кузен покидал свой номер, он плавал на яхте по Адриатическому морю или охотился в сосновом лесу в присутствии дюжины свидетелей. Но что делает ваши подозрения особенно нелепыми, так это полное отсутствие мотива для убийства: смерть леди Клементины не сулила лорду Артуру ни малейшей выгоды, и он об этом знал. То, как тетушка распорядилась своим имуществом, было известно заранее. В конце концов мой кузен получил кое-какие ее вещи, поскольку она завещала их мне, а я от них отказался. Предугадать этого он не мог. Если при вашей репутации вы больше ничем не способны мне помочь, мистер Холмс…
— Вероятно, — в отчаянии пробормотал я, — дело прояснится, если вы расскажете нам о том, что произошло с содержимым конфетницы.
— Она была завещана мне как подарок на память. Я не большой любитель сладкого, а конфеты, оставшиеся после умершего человека, и вовсе не вызывают у меня аппетита. Поэтому я выбросил то, что лежало на дне бонбоньерки, и приказал ее почистить. До сих пор я полагал, будто вещь не только протерта снаружи, но и вымыта изнутри. Рад, что это не так, если сохранились улики, свидетельствующие о чьем-либо преступном замысле.
Возвращение к разговору о бонбоньерке отчасти смягчило напряженную обстановку.
— Что ж, милорд, — сказал Холмс, — в данный момент я действительно ничем не могу вам помочь. Полагаю, что любопытные странности лорда Артура лучше предоставить вашему собственному рассмотрению. Если вы не желаете углубляться в выяснение цели его ночного визита, пусть тайна останется тайной. Однако смерть леди Клементины…
— Очень хорошо, мистер Холмс, я к вашим услугам. Так или иначе, я исполняю обязанности мирового судьи и кое-что смыслю в законах. Вы имеете право расследовать это дело, но поймите: я не допускаю даже мысли о том, чтобы имя доброй старой леди стало предметом сплетен или появилось на страницах низкопробных газет.
— Я менее всего желаю этого, однако…
— К счастью, останки леди Клементины покоятся в фамильной усыпальнице в Бичем-Чалкоте. Я переговорю с сэром Мэтью Рейдом, наблюдавшим тетушку от первых до последних дней болезни, и узнаю у него, приемлемо ли рассматривать аутопсию как возможный способ разрешения ваших сомнений. Если доктор даст согласие, я также возражать не буду. Он может привлечь к делу коронера. Кроме того, в завещании леди Клементины есть некоторые пункты, касающиеся содействия развитию медицинской науки. Надеюсь, этого окажется достаточно. Вскрытие, которое проводится в семейном склепе, не столь оскорбительно для праха усопшей, как публичное раскапывание могилы, находящейся на церковном дворе или муниципальном кладбище. Все необходимые действия должны быть выполнены с осторожностью.
— Ваша светлость очень добры, — ответил Холмс с легким поклоном.
Мой друг подыгрывал клиенту, будто бы давшему согласие на аутопсию по собственной воле, однако оба они знали, что выбирать лорду Блэгдону не приходилось.
Не прошло и недели, как вскрытие было произведено. Мир об этом не узнал, поскольку тайна не вышла за пределы семейного круга. В теле леди Клементины не обнаружили следов какого-либо яда, не говоря уже об ужасных признаках воздействия аконита свирепого. Это известие мы с Холмсом получили по почте утром, во время завтрака.
— Боюсь, мы зря причинили лорду Блэгдону такое беспокойство, — сказал я.
— А я думаю, не зря.
— Нас ввело в заблуждение пятно, которое само по себе было не опасно. Мы предположили, будто в бонбоньерке находилась конфета, содержащая большое количество яда, и, наверное, ошиблись. Должно быть, вещество просто вытекло из таблетки или желатиновой капсулы. Гомеопат вполне мог прописать укрепляющую дозу аконитинового препарата при сердечной недостаточности.
— Несомненно, — произнес Холмс равнодушным тоном, и мне стало ясно, что он не слишком внимательно меня слушает.
— В худшем случае это было шарлатанское снадобье, о котором забыли вскоре после приобретения. Оно лежало в конфетнице до тех пор, пока тепло и влажность не растопили шоколад и желатин. По-моему, такое объяснение вполне рационально.
— В самом деле?
— А разве не так?
— Без сомнения, не так, но вы не понимаете почему. В том-то и беда.
— Попомните мое слово, Холмс: больше мы не увидим лорда Блэгдона.
— Думаю, вы ошибаетесь.
Я решил, что этот разговор ознаменовал собой завершение нашего расследования, причем самое неудовлетворительное. Бонбоньерку вымыли, вытерли и водворили на место. Аконитин, если он там действительно был, направил нас по ложному следу. Как я объяснил Холмсу, этот яд в медицинских дозах присутствует в любом шкафчике с лекарствами и в качестве гомеопатического средства его применяют при различных острых состояниях, от обычной простуды до гиперемии жизненно важных органов.
Казалось, дальнейшего развития дело не получит. Конечно же, никакого убийства не было. Столь малое количество аконитина не могло свидетельствовать даже о покушении. Какие факты у нас оставались? Представитель захудалой ветви аристократического семейства повел себя странно, однако в этом не было ничего нового. Он без предупреждения проник в дом своего кузена, а затем удалился, осмотрев несколько предметов из фарфоровой коллекции, но ничего не взяв. Дальше мы не продвинулись. Меж тем лондонский сезон подошел к концу, и весь бомонд устремился в загородные усадьбы и охотничьи угодья.
Наступил август — месяц, который журналисты именуют «сезоном отдыха». За неимением серьезных новостей на страницы газет просачивались такие истории, что читатель, ознакомившись с ними, жалел о зря потраченном времени. Как часто сетовал Холмс, для консультирующего детектива пришла не лучшая пора. Публика, не принадлежащая к высшему свету, направилась с семьями на брайтонские пляжи и маргейтские пески. От моста Патни, что в Вест-Энде, до церкви Сент-Мэри-ле-Боу, расположенной в Ист-Энде, нельзя было встретить ни одного преступника. Нам оставалось лишь ждать, когда какой-нибудь эксцентрик или сумасшедший пожалует к нам со своими нелепыми фантазиями. Я предложил Холмсу поехать в Илфракомб или Тенби, где под звучный рокот Атлантического океана можно отдохнуть телом и душой в компании юристов, медиков и университетских профессоров. Но мой друг не стал меня слушать. Он считал, что лучше принимать докучливых клиентов сомнительного здравомыслия и спорных моральных устоев, чем тратить жизнь на бесцельные путешествия или, как говаривала его старая няня-кальвинистка, «дуреть от сна».
Первым, кто переступил наш порог за неполных две недели, был преподобный доктор Джозефус Перси, чичестерский архидиакон. Несмотря на сан и ученость, этот джентльмен не оказывал существенного влияния на мир теологии или церковной политики. Скорее он был известен своим чудаковатым поведением, а также любовью к книгам и часам.
Несколькими годами ранее доктор Перси снискал дурную славу и получил внушение от коронера в связи со смертью своей экономки. В день, когда милейший священнослужитель находился дома, с ней случился удар. За каких-нибудь полминуты бедная женщина скончалась. Это произошло в четверг, около двух часов пополудни, а в два архидиакон собирался поехать на рыночную площадь, в магазин гравюр и редких изданий. Усадив мертвую в угол дивана, он, не отступая от своих планов, оседлал велосипед и покатил по улицам Чичестера. И только приблизительно через час, вернувшись домой с коричневым свертком в корзине, почтенный библиофил позвал на помощь.
Внешне архидиакон напоминал не столько старика, сколько молодого человека, загримированного для спектакля. Багровый нос доктора казался гуттаперчевой накладкой на что-то меньшее и не такое воспаленное, горб на спине словно был позаимствован у Квазимодо. При взгляде на мистера Перси могло померещиться, что под белым париком прячутся собранные в пучок пряди темных волос, а бакенбарды в форме котлет выглядели так, будто их приклеили гримировальным лаком. Но на самом деле юность Джозефуса Перси, если он когда-нибудь и был молод, давно миновала.
— Мистер Холмс! — твердо и отчетливо прозвучал голос священнослужителя. — Что вы можете сказать мне о взрывающихся часах?
Мой друг соединил пальцы рук и посмотрел на своего посетителя, сидевшего по другую сторону от холодного камина.
— Боюсь, очень немногое, архидиакон. Часы, как и почти любой другой механизм, можно настроить таким образом, чтобы они вызывали взрыв. Но подобное применение весьма нетипично. Чаще их используют для регулировки времени срабатывания взрывного устройства. Возможно, вы это имели в виду?
Архидиакон шаркнул своими крагами (иначе не скажешь) и дважды нетерпеливо ткнул тростью в ковер.
— Я, сэр, хочу сказать следующее: четыре дня назад мне прислали по почте черные мраморные часы в форме классического афинского фасада, украшенного скульптурами. Вы, вероятно, слышали, что я коллекционирую часы и состою в Обществе антикваров, а в прошлом возглавлял Союз любителей часового дела Великобритании.
— Мне это известно, — учтиво проговорил Холмс.
— Итак, экземпляр, который я получил, прибыл с Грик-стрит, из Сохо. Об отправителе я никогда ничего не слыхал и не понял, с какой целью эта вещь была мне послана. Решив, будто это подарок, я стал ждать сопроводительного письма, но его не было.
— Буду вам признателен, если вы опишете часы подробнее.
— Они очень необычны, мистер Холмс. Вероятнее всего, их изготовили в годы Французской революции, и удивительное устройство даже возносит хвалу этому злополучному событию. В четверть часа исполняются первые две ноты «Марсельезы», в половине — четыре, затем шесть и, наконец, десять нот богопротивного гимна: «Allons, enfants de la Patrie!» — пропел архидиакон, — и механизм отбивает час.
— Как любопытно! — ответил Холмс тоном, выражавшим нестерпимую тоску. — Прошу вас, продолжайте свой интереснейший рассказ.
— Фронтон увенчан фигурой Марианны во фригийском колпаке, символизирующем свободу. Она как будто ведет за собой толпу. Справа и слева от нее стоят две скульптуры — судя по золоченым надписям, Дантон и Марат. Паркер, мой слуга, распаковал часы, и после обеда мы поставили их на каминную полку в библиотеке. Вскоре они уже были заведены и тикали. В пятницу после полудня я читал, сидя возле камина. Часы сыграли десять нот и ударили один раз. Сразу после этого механизм застрекотал, раздался резкий щелчок и из-под пьедестала Марианны вырвался дым — примерно столько, сколько может выдохнуть человек, курящий сигару. Статуэтка упала с фронтона.
Шерлок Холмс переменил положение своих длинных ног, затекших от неподвижности.
— Боюсь, сэр, вы оказались жертвой хитроумного розыгрыша. Полагаю, ваше отношение к революционному произволу всем известно.
— Вы боитесь, что надо мной подшутили? — раздраженно переспросил архидиакон. — Погодите, я расскажу вам все. Как и вы, я сперва подумал, будто устройство прислано мне, чтобы испытать мое терпение. Я вызвал Паркера и велел ему немедленно убрать часы в сарай для садового инвентаря. Это место показалось мне наиболее подходящим для них. А на каминную полку мы поставили подарок от благодарных прихожан молельни в Эббу-Вейле, который я получил ранее.
— Едва ли вы проделали долгий путь до Бейкер-стрит только ради этой истории, — услужливо полюбопытствовал я.
Архидиакон снова поднял перст и посмотрел на нас расширенными глазами.
— Подождите! В тот вечер, в одиннадцать часов, весь мой дом погрузился в сон. Но вскоре (полагаю, около полуночи) меня разбудил шум — такой, будто взорвалась газовая труба. Я тут же встал, выглянул в сад и не увидел сарая, который прежде находился прямо напротив моих окон. Он исчез. Пахло гарью, и лунный свет отражался в осколках стекла. Любой, кто оказался бы там в момент взрыва, был бы убит.
— Ив свете столь серьезной опасности вы обратились к нам? — спросил я скептически.
— Нет, сэр. Я не стал бы держать собаку, чтобы лаять самому. Я вызвал полицейских, но они, к сожалению, сказали только то, что улики сгорели. Мне пообещали расследовать это происшествие и посоветовали запастись терпением. Дескать, взрывы в садовых сараях, как правило, случаются из-за парафиновых нагревателей! Такое, мол, часто происходит! Инспектор заключил, что все это шутка. «Может, вам пойти на Бейкер-стрит к мистеру Шерлоку Холмсу?» — предложил он, и все его констебли расхохотались. И вот я перед вами.
Мой друг нахмурился.
— В одном вы можете не сомневаться: имя часового мастера на обертке было фальшивкой.
— Но я не называл вам его имени, мистер Холмс.
— Это не важно. В силу своей профессии я обязан знать лондонские улицы лучше, чем другие люди. И могу вас заверить: на Грик-стрит вы не найдете ни одной часовой мастерской. Там делают бомбы, правда, в последнее время об этих умельцах мало слышно.
— Значит, вы подтверждаете мои подозрения. А что скажете об этом?
Архидиакон передал Холмсу маленький пузырек, заткнутый пробкой.
— Откуда этот порошок? — спросил мой друг, вытряхнув малую часть содержимого флакона себе на ладонь и осторожно понюхав.
— Высыпался на пол библиотеки, когда часы задымили.
— В самом деле? — проговорил Холмс. — Что ж, откуда бы он ни взялся, это порох, причем довольно низкосортный. Взрыв, случившийся у вас в сарае, мог произойти двенадцатью часами ранее, на каминной полке вашей библиотеки. Полагаю, тогда, при первом задымлении, не сработали капсюли-детонаторы.
— Что же вы предлагаете?
— Отправляйтесь домой и оставайтесь там. Проявляйте осторожность в пределах разумного. Остальное предоставьте мне. Думаю, больше вас не побеспокоят.
На лице архидиакона запечатлелось столь красноречивое выражение негодования, смешанного с беспокойством, что впору было писать с него этюды.
— И вы не поедете в Чичестер? Разве я не нуждаюсь в охране?
— Источник угрожающей вам опасности находится не в Чичестере, а в Лондоне. Если на пороге этой комнаты появится разбойник с ружьем, вы ведь захотите, чтобы я поскорее обезвредил его, а не стоял тут рядом с вами.
— Очень умно, мистер Холмс. Но вы же не знаете, кто убийца!
— Отчего же, архидиакон! Этот человек мне известен, однако не думаю, что он снова станет вам докучать.
— Тогда назовите мне его имя!
— Бесполезно, оно вам ни о чем не скажет и только встревожит. Разумнее спокойно сидеть дома вплоть до окончательного разрешения дела. Ждать вам придется недолго — в крайнем случае неделю, а скорее всего, гораздо меньше. В одном вы можете быть совершенно уверены: больше ваш преследователь к вам не приблизится.
— Но вы мне так ничего и не сказали!
— Отнюдь, я дал вам точнейшие предписания. Успех гарантирую. Если вы желаете, чтобы я расследовал ваше дело, вы должны мне довериться.
— Поскольку в полиции со мной не стали толком разговаривать, у меня, судя по всему, нет выбора.
Вскоре наш посетитель ушел. Его раздражение и многочисленные намеки на то, что услуги детектива в случае неудовлетворительного результата останутся неоплаченными, не сломили упорство Шерлока Холмса, и коллекционеру часов этим утром не удалось больше вытянуть из него ни единого слова.
Так прошел визит преподобного Джозефуса Перси. Не могу сказать, чтобы выступление Холмса очень меня воодушевило, но он, по крайней мере, дал архидиакону правильный совет вернуться в Чичестер и отсидеться дома. Едва почтенный священнослужитель покинул нашу гостиную, послышался звонкий стук подков о мостовую, заскрежетали колеса, а вскоре раздался звонок в дверь.
— Надо полагать, — сказал Холмс, не вставая и не выглядывая в окно, — это лорд Блэгдон. Я жду его уже несколько дней.
— Правда? Почему же?
— Думаю, он сам нам скажет, что все это дело рук его кузена.
В этот момент миссис Хадсон объявила о приходе лорда Блэгдона. С ним произошла разительная перемена: перед нами стоял человек, истерзанный страхами и сожалениями. Пристроив свою шляпу на вешалке, он опустился в кресло, на которое указал мой друг.
— Мистер Холмс, я пришел к вам затем, чтобы вы продолжили расследование дела моего двоюродного брата.
— Это меня не удивляет, милорд.
Слова детектива озадачили, но не испугали клиента.
— Вероятно, вам все же лучше выслушать меня. Прошу вас и доктора Ватсона понаблюдать за лордом Артуром в течение ближайших нескольких дней, пока я не договорюсь с людьми, которые возьмут его под свою опеку. После нашей последней встречи я расспросил родственников и слуг. По словам горничной леди Клементины, месяца два кряду лорд Артур приносил тетушке конфеты с Сент-Джеймс-стрит, из кондитерской Флорестана. Как я подозреваю, больная не умерла от яда лишь по той причине, что сердечный приступ случился с нею раньше!
Холмс сосредоточенно размышлял несколько секунд, а затем повернулся к посетителю.
— Возможно, милорд, рассудок вашего кузена действительно расстроен. Думаю, он, скорее всего, не в меру увлекся так называемой хиромантией — наукой о предсказании судьбы по руке.
— Именно об этом я и собирался вам рассказать!
— Вы нисколько бы меня не удивили. Я раскрыл этот секрет, руководствуясь тем, что лорд Артур имеет привычку постоянно носить перчатки. Он снимает их, лишь когда играет на пианино, что происходит, по вашим словам, все реже и реже. Артур Сэвил не страдает от инфекции или увечья, поскольку в противном случае кожа на тыльной стороне его рук не была бы чистой. Значит, ваш кузен скрывает от мира только свои ладони. Почему? Потому что по ним якобы можно, обладая определенными знаниями, прочесть будущее человека. Лорд Артур убежден, будто катастрофа ждет его, притаившись, как хищник в джунглях.
— Но разве это не смешно?
— Для нас с вами — да, милорд. Однако подобную чепуху вполне способен принять за истину тот, кто страстно увлекается астрологией, френологией и магией Золотой Зари, а также, по вашим словам, верит в материализацию душ умерших из эктоплазмы. В силу профессии я очень хорошо знаком с предсказаниями по руке и тому подобными видами ворожбы. Хиромантия имеет глубокие корни и восходит к искусству гадания по бараньей лопатке, которое завезли в средневековую Англию татары.
Холмс встал, подошел к книжному шкафу и взял с полки потрепанный том в пергаментном переплете. Судя по готическому шрифту и пожелтевшим от времени страницам, это был редкий экземпляр даже для коллекции моего друга, изобиловавшей раритетами.
— Иоганн Гартлиб, «Die Kunst Chiromantia» [3]. Издано в Аугсбурге в тысяча четыреста девяносто третьем году, — сказал Холмс, передавая книгу лорду Блэгдону. — Способы гадания, описанные здесь, используются до сих пор. Сторонники подобных верований убеждены, что по линиям на ладони можно предсказать судьбу. Например, от левого запястья до середины участка между большим и указательным пальцами изгибается дугой так называемая линия жизни. Широкая и бледная, она якобы свидетельствует о дурных инстинктах, толстая и красная — говорит о жестокости и склонности к насилию. Окажись за вашим обеденным столом «посвященный», он легко прочтет что-нибудь подобное по руке своего соседа. Полагаю, именно такого разоблачения и опасается лорд Артур.
Наш посетитель помолчал, словно подбирая слова, и наконец проговорил:
— Герцогиня Пейсли сообщила мне, что несколько месяцев назад мой кузен присутствовал на вечере в Ланкастер-хаусе. Это был первый весенний прием. Собрались люди неглупые, но не вполне трезвомыслящие. Один из гостей, назвавшийся знатоком хиромантии, взялся предсказывать будущее. Разумеется, лорд Артур пожелал, чтобы погадали и ему [4]. Взяв его правую руку, сей провидец (если я не ошибаюсь, его фамилия Поджерс) неожиданно бросил ее и схватил левую. Как передала мне герцогиня, гадатель, подняв глаза, попытался улыбнуться, но лицо его было белым.
— Возможно, он верит в собственное искусство, — холодно ответил Холмс. — Но на мой взгляд, от этой сцены веет притворством и мошенничеством.
— Поджерс рассматривал ладонь моего кузена долго и пристально, однако сказал лишь одну фразу: «Вижу руку очаровательного молодого джентльмена». И больше ничего. Лорд Артур принялся настаивать, чтобы ему открыли правду, и негодяй признался, что того ждет смерть дальнего родственника. Но очевидно, этим дело не ограничилось. Как уверяет герцогиня, Поджерс — профессиональный предсказатель, принимающий клиентов в своих комнатах на Уэст-Мун-стрит.
— Ваш кузен и тот человек больше не разговаривали друг с другом на вечере?
— Их мельком видели вместе позднее. Слышали, как лорд Артур проговорил: «Скажите правду, я не ребенок», после чего Поджерс выбежал вон. Произнося эти слова, мой кузен держал в руках чековую книжку. Какова бы ни была тайна, он приобрел ее за деньги.
На секунду воцарилась тишина.
— Эти сведения поступили к вам из надежного источника? — нарушив молчание, спросил Холмс.
— Вполне, — кивнул лорд Блэгдон. — Впоследствии мне сообщили, что на следующий день к лорду Артуру зашел один из его друзей. У окна в гостиной моего двоюродного брата стоит стол в стиле шератон, за которым он пишет письма. На столешнице лежала промокательная бумага, и на ней в зеркальном порядке отпечатался неполный ряд букв. Слуга не успел заменить ее на чистую. Гостю удалось разобрать фамилию Поджерса и сумму в сто пять фунтов. Сотня гиней, мистер Холмс! Жаль, что тот молодой человек услышал рассказ герцогини о вечере в Ланкастер-хаусе лишь несколько дней назад, когда она вернулась из путешествия по Франции. Теперь мы можем сложить вместе обе половины этой истории.
— Да, недешево обошлись вашему кузену такого рода сведения, — задумчиво проговорил Холмс. — Но будьте уверены: предсказание заключалось не в том, что он должен отравить леди Клементину аконитином, ибо этого не произошло.
— Тогда кому же угрожала опасность, если готовилось убийство?
— Я имею основания предполагать, что лорд Артур отправил часы со взрывным механизмом архидиакону Чичестера. Однако замысел не увенчался успехом.
Последнее сообщение, казалось, повергло нашего клиента в недоумение.
— Но я знать не знаю никакого чичестерского архидиакона! И лорд Артур, уверен, тоже. С какой стати моему кузену вставать на путь преступления, если только мерзавец Поджерс не внушил ему это с помощью черной магии или других подобных фокусов?
На тонком лице Шерлока Холмса, обращенном ко мне в профиль, явственно отобразилось неудовольствие.
— В черную магию я не верю. Однако в существовании мерзавцев сомневаться не приходится. Уверен, что для успешного разрешения вашего дела, а также соблюдения интересов чичестерского архидиакона Перси, который тоже является моим клиентом, мне необходимо в ближайшем будущем следить за вашим кузеном самым пристальным образом.
— Крейшо, слуга лорда Артура, разделяет мое беспокойство и будет наблюдать за ним дома. В остальное время придется действовать нам с вами. Я готов видеться с кузеном настолько часто, насколько это можно делать, не возбуждая у него подозрений. Относительно сегодняшнего дня могу вам сказать, что до обеда у лорда Артура никаких встреч не назначено, а вечером он посетит палату общин.
— С какой целью? — спросил я.
— Мистер Джозеф Китли, член парламента от Южного округа Манчестера, — сторонник идей современного рационализма. Он предложил поправку к закону «О продаже товаров», согласно которой гадатели должны будут отвечать за ущерб, причиненный клиенту их предсказаниями. Все началось с решения, вынесенного хевингемским Верховным судом прошлой зимой. Судья Строуд признал виновными в мошенничестве шарлатанов, запугивавших пожилую леди. Они сулили ей скорую смерть, стремясь за бесценок купить ее дом, на котором якобы лежало проклятие.
— Любопытно… — проговорил Холмс, подавляя зевок.
— Вероятно, вам известно, что мой двоюродный брат является членом парламента от Чалкота. Как внук графа, он носит титул лорда, однако не принадлежит к числу пэров, поэтому может заседать лишь в палате общин. Сегодня он наверняка придет туда, чтобы проголосовать против поправки.
— Будет ли лорд Артур участвовать в дебатах? — осведомился Холмс.
— Он член парламента уже пять лет, но публично никогда не выступал, разве что два-три раза выкрикнул: «Верно! Верно!» Зачастую брат просто не является на заседания. Его место закреплено за ним надежно: мы владеем Чалкотом на протяжении целого века, и наши арендаторы нам преданы. Уже дважды мой кузен проходил на выборах как единственный кандидат от этого округа.
Итак, ближайшим вечером Шерлок Холмс и я впервые наблюдали за работой палаты общин с галереи для публики по приглашению лорда Блэгдона, чье законное право на членство в парламенте обеспечивалось унаследованным титулом.
В тот день мы не смогли бы начать слежку за лордом Артуром, не получив разрешения войти в здание парламента. Но стоило нам туда проникнуть, кузен нашего клиента оказался в наших руках. Полисмен, дежуривший у ворот Дворцового двора, принял у нас пропускные бумаги, отдал нам честь и указал путь. Уже темнело, полная луна освещала реку и готические башни Вестминстера. Ниже по течению, вдоль набережной Виктории, ровной вереницей тянулись газовые фонари на кованых столбах, сиявшие, как жемчужины ожерелья. В этот час члены парламента, отобедав, приступали к обсуждению вопросов, назначенных к рассмотрению. Порой им приходилось работать долго и засиживаться допоздна.
Через застекленную готическую дверь мы вошли в мир, где архитектура эпохи Плантагенетов [5]сочеталась с комфортом клуба джентльменов. Арки из белого камня веерообразно расходились, образуя ребристые своды над ажурными переплетами норманнских окон. Длинные фрески в характерных для прерафаэлитов пастельных тонах изображали, как низложенный Яков II бросает в Темзу Большую государственную печать, король Вильгельм вновь обретает ее в 1689 году, а Карл Стюарт склоняет голову под нависшим над ней топором палача холодным январским утром на площади перед Уайтхоллским дворцом.
Мы отправились на галерею для публики, расположенную над залом заседаний палаты общин. На голубых, желтых и коричневых ромбах под нашими ногами пестрели трефы, пики и черви. Служители в красных ливреях и туфлях с пряжками напоминали карточных королей и валетов. На каждой из дубовых дверей красовалась надпись, своей нелепостью напоминавшая цитату из «Алисы в Стране чудес». На одной из них значилось «Прошения», на другой — «Вопросы», справа от нас сидел «Королевский почтмейстер», а слева располагалась «Контора стола». Я даже не слишком удивился бы, если бы из-за угла нам навстречу вышел белый кролик в тюдоровской куртке и трико.
На галерее для публики не было свободных мест: дебаты о юридической ответственности предсказателей судеб привлекли всеобщее внимание. Лорд Блэгдон обернулся и приветствовал нас наклоном головы.
Палата общин оказалась значительно меньше, чем я ожидал. С двух сторон зала, напоминающего неф средневековой приходской церкви, смотрели друг на друга ряды скамей, отделанных зеленой кожей. В дальнем конце, на возвышении, восседал спикер в парике и мантии. За ним тянулась галерея для журналистов, а выше — галерея для дам, загороженная светло-зеленым экраном, будто это был турецкий гарем. Перед кафедрой спикера находился стол, где работали клерки, и два пюпитра — члены парламента, стоя за ними, должны были обращаться к палате.
Заседание уже началось. Джозеф Китли, депутат от Южного округа Манчестера, выдвинул предложение от своего имени и теперь произносил речь за пюпитром, расположенным слева от нас. У этого высокого худощавого человека в распахнутом черном фраке была манера говорить, встряхивая волосами, редкими и седыми. Стекла его очков при этом сверкали. Он произвел на меня впечатление рационалиста в приемах ведения дискуссии и агностика в вопросах веры. Мы выслушали историю вдовы, которая лишь благодаря Канцлерскому отделению Верховного суда не стала жертвой жулика-предсказателя, норовившего завладеть ее имуществом. Кипя негодованием, депутат призывал парламент принять новый законодательный акт, защищающий граждан от грабежа, что рядился в личину суеверия.
С ответным словом выступил младший министр внутренних дел. Он был в той же мере невозмутим и сладкоречив, в какой мистер Китли разгорячен и дерзок. Неужели уважаемый оппонент в самом деле полагает, будто безобидные трюки каждого гадателя на деревенской ярмарке или церковном празднике нужно отнести к сфере уголовного права? Что до черной магии, которую применяли в упомянутом деле, то подобное всегда преследовалось в рамках общего права, и принятие нового закона совершенно излишне. По мнению высокообразованного господина генерального стряпчего, ничего менять не стоит.
Заседание продолжалось в том же духе, и, признаться, вскоре мои веки стали тяжелеть. Прежде, читая репортажи о напряженных дебатах, я не предполагал, сколь огромная часть того, что говорится в зале, остается за пределами газетных статей. Выслушивать все это полностью оказалось просто невыносимо. После того как младший министр в шутку назвал гадание по руке «безобидным атрибутом чайных вечеринок и ярмарочных площадей», я уже ничего не запомнил. Из дремоты меня вывел лишь локоть Холмса, вонзившийся мне под ребро.
Один из молодых членов парламента поднялся и потребовал, чтобы ему ответили, кто и на каком основании уполномочил министра решать, насколько уличные предсказатели безобидны. Я раскрыл полусонные глаза и уставился на выступающего. Мне не нужно было объяснять, что этот молодой человек в черной шелковой шляпе, дававшей ему право говорить, — кровный родственник нашего клиента. По фамильным чертам лица, темным вьющимся волосам и патрицианской сутулости я сразу же узнал лорда Артура Сэвила. На протяжении нескольких лет он отмалчивался на заседаниях парламента, однако теперь что-то вдруг пробудило в нем красноречие.
Я слушал его слова и спрашивал себя, не продолжаю ли я спать. Он зло вопросил, как младший министр правительства может утверждать, будто гадание является безобидной забавой, когда повсюду видны примеры вреда, причиняемого этим занятием. Последовало их перечисление. Глядя на молодого человека, я недоумевал: он неожиданно выступил в поддержку новой поправки, вместо того чтобы встать на защиту предсказателей судьбы! Благодаря чему же лорд Артур так резко изменил свои взгляды?
Младший министр бойко парировал «несдержанные замечания благородного депутата от Чалкота». Правительство не собирается способствовать признанию противозаконности услуг гадателей. Продолжение пространной речи чиновника я пропустил мимо ушей. Как и лорд Блэгдон, я полагал, что его кузен непременно проголосует против любой поправки, притесняющей хиромантов. Однако молодой парламентарий оказался по другую сторону баррикад. Я взглянул на Холмса, но он если и был удивлен крутым поворотом событий, то не выказал этого.
Только теперь я обратил внимание на человека, сидевшего впереди и чуть в стороне от нас. Это был, попросту говоря, толстяк с морщинистой физиономией желтушного цвета. Легкий летний костюм из коричневого хлопка сидел на его тучном теле наподобие мешка. Когда лорд Артур поднялся и задал свой вопрос, этот господин отрывисто охнул, а после ответной речи младшего министра обернулся к нам со смешанным выражением триумфа и облегчения на болезненном лице. Казалось, он предлагал всем присутствующим заодно с ним порадоваться поражению лорда Артура.
Наконец объявили начало голосования, хотя зал заседаний был полон примерно на четверть. Те, кто выступал за принятие нового закона, направились в коридор налево от спикера, а их противники двинулись направо. Даже невооруженным глазом мы могли определить, что парламентариям, считавшим гадания невинной забавой, досталась легкая победа. Лорда Артура я увидел в конце менее длинной очереди из двухтрех дюжин человек, поддержавших предложенную поправку.
Затем члены палаты вернулись на свои места, и спикер огласил итоги, которые соответствовали моим ожиданиям:
— Голосование окончено. Тридцать один голос подан «за». Девяносто пять — «против». Воздержавшихся нет. Посему я объявляю, что предложение отвергнуто с перевесом в шестьдесят четыре голоса. Палата приступает к третьему чтению билля «О гигиене для скотоводов и животноводов».
— Как любопытно, — сказал Шерлок Холмс.
Лорд Артур вернулся на свою скамью. Поскольку после обсуждения билля о животноводстве он должен был подсчитывать голоса «за», мы знали, что он никуда не уйдет до тех пор, пока дебаты не будут завершены или отложены. Его титулованный кузен провел нас в свой кабинет, расположенный за палатой лордов и выходивший окнами на высокую террасу над Темзой. Наш клиент подошел к своему столу, разлил виски из графина по трем бокалам, затем выпрямился и предложил нам выпить.
— Зачем он задал этот глупый вопрос? Почему он проголосовал в поддержку того самого закона, который прежде осуждал (я сам тому свидетель) как предрассудок, подавляющий свободу мысли?
— Шантаж, — просто ответил Холмс.
— Неужели? Но чем его могут шантажировать?
— Милорд, не допускаете ли вы, что так называемый хиромант предсказал вашему двоюродному брату совершение деяния, угрожающего ему уголовным преследованием или осуждением людей?
— Какого именно деяния?
— Полагаю, убийства.
— Но мой кузен никого не убивал!
— Вероятно, еще нет.
Лорд Блэгдон дал привратнику распоряжение оповестить его, как только в палате общин объявят очередное голосование. По оглашении результатов лорд Артур мог покинуть заседание. Нас вовремя предупредят об окончании дебатов, и он не ускользнет незамеченным. Так, по крайней мере, мы думали.
Но приказ лорда по какой-то причине не выполнили, и я понял это слишком поздно. Не дождавшись известия о том, что депутат от Чалкота намеревается выйти из здания парламента, мы услышали возглас, эхом разносящийся по коридорам. Подобно сторожу, обходящему улицы города, полисмен возвещал завершение рабочего дня в Вестминстерском дворце:
— Кто идет домой? Кто идет домой?
Мы переглянулись. Холмс и я не могли отправиться на поиски лорда Артура, поскольку значительная часть помещений Вестминстера была закрыта для посторонних.
— Подождите здесь, пожалуйста, — властно произнес лорд Блэгдон. — Я разыщу его. Если привратник увидит, как он выходит за территорию Вестминстера, вам сообщат. Думаю, Артур должен быть где-то неподалеку.
Как оказалось, кузен графа уже покинул здание, но до ворот пока не добрался. Оставшись в кабинете вдвоем, мы с Холмсом подошли к решетчатому окну. Я посмотрел вниз, на воду, плескавшуюся у высокой стены укрепленного берега. На противоположной стороне мерцали огни кебов, проезжавших по набережной Альберта. Буксир, тянущий за собой три лихтера, прошел в сторону верфей Баттерси или Ламбета.
— Не понимаю, — сказал я в который раз с тех пор, как мы занялись этим делом.
— Неудивительно, — терпеливо ответил Холмс. — Если вас не затруднит, стойте, пожалуйста, неподвижно и смотрите на реку. Я не хотел бы, чтобы меня заметили.
Я принялся изучать террасу, протянувшуюся вдоль парламентских зданий от Нью-Плейс-Ярда. Вдоль парапета взад-вперед прохаживался человек в черной шелковой шляпе. Он курил сигару, как будто кого-то ожидая.
— Этот джентльмен сидел перед нами на галерее для публики, — сказал я, сразу же узнав его по грузной фигуре и мешковатому летнему костюму. — Он обернулся и улыбнулся нам, когда лорд Артур прервал речь младшего министра своим неудачным выпадом.
— Именно, — тихо ответил Холмс. — Вероятно, положение дел станет для вас немного яснее, если я скажу, кто он. Мне удалось заглянуть в его пропускную карточку. Этот человек — корреспондент ежеквартального журнала, посвященного исследованию сверхъестественных явлений. Издание не настолько уважаемо, чтобы его представитель смог получить место на галерее для прессы.
— Что он здесь делает?
— Не спешите! Сосредоточьтесь на фактах и событиях и ни на чем более. Принимая во внимание присутствие этого господина на галерее, а также название журнала, репортером которого он является, мы можем заключить, что перед нами мистер Септимус Поджерс. Вероятно, именно сеанс хиромантии, проведенный им на весеннем приеме в Ланкастер-хаусе, вызвал у лорда Артура внезапную неприязнь к гаданиям и гадателям, в результате чего наш подопечный и переменил свой взгляд на предмет сегодняшних дебатов.
— И поэтому он носит перчатки, чтобы скрыть свои руки?
— Точнее, ладони, Ватсон. Ведь тыльные стороны он не прячет, когда играет на пианино. Полагаю, мистер Поджерс сказал ему, что его линия жизни сулит убийство.
— Но вы не можете всерьез относиться к этому, Холмс!
— Достаточно того, что в предсказание поверил простодушный лорд Артур. Вы понимаете, какова была его логика? Если он обречен на совершение преступления, пусть его жертвой станет человек, чья жизнь не представляет особой ценности и мало связана с его собственной. Представьте себе: леди Клементина Бичем умирает от аконитина, угостившись конфетой, которую она взяла из бонбоньерки за послеобеденным кофе. Кто усмотрит злой умысел в кончине немощной старой леди? Кто заподозрит лорда Артура, находящегося в Венеции, за тысячу миль от Лондона, и не имеющего мотива для убийства? Услышав о смерти родственницы от сердечной недостаточности, он испугался. Теперь ему непременно нужно было очистить конфетницу от отравленных сластей. Она оказалась пустой. Что до пятна на донце, лорд Артур, должно быть, принял его за след от растаявшего шоколада.
— А как же архидиакон Перси?
— Признаюсь, над этим вопросом мне пришлось поразмыслить немного дольше. Дело в том, что по адресу: Грик-стрит, сто девяносто девять, нет часовой мастерской, да и самого дома с таким номером не существует. Взрывной механизм весьма неумело сконструировал какой-то дилетант, тоже проживающий в Лондоне, но в другом месте. В полдень первый капсюль, очевидно, взорвал очень небольшое количество пороха. Полагаю, крупинки, высыпавшиеся из резервуара при почтовой пересылке, просто загорелись, реакции хватило лишь на хлопок. А в полночь, когда стрелки часов снова встретились друг с другом, оставшиеся детонаторы сработали, вызвав достаточно мощный взрыв.
— Бомбу изготовил сам лорд Артур?
Холмс покачал головой.
— Думаю, нет. Сделана она была из рук вон плохо, но даже такая работа ему не под силу. Предположим, он ее заказал. Что до самих часов, то такая модель выпускалась во Франции после тысяча восемьсот семьдесят первого года в ознаменование провозглашения Третьей республики, для англичан же она представляет собой лишь любопытный раритет, поскольку вкуса к революциям мы не имеем. Благодаря расторопности инспектора Лестрейда и аккуратности записей таможенного и акцизного управления я установил, что за истекшие двенадцать месяцев в нашу страну ввезли не более полудюжины таких часов. Одна из посылок была отправлена мистеру Ливэсу Рутре, в сербское агентство новостей, что на Лайл-стрит.
— Кто такой этот Ливэс Рутра? И с чего сербскому анархисту вдруг понадобился архидиакон Перси?
— Видите ли, Ватсон, человек, который пытается запомнить, к примеру, шифр замка, обычно опасается не столько вора, способного узнать эти цифры, сколько собственной забывчивости. Поэтому для подобных целей чаще всего выбирают комбинацию «1234» или дату рождения. С вымышленными именами дело обстоит примерно так же. Лорд Артур — убийца неопытный да к тому же довольно бестолковый, поэтому он сочинил себе нелепейший псевдоним. Не будь этот молодой человек внуком графа, он, вероятно, очутился бы в работном доме или продавал бы спички на улице. Но даже такой простофиля вряд ли забудет свое имя.
— Так он и есть Ливэс Рутра?
— Ливэс Рутра — это Артур Сэвил наоборот. Элементарно даже для столь невыдающегося ума. Архидиакон — очередная жертва, которую наш убийца-эксцентрик выбрал без всякого мотива из числа людей старше восьмидесяти лет, воспользовавшись церковным справочником Крокфорда. Единственная улика — часы — должна была взорваться вместе с преподобным. Предсказанное убийство свершилось бы, и страшное пророчество потеряло бы свою силу. Лорд Артур стал бы свободным человеком.
Я указал на окно.
— А Септимус Поджерс? Какова его роль в этом деле?
— Он шантажировал лорда Артура и следил за ним. Достаточно было сообщить миру (допустим, в лице Скотленд-Ярда), что член палаты общин от Чалкота считает себя обреченным на совершение убийства, как обнаружились бы факты покупки аконитина и пороха. После этого смерти леди Клементины и архидиакона предстали бы совсем в ином свете. В том, что лорда Артура шантажировали, меня окончательно убедил отпечаток чека на сто гиней, замеченный другом его светлости на промокательной бумаге. Для гонорара за услуги хироманта сумма слишком велика. Скорее это вознаграждение за сокрытие преступления.
— Это и есть ваше доказательство?
— Не совсем. Но я рассчитываю вскоре получить то, чего мне недостает.
Слушая Холмса, я заметил, как кто-то вышел на террасу через дверь библиотеки и направился к Поджерсу. Фонари светили достаточно ярко, и я без труда узнал лорда Артура Сэвила, которого выдавала благородная сутулость юношеской фигуры. Если Холмс не ошибался, нам предстояло наблюдать личную встречу шантажиста с жертвой. В это время суток, когда все члены парламента спешили разойтись по домам, здесь едва ли могли оказаться посторонние.
Я ожидал, что между лордом Артуром и Поджерсом начнется спор, а то и вспыхнет громкая ссора, и аристократ, потерпев поражение, выпишет очередной чек либо достанет из бумажника банкноту. Ведь у Поджерса все же была власть над противником, хоть и весьма шаткая.
Лорд Артур двинулся вперед, скруглив плечи и сцепив руки под фалдами вечернего сюртука. Когда он подошел совсем близко, Поджерс почему-то издал вопль, который долетел до нашего высокого окна отдаленным птичьим криком. Хиромант сделал несколько резких движений, как будто старался оттолкнуть врага, но тот загнал его в угол каменного парапета, доходившего человеку до пояса. Лорд Артур быстро взмахнул рукой, и я готов был поклясться, что в свете фонарей сверкнуло лезвие ножа. Я посмотрел на Холмса. Он не шелохнулся.
Септимусу Поджерсу ничего не оставалось, как ухватиться за парапет, вскочить на него и отбиваться ногами от нападающего. На его месте так поступил бы любой. Не знаю, выжидал лорд Артур этого момента специально или же действовал произвольно, применяясь к обстоятельствам. Так или иначе, он выронил нож (если это был нож), ухватил Септимуса Поджерса за лодыжки и сбросил вниз. Раздался еще один крик, более глухой, нежели первый, а затем я отчетливо услышал удар тела о камни и последовавший за ним всплеск.
Лорд Артур замер, глядя на темную Темзу. Теперь едва ли можно было что-то сделать, даже если бы он пожелал. Опорная стена террасы парламента строго вертикально спускается к быстро бегущей воде. Мощные течения стремятся от вестминстерского и ламбетского берегов к середине широкой реки, где проходят вереницей буксиры и баржи. Я не видел Поджерса и тем более не мог знать, жив ли он. Его тело было неразличимо в волнах. Мне лишь показалось, что я вижу черную шелковую шляпу, которая плывет прямо перед большим катером, бьющим по воде лопастями колеса.
Холмс, продолжая стоять неподвижно, произнес:
— Даже если лорд Артур поднимет тревогу, негодяя все равно не спасти. Уже слишком темно, и течение очень быстрое. Никакая помощь не подоспеет. И это к лучшему. Правосудие порой выбирает для себя загадочные пути. Не могу отрицать, что Септимус Поджерс получил по заслугам. Он сам стал архитектором собственного убийства, которое продумал до последней детали.
— Продумал собственное убийство?
Холмс застегнул сюртук и принялся натягивать перчатки.
— Несомненно.
— Но как?
Мой друг укоризненно посмотрел на меня, чуть наклонив голову набок.
— Дорогой Ватсон, если бы хиромант убедил меня, что мне предстоит совершить убийство, я незамедлительно освободился бы от этого бремени, покончив с ним самим. Но лорд Артур, по глупости или по мягкосердечию, поначалу избирал для себя жертвы, которых в любом случае ожидала скорая смерть.
— Так мы ничего не предпримем?
— Нам совершенно не о чем беспокоиться, мой старый друг.
— Может, хотя бы разыскать квартиру Поджерса на Уэст-Мун-стрит, чтобы уничтожить компрометирующие лорда Артура документы и другие улики?
Холмс усмехнулся.
— Только своим жертвам шантажисты говорят, будто имеют богатые архивы компрометирующих материалов. На самом же деле они знают, что хранение доказательств чужих грехов — лезвие, которое скорее ранит своего владельца, нежели того, кому он угрожает. Эти мерзавцы обычно держат важные сведения в голове, а в случае мистера Септимуса Поджерса от нее мало что осталось, после того как по реке прошел буксир с баржами. Если не возражаете, мы покинем кабинет лорда Блэгдона и вернемся на Бейкер-стрит. Полагаю, пару недель нам стоит внимательно просматривать колонки происшествий в газетах.
С тяжелым сердцем я последовал совету своего друга. Через несколько дней мы получили от нашего клиента письмо, в котором сообщалось, что лорд Артур Сэвил пережил нервный срыв и теперь находится в клинике для душевнобольных в Бексхилле. За ним очень хорошо ухаживают, и он, насколько это возможно в его положении, счастлив. Поскольку лорд Артур едва ли покинет лечебницу в ближайшее время, наша с Холмсом опека ему более не нужна. К благодарности за оказанную помощь прилагалась сумма в пятьдесят гиней.
На протяжении недели других известий не поступало. Наконец погожим сентябрьским утром, когда в воздухе уже ощущалось первое дуновение осени, я взял «Морнинг пост» и разложил на столе, с которого только что убрали остатки завтрака. Из газеты я узнал, что лорду Артуру Сэвилу больше ничто не угрожает.
«В воскресенье, в семь часов утра, тело мистера Септимуса Р. Поджерса, известного хироманта, было выброшено на берег в Гринвиче, перед гостиницей „Корабельная“. Несчастного джентльмена, чьи бренные останки пострадали, очевидно, от столкновения с речным судном, опознали по содержимому карманов и отпечаткам пальцев. Почти полмесяца его считали пропавшим, и в кругах лондонских любителей хиромантии ощущалось немалое беспокойство. Вероятнее всего, мистер Септимус Поджерс покончил с собой в результате временного помутнения рассудка, вызванного переутомлением. Таков вердикт коллегии присяжных при коронере. Незадолго до смерти мистер Поджерс завершил скрупулезную работу над книгой о линиях человеческой руки. В скором времени труд будет опубликован и, несомненно, вызовет у читателей большой интерес. Хиромант скончался на шестьдесят шестом году жизни. Родственников он, судя по всему, не имел».
Прочитав статью, Холмс отложил газету и посмотрел в окно, откуда лился мягкий солнечный свет.
— Помнится, дружище, я был с вами немного резок, когда вы предложили провести недельку-другую в Илфракомбе или Тенби. Сентябрь еще только начался, светит солнце, дни не слишком туманны. С некоторых пор я подумываю о том, чтобы написать монографию о преступных формах добрых побуждений, о тех, кого поэт Браунинг называет «честными ворами» и «нежными убийцами». Теплые осенние деньки и Атлантическое побережье вполне подойдут для этой работы.
Прежде чем мой друг успел передумать, я заглянул в справочник Брэдшоу и забронировал для нас комнаты в хорошей гостинице. А затем телеграфировал в контору Большой западной железной дороги, чтобы заказать билеты в вагон первого класса на поезд, следующий с Паддингтонского вокзала в Барнстепл через Эксетер.
Почти все письма, приходившие в наше детективное агентство на Бейкер-стрит, 221-6, были адресованы Шерлоку Холмсу и лишь очень немногие — лично мне. После знакомства с великим сыщиком я некоторое время продолжал медицинскую практику и больных, обращавшихся ко мне за помощью, принимал, как правило, в своем кабинете. Тем сильнее оказалось мое удивление, когда октябрьским утром 1884 года мне доставили телеграмму с просьбой о проведении криминального расследования.
Из послания было ясно лишь одно: его отправительница — мисс Элис Кастельно, учительница женской школы Опеншо, находящейся в линкольнширском городке Мейблторпе, — считает, что дело не терпит отлагательств. В ту пору Холмс и я не были заняты, и я сразу же дал ответную телеграмму. Приняв во внимание расстояние, которое предстояло преодолеть вышеназванной даме, я предложил ей явиться к нам на следующий день в четыре пополудни.
Не прошло и часа, как я получил согласие. Кроме того, мисс Кастельно сообщила о пропаже двух своих братьев: они исчезли двое суток назад, в воскресенье вечером, при весьма тревожных обстоятельствах. Мне показалось немного странным, что учительница, попав в столь затруднительное положение, обратилась именно ко мне, а не к самому Шерлоку Холмсу.
Излагая эти новости своему другу, я видел лишь табачный дым, поднимавшийся из-за развернутого экземпляра «Морнинг пост».
— Исчезновение братьев? Так-так… — наконец усмехнулся Холмс, не опуская газеты. — Дело, по крайней мере, приобретает некоторую остроту. Не беспокойтесь, Ватсон, на время вашей встречи с посетительницей я покину гостиную.
— Вероятно, дама предпочтет говорить при вас, — торопливо ответил я, — если, разумеется, речь не пойдет о состоянии ее здоровья. В этом случае я буду вам признателен за возможность остаться с ней наедине.
Холмс снова хмыкнул, но ничего не сказал. По мере того как проходили часы, я все больше убеждался, что мисс Кастельно лучше было бы обратиться за советом к моему другу. Сам я охотно взял бы на себя привычную роль помощника гениального детектива. Теперь же мне придется либо отрекомендовать Холмса как своего ассистента, чего я сделать не мог, либо не представлять его вовсе. Он понимал это не хуже моего и с искренностью, далеко выходившей за рамки учтивости, наслаждался тем, как мучило меня мое «главенствующее» положение.
На следующий день мисс Кастельно прибыла без опоздания, поспев к послеполуденному чаю. Держалась она, как и следовало ожидать, серьезно, выглядела опрятно и изящно. Я не заметил в посетительнице стремления быть подчеркнуто элегантной. Черты ее овального лица не отличались изысканностью, русые волосы были скручены в старомодный тугой пучок, однако во всем ее облике ощущалось своеобразное стародевическое обаяние. Эта дама, на чьей головке так хорошо смотрелся бы капор сороковых годов, напомнила мне героинь Шарлотты Бронте. На вид ей было четыре десятка с небольшим.
Шерлок Холмс, внезапно ставший услужливым и учтивым, с поклоном усадил гостью в кресло у камина. Вопреки своему первоначальному намерению, он не поспешил удалиться, лишь предупредил:
— Если вы желаете говорить с доктором Ватсоном наедине, вам стоит только сказать.
Ничего подобного мисс Кастельно не заявила. Достав из сумочки конверт, она сразу же перешла к цели своего визита:
— Я принесла письмо, написанное моим единокровным братом Абрахамом Кастельно и адресованное доктору. Как его зовут, здесь не упоминается. Думаю, Абрахам не знал ни одного врача настолько близко, чтобы обращаться к нему по имени. Если позволите, я буду называть обоих своих братьев по отцу просто братьями, поскольку необходимость уточнять степень нашего родства воскрешает в моей памяти неприятные сплетни и пересуды. — Эти слова показались мне свидетельством утонченности и чувствительности, каковыми и приличествовало обладать учительнице школы для молодых леди. Между тем наша гостья продолжала: — Я нашла конверт после того, как в воскресенье вечером Абрахам и Роланд пропали. До сих пор я никому его не показывала и теперь хочу, чтобы письмо прочитал медик. Даже у нас в Мейблторпе слышали о докторе Ватсоне, который работает вместе с мистером Шерлоком Холмсом на Бейкер-стрит. Этот документ, наряду с исчезновением моих братьев, стал причиной, которая привела меня сюда.
Мисс Кастельно показалась мне удивительной женщиной — благовоспитанной и в то же время решительной. То, что она вела себя так спокойно в столь тревожный момент, я приписал внутренней силе ее уравновешенной натуры. Примеры такой сдержанности мне как врачу доводилось наблюдать довольно часто.
— Для начала, мисс Кастельно, я попросил бы вас рассказать мне немного о ваших братьях.
— Оба они служат смотрителями старого маяка в Саттон-Кроссе. Он расположен на западном побережье залива Уош, в устье реки, примерно в сорока милях к югу от Мейблторпа и чуть выше Кингс-Линна. Если говорить точнее, это не столько маяк, сколько сигнальная башня на пяти деревянных сваях — наверху световая камера, а под ней комнатушка. Сооружение находится у края воды, в месте впадения реки в море, и во время прилива на несколько часов оказывается отрезанным от суши.
— А письмо?
— В понедельник, перед рассветом, механизм остановился и маяк погас. Вскоре обнаружили, что моих братьев там нет. Утром из Мейблторпа вызвали меня. В каморке, в глубине выдвижного ящика стола, я нашла это письмо и, разумеется, его прочитала. Теперь прошу об этом вас, доктор Ватсон.
Мисс Кастельно протянула мне конверт. Меня с первого взгляда поразило несоответствие между утонченно-сдержанными манерами школьной учительницы и неуверенным, корявым почерком смотрителя маяка. Не знай я об их родстве, мне никогда не пришло бы в голову, что они брат и сестра.
Я внимательно изучил письмо, умещавшееся на единственном листке бумаги. На первой строчке значился адрес отправителя: «Старый маяк, Саттон-Кросс, Бостонские глубины». Как известно, Бостонские глубины остаются единственным судоходным фарватером в мелких заиленных водах залива Уош. За несколько веков море отступило от этой части линкольнширского побережья. Сохранившийся глубоководный участок использовали мало — преимущественно как якорную стоянку для каботажных торговых судов. В этой местности, плоской, как и вся Восточная Англия, маяк, должно быть, теперь считался диковинкой. Вероятно, для кораблей он обозначал пределы, за которыми глубокая вода сменялась коварными песчаными отмелями.
Скользнув взглядом в конец страницы, я увидел подпись, выведенную большими неровными печатными буквами: «Абрахам Кастельно». Необычная фамилия для англичанина. Она напомнила мне о том, что двести лет назад Восточная Англия стала приютом для ремесленников-гугенотов, подвергавшихся гонениям во Франции. Эти трудолюбивые и законопослушные люди быстро прижились на новой родине.
Писавший обращался к «уважаемому доктору», чье имя не называлось, и сообщал ему следующее:
Я человек, сверх меры всякого терпения терзаемый злым недугом. Я страдаю от него много лет, правда, раз или два приходил к заключению, что избавился от болезни, однако она возвращалась. В стародавние времена моей беде, вероятно, помог бы праведник. Но тайна святых врачевателей утеряна, и я, как ни надеялся, не смог ее постичь. Наверное, мне следовало взять себе жену, да только какая же женщина захочет обременять себя больным мужем. Такова горькая истина. Я не могу скрывать, кто я есть, а посему никто не пожелает приблизиться ко мне. Я нуждаюсь в помощи медика, способного творить чудеса. Если этот человек Вы, прошу Вас написать, какова будет плата за услуги.
Засим остаюсь Ваш покорный слуга,
Пробежав глазами эти строки, я опустил руку, держащую листок.
— Когда я прочла письмо, мне пришла в голову мысль, что брат, возможно, слышал о вас и вашем друге, — мягко сказала мисс Кастельно. — Но к кому Абрахам обращается, непонятно. Должно быть, к какому-то известному лицу вроде вас, поскольку в Саттон-Кроссе у него наверняка нет знакомых докторов.
Я снова взглянул на записку, и многое в ней показалось мне странным. В почерке ощущалась медлительность человека, который не привык часто упражняться в каллиграфии. Но выбор слов и построение фраз свидетельствовали о том, что смотритель получил кое-какое воспитание. Иначе он не употребил бы таких слов, как «терзаемый недугом» и «медик». Очевидно, Абрахама Кастельно нельзя было назвать высокообразованным человеком, однако он слышал о святых врачевателях прошлых веков. Кто передал ему эти знания? Брат нашей посетительницы едва умел держать в руках перо, но выражал свои мысли так, словно нередко бывал в кругу людей, проведших юность за партой. Возможно, письмо отчасти составлено под чью-то диктовку?
— Здесь много непонятного, мисс Кастельно. Как долго пролежал листок на дне выдвижного ящика, прежде чем вы нашли его? Когда ваш брат написал это послание (дата не указана) и действительно ли он собирался его кому-либо отправить? Если позволите, я передам записку своему коллеге мистеру Шерлоку Холмсу.
Элис Кастельно кивнула. Холмс бегло прочитал кривые строки, затем вытянул ноги к камину и изучил послание более внимательно. Но высказать свое суждение он не успел — в дверь постучала миссис Хадсон. Наша добрая хозяйка накрыла стол скатертью, водрузила на нее серебряный поднос с чайными чашками и бутербродами, задернула портьеры, скрыв от наших глаз улицу, тонущую в густом тумане. Затем дверь за почтенной домоправительницей затворилась. В свете газовой лампы полотно скатерти стало ослепительно-белым, фарфор и металл заблестели.
— Думаю, вы можете разъяснить нам кое-что еще, мисс Кастельно, — обратился Холмс к посетительнице. — Перед нами стоят две проблемы. Ваш брат, если позволите так его называть, чрезвычайно обеспокоен своей болезнью, о чем свидетельствуют эти строки. После их написания он исчез вместе с другим вашим братом, младшим. Считаете ли вы, что эти факты взаимосвязаны? Или же вы просите нашего совета только по одному из них?
Мисс Кастельно устремила на моего друга прямой бесстрастный взгляд.
— Не знаю, мистер Холмс. Именно поэтому я и пришла. Наше родство неполнокровное, и братьев своих я знаю плохо. Мой отец Джон Кастельно изготовлял жмых и продавал его фермерам для кормления скота. После смерти моей матери он женился повторно. Когда родился Абрахам, мне исполнилось шестнадцать лет. В то время я более года была больна. У меня заподозрили чахотку — недуг, погубивший маму. Тогда жена отца подыскала квартиру на побережье, близ Кингс-Линна, и на протяжении семи месяцев я поправляла там свое здоровье. Через некоторое время после рождения Абрахама мачеха уехала, а я осталась в Мейблторпе, в заведении мисс Опеншо. После окончания курса начальница сделала меня своей ассистенткой, а через четыре года, когда она умерла, попечители приняли меня на должность учительницы.
— Поздравляю вас, — мягко произнес Холмс. — Пожалуйста, продолжайте.
— Моя жизнь была совсем не такой, как у братьев, к тому же я намного их старше. Они остались в маленькой прибрежной деревушке Саттон-Кросс и до некоторых пор помогали отцу в изготовлении жмыха. После осушения болот в округе появилось множество молочных ферм. Поэтому отцовское ремесло приносило неплохой доход, и он мог позволить себе нанять с дюжину работников. Но потом для фермеров настали трудные времена, а по железной дороге начали привозить более дешевый фураж. Тогда Абрахам и Роланд поняли, что дело отца едва ли их прокормит.
Очевидно, между сестрой и братьями не существовало тесной связи. Подметив это, Шерлок Холмс сказал:
— Если вы желаете расследовать их исчезновение, мисс Кастельно, мы будем признательны вам за любые сведения о пропавших. Прежде всего нас интересует, что они за люди. Не хотелось бы принуждать вас к откровению, однако для успеха этого дела нужно знать подробности и действовать очень быстро, пока след не остыл.
Данное предупреждение совершенно не взволновало нашу посетительницу. Если бы мисс Кастельно не рассказала о своих истинных отношениях с братьями, я, наверное, счел бы ее бесчувственной.
— У меня с ними мало общего, мистер Холмс, но их судьба мне небезразлична. Как нередко случается у братьев и сестер, мы жили врозь, в разных мирах. Признаюсь открыто: в округе Абрахама и Роланда не любили. Думаю, причиной послужила ссора, а может, и насилие. Что до их нрава, то оба моих брата всегда были отшельниками. Для Абрахама лучшее общество — это он сам, да и Роланд не терпит любопытных людей.
— Как они получили должность смотрителей маяка?
— Более десяти лет назад у них начались серьезные неприятности. Отец умер, и предприятие по производству жмыха пережило его ненадолго. Старое здание у реки опустело, а затем в нем устроили склад. После этого братья перебрались на маяк, который уже давным-давно служит простой сигнальной башней. Абрахам и Роланд стали его смотрителями, благодаря чему получили крышу над головой. Они ведут уединенную жизнь. До деревни не более мили, но, поскольку маяк окружен болотами и песками, затопляемыми во время прилива, дважды в сутки он на несколько часов оказывается отрезанным от суши.
— Не могли бы вы рассказать нам о старом маяке что-нибудь еще? — попросил я.
— Он находится на илистом участке в устье реки и освещает прибрежную полосу. Деревянные сваи приподнимают сооружение примерно на восемнадцать футов над уровнем низкой воды. Милей выше по течению есть мост. С берега к двери каморки маяка ведет железная лестница. Кругом топи и песчаные отмели. Говорят, там зыбучие пески.
— А что за деревня поблизости? — поинтересовался я.
— Саттон-Кросс возник на развалинах древнеримской волноотбойной стены. Пятьдесят лет назад здесь построили первый проездной мост. Раньше устье реки можно было перейти только вброд. Затем появился новый металлический мост, по которому проходят пути Центральной и Большой северной железных дорог. Они соединяют Сполдинг, что в графстве Линкольншир, с Норфолком. Ниже по течению местность заболочена: она одинаково опасна для лодок и для пеших охотников. Со времени строительства первого моста деревня сильно разрослась, ну а постоялый двор и церковь стоят там вот уже несколько столетий.
Холмс опустил руку в карман и, задумчиво посмотрев на огонь, улыбнулся.
— Однажды я провел в Саттон-Кроссе пару дней, мисс Кастельно. Профессор Джебб устраивал в этой деревушке чтения для студентов Кембриджа перед экзаменом на степень бакалавра с отличием по классическим языкам. Насколько я помню, на линкольнширском берегу реки есть пешая тропа, тянущаяся от постоялого двора к устью. Если я не ошибаюсь, тогда горел еще один сигнальный огонь — со стороны Норфолка.
Мисс Кастельно кивнула.
— Пятьдесят лет назад требовалось два маяка, чтобы суда могли заходить из моря в реку и следовать вверх по течению до самого Уисбека. Теперь вода отступила и дно заилилось, что очень затрудняет навигацию. К тому же из-за моста, построенного в миле от берега, каботажная торговля стала малоприбыльной. Поэтому из двух маяков теперь действует только один — старый, на линкольнширской стороне. Его единственный луч направлен на море, чтобы светить кораблям, бросившим якорь на Бостонских глубинах. Но и на той стоянке сейчас почти не бывает судов.
— А фонарь над церковью зажигают до сих пор? — спросил Холмс. — Помнится, он приветливо сиял в высокой башенке с винтовой лестницей на крыше очаровательного приходского храма. Думаю, это сооружение намного старше обоих маяков.
— Фонарь используется не для того, чтобы подавать сигналы судам. Им его свет не виден. Как и старый маяк, эта башня теперь скорее служит ориентиром для ловцов угря и охотников, которые бродят по болотам в поисках дичи. Тут немудрено заблудиться и пропасть, особенно в темноте и в туманные дни.
— Очень хорошо. Теперь, с вашего позволения, вернемся к вопросу о ваших братьях. Расскажите о них более подробно.
— Младшего зовут Роландом, — просто сказала мисс Кастельно. — Деревенская молодежь окрестила его «ходоком на ходулях». Вероятно, доктор Ватсон, вам известно, что под этим подразумевают в местности, прилегающей к заливу Уош? — обернувшись ко мне, спросила она.
— Нет, я не знаю.
— Роланда называют «ходок на ходулях», поскольку он противится переменам, которые остальные почитают за благо. На протяжении веков море в тех краях отступает от берега. Время от времени болотистые и песчаные участки огораживают для уплотнения и осушения ила. Затем их превращают в пастбища для скота, который держат на соседних овчарнях и молочных фермах. Для людей, что всегда ловили здесь рыбу, охотились на дикую птицу и пасли гусей, эти земли, до недавних пор считавшиеся общими, теперь оказываются недоступными. Столетиями охотники и рыбаки бродили по опасным болотам и пескам на ходулях, а сейчас их поколение вымирает. Люди лишились своих угодий и считают врагами даже железнодорожные компании, построившие насыпи, из-за которых крупные участки топи высохли. Попросту говоря, прозвище, данное Роланду сверстниками, выражает их презрение.
— А каков старший из братьев, автор письма?
Мисс Кастельно немного подумала и, осторожно подыскивая слова, проговорила:
— Я знаю, что он одинок. Боюсь, беньяновский великан Отчаяние [6]— его верный спутник. На Роланда Абрахам совсем не похож. Оба они добывают себе пропитание охотой и рыбной ловлей. Но при этом Абрахам живет в мире снов и легенд, древних преданий и рыцарских романов. Я хотела бы, чтобы это приносило ему утешение, но, по-видимому, мечты его обманули.
— И все же превосходно, что они у него были, — отрывисто произнес Холмс, подавшись вперед. — Братья поддерживают между собой близкие отношения?
— Нет, — тихо ответила мисс Кастельно. — Думаю, наоборот. Делить кров их вынудили обстоятельства. Полагаю, они в лучшем случае равнодушны друг к другу.
Посетительница выпрямилась в кресле, показывая, что больше ей сказать нечего. Повисла пауза.
— Будьте откровенны до конца, — мягко попросил Холмс. — Если я не ошибаюсь, есть некий факт, о котором вы знаете, но до сих пор умалчивали. Он связан с загадочным исчезновением ваших братьев. Не стоит скрывать правду, мисс Кастельно, иначе мы не сможем вам помочь. Ну же, прошу вас, говорите.
Наша гостья слегка покраснела, но не опустила глаз.
— Мистер Холмс, вы уже упомянули о старой церкви Саттон-Кросса с винтовой лестницей и башенкой на крыше. После наступления темноты фонарь, который там зажигают, помогает найти путь охотникам и рыбакам, обходящим свои капканы и сети. Если человек видит этот свет и огонек прибрежного маяка, он может ориентироваться на заболоченной равнине долгое время спустя после захода солнца. Он отыщет дорогу домой, даже если волны прилива наступают ему на пятки или сгущается туман, а туман осенью — такой же враг людей, как прибывающая морская вода и зыбучие пески. Для местных жителей очень важны эти сигнальные огни. — Мисс Кастельно умолкла, впервые выказав, что ей тяжело говорить. Но это длилось лишь мгновение, и она продолжила: — В прошлое воскресенье, после вечерней службы, священник и церковный сторож поднялись на башню, чтобы зажечь фонарь. Уже смеркалось, но было не совсем темно. Прилив начался, на берег наползал туман. Он надвигался медленно, словно занавес, и топи пока не накрыл. Пастор со сторожем шли по винтовой лестнице и вдруг услышали выстрел.
— Из какого оружия стреляли?
— Из дробовика, мистер Холмс, и звук донесся откуда-то с болота. Там часто палят днем, но не вечером — разве что хотят подать сигнал. Когда священник и сторож выбрались на плоскую церковную крышу, море продолжало наступать, как всегда, быстро затопляя песок на пути к руслу реки. Главная опасность, мистер Холмс, заключается в том, что прибрежная местность кажется ровной, а это не так. Вы можете стоять на открытом песчаном участке в сотне ярдов от края воды и считать себя неуязвимым. Но в действительности вы уже отрезаны от суши: путь к отступлению может быть перекрыт либо затопленными впадинами, либо зонами с илистой почвой, которая уже пропиталась влагой и превратилась в трясину. Волны атакуют замешкавшегося путника со всех сторон так стремительно, что ему приходится бежать во весь дух. Ну а в темноте спастись во сто крат труднее. Вы меня понимаете?
— Вполне.
— Любой человек, оказавшийся в тот час на прибрежной равнине, рисковал жизнью. Сторож поспешил зажечь фонарь. Старый маяк уже горел. Тогда в тумане, который надвигался вместе с водой, показались двое. На значительном расстоянии и при слабом свете их невозможно было узнать, но они, очевидно, дрались. Один вцепился в другого, и оба рухнули в грязь. Второй поднялся и побежал, но первый снова схватил его и повалил на землю. Так, во всяком случае, показалось сторожу и мистеру Гилмору, священнику. Сквозь туман, который становился все гуще, они видели, что схватка продолжается. Из-за скользкого ила под ногами противники часто падали, и, если это вправду была драка, никому не удавалось одержать в ней верх. Пастор и сторож ничего не могли поделать, даже если бы решились спуститься с крыши и вмешаться. Это грозило верной гибелью, к тому же те двое находились слишком далеко от них.
— Не приходило ли в голову священнику и его помощнику, что парни просто-напросто решили поразвлечься? — спросил я.
— Местные жители знают не понаслышке, что зыбучие пески не место для забав, доктор Ватсон.
— Очень хорошо.
— С дальнего расстояния мистер Гилмор и сторож не смогли установить возраст дерущихся. Так или иначе, с того вечера моих братьев никто не видел. Следующим утром на старый маяк явились двое полицейских, поскольку примерно за час до рассвета на тайнмутском углевозе, стоявшем на рейде неподалеку, заметили, что луч погас. Утром из Мейблторпа приехала я. Мне помогли взобраться по лестнице в каморку, где я нашла письмо в ящике стола.
Рассказ нашей посетительницы теперь был действительно завершен. На несколько мгновений воцарилась тишина, которую Холмс нарушил новым вопросом:
— Не оказалось ли в комнате других вещей, на которые вы обратили внимание?
— За дверью висела куртка Абрахама. Я проверила карманы и в одном из них нашла камешек.
— Какой камешек?
— Я не стала бы из-за него беспокоиться и даже не заметила бы его, не будь он аккуратно завернут в бумагу. Я подумала, что на ней может быть что-то написано. Но обнаружила только маленький камень.
— Где он сейчас?
— Я оставила его у себя, поскольку полицейским он едва ли мог понадобиться.
— Думаю, вы заблуждаетесь, мисс Кастельно. Сейчас этот камешек при вас?
Посетительница вынула из кармана платья сверточек. Листок бумаги, как она и говорила, оказался совершенно чистым. Когда Холмс разворачивал его, я поднялся и стал рядом. То, что я увидел, показалось мне комочком глины или голышом с галечного пляжа. Находка была не крупнее ногтя на моем большом пальце.
Еще мгновение Холмс молча разглядывал переданный ему предмет, а затем поднял глаза на нашу клиентку (как мы теперь по праву могли ее называть).
— С вашего позволения, мисс Кастельно, — мягко произнес он, — я оставлю это у себя на несколько часов для изучения. Вам, полагаю, следует вернуться в Мейблторп сегодня же вечером. Мы с доктором Ватсоном проводим вас до вокзала Кингс-Кросс, а завтра к полудню непременно прибудем в Саттон-Кросс. Камешек я привезу с собой. К сожалению, ничего не могу вам пообещать относительно исхода дела. Однако, судя по тому, что вы нам рассказали, в течение ближайших трех дней тайна исчезновения ваших братьев так или иначе раскроется.
— Неужели этот грязный камень может быть вам полезен?
— Не будь он завернут с таким тщанием, я бы, вероятно, не счел его сколько-нибудь ценным для нашего расследования. Но если с ним обращались столь бережно, не исключено, что под наружным слоем скрывается некий твердый предмет, попавший в мягкую глину. Пока ничего нельзя сказать определенно, но в свете имеющихся фактов этот камешек, возможно, сообщит нам нечто важное.
Вечером, после того как мы благополучно проводили мисс Кастельно к поезду, Шерлок Холмс ужинал на рабочем месте. Поднос с едой стоял перед великим детективом на столешнице, испещренной следами соляной кислоты и другими свидетельствами многочисленных химических экспериментов. Вокруг валялись разнообразные предметы: хирургические щипцы, лупа, запачканный перочинный нож в масленке, скальпель и револьвер, разобранный две или три недели назад и с тех пор ожидавший, когда у хозяина появится свободная минутка. Тут же находились два черепа, чьи обладатели столетие назад были повешены в Тайберне за убийство, а затем подвергнуты расчленению в присутствии многочисленной аудитории в анатомическом театре. Теперь эти мрачные сувениры с двух сторон поддерживали ряд весьма потрепанных томов, к которым мой друг обращался для справок. Сам он корпел над работой, сменив выходной черный сюртук на свой всегдашний пурпурный халат.
Минуло десять часов вечера, а долговязая фигура Шерлока Холмса все еще склонялась над камешком, оставленным мисс Кастельно. Сыщик рассматривал его уже несколько минут, вставив в глазную впадину увеличительное стекло, как делают ювелиры. Наконец, вынув свой монокль, мой друг выпрямился.
— Думаю, Ватсон, нам следует взяться за дело серьезнее. Ведь мы с вами не какие-нибудь торговцы часами и побрякушками.
С тех пор как мы проводили мисс Кастельно на вокзал Кингс-Кросс, Холмс едва ли обменялся со мною парой слов, а в последние полчаса и вовсе хранил молчание. Теперь он встал со своего кресла, подошел к шкафу, где у него хранилась всякая всячина, имеющая отношение к естественным наукам, и извлек оттуда прибор — гидроскопические весы в корпусе из красного дерева с золоченой надписью «Э. Дертлинг, Лондон». Холмс поставил их на свой стол.
С виду устройство представляло собой полированный ящик без боковой стенки примерно десяти дюймов в высоту, двенадцати в длину и шести в ширину. К донцу при помощи медного штыря крепился механизм с двумя крошечными чашами. На нижнем краю короба находился штурвал регулировки. Сейчас прибор был настроен на взвешивание предметов массой не более одного миллиграмма.
— Полагаю, температура воздуха в нашей гостиной примерно равняется шестидесяти градусам Фаренгейта [7], — нарушил паузу Холмс. — Как вы считаете, Ватсон?
— Конечно, не меньше, поскольку камин горит ярко, а шторы задернуты.
Холмс взял камешек мисс Кастельно и потер щеткой, чтобы очистить поверхность от налипших частиц. Затем поместил его в петлю из тонкой проволоки, свисавшую с правой чаши весов, и отрегулировал механизм. Взвесив предмет в воздухе, Холмс взял его хирургическими щипцами, подставил под чашу маленький сосуд и опустил ее, погрузив камешек в воду. Решив удалить пузырьки, которые могли придать маленькому телу плавучесть, мой друг воспользовался тонкой кисточкой.
Наблюдая за тем, как усердно Холмс трудится, я не мог не заметить, что в данный момент он походит не столько на известного консультирующего детектива, сколько на счастливого ребенка, получившего рождественский подарок. Вероятно, разница между тем и другим и впрямь не так уж и велика.
Вооружившись медным механическим карандашом, Холмс сделал несколько записей на безукоризненно накрахмаленной белой манжете своей рубашки. Очевидно, он получил ответ на свой вопрос.
— Если мы верно определили температуру воздуха, Ватсон, — а я не думаю, что погрешность велика, — удельный вес этого минерала составляет три целых и девятьсот девяносто три тысячных. Вряд ли это андрадит: я осторожно тронул его перочинным ножом, но царапины на поверхности не осталось. На цирконий и ему подобные камни также не похоже. Следовательно, перед нами та или иная разновидность корунда. Тверже его могут быть только алмаз и карборунд. А по шкале твердости, созданной в тысяча восемьсот двенадцатом году неподражаемым профессором Фридрихом Моосом, данное значение превосходит лишь алмаз. Но это однозначно не он, поскольку удельный вес слишком велик. Вот, пожалуй, и все выводы, которые мы сейчас можем сделать.
Я давно ждал, когда Холмс произнесет нечто подобное. Из боязни уязвить его я не обмолвился о том, что простой комок глины, подобранный на линкольнширском болоте, вовсе не обязательно скрывает внутри бриллиант или является ценной уликой. Молча наблюдая за работой своего друга, я с тоской думал о сне: наутро нам предстояла долгая дорога. Наконец я зевнул, потянулся и, попросив меня извинить, отправился в постель.
Полагаю, моя голова опустилась на подушку примерно в половине двенадцатого, а через несколько часов меня разбудил ужасающий вопль. Именно так я представлял себе крики банши — привидений-плакальщиц из старинных ирландских сказаний. Я сел на кровати. Сердце бешено колотилось от испуга, к которому в немалой степени примешивалась досада.
Прежде чем я успел зажечь свечу, безумный визг повторился. Он доносился снизу. Вполне очнувшись ото сна, я понял, что слышу не крик одушевленного существа, а какой-то механический звук. Часы показывали десять минут четвертого. Очевидно, Шерлок Холмс еще не ложился.
Я нисколько не сомневался в том, что вой и скрежет, поднявшие меня с постели, не только были слышны по всей лестнице, но и переполошили жителей соседних домов на Бейкер-стрит. Завязав пояс халата и вооружившись свечой, я направился в гостиную. На полпути вниз я заметил на маленьком стульчике у двери одинокую фигуру. Свет дрожащего свечного пламени явил моему взору миссис Хадсон. Наша почтенная хозяйка сидела, закутавшись в шаль, накинутую поверх ночной сорочки, и слегка раскачивалась взад-вперед. Закрыв лицо руками, она причитала, словно рыдая без слез:
— О, этот звук! Этот ужасный, ужасный звук! Когда же он прекратится? — Тут достойная леди подняла глаза и увидела меня, стоящего на площадке лестницы со свечой в руке, подобно призраку Банко [8]на сцене театра «Лицеум». — О доктор Ватсон! Ни один из джентльменов, что жили здесь все эти годы, не был для меня столь тяжким испытанием, как мистер Холмс! Что же мне делать?! Что я скажу завтра нашей соседке миссис Армитаж?
— Да, да, сочувствую вам, миссис Хадсон, — сказал я умиротворяющим тоном. — А теперь возвращайтесь в постель и предоставьте это дело мне. Обещаю, скоро воцарится тишина.
Чувствуя нетерпеливое любопытство, возраставшее с каждой секундой, я взялся за ручку двери. Гостиная оказалась заперта. Тогда я принялся со всей мощью своего праведного гнева колотить в дубовую панель. Шум прервался, послышались шаги Холмса, в замочной скважине звякнул ключ. Распахнув дверь, мой друг почти втащил меня в комнату. Глаза его горели.
Я увидел, что к краю стола привинчен шлифовальный круг: трение лезвия перочинного ножа о поверхность шершавого камня и было источником разбудившего меня звука. Кроме того, Холмс, очевидно, поработал тем же манером над камешком мисс Кастельно. Теперь сквозь его серо-бурую оболочку с одного бока тускло просвечивало нечто похожее на темно-синее стекло.
— Корунд, Ватсон! Минерал, разновидностями которого являются рубин и сапфир. Вот это голубой сапфир, причем такой, какой не стыдно вправить в английскую корону! Он едва не затерялся в грязи времени и забвения! Выслушав рассказ нашей уважаемой клиентки, я заподозрил нечто в таком роде, хотя с трудом верил своему предположению. Только получив удельный вес, равный трем целым и девятьсот девяносто трем тысячным, я перестал сомневаться. Все стало ясно: цифра оказалась самую малость ниже нормы, но это объясняется температурой воздуха в комнате.
— Корунд?
— В зависимости от формы кристаллов, он существует в виде рубина или сапфира. Рубин при белом свете поглощает все оттенки, кроме красного, и, соответственно, имеет красный цвет. Если же камень, как в нашем случае, отражает только голубой, это сапфир. Возьмите лупу, и вы отчетливо увидите: кристаллы удлинены и заострены. У рубина они четырехугольные и менее вытянуты.
— По-моему, этот камень мало похож на драгоценность.
— Неудивительно — он столько лет пролежал в земле. Но в результате умелой шлифовки сапфир приобретет надлежащий вид.
— Надеюсь, это произойдет не нынче ночью. Вы ведь не хотите, чтобы миссис Хадсон выставила нас обоих за порог!
Холмс лукаво усмехнулся.
— Будь по-вашему. Мы узнали достаточно и теперь на верном пути. Дождемся утра: оно подтвердит нашу правоту.
— Выходит, от братьев Кастельно кто-то избавился ради несчастного крошечного камешка?
— О нет, мой дорогой Ватсон! Боюсь, вы не видите сути проблемы. Дело не в камешке. На кону большее, гораздо большее.
Утро застало нас в поезде. Мы должны были проехать Кембридж, Или, Кингс-Линн, по новому мосту переправиться через реку и наконец прибыть в Саттон-Кросс. Едва мы достигли северных окраин Лондона, туман рассеялся. Бледно-голубое октябрьское небо окаймляла желтоватая полоска у горизонта. С железной дороги почти не было видно крыш кембриджских колледжей; шпили средневекового собора в городке Или лишь несколько мгновений мелькали в окне вагона. Как бы то ни было, Холмса пейзажи не занимали. Он составлял телеграмму в Скотленд-Ярд для инспектора Лестрейда, в которой сообщал о нашей заинтересованности делом пропавших братьев и просил по мере возможности подготовить для нас почву, то есть сделать так, чтобы линкольнширская полиция не доставляла нам хлопот. Лестрейд ответил, что, если мы желаем тратить время на дела, завершающиеся банальным «пропал без вести» или «найден утонувшим», препятствовать никто не станет.
Во время путешествий Холмс много читал, но выбор книг всегда был целенаправленным. Невозможно представить, чтобы мой друг наслаждался тихим очарованием романов Джейн Остин или волнующими сюжетами Вальтера Скотта. Им он предпочитал сочинения Роберта Браунинга и Томаса Гуда, которые восхищали его своими мрачными познаниями о болезненных искажениях человеческой личности. Если Холмс хотел получить удовольствие от чтения, он набивал трубку крепким табаком и брал в руки том, повествующий о каком-нибудь выдающемся преступнике — к примеру, о знаменитом отравителе докторе Уильяме Палмере.
Путь до Саттон-Кросса детектив скоротал, перелистывая те из любимых книг, которые уместились в его дорожную сумку. Подбирались они явно не с тем, чтобы подсказать тему для светской беседы с попутчиками. В прошлом нам доводилось путешествовать с трактатами Модели об умственных расстройствах, Стивенсона о раздражающих ядах и, что хуже всего, с сочинением Крафта-Эбинга «Половая психопатия» (однажды мой друг на протяжении двух часов упорно штудировал этот труд, сидя в угловом кресле напротив оксфордширского сельского священника, направлявшегося в свой приход).
На сей раз Холмс, верный своему вкусу, сперва приняло я за шекспировскую хронику «Король Иоанн», которая занимала его от станции Ливерпуль-Стрит до Кембриджа, после чего погрузился в изучение «Великих казначейских свитков династии Плантагенетов», изданных под редакцией профессора Плакнетта. Я же ничего о них не знал, кроме того, что они отражают события времен царствования не то Генриха II, не то Иоанна Безземельного.
В Кингс-Линне мы сошли с лондонского экспресса. Последние мили нашего пути до Линкольншира пролегали вдоль норфолкского побережья, через широкую дельту реки, впадавшей в залив Уош. Мы преодолели их на тряском поезде, который останавливался на каждой крошечной станции, затерянной под необъятными небесами среди болот и бесчисленных ручьев. То и дело из окон вагона открывался вид на бурые пенистые волны, которые мчались, обнажая широкие полосы блестящего песка. Таково было Северное море, которое до сих пор подчас именуют Германским океаном.
Наконец наш состав, дребезжа, прокатился по железному мосту, перекинутому через широкую реку с грязными пологими берегами, и остановился у деревянной платформы Саттон-Кросса. Холмс заблаговременно заказал для нас комнаты в гостинице «Мост», которая не могла претендовать на звание лучшей в деревне, поскольку была единственной. Она представляла собой приземистое здание с белеными стенами, построенное лет сто назад на берегу в двух шагах от места, где позднее возникла железнодорожная станция. Теперь «Мост» должен был стать, как сказал бы мой друг, нашим «опорным пунктом».
Мы сообщили портье свои имена и поручили багаж его заботам. Я заметил, что, помимо чемодана, Холмс взял с собой еще и кожаный саквояж-гладстон, основное содержимое которого наверняка составляли ювелирные линзы, гидроскопические весы и карбидкремниевый точильный круг с держателем, крепившимся к краю стола.
Если бы не причина, приведшая нас сюда, я счел бы Саттон-Кросс очаровательной деревенькой, где неплохо было бы провести недельку-другую. Свежий воздух с Северного моря и мирные пастбища выгодно отличали это место от Бейкер-стрит. Но пока помышлять об отдыхе нам не приходилось: через час нас ожидала заранее назначенная встреча с преподобным Родериком Гилмором, настоятелем прихода. Некогда он учился в кембриджском Тринити-колледже вместе со старшим братом Холмса, Майкрофтом. Сей факт позволял начать беседу с приятной темы.
Мы застали мистера Гилмора дома. Этот спокойный джентльмен средних лет получил место священника в местной церкви Святого Климента по решению своей альма-матер, которой принадлежало право утверждения претендентов на указанную должность. Как и брат Шерлока Майкрофт, мистер Гилмор имел степень бакалавра с отличием по математике, однако членству в университетском совете предпочел тихую жизнь на восточном побережье Англии.
Пастырь встретил нас как старых знакомых. Не без гордости он показал нам свой храм с норманнскими эркерами, верхним освещением над хорами и южным нефом XIV века. Мы сели пить чай в его кабинете, решетчатые окна которого выходили на церковный двор. За живой изгородью из тиса виднелось безмятежное море, раскинувшееся под ярким послеполуденным небом. Я подумал, что не стал бы роптать, если бы судьба назначила мне быть настоятелем в Саттон-Кроссе.
Когда мы с похвалой отозвались о благоустройстве прихода, священник кротко произнес:
— Еще мы гордимся нашим маленьким железнодорожным мостом. Его, знаете ли, строил Роберт Стивенсон [9].
Мы в очередной раз выразили одобрение, после чего мистер Гилмор перешел к основному предмету нашей беседы.
— Печально, что мы потеряли обоих братьев Кастельно, — тихо сказал он. — Чрезвычайно жаль. Их здесь не слишком-то любили, и они, по правде говоря, не хотели быть моими прихожанами, но от этого случившееся с ними становится еще прискорбнее.
Холмс опустил свою чашку на блюдце.
— Как мы поняли со слов мисс Элис Кастельно, вечером прошлого воскресенья вы вместе со сторожем были на крыше и увидели двоих мужчин, которые дрались или по меньшей мере боролись?
Мистер Гилмор с грустью посмотрел на нас.
— Когда мы поднимались, я услышал одиночный выстрел. Стреляли, вне всякого сомнения, из дробовика — такие ружья есть почти у всех местных охотников. Братья Кастельно, охранявшие старый маяк, жили ближе всех к болотам. Как и многие другие обитатели деревни, они нередко подавали сигнал таким образом. Однако в столь поздний час охотник едва ли забредет в топь без особой надобности. Сгущались сумерки, с моря надвигался туман. Все рыбаки уже собрали добычу из сетей, давно разошлись по домам ловцы угря и дикой птицы.
— Иными словами, вам показалось странным, что братья в эту пору не сидят у себя на маяке? — спросил я.
— Не так чтобы очень, доктор. Безусловно, кому-то из них надлежало находиться там безотлучно, во всяком случае, не покидать пост надолго. Но тревожный сигнал, поданный одним из братьев, мог заставить другого на время позабыть о служебном долге. Однако оба были не так уж далеко и могли не опасаться, что огонь погаснет. Да и маяк наш, кстати говоря, вовсе не Эддистон и не Белл-Рок: он не служит важным береговым знаком, а лишь обозначает дельту реки для проплывающих судов. После строительства железнодорожного моста они больше не заходят в русло и даже не приближаются к устью. В скором времени маяк упразднят, помяните мое слово. Да и кто согласится на такую работу — неустанно следить за осветительным механизмом, проводя ночи вдалеке от человеческого жилья, среди болот и песков, затопляемых приливом?
— Все-таки расскажите, мистер Гилмор, что вы и ваш сторож увидели, находясь на башне? — не слишком учтиво прервал речь священника Холмс.
— Увидели? — переспросил пастырь, качая головой. — Видеть происходящее можно было с большим трудом, мистер Холмс. От тех людей нас отделяло немалое расстояние — вероятно, с полмили, — к тому же уже почти стемнело. Мы едва могли разглядеть очертания их фигур и одежду. Вместе с приливом наступал туман. Можно предположить, что мужчины имели при себе фонари, однако их свет был, очевидно, направлен не в нашу сторону. Более того, хотя я и не отважился бы заявить об этом под присягой, мне послышался еще один выстрел — должно быть, из второго ствола. То, что удалось различить, напоминало не боксерский поединок и даже не драку с целью избиения противника, а, скорее, борьбу за обладание какой-то вещью.
— Кому она досталась в итоге?
— Не могу сказать, — пожал плечами мистер Гилмор. — Вскоре сгустившиеся сумерки и туман скрыли от нас эту сцену. Если не ошибаюсь, первый человек схватил второго. Тот упал, но через несколько секунд сумел высвободиться и снова поднялся на ноги. Тогда первый опять повалил его на землю и на сей раз удержал. Больше мы ничего не смогли рассмотреть. Все это я передал инспектору Уэйнрайту, но боюсь, что под присягой смогу подтвердить только часть своих показании.
— Мы встречаемся с инспектором сегодня после полудня на маяке.
— Он хороший человек, мистер Холмс. Добавлю несколько слов о случившемся. Если мы действительно видели братьев Кастельно, то они могли пострадать не столько от нанесенных увечий, сколько от натиска прилива. Маловероятно, что они заблудились — на церковной башне горел фонарь, который я поспешил зажечь, а луч маяка всегда направлен в одну и ту же сторону. К тому же братья выросли среди этих песков и прекрасно их знали. Тем не менее ни старшего, ни младшего Кастельно с той поры никто не встречал. Следовательно, можно предположить, что именно они попались нам на глаза в сумерках.
— И это все?
— Есть еще один факт, мистер Холмс, о котором я сообщил инспектору Уэйнрайту. В надежде привлечь внимание тех двоих сторож спустился с башни, немного прошел с винтовкой в их сторону и дал залп в воздух, чтобы они могли ответным выстрелом указать, где находятся. Но я услышал лишь какой-то неясный шум — на таком расстоянии его вполне можно было спутать с грохотом волн.
В этот момент я решил задать мистеру Гилмору вопрос, ибо ведение дела, строго говоря, поручили именно мне.
— В деревне братьев Кастельно не очень любили?
Священник помолчал, тщательно подбирая слова.
— Я сказал бы, что над ними насмехались, а они в свою очередь ненавидели тех, кто их оскорблял, — наконец ответил он. — Местные жители порой бывают очень жестоки к тем, для кого наступают тяжелые времена. После смерти Джона Кастельно его фабрика по производству жмыха пришла в упадок. Она находилась в здании из грубого камня, которое до сих пор стоит напротив гостиницы. Те, кто осуждал старика за скаредность или за то, что он женился на женщине моложе себя, не стали скрывать своего удовлетворения, когда его дело рухнуло. Однажды возле «Моста» произошла драка. Роланд Кастельно сломал противнику нос, чему предшествовали взаимные оскорбления. Сэр Уолтер Батт, мировой судья, сделал обоим внушение и отпустил их, побоявшись, что более решительные меры лишь подольют масла в огонь. С тех пор ни один из братьев не являлся ни в гостиницу, ни в церковь. Да и раньше они не были усердными прихожанами.
— Враждовали ли братья друг с другом?
— Мне сказали дословно, будто они «грызлись, точно два хорька в одном мешке». Однако я не считаю, что дело обстояло так уж печально. Разумеется, Кастельно существовали благодаря своей должности. Насколько мне известно, платили смотрителям из казны графства. Каморка под фонарной камерой давала им кров.
— А чем еще они зарабатывали себе на жизнь? — спросил я.
Во взгляде мистера Гилмора явственно читалось, что ответ на этот вопрос я мог бы найти и сам.
— Роланд был охотником и рыболовом. В наших местах даже те, для кого промысел не главный источник заработка, стреляют дикую птицу и ловят угря, а также ставят сети, чтобы на столе время от времени появлялась жареная рыба. Абрахам обычно следил за маяком, зажигал и поддерживал сигнальный огонь. Он также возделывал небольшой огород на той стороне реки, чуть выше моста. Чем еще они жили, я не знаю.
— Отец ничего им не оставил?
— Полагаю, все их наследство — это долги, которые не удалось покрыть после продажи фабрики. Этих людей, доктор Ватсон, как и многих других наших соотечественников, от нищеты отделяет всего шаг, они тяжким трудом добывают жалкие крохи для пропитания, однако не опускаются до того, чтобы попасть в работный дом. Более обеспеченные соседи редко вспоминают о них до тех пор, пока газеты не напишут о каком-нибудь отвратительном преступлении или скандале. Будем надеяться, что ни к чему подобному братья-смотрители не причастны.
— А что вы скажете об их сестре, мисс Элис Кастельно?
При упоминании этого имени мистер Гилмор просиял. На лице его мелькнула улыбка, голос зазвучал бодрее:
— Я мало знаю об Элис Кастельно, хотя виделся с ней при погребении ее отца, да и в предшествующие дни, когда она занималась похоронами. Через несколько лет она посетила Саттон-Кросс по случаю смерти ее мачехи. Иных поводов для наших с нею встреч не припомню. Мисс Кастельно жила в деревне до того, как я получил приход, и уехала отсюда еще девочкой. Ее здоровье всегда было слабым. Насколько могу судить, она во всех отношениях удивительная молодая леди, полностью оправдавшая ожидания той маленькой мейблторпской школы, в которой служит.
— Братья Кастельно не были замечены в связях с женщинами? — осторожно осведомился я.
Мистер Гилмор склонил голову.
— Мне об этом ничего не известно. Полагаю, слухи такого рода, которые распространяются в деревне очень быстро, дошли бы и до меня.
В последних словах настоятеля я уловил намек на завершение разговора: очевидно, он уже сказал нам все, что знал. Тем не менее, когда мы поднялись и поблагодарили его, Шерлок Холмс задал еще один вопрос:
— Нельзя ли подняться на башню, чтобы взглянуть на фонарь и обозреть местность? После этого нам не пришлось бы беспокоить вас повторно.
Мистер Гилмор усомнился в том, что подъем на крышу окажется полезным для нашего расследования, однако, судя по выражению его лица, он был рад возможности лишний раз похвастать перед гостями своими владениями.
Во время беседы в кабинете настоятеля Холмс ни разу не упомянул о камешке, который мисс Кастельно оставила нам для изучения. Только теперь, по пути к церкви, мой друг наконец-то поинтересовался:
— Мистер Гилмор, не был ли кто-либо из братьев охотником за сокровищами? Полагаю, во время курортного сезона сюда съезжается немало любителей покопаться в земле?
Этот вопрос так позабавил священника, что он остановился среди могильных камней и рассмеялся.
— Вы, мистер Холмс, должно быть, очень любите романы или же пьесы Эйвонского барда? Сколь ужасную новость довелось услышать королю Иоанну на смертном одре! Как вы, конечно же, помните, предание гласит, будто двенадцатого октября тысяча двести шестнадцатого года все монаршие драгоценности были поглощены «внезапно стремительным приливом волн морских» [10]. Это легендарное событие произошло в двух милях отсюда и, вероятно, стало для королевской сокровищницы самой большой потерей за всю историю нашего острова.
— Полагаю, что так.
— Во время Баронской войны, за несколько дней до смерти, Иоанн пришел сюда с войском. Сам он двинулся вперед, направившись со свитой в аббатство Суинстед для ночлега, меж тем как обоз с его драгоценностями и убранством королевской часовни должен был пересечь устье реки во время отлива, перед полуднем. Разумеется, семьсот лет назад берег моря выглядел иначе, но речное русло не поменялось. В те времена ширина дельты составляла семь миль при низком уровне воды. Как и сейчас, здесь простирались затопляемые приливом пески и в октябре волны порой наступали на берег с ужасающей быстротой. Незадолго до полудня глупцы, управлявшие обозом, решили перейти реку и прилегающие к ней илистые участки без проводника, который стал бы тыкать своим посохом в грязь, отыскивая под ней твердую землю. Таких людей называли «моисеями», памятуя о том, как библейский пророк перешел Красное море.
— Понимаю.
— Вы, вероятно, читали старые хроники? Аббата Ральфа из Когсхолла или Роджера Вендоверского? Или сочинение Матвея Парижского «Historia anglorum» [11], написанное век спустя после трагедии? [12]В таком случае вы знаете, что мощный вал захлестнул колонну на середине реки. Пески в мгновение ока оказались затопленными: вода поглотила людей, лошадей, повозки, сундуки с коронационными украшениями и церковной утварью… Многие из пропавших драгоценностей были трофеями, которые король Джон добыл во время похода по стране, — шла затяжная гражданская война между монархом и баронами. Такова драма, произошедшая в наших местах в стародавние времена. Говорят, если выйти на берег в одиночестве и прислушаться к тихому плеску отступающих волн, то можно различить далекие крики солдат и ржание коней, сгинувших в пучине. Эту легенду знает здесь каждый школьник!
— Так все-таки, бывают ли в этих краях искатели сокровищ? — с мягкой настойчивостью повторил Холмс.
— Да, они приезжают и уезжают разочарованными, — снова рассмеялся священник. — Море постепенно отступает, освободившаяся земля подвергается осушению. Вероятно, богатства короля Иоанна лежат теперь под слоем ила и глины на каком-нибудь поле в миле или двух от берега. Мистер Холмс, не тратьте время понапрасну.
— Неужели никто ничего не находил?
Родерик Гилмор слегка нахмурился.
— Этого утверждать нельзя. С тех пор людям изредка удавалось что-нибудь обнаружить. Немногочисленные ценности в большинстве своем были выброшены морем примерно через столетие после катастрофы, затем спрятаны и позабыты, то есть потеряны заново. Некоторые из них удалось отыскать повторно. Но большая часть сокровищ, включая коронационные регалии, пропала, как я полагаю, навсегда.
— Очень любопытно, — вежливо проговорил Холмс, — очень!
Пока священник, стоя в окружении могильных плит, рассказывал нам мрачную легенду здешних мест, я думал о голубом камешке Кастельно, чувствуя, как мурашки пробегают у меня по спине. Неужели братья действительно были искателями сокровищ? Значит, многовековая тайна, погребенная под песком на этом продуваемом всеми ветрами побережье, толкнула одного из них на убийство?
Поднявшись по каменной винтовой лестнице, мы вышли из темной башни на залитую солнцем плоскую крышу, крытую свинцом и обнесенную средневековым зубчатым парапетом. На флагштоке был закреплен фонарь. Немного привыкнув к яркому свету, я с птичьей высоты оглядел зеленую болотистую равнину, простиравшуюся вглубь суши, широкую полосу заливного песка и поток, бегущий к невозмутимо сверкающему морю. В такой ясный и погожий день было трудно заподозрить, что где-то здесь может таиться опасность. Вдруг я услышал голос мистера Гилмора у себя за спиной и увидел людей, которые стояли у кромки воды, склонившись над каким-то предметом.
— Господи! — испуганно воскликнул священник. — Боюсь, они наконец что-то обнаружили. Сейчас настало время для такого рода находок: обычно море выбрасывает тела своих жертв на берег на третий или четвертый день. Неужели там один из братьев Кастельно?
Инспектор Альберт Уэйнрайт не только именем, но и внешним видом напомнил мне покойного принца-консорта [13]: в лице ощущалось нечто тяжеловатое, а большие карие глаза смотрели по-собачьи печально, с неизменным немым укором. Иногда подобные черты скрывают мрачновато-язвительный, но живой нрав. В случае же мистера Уэйнрайта они не скрывали ничего. Его темные волосы и холеные усики, казалось, специально были подстрижены так, чтобы добиться наибольшего сходства со старыми дагеротипными портретами того, чью безвременную кончину до сих пор оплакивала наша монархиня.
— По просьбе суперинтенданта я связался по телеграфу со Скотленд-Ярдом, — грустно проговорил полицейский. — Никогда не знаешь, куда может вывести подобное дело. Главный инспектор Лестрейд, джентльмены, дал мне вполне ясные инструкции. Я должен всячески содействовать вашему расследованию и при этом препятствовать вашему стремлению к недостижимым целям. Поскольку вы взялись за это дело по просьбе мисс Кастельно, маяк переходит в ваше распоряжение. Несмотря на некоторое нарушение порядка, я, по правде говоря, охотно предоставляю вам эту привилегию, лишь бы мистер Лестрейд не явился сюда сам — именно это он грозил сделать. Между тем, как правило, мы неплохо справляемся со своей работой и без помощи из столицы.
Холмс любезно улыбнулся.
— Уверен, мистер Лестрейд не имел в виду, что я прибыл сюда исправлять недостатки в работе столь уважаемого учреждения, как полиция графства Линкольншир.
Очевидно, инспектор Уэйнрайт не знал, какой смысл следует усматривать в словах прославленного детектива, и вышел из затруднения, испустив тяжкий вздох. Таким образом он отделался от ответа.
Попрощавшись с мистером Гилмором, Холмс и я спустились к старому маяку по деревенской улице. Это было круглое сооружение с чугунной лестницей, построенное из беленых досок. Девять крепких свай приподымали его над землей почти на сорок футов. Конструкцию венчала куполообразная крыша с проделанным в ней окном. Впереди, за песками и зарослями камыша, виднелось море: начинался послеполуденный прилив. Перила, за которые мы держались, взбираясь по ступеням, были бугристы на ощупь. Должно быть, их красили регулярно, но неумело, не очищая перед этим наждачной бумагой. Сильно пахло песком и водорослями.
В каморке же, куда мы поднялись вместе с инспектором Уэйнрайтом, стоял запах отсыревшей шерсти и непромокаемой ткани. Больше всего тесное помещение напоминало каюту яхты: пространство было полностью занято меблировкой, состоявшей из нескольких шкафчиков, полок и стола с двумя стульями, обтянутыми черной кожей и набитыми конским волосом. У стены была привинчена койка. Рядом находилась дверь в крохотную комнатушку, где, наверное, спал второй смотритель. Деревянная лестница вела в световую камеру через потолочный люк.
— Фактов у нас немного, — сказал Уэйнрайт, — и они станут вам известны, прежде чем вы отсюда спуститесь. Тело осматривает доктор Риксон. Судя по деталям, это Роланд Кастельно, младший из братьев. Сейчас его погрузят на носилки. Прибрежные дюны обыскали вплоть до уровня прилива. Нашли сломанный фонарь и разряженное ружье, вымокшее в морской воде. Они обнаружены невдалеке от того места, где, должно быть, находилось и тело, прежде чем его смыло волнами. Что бы ни произошло между братьями, оба они, вероятнее всего, погибли вечером прошлого воскресенья во время прилива. Это крайне прискорбно, — произнес инспектор, нахмурившись, а затем добавил: — Заметьте, джентльмены: я говорю «погибли», а не «утонули». Если Абрахама Кастельно затянули зыбучие пески, мы не отыщем его труп и, следовательно, не придем к исчерпывающему заключению.
— В таком случае, — заметил я, — мы не только не узнаем наверняка, как умер старший из братьев, но и не сможем быть уверены в самом факте его смерти.
— Едва ли Абрахам уцелел, доктор. Ну а если однажды мы увидим его вновь, у меня, разумеется, будет к нему парочка вопросов. Ведь он вполне мог убить своего брата Роланда. Представляю, как подобное известие всколыхнет округу!
В этот момент я не мог не испытывать благодарности Лестрейду за оказанное покровительство. Подчиняясь его указаниям, линкольнширский полисмен вел себя так, будто дело изъято из его компетенции и перепоручено нам. Будь Абрахам Кастельно жив, Альберт Уэйнрайт был бы рад предъявить ему обвинение в убийстве. Но поскольку такой поворот событий представлялся маловероятным, провинциальный инспектор утратил интерес к расследованию.
Он шагнул из каморки на маленькую чугунную площадку наружной лестницы и застыл в дверном проеме, словно в раме.
— Что до световой камеры, джентльмены, то внутри находится обычный для подобных сооружений заводной механизм. Нечто вроде старинных дедушкиных часов, только гораздо больше. Толстая железная цепь с грузом закручивается до верха и пускается в ход. Ее постепенное снижение длится восемь часов и управляется регулятором наподобие маятникового. И так же как раскачивание маятника заставляет двигаться стрелки циферблата, опускание цепи с грузом поворачивает отражатели, которые собирают свет фонаря в единый луч, направленный на море. Пока из Кингс-Линна через день-другой не пришлют новых смотрителей, сматывать цепь, заводить часы и налаживать регуляторы будет человек из Фрестона. Он же проследит за тем, чтобы в ламповых резервуарах не заканчивался керосин. Мой констебль останется здесь до прилива и ответит на все ваши вопросы. Если понадобится помощь, он к вашим услугам.
— Мистер Уэйнрайт, позвольте задержать вас еще на секунду, — учтиво проговорил Холмс. — Каковы обязанности смотрителей маяка?
— Кто-то из них должен постоянно находиться на дежурстве, чтобы измерять скорость ветра, записывать показания барометра и каждое утро чистить линзы отражателей. Также при необходимости смотритель протирает стекла фонаря. Хотя, конечно, в последнее время наш маяк превратился в простую сигнальную башню для местного населения. Корабли мимо нас проходят редко.
— По замечанию мистера Гилмора, — сказал Холмс, — сейчас это сооружение, как и фонарь на церковной башне, в первую очередь служит ориентиром для тех, кто задержался на берегу после наступления темноты.
Инспектор передал старый маяк в наше распоряжение, оставив внизу, у чугунной лестницы, констебля в форменном мундире. Мы спустились по ступеням и, с трудом преодолев болотистый участок, вышли на широкую песчаную полосу — к тому месту, куда волны выбросили труп Роланда Кастельно. Доктор Риксон окончил осмотр, и теперь тело несли на носилках из беленых досок, выдернутых из ограды овечьего загона. Позади шли двое мужчин — Родерик Гилмор и врач, судя по твидовому костюму и черному медицинскому чемоданчику. Я назвал свое имя. Наверное, мистеру Риксону, живущему на столь опасном участке побережья, нередко приходилось осматривать трупы утопленников. Теперь, хладнокровно выполнив свой долг, он выразил готовность ответить на любые мои вопросы.
— Очевидно, бедняга утонул? — предположил я.
— Да, думаю, заключение будет именно таким, — живо ответил доктор Риксон. — Хотя, разумеется, нужно дождаться результатов вскрытия.
— Не обнаружено ли каких-либо отметин на голове умершего?
— Нет. Правда, грязь налипла, но это произошло уже после наступления смерти, а повреждений, как и следовало ожидать, я не заметил: берег здесь не скалистый, волны прилива накатывают ровно.
— Позвольте спросить, мистер Риксон, есть ли у вас фотография хотя бы одного из братьев? — присоединился к нашему разговору Шерлок Холмс.
— Не думаю… — Риксон озадаченно нахмурился. — Имею честь видеть перед собой мистера Холмса, верно? Я бы удивился, если бы оказалось, что кто-то из них посещал фотографа. Братья, конечно же, были похожи, все-таки родная кровь, но нашли мы именно Роланда, не Абрахама. Тут все их знали.
— А карманы? Нет ли там чего-либо, удостоверяющего личность погибшего?
Холмс похлопал по выцветшей и перепачканной куртке утопленника. Присмотревшись к выражению лица своего друга, я заключил, что его пальцы ничего не нащупали.
— Нет, — ответил доктор Риксон, без возражений наблюдая за тем, как заезжий детектив бесцеремонно обшаривает одежду на трупе. — Нет, мистер Холмс, в Скотленд-Ярде могут придерживаться иного мнения, но при сложившихся обстоятельствах я сказал бы…
— Действительно, ничего, кроме обыкновенной пляжной гальки! Вот, например! — невинно проговорил Холмс, двумя пальцами извлекая из кармана утопленника маленький грязный камешек, как две капли воды похожий на тот, который оставила нам мисс Кастельно. — Или вот! — Мой друг показал нам три или четыре одинаковых голыша и, прежде чем доктор Риксон успел возразить, пожал плечами и произнес: — Это обыкновенное дело. Неудивительно, что после того, как волны несколько дней таскали тело по мелководью и прибрежным пескам, в складках одежды набралось немало гальки.
Камешки исчезли с ладони Холмса, и сперва я решил, будто он их выбросил. Но, поразмыслив, я понял: из куртки погибшего смотрителя маяка они незаметно перекочевали в карман прославленного лондонского сыщика.
Я предполагал, что, воспользовавшись отсутствием Альберта Уэйнрайта, мы посвятим большую часть ночи обыску шкафов в каморке смотрителей. Мне и в голову не приходило, будто нам угрожает опасность разделить судьбу несчастного Роланда Кастельно.
Мы пошли к старому маяку. На мокром песке у лестницы по-прежнему стоял констебль. После того как мы поднялись по ступеням, он сообщил нам о своем скором уходе: примерно через час место его дежурства должно было оказаться под водой. Холмс поблагодарил полицейского и направился к деревянной лесенке, ведущей в световую камеру. Через минуту ноги моего друга скрылись из виду и послышался шум, свидетельствующий о его передвижениях наверху. Вскоре Холмс выглянул через потолочное отверстие и проговорил:
— Подымайтесь сюда, Ватсон! Камешки могут подождать. Поглядите, здесь целая страна чудес!
Вняв этому призыву, я обнаружил, что световая камера, по сути, состоит из двух помещений. Верхний ярус занимали внушительные рефлекторы. Воздух, скопившийся под куполом из больших стеклянных панелей, сохранил благодаря посеребренному металлу отраженное тепло осеннего солнца. Ниже располагались железные резервуары с керосином, распространявшим едкий запах.
Воздать должное хитроумному строению механизма означает подвергнуть терпение читателей тяжкому испытанию. В нижнем ярусе фонарной камеры мы с Холмсом обнаружили стол, на котором лежал журнал. Сверху свисал тяжелый металлический груз на цепи: под воздействием ее восьмичасового опускания отражатели непрерывно поворачивались. Перед началом цикла цепь наматывалась на большой барабан, закрепленный над нашими головами. Сердце механизма находилось в ящике из простых досок с эмалированным циферблатом и двумя отверстиями для ключа. Левое предназначалось для закручивания цепи с грузом, чье движение вниз запускало часовую и минутную стрелки, а правое — для завода регулятора, обеспечивавшего равномерность работы рефлекторов. С виду устройство и впрямь напоминало «дедушкины» напольные часы.
Фонарь под куполом сиял резким белым светом. Внутри его в стеклянных воронках горело несколько огней, и позади каждой располагалось зеркало, усиливавшее яркость. Медленно вращающиеся параболические отражатели из стекла, покрытого серебром, напоминали ряды перевернутых неглубоких плошек. Маяк работал круглые сутки, но днем его луч можно было видеть лишь в тумане или в ненастную погоду.
Многочисленные стеклянные панели, образовывавшие купол, закрывались черными железными ставнями на полозьях. Благодаря этому вращающийся столб света через равные промежутки времени вспыхивал над морем под одним и тем же углом, в одном и том же месте — так, как было указано на карте Бостонских глубин. После заиливания мелких портов и строительства мостов в Саттон-Кроссе навигация в устье реки прекратилась. Маяк, действовавший некогда на противоположном берегу дельты и пронзавший ее красным лучом, уже упразднили.
— Это, Ватсон, — сказал Холмс, окончив изучение механизма, — диоптрическая система Огюстена Френеля, то есть неподвижный белый светильник, окруженный панелями с посеребренными рефлекторами Бодье Мерсе. Устройство далеко не ново, но по-прежнему отвечает своему назначению. Французские инженеры — первопроходцы в этой области технической науки. Однако маяк, смею предположить, вскорости заменят на другой или же просто закроют.
Механизм, пусть устаревший, был удивительным творением рук человеческих — ведь не зря Холмс назвал его страной чудес. Медленное, непрерывное и почти беззвучное вращение отражателей в теплом воздухе (разве что деревянная ось то и дело издавала тихий скрип) оказывало на зрителя воздействие, сравнимое с гипнотическим.
Холмс открыл дверцу деревянного ящика с циферблатом, расположенного в нижнем ярусе фонарной камеры. Устройство, состоявшее из нескольких маленьких грузов, свисавших на цепочках, обеспечивало, помимо прочего, регулярное поступление керосина в лампы. Для измерения уровня опускания грузиков на внутренней стороне ящика имелась шкала, по которой смотритель определял, когда ему следует снова заводить механизм. Чуть выше ее основания находился колокол: во избежание остановки отражателей он с точностью часов звонил, подавая предупредительный сигнал, прежде чем цепочка полностью разматывалась. По словам инспектора Уэйнрайта, «человек из Фрестона» заводил устройство утром и после полудня, пока мы беседовали с доктором Риксоном.
Я подошел к маленькому деревянному столику и раскрыл журнал. Страницы были разделены на несколько столбцов, куда полагалось вносить дату и время завода, отметку, до которой груз успевал опуститься, прежде чем цепь снова сматывалась, а также примечания для сменщика. Внизу указывалось имя дежурного. Согласно последним записям, Абрахам Кастельно завел механизм в воскресенье около восьми часов вечера. Должно быть, совсем скоро после этого Роланд выстрелил, заставив его выйти на затопляемую песчаную полосу, к месту их смертельной схватки. Смотритель, подоспевший наутро из Фрестона, отметил, что в понедельник, в пять часов двадцать минут, команда углевозного судна сообщила о погасании старого маяка.
Холмс просмотрел записи и закрыл тетрадь.
— Журнал и камешки подождут. Для них у нас в запасе целая ночь. Но до конца дня, пока еще не слишком поздно, нам не мешало бы прогуляться по берегу и осмотреть место последней встречи двух братьев.
Выглянув в окно, я увидел темнеющую ленту серого песка и волны, начавшие стремительную атаку на берег.
— Мне кажется, Холмс, уже достаточно поздно: солнце почти зашло за горизонт, вот-вот наступят сумерки.
— Тем лучше. Как раз в это время суток и произошла стычка между братьями. Мы же с вами ссориться не станем, а яркий луч маяка поможет нам найти дорогу обратно. Чтобы не заблудиться, достаточно будет смотреть на него.
Как я успел заметить, Холмс прихватил с собой устрашающего вида трость из древесины восточноазиатской пальмы, нередко выручавшую нас при неприятных встречах (недаром в колониях такую палку именуют «пинангским адвокатом»). Мы спустились по чугунной лестнице на мокрый песок. Справа от нас темнело разбухающее от прилива русло реки, спереди наступало море. Похоже, что мои возражения против прогулки имели под собой даже большее основание, нежели я сам мог предположить. С полчаса назад бледно-желтый шар октябрьского вечернего солнца опустился за сосны, чьи силуэты чернели на равнинном горизонте Саттон-Кросса. Низкие дюны, тянувшиеся вдоль берега широкой безлюдной полосой, начали погружаться во тьму. Сумерки казались еще гуще, чем были на самом деле, в сравнении с ослепительной белизной луча, вонзавшегося в небо из окна маяка. Все внезапно тонуло в ночи, когда серебряные отражатели поворачивались и свет фонаря оказывался скрытым за металлическими ставнями в той части стеклянного купола, которая была обращена к суше.
Помахивая тростью, Холмс направился через темнеющую грязь туда, где в воскресенье вечером Родерик Гилмор и его помощник видели фигуры двух борющихся людей. От башни церкви Святого Климента нас отделяло с полмили. Так же как и несколько дней назад, ночной туман надвигался на берег вместе с волнами прилива, окутывая место схватки. Если бы там снова развернулась драма, ее участники точно так же остались бы неопознанными.
Мы уходили от старого маяка все дальше. Его луч освещал волны залива, то исчезая, то снова загораясь. В сравнении с этим сиянием фонарь на церковной башне казался тусклым огоньком, однако и он служил путнику ориентиром среди коварных песков. Со стороны моря горизонт был темным: ни одно судно не стояло на якоре в Бостонских глубинах.
После осмотра места происшествия нам следовало пойти обратно, прямо на маяк, а затем повернуть на сорок пять градусов вправо и подняться по тропе, ведущей к чугунной лестнице. Путь казался нетрудным, хотя ступни все сильнее утопали в песке, сквозь который просачивалась прибывающая вода. В желтом свете своего масляного фонаря я видел, что, стоит мне оторвать ногу от хлюпающей почвы, следы моих туфель тотчас же превращаются в лужицы.
Холмс был настроен весьма решительно.
— Думаю, до арены битвы братьев Кастельно осталось примерно полмили. Я хотел бы найти кратчайший путь от церкви Святого Климента до края наступающей воды.
При этих словах я обратил внимание, что справа от нас в темноте неба и моря невозможно различить ничего, кроме неясно светящейся линии прибоя. Мы молча прошагали еще с четверть часа. Туман принес с собой холод октябрьской ночи. На горизонте, за окраиной деревни, погасли последние лимонные отсветы заката. Над берегом сгустились сумерки, и, в подтверждение рассказа священника, между башней храма Святого Климента и местом, где мы теперь находились, повисла пелена, становившаяся все плотнее.
— Кажется, Холмс, — сказал я с напускной бодростью, — мы поднялись на небольшую возвышенность — почва здесь потверже. На обратном пути будем держаться этой стороны, ориентируясь по сигнальной башне мистера Гилмора, которая будет справа от нас, и тогда вскоре выйдем прямо на свет старого маяка.
— На месте того из братьев, кому довелось выжить, я думал бы так же, — не оборачиваясь, нетерпеливо ответил Холмс.
— Но разве мы не пришли к выводу, что после схватки оба погибли?
— Вовсе нет. Этот вывод необходимо проверить, чем я и намерен заняться.
Между тем меня такое занятие вовсе не привлекало. Уже совсем стемнело, и наша затея нравилась мне все меньше и меньше. На расстоянии каких-нибудь восьми футов я едва различал сухощавую фигуру Холмса, решительно шагавшего впереди, и слабое мерцание его лампы. Словно прочитав мои мысли, он добавил:
— Нам лучше не расходиться. Здесь почва, может быть, и вправду достаточно тверда, но на опасных участках мы должны держаться вместе.
Наконец мы поравнялись с церковной башней. Теперь, когда нас отделяли от нее заливные пески, она казалась очень далекой.
— Нужно следить за тем, чтобы вода не подобралась к нам сзади, — с тайным замиранием сердца произнес я, но Холмс меня не слушал.
— Остановитесь на секунду, — сказал он. — Давайте представим себе тот вечер. Мы братья Кастельно. Допустим, один из нас решил прикончить другого. Убийца мог действовать по заранее продуманному плану. Или же трагедия разыгралась из-за внезапного прилива ярости. Так или иначе, что предпринял бы выживший?
— Вернулся бы на старый маяк! Куда же еще ему было идти?
— Прекрасно, Ватсон. Вы совершили убийство (пусть даже и непредумышленное) и теперь возвращаетесь к месту своего дежурства. Прошу вас, указывайте путь.
Не будучи слишком доволен своей ролью, я все же испытал некоторое облегчение оттого, что мы пойдем назад, прежде чем море разольется еще шире. Хотя мне, солдату, было не привыкать к подобным испытаниям. Все вокруг уже погрузилось во тьму: ни огня на западном горизонте, ни луны на небе. Окна деревенских домов горели не ярче булавочных головок. Рокот разыгравшейся стихии стал гораздо громче, чем в тот момент, когда мы покинули маяк. Вдруг в спину подул резкий северо-восточный ветер. Упало несколько холодных дождевых капель. Стоял сезон штормов, и с приближением ночи непогода давала о себе знать даже после теплого и ясного дня.
Около десятка лет назад я стал военным врачом и, поступив в Нортумберлендский фузилерный полк, отправился в Афганистан. Даже нас, медиков, перед зарубежными походами обучали чтению по карте, обращению с компасом, определению расстояний и ориентированию на местности. Поэтому теперь я мысленно начертил план, в правом верхнем углу которого помещалась церковная башня, а в левом верхнем — располагался старый маяк. Вдоль нижнего края тянулась береговая линия. Холмс и я были в правом нижнем углу и двигались влево.
Мы шли по песчаному гребню дюймов шести высотой, не успевшему пропитаться водой прилива. Я хотел было срезать путь по диагонали и пройти к старому маяку по прямой, но, к счастью, днем оглядел окрестности сверху: кратчайшая дорога завела бы нас в низину, которая теперь, вероятно, уже была затоплена. К тому же там нас могли подстерегать зыбучие пески. Поэтому нам оставалось идти вдоль берега до тех пор, пока мы не окажемся в луче маяка, а затем повернуть направо к лестнице и скрыться от наступающей стихии в каморке братьев Кастельно.
Песок под нашими ногами стал мягче, но мы по-прежнему шагали по небольшому возвышению. Я мысленно вернулся к заданию Холмса. Допустим, я убил собственного брата и бегу с места преступления. Вне всякого сомнения, старый маяк был единственным местом, куда я мог направиться. Предположим, покидая свой пост, я не замышлял убийства. Значит, бегства я также не планировал и теперь вряд ли готов покинуть родные края, не заглянув в свою комнату.
Холмс следовал за мной, ничего не говоря и как будто бы со всем соглашаясь. Огонек фонаря на церкви Святого Климента, видневшийся справа и позади нас, медленно таял вдали. Впереди сиял наш путеводный луч, направленный под углом к морю в сторону, противоположную нам, меж тем как неподалеку от маячной башни начинались топи и зыбучие пески, представлявшие для нас серьезную угрозу. Я заблаговременно обратил на них внимание, и мне казалось, что их легко обогнуть, взяв немного влево: это приближало нас к воде и удлиняло нашу дорогу, зато позволяло выйти на свет маяка по более или менее твердой почве. Опасность минует, как только мы пересечем траекторию луча.
Я уже начинал думать, будто заливные пески не так страшны, как о них говорят, но вдруг сделал неосторожный шаг и моя правая нога до середины голени увязла в леденящей грязи.
— Стойте, Холмс! Стойте!
Огонь маяка был совсем близко, однако случилось то, чего я так боялся, — мы оказались на краю бездонной жижи с маленькими островками мокрой травы. Обилие пресной воды могло свидетельствовать лишь о том, что рядом река, к которой мы вовсе не собирались приближаться. Холмс и я очутились возле нее, не достигнув своей цели. Неужели мы зашли слишком далеко? Как такое могло произойти? Много веков назад те, кто сопровождал обоз с драгоценностями короля Иоанна, поначалу тоже не чаяли беды. Вдруг мы повторили их ошибку? На память пришли книги, которые Холмс привез с собой из Лондона. Средневековые хронисты предупреждали: путников, сбившихся с дороги, ждет гибель в зыбучих песках речной дельты, потеря ориентира — первое предвестие неминуемого конца. Так когда-то и было. По выражению Роджера Вендоверского, земля разверзлась и водный вихрь унес коней и всадников.
В столь поздний час никто не услыхал бы наших криков и не пришел бы на помощь. Что может быть ужаснее, чем брести по грязи в кромешной тьме, ни на йоту не отклоняясь от маршрута, и вдруг понять: путь, по которому ты надеялся прийти в убежище, привел тебя к жестокой смерти и могильному холоду! Каким бы необъяснимым это ни казалось, мы попали в тупик. Чтобы спастись от наступающего прилива, нужно немедля бежать, но куда? Кругом одни лишь затопленные пески.
По всем расчетам, мы должны были выйти на безопасную тропу, что вела вдоль берега реки к маяку и деревне, скрытым от нас туманной завесой. То погасавший, то вновь загоравшийся луч, в котором мы видели свое спасение, заманивал нас все дальше и дальше в убийственную трясину. Хоть в это и трудно было поверить, мы совершенно потерялись в темноте ночи и морском тумане. Позади слышался тихий зловещий плеск прилива, а спереди подступала вода набухающего устья реки. Я не сомневался, что мы движемся в верном направлении, но вместо твердой почвы под ногами оказался топкий ил. Мы попали в ловушку.
Я старался не поддаваться отчаянию, однако всеми излюбленное выражение «не находить себе места» едва ли когда-нибудь приходилось более кстати, чем теперь. Берег, который я так четко запечатлел на своей воображаемой карте, целиком ушел под воду — это казалось не менее определенным, чем смерть Роланда Кастельно.
— Полагаю, — сказал Шерлок Холмс, — вам пора предоставить это дело мне.
Никогда прежде я не принимал его предложений столь охотно. В голосе моего друга ощущались спокойствие и уверенность, которых так недоставало мне самому.
— Назад! — скомандовал он, хватая меня за локоть.
Я сделал нелепый пируэт на левой ноге и, опершись на протянутую мне руку, вновь ступил на пятачок твердой земли, с которого сошел секундой ранее. В отраженном свете маяка я увидел, как Холмс тычет в грязь своей тростью. Работа оказалась не из легких, но после дюжины попыток обрести почву под ногами мы наконец нащупали что-то довольно рыхлое, но все же более надежное, чем вязкий ил. Однако теперь мы удалялись от луча маяка, то есть, несомненно, шагали в неверном направлении!
— Если мой расчет точен, нужно пройти еще немного, — невозмутимо заметил Холмс.
Его соображения были мне неведомы. На мой взгляд, мы двигались прямиком к зыбучим пескам. Тем не менее почва с каждым шагом становилась плотнее, и ноги больше не увязали в трясине: теперь в грязь погружались лишь носки ботинок. Казалось, что расстояние, отделявшее нас от старого маяка, растет, но спорить было не время. Под ногами уже ощущалась утоптанная земля.
— Пожалуй, еще чуть левее! — бодро произнес Холмс.
По моим представлениям, мы оставили маяк позади и приближались к тому опасному участку, который я силился обойти. Между тем дорога оставалась твердой, а из тумана выплыли призрачные очертания круглой башни на массивных деревянных сваях. Это означало, что луч, который должен был указывать судам путь к Бостонским глубинам, в действительности светил чуть в сторону, в направлении Кингс-Линна. Такое отклонение, почти незаметное для невооруженного глаза, вполне могло увести нас по заливным пескам на сотню ярдов от намеченной цели. Наверное, в прошлом веке подобный трюк использовали пираты, чтобы заманить судно на скалы, а затем разграбить его.
Когда мы поднялись по крашенным черной краской железным ступеням, плескавшаяся вокруг нас вода уже пошла на убыль. В каморке Холмс зажег масляную лампу. Часовой, дежуривший у подножия лестницы, покинул свой пост незадолго до того, как море разлилось, и в ближайшие несколько часов до прибытия смотрителя из Фрестона мы могли работать без помех.
Мой друг извлек из кармана серебряную фляжку, и вокруг разлился крепкий согревающий аромат виски. Я опустился на один из двух черных набивных стульев. Владевшее мною смятение уступило место здравым размышлениям.
— Роланд Кастельно был не жертвой, — воскликнул я, — а убийцей своего брата!
Холмс ответил не сразу. Он поднялся по деревянной лестнице в фонарную камеру, и оттуда раздался его голос:
— Так я и думал! При свете дня изменения были неочевидны, но теперь все подтвердилось: черные металлические ставни кто-то передвинул. Луч отклонился от первоначального направления — не слишком сильно, но вполне достаточно для того, чтобы это стоило человеку жизни. Любой, кто пошел бы на свет маяка от места схватки двух братьев, неизбежно забрел бы в разлившуюся речную дельту. Не в зыбучие пески, Ватсон, а именно в реку с ее опасными подводными течениями.
Мне все стало ясно: сигнальным выстрелом из ружья младший из братьев Кастельно выманил старшего на прибрежную полосу. Между ними завязалась борьба, и Роланд либо погиб, либо выжил — для того лишь, чтобы вскоре утонуть, ведь в его смерти сомневаться не приходилось. Но, покидая маяк и оставляя Абрахама одного, он для пущей уверенности передвинул ставни в пазах, таким образом на несколько градусов изменив направление луча.
Повседневные обязанности требовали от смотрителя только одного: вовремя заводить механизм. Для этого не нужно было забираться под купол, а с нижнего яруса фонарной камеры, тем более в светлое время суток, старший брат ничего не заметил бы. Для кораблей, проходящих ночью мимо Бостонских глубин, маяк остался бы тем же мерцающим вдали огоньком, а вот Абрахама, по расчету Роланда, он ввел бы в гибельное заблуждение. Даже если бы старшему Кастельно удалось уцелеть в поединке, в водах разлившегося речного устья его настигла бы смерть, которой счастливо избежали мы с Холмсом.
Ну а Роланд в случае победы над врагом пришел бы обратно на маяк и вернул тонкие металлические ставни в прежнее положение. Он не ожидал, что мистер Гилмор и церковный сторож увидят битву (или игру?) с церковной башни. Так или иначе, их рассказ доказывал лишь очень немногое. Исходя из имеющихся фактов, трагический конец Абрахама Кастельно, вышедшего на темный берег в час прилива, должны были расценить как несчастный случай, произошедший по причине странной неосмотрительности самого погибшего.
— Кажется, теперь суть произошедшего нам ясна, — сказал я почти час спустя.
Волны все еще плескались о деревянные сваи под полом нашей каморки.
— Поздравляю вас, Ватсон, — ответил Холмс, задумчиво поглядев на меня. — Клиентка поручила это дело вам, и вы расправились с фактами так ловко, что инспектор Уэйнрайт и наш друг Лестрейд охотно поверят вашим выводам.
В тоне сыщика я уловил неприятную нотку, в которой чересчур явно ощущалась ирония. Но в тот час я слишком нуждался в отдыхе, чтобы придавать значение колкостям. Из съестного я нашел в каморке только какао. По моему убеждению, человек способен достаточно долго обходиться без еды, если у него есть время для покойного сна, и наоборот: можно долго не спать, если вдоволь ешь. Следуя этому принципу, я постарался устроиться поудобнее на койке, которая своей изогнутой формой повторяла скругленную линию стены.
Холмс же, разумеется, дремать не собирался. Прежде чем провалиться в забытье, я увидел, как он в очередной раз взобрался по деревянной лестнице в световую камеру. После этого я уснул так крепко, что детектив мог бы полностью разобрать купол маяка, нисколько не потревожив моего слуха. Пробудился я за полночь, когда плеск воды под нами уже стих. По меркам Холмса, он проявил редкое терпение, позволив мне проспать, очевидно, час или два.
— Ватсон! — Полагаю, мой друг вспомнил обо мне, услыхав скрип моей койки. — Буду вам признателен, если вы подойдете и выскажете свое суждение по одному небольшому вопросу.
Я сел и принялся искать свои туфли. Поднявшись через пару минут в фонарную камеру, я с недоумением воззрился на разобранный корпус часов. Было видно, что механизм продолжает работать, однако Холмс снял и положил на стол для журнальных записей несколько деревянных частей.
Конечно же, он все это время бодрствовал и теперь был бледен, как пергамент, но темные круги под запавшими глазами лишь оттеняли их яркий блеск.
— Скажите, Ватсон, если бы вы жили здесь и хранили при себе ценную вещь, где бы вы ее спрятали?
— Смотря от кого я хотел бы ее скрыть.
— От всего мира, но в первую очередь от друзей.
— Холмс, мой ответ должен быть как-то связан с часовым механизмом?
— Отчего же? Нет.
— Очень хорошо. В ящиках и шкафчиках я не стал бы ничего прятать: их не так много, и мое сокровище легко бы нашли. Вероятно, я устроил бы тайник в какой-либо части механизма, однако он должен работать двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю — и так круглый год. Кроме того, по словам Уэйнрайта, фонарь, отражатели и даже стекла купола регулярно чистят.
— Пока вы сказали лишь о том, где нецелесообразно хранить драгоценности.
— Для тайника я выбрал бы ту часть механизма, к которой никто не прикасается. Например, корпус часов — не зря же вы его так безжалостно разломали.
— Отлично, Ватсон! Мы еще сделаем из вас настоящего сыщика!
Я посмотрел на столик, заваленный кусками древесины, всевозможными винтиками и шурупами, а также многочисленными незнакомыми мне деталями из меди и железа. Несмотря на то что устройство, регулирующее работу отражателей, постоянно находилось в действии, внутри его корпуса, как и в любых напольных часах, имелись укромные уголки.
Холмс посмотрел мне в глаза и, словно прочитав по ним мои мысли, сказал:
— Просуньте руку в верхнюю часть футляра, за циферблаты, чуть ниже барабана, на который наматывается цепочка с грузом, и вы кое-что найдете.
Я нащупал узкую деревянную планку, тянувшуюся по периметру внутренней стороны ящика.
— Здесь выступ шириной в дюйм или два, но там ничего нет.
— Зачем же его сделали?
— Вряд ли для хранения ценных вещей. Он просто скрепляет конструкцию, вот и все.
— И не представляет для нас никакого интереса?
— Думаю, едва ли.
— Ощупайте рейку снизу, там, где она соприкасается с задней поверхностью корпуса.
— В этом месте ее, очевидно, усилили металлом. С трех других сторон выступ деревянный.
— Возьмитесь за металлическую часть и подтолкните ее вверх, — велел детектив.
Я выполнил его указание, снял планку со стенки и вытащил наружу. Холмс не сводил с меня пристального взгляда.
— Если бы я устраивал тайник, — раздумчиво проговорил он, — то тоже придал бы ему вид составной части какого-либо строения или механизма. Эта планка всегда видна, поэтому никому не придет в голову ее пристально разглядывать. Да и при близком рассмотрении она кажется лишь рейкой, стягивающей корпус часов.
Мне подумалось, что даже человек, который не может назвать себя искусным плотником, в состоянии сделать в стенке ящика углубление для полоски металла, зажатой сейчас в моей руке. Если бы кто-то и выдернул ее случайно, он решил бы, будто она просто укрепляет конструкцию.
Я положил находку на стол: с виду это был обломок заржавленного металла с краями, изъеденными коррозией, — обыкновенная железка, грязная и потемневшая, шести или семи дюймов в длину, с дюйм в ширину и чуть менее дюйма толщиной. От шурупов, некогда крепивших планку к какой-либо конструкции или ручке, остались отверстия. Точно определить материал не позволяла ржавчина. Возможно, это была старая стамеска с обломанным концом, которой давно не пользовались по назначению. Время привело ее в полную негодность.
— Мне не пришло бы в голову прятать такое. Даже самый никчемный рабочий постыдился бы хранить в своем ящике инструмент, доведенный до столь плачевного состояния. Можно подумать, будто его погрызли крысы.
— Вот именно, — сказал Холмс, поворачивая железку другой стороной.
Сзади, ближе к верхнему краю, я увидел желобок, к которому, судя по всему, крепилась поперечная планка. Представив себе недостающую деталь, я понял: этот кусок металла не стамеска. Он мог быть чем угодно, но перед глазами у меня почему-то встал крест, точнее, распятие.
— И долго его здесь прятали?
Холмс пожал плечами.
— Думаю, нет. Вероятно, несколько лет, а может быть, пару месяцев. Но не дольше, чем братья Кастельно служат смотрителями маяка.
Смотрители маяка — хранители путеводного луча… Распятие… История начинала напоминать легенду о каком-то старинном религиозном ордене!
Я снова взглянул на отверстия в потускневшем и окисленном металле, принятые мною за дырки для шурупов. Холмс извлек из кармана маленький замшевый мешочек, достал оттуда голубой камешек и поочередно приложил его ко всем трем отверстиям. Лучше всех подошло верхнее. Другой голыш, найденный в кармане утопленника и напоминающий по цвету прибрежную грязь, расположился на месте крепления поперечины, а третий, такой же запачканный, — внизу. Еще два камешка Холмс поместил по сторонам, на воображаемых концах перекладины.
— Почему деревня называется Саттон-Кросс? [14]— спросил я, ежась от ночного холода, проникшего в нетопленое помещение.
Холмс взглянул на мозаику, выложенную им на столе.
— Потому что до строительства моста реку в этом месте можно было пересечь вброд. Есть и другая версия — по легенде, некий предмет из королевской сокровищницы был здесь потерян, найден, а затем снова утрачен.
— Предмет? Какой же?
— Согласно Великим казначейским свиткам, в октябре тысяча двести шестнадцатого года, когда король Иоанн возвращался из долгого похода, волны прилива и зыбучие пески поглотили обоз монарха. Как сообщил нам мистер Гилмор, королевское войско сражалось со знатными феодалами в различных частях Британии. Среди награбленных ценностей якобы был крест, отлитый из золота и украшенный сапфирами. Этот предмет, который некогда носили на поясе епископы Честера, — не просто дорогое украшение. Если верить хроникам, в руках святого человека он приобретал целительную силу. Как гласит предание, его передавали из поколения в поколение со времен Эдуарда Исповедника.
— Неужели этот малопривлекательный кусок металла и есть тот самый крест?
Холмс покачал головой.
— Увы, нет. Я воздержался бы от заключений. В хрониках говорится о многочисленных подделках, выдаваемых за сокровища из обоза короля Иоанна. Так или иначе, я очень хотел бы знать, что собой представляет эта вещь, по мнению братьев Кастельно.
Я взглянул в окно: половина диска луны вышла из-за облаков над Северным морем.
Рано утром я поделился с инспектором Уэйнрайтом своими выводами относительно исчезновения смотрителей маяка. В правильности своих умозаключений я не сомневался, поскольку не мог найти другого объяснения трагедии. На собственном опыте изведав леденящий страх перед гибелью в вязкой грязи посреди песков и морских волн, я знал, как легко было заманить жертву в устье реки. Между братьями существовала взаимная неприязнь, но именно Роланд задумал убить Абрахама — не наоборот. Младший Кастельно спрятал в карман драгоценные камни и передвинул ставни на куполе маяка, прежде чем выйти на берег. В сумерках он выстрелом из ружья подозвал к себе старшего брата. Они поссорились, после чего Роланд, по несчастливой случайности или по чьему-то умыслу, утонул. Абрахам, виновный или невиновный в этой смерти, а может быть, и не знающий о ней, направился по ложному пути, который указывал ему луч маяка, и погиб в песках речной дельты. Разве факты, доступные нам, позволяли сделать иные выводы?
По просьбе Холмса, я не сказал ни Уэйнрайту, ни смотрителю, прибывшему из Фрестона, о найденных нами камешках и загадочной полоске заржавленного металла. Возможно, именно эти вещи и послужили причиной смертельной схватки между двумя братьями, но пока у нас не было точных доказательств. Прежде чем использовать находки как улику, нам следовало установить, что они собой представляли.
Наша последняя беседа с преподобным мистером Гилмором прошла в обстановке не менее дружелюбной, чем первая, однако протекала в довольно необычном русле. Было одиннадцать часов, осеннее утро выдалось погожим. Солнце освещало церковный сад, и правильность его разбивки подчеркивали тени тисовых изгородей. Яркие блики сверкали на глади низкой воды. Горничная в накрахмаленном переднике поставила на стол серебряный поднос с хрустальным графином солерной мадеры Блендис урожая 1868 года, тремя стаканами и тонко нарезанным тминным кексом — покинув кембриджский Тринити-колледж, почтенный священнослужитель, очевидно, не забыл его славных традиций.
Когда воздух наполнился сладким ароматом янтарного напитка, Холмс прямо перешел к цели нашего визита:
— Вероятно, мистер Гилмор, в здешних местах иногда находят вещи, выдаваемые за сокровища из обоза короля Иоанна? Ведь с тысяча двести шестнадцатого года море отступило почти на милю, и кое-какие осколки драгоценностей могут оказаться неглубоко в земле…
На губах настоятеля мелькнула улыбка человека, услышавшего давно знакомую историю.
— Люди, конечно, поговаривают о подобных случаях, но сомневаюсь, мистер Холмс, чтобы в этих рассказах было много правды. Во всяком случае, в последние годы ничего заслуживающего внимания не попадалось. Как я уже говорил, большая часть сокровищ лежит, наверное, за деревней, в полях и лугах. Несколько отдельных предметов, вероятно, течением вынесло на отмель.
— Следовательно, их могли найти?
Мистер Гилмор усмехнулся.
— Следовательно, их могли подделать. Со дня смерти короля Иоанна и до тысяча четыреста восемьдесят пятого года, когда к власти пришли Тюдоры, в хрониках Суда казначейства встречаются записи о выплате вознаграждений мужчинам и женщинам, нашедшим и вернувшим короне украшения. Платили немного: как указано в Свитке судебных дел, за драгоценные камни из ожерелья самого короля Иоанна принесший их человек получил всего лишь двадцать шиллингов.
— И конечно, порой находки оказывались фальшивыми?
— Такое случалось столь часто, что вскоре после катастрофы одному из королевских секретарей поручили составить реестр с подробными описаниями всех утерянных ценностей. Позднее новые поступления тщательно сверяли с этим перечнем.
— А теперь?
Настоятель улыбнулся.
— В те времена, мистер Холмс, большая часть окрестных земель затоплялась. Церковь Святого Климента, где мы с вами находимся, и относящиеся к ней надворные постройки стояли на клочке суши чуть выше уровня моря, а во время прилива здесь возникал островок. В годы правления короля Иоанна и его преемника Генриха Третьего течения еще могли приносить сюда деревянные обломки того обоза и ювелирные изделия, недостаточно тяжелые, чтобы сразу опуститься на дно. Но если какой-либо предмет затягивает песками, он вряд ли когда-нибудь покажется наружу.
Холмс облегченно вздохнул и откинулся назад в своем кресле. Его прямая спина и узкие плечи перестали быть напряженными, острый профиль немного смягчился. Лишь теперь он сделал первый глоток из своего стакана.
— Мистер Гилмор, прошу вас быть со мной откровенным, — обратился он к священнику.
— Бог с вами, мистер Холмс! — воскликнул тот с мальчишеской горячностью. — Я друг вашего брата Майкрофта и охотно сделаю для вас все, что в моих силах!
— Я умоляю вас довериться мне и ни о чем не спрашивать. Пока я могу сказать лишь одно: от вашего суждения будет, вероятно, зависеть жизнь человека, не говоря уж о репутации его семьи.
Я не знал, что имеет в виду мой друг. О ком шла речь? Между тем Холмс достал из сумки пучок желтой корпии, в которую был бережно завернут найденный нами кусок заржавленной железки, а из кармана — мешочек с пятью камешками и аккуратно положил все это на стол.
— Я расчистил маленький участок карбидом кремния, мистер Гилмор. Если не ошибаюсь, металл, которым покрыта поверхность, — золото, пусть и не слишком высокого качества. Теперь я хотел бы узнать, что думаете об этом вы.
С минуту настоятель неподвижно глядел на нашу находку, затем достал из нагрудного кармана своего черного сюртука увеличительное стекло. По мере того как он изучал разложенные на столе предметы, любопытство на его лице сменялось замешательством. Холмс взял камешки и поместил три из них в отверстия на металлической планке, а два — по краям, туда, где должна была находиться перекладина.
— Одну минуту, — сказал мистер Гилмор, убирая линзу.
Он встал, подошел к высокому книжному шкафу и, открыв его стеклянные дверцы, взял с полки красивый том в алом переплете с золотым тиснением. Я успел заметить, что книга выпущена Обществом антикваров Линкольншира и Норфолка двенадцатью годами ранее. Священник положил ее на дубовый пюпитр и раскрыл на странице с иллюстрацией. Холмс и я подошли поближе и увидели на гравюре крест. Сообщалось, что изображение выполнено по фотографическому снимку муляжа оригинала.
— Посмотрите-ка! — Пастырь провел пальцем по странице сверху вниз. — В этом месте ювелир поместил вставку, границы которой совпадают с двумя линиями на вашей планке. Изделие было украшено пятью камнями, но какими, по черно-белому рисунку не поймешь.
— Что здесь изображено?
— Копия епископской подвески из золота с сапфирами и рубинами. Во время Баронской войны церковь передала этот крест в королевскую сокровищницу. Ему приписывались чудодейственные свойства. Утрата его, как и потеря любой другой реликвии, считалась дурным предзнаменованием. В день гибели обоза король Иоанн прибыл в аббатство Суинстед, что неподалеку отсюда. Получив известие о катастрофе, он помутился рассудком. Затем у него начался жар. Через семь дней он скончался там же, в аббатстве, и на смертном одре был ограблен теми, кто за ним ухаживал.
— Так что же вы можете об этом сказать? — спросил мой друг, указывая на камешки и металлическую полоску.
Священник покачал головой.
— Боюсь, что ничего, мистер Холмс. Было столько предметов, похожих на этот крест, его копий и мошеннических подделок… Имитации изготовлялись и в Средние века, и при Тюдорах, и в наши дни. Пять или шесть столетий назад кто-то мог попытаться обмануть суеверных простаков, явив им чудодейственную реликвию, подобно тому как продавец индульгенций из «Кентерберийских рассказов» Чосера выдавал свиные кости в стеклянных ларцах за мощи христианских мучеников. Многое зависит от того, каким образом и где были найдены эти обломки. Когда вы мне сообщите, откуда они у вас, я, вероятно, скажу больше, чем теперь, ну а до тех пор буду хранить молчание, как и обещал.
— Это все? — спросил я.
— Нет, доктор Ватсон. Могу добавить следующее: если вам говорят, будто крест недавно найден в земле, вас, скорее всего, обманывают. Едва ли он пролежал бы в грунте так долго. Думаю, его путь в ваши руки был довольно извилистым.
— Например?
— За шесть с половиной веков, доктор Ватсон, вещь можно потерять, найти, потом снова потерять и опять найти. Это кажется мне более правдоподобным.
— А в чем заключаются чудодейственные свойства креста? — упорствовал я.
— В Средневековье жизнь человека была тяжела и коротка. Свирепствовали такие заболевания, как сыпной тиф, цинга, золотуха и бубонная чума — по счастью, редкая в наши дни. Люди часто молились об исцелении от этих недугов. Одному Небу известно все то, что может заставить мужчину или женщину просить о ниспослании облегчения.
— Не страдал ли от подобной болезни один из братьев Кастельно? — спросил Холмс.
— К сожалению, я недостаточно хорошо знал Абрахама и Роланда. Жители деревни, думаю, тоже не смогут ответить на ваш вопрос.
Как и все провинциальные историки, Родерик Гилмор был рад не только поведать нам то, что нас интересовало, но и засыпать нас сведениями, без которых мы легко обошлись бы. Тем не менее, когда мы вышли за живую изгородь церковного двора и направились к гостинице «Мост», я поймал себя на мысли, будто в этот раз священник скорее говорил намеками, нежели открыто сообщал факты. Неужели он что-то утаивал?
В последующие часы Холмс был ко мне милостив и воздерживался от указаний на то, что «мое» дело нисколько не продвигается. Ничего нового о наших находках мы не выяснили. Казалось, мой друг молчаливо признавал: теперь, когда оба брата мертвы, та напасть, на которую сетовал Абрахам в своем письме, уже ни для кого не представляла угрозы — какова бы она ни была. Моих выводов относительно исчезновения обоих Кастельно Холмс не опровергал.
Вечером мы сели ужинать в столовой гостиницы. Луч маяка судорожно пульсировал над морем. Фонарная камера и каморка на сваях уже поступили в распоряжение новых смотрителей. Какую бы роль эта сигнальная башня ни играла в произошедшем убийстве или несчастном случае, теперь все осталось позади. Когда Холмс покончил с бараньей котлетой, картофелем, зеленым горошком и посредственным сент-эмильонским вином (таков был табльдот, предлагаемый нашей гостиницей), я спросил:
— Как же нам поступить с сомнительной реликвией? Действительно ли она представляет собой фрагмент честерского креста?
— Я подумал об этом на досуге. Нашу находку, как любой клад, несомненно, надлежит передать в сокровищницу ее величества. В этом деле нам не сыскать лучшего посредника, чем брат Майкрофт. Его связи в казначействе избавят нас от лишних хлопот.
— Если же крест окажется подделкой или копией, вы сможете пополнить им свою коллекцию сувениров.
Холмс задумчиво поглядел на меня.
— Знаете, Ватсон, если это фальшивка, то едва ли она мне нужна. Я привык быть разборчивым. С другой стороны, если это подлинный честерский крест, символ веры и невинности, то экспонаты моей кунсткамеры — неподходящая для него компания.
Ничего не ответив, я снова посмотрел на горизонт, в очередной раз озарившийся лучом маяка.
— Есть еще кое-что, — многозначительно произнес Холмс.
— Что же?
Он отложил вилку с ножом и бросил взгляд на темное окно.
— Не знаю, что там скрывают заливные пески, но в одном я уверен: с делом, которое было поручено именно вам, вы справились превосходно. Лестрейд останется вами доволен. Однако на вашем месте я обязательно представил бы полученные выводы мисс Элис Кастельно.
— Ну разумеется! Я письменно изложу ей результаты расследования, как только мы вернемся на Бейкер-стрит. Конечно же, я не смогу сообщить, что именно произошло с ее братьями, да и никто ей этого не скажет. Для того чтобы прямо обвинить одного из смотрителей в убийстве другого, у нас недостаточно доказательств. Вероятно, наша клиентка самостоятельно сделает заключение из фактов, которыми мы располагаем. На этом дело будет закрыто.
Шерлок Холмс постучал по столу ложечкой и слегка повернулся на стуле. Подошедший слуга поставил перед нами тарелку с большим куском стилтонского сыра под бело-синей узорной салфеткой. Когда человек удалился, на лице моего друга появилась недовольная гримаса.
— Для меня непостижимо, почему в подобных заведениях настаивают на том, чтобы посетители портили вкус стилтонского сыра, запивая его портвейном! Что до нашего дела, Ватсон, то, боюсь, письменного отчета для мисс Кастельно будет недостаточно. На вашем месте, тем более находясь вблизи Мейблторпа, я счел бы необходимым нанести леди визит. Деловое письмо доставит ей печальное известие, но без того такта и предупредительности, которые можно проявить лишь в тихой беседе с глазу на глаз.
Только неблаговоспитанный человек стал бы спорить с последним замечанием. Но если бы Холмс не напомнил мне столь открыто о долге учтивости перед клиенткой, я на следующий же день вернулся бы в Лондон. Ведь я был практикующим медиком, и, хотя во время наших путешествий в моем кабинете вел прием другой врач, меня никто не освобождал от обязанности посещать пациентов на дому и в больницах.
— Будь по-вашему, если вы находите это необходимым, — мрачно согласился я, — однако мне нельзя вечно оставаться в Саттон-Кроссе, ожидая назначенной встречи с мисс Кастельно.
Холмс нисколько не смутился.
— Я действительно считаю, что вы должны ее увидеть, — добродушно ответил он. — А вот лишние формальности здесь ни к чему. В конце концов, мы оказываем клиентке услугу, важность которой трудно переоценить — особенно впоследствии. Утренний поезд доставит нас в Мейблторп еще до ланча. К вечеру мы вернемся и даже успеем к ужину, ну а послезавтра уже будем в Лондоне, чему ваши пациенты, несомненно, возрадуются.
Итак, наше путешествие в Мейблторп началось следующим утром, после раннего завтрака. Холмс телеграммой известил мисс Кастельно о нашем приезде, правда, его уверенность в том, что мы застанем леди дома, для меня оставалась загадкой. Три вагона поезда Кингс-Линн — Клиторпс, влекомые по рельсам устройством не мощнее маневрового локомотива, трясясь и громыхая, отъехали от деревянной платформы местной станции. Мы пересекли обширный болотистый участок, затем потянулись луга с озерами октябрьской дождевой воды. В Уиллоби состав свернул с главной линии и покатил по одноколейному пути вдоль плоского берега. Вид бескрайних песков за окном оживляли лишь дорожки между дюнами, окаймленные высокой травой вперемежку с кустами облепихи. В ее пепельной листве горели оранжевые ягоды. Параллельно кромке моря до самого горизонта тянулись песчаные отмели.
Я довольно смутно представлял, чего мне следует ожидать от поездки в Мейблторп. В городке имелись две-три гостиницы и церковь. Из дубовых и сосновых рощиц выглядывали верхние этажи изящных зданий — в любом из них вполне могла располагаться школа для благородных девиц. Вокруг кипела жизнь местечка, претендующего на звание морского курорта: вдоль подобия променада выстроились ярко выкрашенные дома, владельцы которых сдавали комнаты отдыхающим. С Северного моря дул резкий соленый ветер.
За неимением лучшего мы с Холмсом удовольствовались ланчем в таверне под названием «Книга в руке» и пешком направились в заведение мисс Опеншо. В городках вроде Мейблторпа все находится рядом. Школа оказалась такой, как я и ожидал: это солидное семейное предприятие занимало внушительную постройку с классическим, точнее сказать, помпезным фасадом. Гравиевая подъездная аллея, обсаженная лавром и другими кустарниками, ныряла в одни ворота и через вторые, поменьше, выходила на пригородную дорогу. Главный корпус, трехэтажный, с эркером и двумя большими подъемными окнами по обе стороны от каменного крыльца, был, вероятнее всего, возведен из кирпича. Стены оштукатурили и выкрасили в белый цвет, а нижний ярус обложили светлым камнем по моде шестидесятилетней давности. На лужайке стояла посеревшая деревянная беседка с длинной скамьей, на которой могли разместиться десять или двенадцать человек, — очевидно, примерно столько воспитанниц и проживало в школе. Я бы не удивился, узнав, что мисс Кастельно здесь единственная учительница.
Холмс позвонил. Еще раз оглядев двор, я изумился его пустынности: поблизости не было видно ни одной юной леди. Однако данное обстоятельство совершенно не касалось цели нашего визита. Дверь открыла горничная в чепце и переднике. Холмс назвал ей наши имена, и нас немедля провели в зал, пол которого был выложен черными и белыми плитами, а внутреннюю дверь украшали красные и синие стекла. Оттуда мы проследовали в помещение, служившее, судя по всему, приемной начальницы заведения.
Мисс Кастельно, по-видимому, ждала нас. Она стояла спиной к окну эркера, и на лицо ее падала тень. Я без труда узнал в ней ту сдержанную, строго одетую даму, которая несколькими днями ранее посетила нас на Бейкер-стрит. Только теперь на ее черты легла печать утраты, ставшей скорее источником возросших тревог, нежели причиной глубокой скорби.
Убранство приемной, как и все здание, в точности соответствовало моим ожиданиям. Солнечные лучи проникали сюда сквозь светлые шторы с цветочным рисунком. На маленьком столе стояла китайская ваза с зелеными ручками в виде драконов. Холмс и я сели друг против друга, а мисс Кастельно устроилась посередине на желтом диванчике в египетском стиле. Камин, возле которого мы расположились, был отделан изразцами мастерской Уильяма де Моргана, изображавшими кентавра, птицу феникс и прочих мифических обитателей древнего мира. Впоследствии мне подумалось, что эта гостиная представляет собой своего рода музей фантастических существ.
Стараясь не мучить клиентку печальными подробностями, я изложил ей свои умозаключения по делу об исчезновении ее братьев и затем прибавил, что дознания еще не проводили и предсказать его итог довольно трудно. Мисс Кастельно сидела спокойно и прямо, безмолвно слушая мой отчет. Когда я закончил, она поблагодарила меня — как мне показалось, искренне. Некоторая сухость ее тона объяснялась, на мой взгляд, состоянием эмоционального потрясения, обычно предшествующим бурному проявлению горя.
— Спасибо и вам, мистер Холмс, — сказала учительница, повернувшись к моему другу, — за то, что нанесли мне визит.
Все это время он сидел, слегка наклонив голову, как будто изучая рисунки на изразцах камина. Теперь детектив выпрямился в кресле и посмотрел мисс Кастельно в глаза.
— Боюсь, вы заблуждаетесь. Я приехал сюда не с тем, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение — это было целью доктора Ватсона. Мне хотелось бы увидеть мистера Абрахама Кастельно.
Слова Холмса произвели едва ли не большее впечатление, чем разорвавшаяся бомба. В этой изысканно обставленной комнате воцарилась угнетающая тишина. Я был в полном недоумении, а наша клиентка сумела лишь пробормотать, будто сквозь сон:
— Я не понимаю вас, мистер Холмс.
— В самом деле? Тогда я объясню.
— Его здесь нет! — вскричала мисс Кастельно в отчаянии, так не гармонировавшем с ее обычной спокойной манерой, что по спине у меня пробежали мурашки.
— Он здесь, — сказал Холмс, — причем с вашего ведома. Прошу вас, не мучьте себя и не отрицайте моих слов прежде времени, сначала выслушайте меня.
Ничего не ответив, учительница посмотрела на моего друга так, словно считала одного из них двоих сумасшедшим.
— Итак, нас хотят уверить в том, — произнес детектив, — будто в воскресенье вечером, в назначенный час, то есть не позднее чем без четверти восемь, ваш брат Абрахам Кастельно намотал на барабан цепь светового механизма старого маяка в Саттон-Кроссе. Вместе с тем он должен был завести часы и регулятор, отвечающий за верную работу всего устройства. Едва успев выполнить свои обязанности, Абрахам в сумерках вышел на звук выстрела, донесшийся с берега. Нам неизвестно, что именно произошло между вашими братьями, но вскоре после их встречи Роланд Кастельно погиб. Мы предполагаем, что он утонул — по той или иной причине.
— Я знаю это, мистер Холмс, — прошептала учительница с тихим укором в голосе.
— Абрахам, судя по всему, предпринял попытку прямиком возвратиться в свою каморку. Однако младший брат, по-видимому, позаботился о том, чтобы вне зависимости от исхода поединка старший не вернулся на маяк живым: днем Роланд передвинул металлические ставни на куполе фонарной камеры. Никому ни пришло бы в голову их осматривать, поскольку стекла вымыли утром. На то, что направление луча изменилось, при солнечном свете опять же никто не обратил бы внимания. — Тут наша клиентка опустила голову и прижала к губам носовой платок, а мой друг продолжил: — Правда, мисс Кастельно, превыше всего. Маяк светил чуть в сторону от Бостонских глубин, ближе к Кингс-Линну, и это, конечно же, было подстроено с целью заманить жертву в зыбучие пески речного устья. Следовательно, никого не удивило бы отсутствие трупа. Если бы Роланду удалось осуществить свой замысел, он пришел бы на маяк после отлива и вернул ставни в прежнее положение. Но к несчастью, ваш брат утонул, прежде чем вода стала убывать. Поэтому перестановки в световой камере были обнаружены доктором Ватсоном и мной. Предполагалось, что они послужат достаточно весомым доказательством вины Роланда.
— Предполагалось? — Мисс Кастельно резко вскинула голову. — Я вас не понимаю. Доктор Ватсон уже все рассказал и был, бесспорно, прав.
— Вынужден сообщить, что это невозможно.
— Почему?
— По двум очень простым причинам. Абрахам не мог завести устройство без четверти восемь и вообще раньше девяти. Взгляните на самые обыкновенные дедушкины часы, такие как эти: на циферблате есть два отверстия для ключа, которые закрываются, когда часовая стрелка находится между цифрами три и четыре или восемь и девять. В эти промежутки времени механизм не заводят.
— Это могло быть сделано раньше!
— Утром следующего дня световую камеру осмотрели: хронометр к тому моменту уже остановился, что и должно было произойти по истечении восьмичасового срока. Если бы устройство проработало дольше, цепь стала бы слишком тяжелой для человека, который накручивает ее на барабан. В пять с четвертью шкипер грузового судна, стоявшего в Бостонских глубинах, записал в бортовом журнале, что маяк перестал светить.
— Разве все это имеет отношение к делу? — продолжала негодовать учительница.
— Да, мисс Кастельно, имеет. Об обмане свидетельствует не то, что после пяти часов луч погас, а то, что этого не случилось раньше. Если бы механизм завели около восьми вечера, стрелка заслонила бы собою отверстие до девяти. Утром работа устройства прекратилась бы на час с четвертью прежде, чем это произошло на самом деле. Кто-то вернулся на маяк и завел механизм после того, как Абрахам Кастельно вышел на песок по зову своего брата.
Клиентка смотрела на Холмса с ужасом, в котором угадывалась попытка понять, что еще ему известно.
— Случившееся на берегу могло быть убийством или несчастливым стечением обстоятельств, — продолжал мой друг. — Так или иначе, мы не сомневаемся лишь в том, что Роланд Кастельно утонул. Абрахам же, зная о гибели брата, благополучно вернулся в каморку около девяти.
— Разве свет маяка не загнал его в реку? — спросил я.
— В тот момент направление луча было верным. Абрахам понимал: что бы ни произошло там, на песке, его, вероятно, осудят и казнят за убийство брата. Возможно, он не нападал, а лишь оборонялся, но ни один свидетель не смог бы этого подтвердить. Никто не показал бы на суде, что именно Роланд, а не он, Абрахам, развязал конфликт выстрелом из ружья. Вернувшись на маяк, старший Кастельно, вне всякого сомнения, ощутил боль и страх. Он остался в живых, а Роланд погиб. Возможно, Абрахам заметил на церковной башне фигуры двух очевидцев его схватки с братом и слышал, как сторож выстрелил из винтовки. — Холмс немного помолчал, затем снова заговорил: — Кто поверил бы Абрахаму Кастельно? Он уже представлял себе суровые лица полицейских, прибывших в деревню из Кингс-Линна, видел скамью подсудимых и черную шапочку судьи, зачитывающего приговор: «Вас повесят за шею до наступления смерти…» Абрахам вообразил мучительные недели ожидания казни. Они ужаснее всего. За ним придет палач и в последний раз проведет его по тюремному двору к помосту с тринадцатью ступенями и свисающей с перекладины петлей…
В этот момент я впервые услышал, как мисс Кастельно всхлипнула. Холмс оставил это без внимания.
— Море прибывало, и старый маяк превращался в ловушку. Через несколько минут вода отрезала бы Абрахаму путь к бегству. Поэтому он, не теряя времени, поднялся в световую камеру и завел механизм: луч должен был сиять как можно дольше, скрывая отсутствие смотрителей. Затем Абрахам передвинул ставни, чтобы выдать себя за жертву обмана. Отчаяние иногда порождает вдохновение. Вы следите за моей мыслью? Итак, те, кто прибыл бы для расследования происшествия, непременно обнаружили бы эту перестановку. Вероятно, нашлось бы и тело Роланда. Его же, Абрахама, считали бы пропавшим без вести. Где же, по мнению полицейских, ему быть, если не под толщей песка, куда его обманом завлек убийца, передвинувший ставни? Кем же может оказаться этот изверг, если не братом убитого? Абрахама перестали бы искать. С такими мыслями он мчался по болотам, в то время как вода подступала к сваям маяка. Беглец знал: чем дольше он будет скрываться, тем вернее полиция заключит, будто несчастный заблудился в зыбучих песках дельты реки и погиб.
— Возможно, Абрахам изменил направление луча, чтобы заманить в ловушку Роланда? — спросил я.
— Тогда Абрахаму не нужно было бы бежать. Брата признали бы жертвой несчастного случая, а он сам переставил бы ставни обратно, и никто не выдвинул бы против него обвинения в убийстве. Но есть еще кое-что.
— Не связано ли это с той страшной тайной, о которой Абрахам говорит в своем письме? В чем она заключена?
— В его отсутствие, Ватсон, я не могу ответить на ваш вопрос. Прошу вас, мисс Кастельно, приведите брата. Я не желаю зла ни ему, ни вам и обещаю в меру своих сил облегчить ваше положение.
Я не поверил собственным ушам! Неужели Шерлок Холмс выследил убийцу лишь затем, чтобы предложить ему помощь?
Бедная женщина поднялась, зашла в соседнюю комнату и почти сразу же вернулась, ведя за собой высокого и стройного молодого человека с ярким румянцем на лице. В его испуганно бегающих глазах я не заметил признаков выдающегося ума. Холмс протянул вошедшему руку.
— Мистер Абрахам Кастельно?
Учительница встала между ними, словно защищая дикое животное от охотников.
— Мой брат видел, как вы прибыли, и испугался, приняв вас за полицейских, которые явились, чтобы его арестовать.
— Нет, — спокойно сказал Холмс, — ему не нужно нас бояться. Пожалуйста, мистер Кастельно, станьте здесь, у окна, лицом к свету. Ватсон, прошу, вы тоже идите сюда. Не беспокойтесь, Абрахам, мой друг — доктор. Возможно, он именно тот врач, чью помощь вы желали получить, когда писали письмо, которое так и не решились отправить.
Я внимательно посмотрел молодому человеку в лицо: оно было круглым, но при этом мужественным. Челюсти и шея пестрели множеством маленьких воспаленных припухлостей, а также следов уже зарубцевавшихся гнойников. Наверняка такие же пятна я обнаружил бы на его груди и плечах. Сыпь появлялась, потом подживала, но кожа уже не становилась чистой.
— Полагаю, мистер Кастельно, вы страдаете скрофулой, или золотухой, верно? — спросил я.
— Я слыхал, сэр, что иногда это так называют. Но точно не знаю.
— Брат насмехался над вашим недугом?
— Бывало, сэр, но я не убил бы его из-за этого. Нет для меня такой причины, чтобы погубить человека.
— Доктор Ватсон сказал вам, что у вас скрофула, — обратился к Абрахаму Шерлок Холмс. — Но может быть, вы слышали, как эту напасть называют королевской болезнью?
— Да, сэр. Мне рассказывали, будто тысячу лет назад римский папа наделил короля Эдуарда Исповедника способностью ее лечить. С тех пор стоило королю или королеве дотронуться до человека с таким проклятием, как у меня, и он сразу же исцелялся. Еще помогают вещи, которые король благословил своим прикосновением. К примеру, Эдуард Третий раздавал беднякам золотые монеты со святым Михаилом на одной стороне и кораблем на другой. Такую монету называют «ангел».
— Король лечил тех, кого Великий бард назвал «одержимыми чуждой силой»? Думаю, вы не читали пьесы «Макбет»:
Во второй раз с тех пор, как мы прибыли в эти края, я услышал шекспировские строки, только теперь они прозвучали из уст Шерлока Холмса.
— Кто посмотрит на меня такого? — тихо спросил Абрахам Кастельно.
— Вы говорите о вашем недуге?
— Я говорю о злых силах, которые выходят через язвы, — так мне объясняли, сэр.
Устав слушать этот суеверный лепет, я сказал:
— Позвольте объяснить: то, чем вы страдаете, — не проклятие, а хронический туберкулезный процесс. Он не столь опасен, как чахотка, однако вызывает появление кожных воспалений, которые часто нагнаиваются.
— И как мне быть с этим, сэр?
— Советую вам изменить питание, чаще бывать на солнце и принимать водные процедуры. Все эти меры со временем вам помогут.
— А честерский крест? — спросил Холмс, обращаясь к Кастельно. — Если это был он.
Лицо бедняги просветлело.
— Не могу сказать, сэр. Он был у нас еще при отце, когда мы делали жмых. Валялся в ящике вместе с камешками. Потом, когда фабрика закрылась, я забрал эту вещицу с собой. Не знаю, откуда она взялась. Говорят, ее купили у жестянщика как простую побрякушку за шиллинг или два. Тогда еще был жив мой дед. Как она попала к тому жестянщику, Бог ведает. Но я надеюсь, что это и есть тот самый благословенный крест его величества короля Иоанна. Он мог бы меня исцелить.
Холмс подвел молодого человека к креслу и заставил сесть.
— Теперь, пожалуйста, расскажите нам о случившемся на берегу.
Прекрасно поняв, о чем его спрашивают, Абрахам Кастельно поднял на нас глаза без малейших признаков беспокойства.
— Мы с Роландом всегда неважно ладили, сэр, но крест и камни вконец нас рассорили. Он говорил, что это обыкновенный хлам, а когда мы поселились на маяке, пригрозил выбросить их в море.
— И тогда вы вырезали углубление в корпусе часов и спрятали крест там? — предположил я.
— Да, а камешки завернул и сунул вглубь выдвижного ящика, — кивнул Абрахам. — Тем воскресным вечером я отправился заводить часы и наматывать на барабан цепь. Время шло к восьми. Я открыл футляр и увидел, что креста нет на месте. Позабыв про механизм, бросился к столу: четыре камешка тоже исчезли, а пятый я всегда носил с собой на удачу.
— Как же письмо? — спросил я. — Его Роланд, конечно, не взял?
Абрахам Кастельно покачал головой.
— Нет, сэр. Он был не мастак читать.
— Значит, вы услышали выстрел?
— Да, когда рылся в ящике. Я сразу же спустился, не зная, что брат замышляет. Роланд всегда говорил, будто я простофиля, раз верю во всякие чудодейственные вещи. Я боялся, что он и вправду выбросит камешки с крестом. Кругом было темно и сыро, песок под ногами уже размок.
— Вы подрались?
— Я хотел отнять у него крест и камни, которые он держал в руках. Мы схватились. Я сильнее его, а Роланд в тот вечер еще и выпил — с ним такое бывало. Я повалил его на землю. Думал, камешки тоже упали. Он попытался швырнуть крест в море, но не добросил. Когда мы расцепились, я опустился на колени и стал искать то, что Роланд раскидал. А он побежал по берегу: сзади его подгоняли волны, а изнутри — спиртное. Так и не нашарив камешки, я погнался за братом. Я не хотел причинять ему вреда, но он повернулся и наставил на меня ружье. Роланд знал, что голыми руками меня не возьмешь. Однако идти прямо на дуло я не посмел бы, даже если бы хотел спасти брата. Тот начал отступать дальше и дальше.
— Он стрелял?
— Сначала только грозился. Расстояние между нами увеличивалось. Я попытался подойти ближе, кричал ему, мол, не будь дураком, возвращайся домой. Роланд стоял на мягком песке, уже почти по колено в воде. Вдруг он, вместо того чтобы послушаться, пальнул всерьез. Море шумело так близко, что выстрела я не слышал, но видел вспышку. И тут с Роландом что-то произошло: он потерял равновесие и упал. Пуля пролетела в стороне от меня, но я на всякий случай пригнулся к земле и некоторое время так просидел, ведь второй ствол тоже мог быть заряжен. Когда я наконец поднялся, брата уже не было видно. Во время прилива море в наших местах подкатывает, как скорый поезд, и накрывает сушу милю за милей. Темнело. Между мной и Роландом уже стояла вода, да такая глубокая, что я не мог ни подойти к нему, ни даже разглядеть его. Только волны грохотали вокруг.
— Вы знали, что вас заметили с церковной башни? — спросил я.
— Я подумал об этом, когда раздался выстрел из винтовки. Если они видели, как мы деремся — а такое бывало не раз, — а потом я пришел бы домой один, все стали бы говорить, будто Абрахам Кастельно удавил брата или загнал его в море. Тогда мне пришлось бы худо. Лучше бы люди решили, что погибли мы оба — Роланд во время драки, а я на обратном пути. Поэтому я вернулся на маяк, немного передвинул ставни на куполе, завел механизм и ушел. Я обо всем подумал, кроме письма в ящике.
— Вы направились сюда? — спросил Холмс.
— Несколько дней я торчал на болотах. Я знаю их как свои пять пальцев. Когда моя сестра приехала к вам в Лондон, она не знала, что я жив. Это правда. Я прятался почти неделю. Потом услышал, что отыскали тело Роланда, и пошел к Элис. Больше мне некуда было идти.
Мисс Кастельно до сих пор сидела на диванчике молча, закрыв лицо руками, и только теперь заговорила:
— Этот дом с большей частью обстановки принадлежит не мне, но у меня есть немного денег. Я все ему отдала бы. Поскольку брата считают погибшим и не ищут его, он мог бы поехать в Халл, а оттуда перебраться в Амстердам. Мне подумалось, что там он был бы свободен. Дорога заняла бы всего несколько часов.
— Но это невозможно! — возразил Абрахам Кастельно. — Что делать в Амстердаме такому человеку, как я?
— Восхитительно! — сардонически произнес Холмс. — Скажите мне, мисс Кастельно, надолго ли хватит ваших денег за границей? И чем прикажете заняться вашему брату, когда они кончатся? Он не говорит на голландском языке и никого в этой стране не знает. Ему нечем будет заработать себе на хлеб. Так что же он выиграет, кроме страха перед встречей с наблюдательным человеком, который однажды выведет его на чистую воду?
В маленькой нарядной гостиной, откуда открывался вид на залитую солнцем лужайку и гравиевую дорожку, воцарилась тишина. Наконец мисс Кастельно проговорила:
— Если вы не хотите нас выдать, то как же, по-вашему, мы должны поступить?
Мой друг повернулся к молодому человеку.
— Мое имя Шерлок Холмс, и многие люди полагают, будто я ставлю себя выше закона. В редких случаях это действительно так. Если бы меня уполномочили судить вас, я признал бы вашу исповедь весьма правдоподобной. Верю, что в тот вечер, перед тем как выйти на берег, вы не замышляли убийства. Ваш брат в самом деле завладел камешками: их нашли у него в кармане. Из обоих стволов дробовика стреляли, хотя только один из выстрелов был сигнальным. Роланд пытался причинить вам вред, но, не ранив вас, утонул сам. Вероятно, вскрытие покажет, что он был нетрезв. Эти факты говорят в вашу пользу, однако не являются неопровержимыми свидетельствами вашей невиновности. На суде вам придется нелегко. — Холмс поднялся с кресла и, как нередко делал, беседуя со своими клиентами на Бейкер-стрит, подошел к окну. — Ловкий прокурор сумеет убедить судью и присяжных в том, что вы виновны. Во имя закона вы, скорее всего, понесете наказание. Но во имя справедливости я вас не выдам, — сказал мой друг и взглянул на учительницу. Теперь он обращался и к ней: — Одинокий путешественник вызовет больше подозрений, чем семейная пара. Если вы любите брата, мисс Кастельно, то поезжайте с ним через Пеннинские горы в биркенхедский порт. Если захотите, можете выдать себя за жениха и невесту. Купите два места на корабле для переселенцев. Неженатые пары на таких судах размещают раздельно, но вечерами вам позволят проводить вместе час или около того. Такое путешествие будет вполне соответствовать вашим целям и вашим возможностям. Среди сотен или даже тысяч пассажиров вас вряд ли заметят. Дорога до Австралии займет три месяца. За это время пересуды о таинственном происшествии в Саттон-Кроссе успеют всем порядком наскучить. — Абрахам и Элис Кастельно молча смотрели на Холмса. Он продолжал: — Когда вы сойдете на берег в Квинсленде или Новом Южном Уэльсе, страна, которую вы покинули, уже забудет вас. И тогда без всякой опаски можно будет снова назваться братом и сестрой. Вы оба достаточно молоды, чтобы начать сначала. Таковы будут последние дни вашей старой жизни и первые дни новой.
— В школе сейчас проживают только три девочки, мистер Холмс, — поразмыслив, сказала мисс Кастельно. — Я уже сообщила о своей утрате их родителям и позаботилась о том, чтобы учениц перевели в Линкольн, в школу Эбби Клоуз. Ну а срок аренды этого здания скоро истекает.
Холмс кивнул и, открыв свой кожаный портфель, извлек оттуда предмет, обернутый корпией.
— Абрахам Кастельно, вот вещь, которая принадлежит вам. Может быть, это священная реликвия, а может, и простая побрякушка. По меньшей мере один из камней — настоящий сапфир, а металлическая планка покрыта золотом, хотя и невысокой пробы. Сам по себе сей предмет не представляет большой ценности. Но если в последние века этот крест утратил свою целительную силу, то, вероятно, теперь он снова ее приобретет, чтобы излечить вас.
Покинув Мейблторп и Саттон-Кросс, мы возвратились в наши комнаты на Бейкер-стрит. Три месяца, необходимые для путешествия в Австралию, истекли. О тайне старого маяка ничего больше не говорили и не писали. По прошествии еще нескольких месяцев на мое имя доставили конверт с запиской: Элис Кастельно двумя строками выражала свою благодарность. Своего адреса она не указала, но на штемпеле значилось «Брисбен». За завтраком я передал письмецо Холмсу. Он прочитал его и вернул мне с приглушенным хохотком.
— Что ж, пожелаем им счастья! Забавно, Ватсон! Вы наверняка заметили, сколь неодинаково мисс Кастельно относилась к Абрахаму и Роланду. Вам не кажется, будто наши беглецы не брат и сестра?
Это предположение поразило меня, точно гром.
— Тогда кто же они друг другу?
— Вероятно, мать и сын.
— Не может быть!
— Попробуйте сами сложить вместе кусочки этой мозаики: в возрасте пятнадцати лет мисс Кастельно внезапно покинула родной дом по причине, связанной с недомоганием, которое удобнее всего было назвать чахоткой. Жена отца сопроводила девушку на морской курорт, где они провели несколько месяцев. Затем их навестил старый Джон Кастельно. Незадолго до возвращения с побережья семейство отправило в Саттон-Кросс известие о том, что мачеха родила ребенка. Но так ли это было?
— Какая нелепость!
— Отчего же? Посудите сами: мать поддерживала связь с сыном и кое-чему его научила. На первый взгляд он похож на неандертальца, но вспомните его эпистолу, в которой он пишет «медик» и «терзаемый недугом». А чего стоят его знания об Эдуарде Исповеднике и Эдуарде Третьем?
— Все это домыслы!
— Очень хорошо, дружище, тогда просто посетите Сомерсет-хаус и полистайте журнал регистрации рождений, смертей и браков. Отыщите имя Абрахама Кастельно и проверьте девичью фамилию его матери. Не удивлюсь, если она тоже окажется Кастельно.
— Я не стану этого делать. Даже будь ваша история правдивой, есть вещи, которых лучше не знать. И уж совершенно точно ими не следует интересоваться!
— Прекрасно. Только вот что я скажу вам, старина: помните, там, на маяке, я поздравил вас с вашим маленьким открытием и пообещал, что вы станете настоящим сыщиком? Думаю, я ошибся. Вам решительно не хватает того нездорового любопытства, без которого никак нельзя преуспеть в ведении криминальных расследований.
Лишь очень немногие бумаги в архиве Шерлока Холмса оберегаются столь же ревностно, сколь документы, имеющие отношение к шантажу и вымогательству. Как ни удивительно, в их число входит небольшая коллекция рукописей и раритетных литературных изданий, оставшаяся на Бейкер-стрит после расследования 1890 года. По своей ценности она не уступит сокровищам, за право обладания которыми состоятельные собиратели вроде Джона Пирпонта Моргана сражаются в аукционных залах всего мира с Бодлианской библиотекой Оксфордского университета и Британским музеем.
До сегодняшнего дня многие жемчужины наследия Холмса были неизвестны в кругу писателей и ученых. Среди таких редкостей — рукопись утраченного произведения лорда Байрона «Дон Жуан в Новом Свете». Между строк поэмы угадывается желание великого романтика обрести дом в стране Томаса Джефферсона. В этом славном ряду не последнее место занимает и «Венецианская монахиня: готическая повесть», созданная в 1820 году Уильямом Бекфордом, одним из богатейших оригиналов своего времени, ценителем искусства, строителем Фонтхиллского аббатства, теперь почти полностью разрушенного. Кроме того, коллекция рукописей включает написанное от лица знаменитого флорентийского еретика «Воззвание Савонаролы к синьории» — поэтический монолог, принадлежащий, очевидно, перу Роберта Браунинга и не вошедший в сборник «Мужчины и женщины» 1855 года.
Не менее примечательны и редкие печатные издания, оказавшиеся в руках великого детектива в ту пору. Особенно любил он маленький розоватый томик с простым заглавием «Сонеты Э. Б. Б.». Внизу титульного листа значится: «Не для опубликования. 1847 год». Это «Сонеты с португальского» Элизабет Барретт, выражение ее чувств к возлюбленному, Роберту Браунингу, с которым они тайно обвенчались годом ранее. Книга, бережно хранимая на Бейкер-стрит, — один из трех или четырех дошедших до наших дней экземпляров первого издания, выпущенного подругой поэтессы мисс Мэри Рассел Митфорд [16]для чтения в кругу близких друзей. Именно ей и предназначался томик, о чем свидетельствует карандашная надпись, сделанная самой миссис Барретт Браунинг.
Судьба распорядилась так, что полвека спустя это сокровище оказалось в кармане умершего шантажиста.
Расследование этого дела началось через десяток с лишним лет со дня моей первой встречи с Шерлоком Холмсом. Был вечер 24 апреля 1890 года. К нам заглянул инспектор Лестрейд, который по стародавней привычке наносил нам визит каждую неделю, чтобы выпить стаканчик-другой односолодового виски и обсудить последние новости криминального мира.
Во время беседы наш друг из Скотленд-Ярда упомянул о том, что в Челси на дне канавы найден умирающий мужчина в клетчатом пальто, известный полиции как Огастес Хауэлл. Мне не было знакомо это имя. Подозревали, будто время от времени он угрожает людям, требуя у них деньги, однако никаких доказательств до сих пор не имелось. Незадолго до того, как Лестрейд покинул контору и направился к нам, ему сообщили о смерти Хауэлла. Канава, где его обнаружили с перерезанным горлом, находилась близ питейного заведения на Киннертон-стрит. Во рту у раненого была зажата золотая монета достоинством в полсоверена. Через несколько лет, при расследовании дела об «Алом кольце», я узнал, что в неаполитанских преступных кругах именно так расплачиваются с шантажистами и доносчиками.
Прежде в наше детективное агентство, как Холмс любил называть гостиную на Бейкер-стрит, лишь изредка обращались жертвы шантажа. Сей факт казался мне довольно удивительным, поскольку зло это, бесспорно, является одной из наиболее частых причин, понуждающих мужчин и женщин искать помощи частных сыщиков. Теперь же, после разговора с Лестрейдом, я понял: столкнувшись с вымогателем, некоторые лица, особенно обладающие известным могуществом, предпочитают детективам профессиональных убийц.
Свой краткий отчет о происшествии в Челси инспектор завершил многозначительным кивком, словно сказав: «Вот так-то, мистер Холмс!» Смерив гостя ответным взглядом, мой друг выразительно продекламировал слегка переиначенный стих шекспировского «Макбета»:
— «Он должен был скончаться позже!» Право, мой дорогой Лестрейд, вероятно, Хауэлл еще не раз это сделает, как делал раньше.
— Боюсь, я вас не понимаю. Разве может человек умереть до или после собственной смерти?
Откинувшись на спинку кресла, Холмс радостно расхохотался.
— Вот вам мой совет, Лестрейд, — наконец промолвил он, — не касайтесь дела, в котором замешан Огастес Хауэлл. Пусть другой бедолага из Скотленд-Ярда ломает над этим голову.
— Мне по-прежнему неясно, к чему вы клоните, мистер Холмс. В любом случае не вижу здесь повода для шуток.
— Очевидно, вы не представляете себе, с кем столкнулись. Известно ли вам, сколько раз Огастес Хауэлл умирал за последние тридцать лет своей бесчестной жизни? Насколько я знаю, не меньше четырех. За объявлением о кончине этого человека обычно следует распродажа его имущества с аукционов «Кристис» или «Сотбис». При помощи ложного известия о собственной смерти он время от времени сбегает от кредиторов. Однако если вам сообщили правду, то, выходит, на сей раз с ним рассчитались сполна. Или же он проделал свой обычный трюк, обставив его более театрально — в духе кровавой драмы.
— Это исключено, мистер Холмс.
— Отчего же? Год или два назад в особняке господ Кристи на Кинг-стрит, близ Сент-Джеймсского дворца, уже проводилась «посмертная» распродажа имущества Хауэлла. Тогда с молотка ушли полотна сэра Джошуа Рейнольдса и Томаса Гейнсборо, а также покойного мистера Данте Россетти, чьим агентом мнимый усопший являлся до тех пор, пока художник не узнал, что тот закладывает его, Россетти, несуществующие работы. Не получив обещанных картин, обманутые коллекционеры шли, разумеется, к живописцу, требуя вернуть деньги, полученные и потраченные Гасси Хауэллом. А однажды мошенник похитил из мастерской художника набросок «Астарты Сирийской» и, подделав авторскую монограмму на обороте, продал его как завершенное произведение наиболее доверчивому из своих знакомых «знатоков».
Теперь Лестрейд слушал со вниманием.
— А как же полотна Рейнольдса, мистер Холмс? И Гейнсборо?
— Некоторое время Хауэлл сожительствовал с одной дамочкой, Розой Кордер. Она была художницей и изображала лошадей и собак. Он обучил ее искусству факсимиле, или, попросту говоря, подделыванию. Вместе они изготовляли копии картин для клиентов с сомнительными вкусами. Их арендодатель даже отказал им от квартиры на Бонд-стрит за копирование нескольких работ Фюссли, весьма спорных по своему содержанию.
— Надо же! — задумчиво произнес Лестрейд. — Скажу вам по секрету, мистер Холмс, нам в Скотленд-Ярде кое-что известно о мистере Хауэлле. В молодые годы он был единомышленником Орсини и знал о готовящемся покушении на императора Наполеона Третьего близ Парижской оперы. По тогдашним законам (впоследствии они были изменены), сочувствие преступному замыслу не приравнивалось к преступлению. Далее, в министерских протоколах времен лорда Абердарского [17]значится, что мистер Хауэлл организовал извлечение гроба миссис Россетти из могилы на кладбище в Хайгейте. Это было сделано глубокой ночью с целью вернуть рукописи мистера Россетти, которые он похоронил вместе с женой. С Хауэллом вообще связано много престранных историй. Начать хотя бы с того, что родился он в Португалии, а отцом его был англичанин.
— Именно, — фыркнул Холмс. — И его привезли в Англию весьма своевременно, в возрасте шестнадцати лет, после того как в Лиссабоне он добился немалых успехов по части шулерства и вымогательства с применением ножа. Я почти не знал его лично, но слышал, что его называли — заслуженно или нет — отъявленным негодяем, грязным шантажистом, бессовестным мошенником, мерзавцем, крысой, клеветником и прирожденным лжецом. Выбирайте любой эпитет на свой вкус, мой дорогой Лестрейд! Однажды мистер Россетти продекламировал стихотворение, которое написал, порвав отношения со своим бывшим агентом. Оно звучало примерно так:
Есть мошенник по имени Хауэлл.
Он во лжи, как в пруду, с детства плавал.
Срок придет помирать —
Перестанет он врать,
А без этого Хауэлл — не Хауэлл.
Бедняга! Он отличался столь редкостным отсутствием каких бы то ни было положительных качеств, что я, знаете ли, даже в определенной мере ему сочувствую. Не будь я, по счастью, частным детективом, мы бы, вероятно, нашли с ним общий язык.
— Вы стали бы шантажистом? — скептически спросил Лестрейд.
Холмс сделал протестующий жест.
— Вы никогда не сможете обвинить его в шантаже. Он слишком умен, чтобы попасться. Именно он привел юного поэта Суинберна в один аристократический дом с дурной репутацией. В том салоне на Сиркус-роуд, у Риджентс-парка, золотая молодежь проводила праздные вечера в обществе розовощеких красавиц, предаваясь забавам в духе маркиза де Сада.
Как ни странно, при последних словах Лестрейд, обычно вовсе не склонный к смущению, вдруг густо покраснел.
— Хауэлл и Суинберн обменивались письмами, в которых обсуждали эти довольно невинные юношеские увеселения, — продолжал рассказывать мой друг. — Десять лет спустя, на пике своей славы, поэт получил от старого знакомого записку: оказалось, что Хауэлл сохранил все послания Суинберна в памятном альбоме, который ввиду денежных затруднений вынужден был заложить и теперь затрудняется выкупить. Потерявший терпение ростовщик грозился немедленно выставить вещицу на аукцион. Через неделю адмирал Суинберн и его супруга леди Джейн заплатили очень крупную сумму за то, чтобы вернуть из ломбарда хронику похождений своего сына. Вырученные деньги наверняка были к обоюдному удовольствию разделены между Хауэллом и его сообщником ростовщиком. Судите обо всем сами, дорогой Лестрейд.
Инспектор встрепенулся и задумчиво проговорил:
— Да уж! Ладная работа. Сшито так, что не придерешься.
— То-то и оно. В более трудных случаях, когда клиент выказывал упрямство, Хауэлл вдохновлял его чтением компрометирующих писем перед специально приглашенными гостями. Благодаря этой мере авторы посланий понимали, что бумаги все же следует выкупить. Неужели вы полагаете, будто, дорого заплатив за сокрытие свидетельств сыновнего безрассудства, Суинберны пожелают обнародовать их в суде? Даже если и так, каким образом вы докажете, что история с ростовщиком была шантажом, а не дружеским советом? Может, Хауэлл искренне желал спасти репутацию друга? Что до публичного чтения частной корреспонденции, то это, конечно, поступок, недостойный джентльмена, однако преступлением его назвать нельзя.
— И давно вы знаете этого человека, мистер Холмс?
— Повторяю, Лестрейд, он не входит в число моих близких знакомых. Я немало о нем слышал, но в последний раз видел его около десяти лет назад, когда представлял интересы своего клиента, мистера Сидни Морса, в так называемом деле о Сове и шкафчике. Живописцы и поэты-прерафаэлиты в шутку называли Хауэлла Совой на манер кокни [18].
Взгляд инспектора прояснился.
— Не имел ли к этому делу отношение мистер Уистлер, американский художник?
— Вы, как всегда, опережаете меня, Лестрейд. В тысяча восемьсот семьдесят восьмом году Уистлер отправился в Венецию. Перед этим он договорился с мистером Морсом о продаже ценного японского шкафчика, состоявшего из двух частей. Передача вещи покупателю была поручена Хауэллу. Мистер Морс явился к нему в субботу с деньгами, а шкафчик собирался забрать после уик-энда. Едва Морс ушел, Хауэлл вызвал к себе ростовщика и заложил ему чужую покупку за внушительную сумму. Верхнюю часть сразу же увезли в ломбард, а нижнюю мошенник, получив плату, пообещал доставить в начале следующей недели.
— Кажется, я понимаю, в чем фокус! — сказал вдруг Лестрейд.
— Фокус прост. В понедельник Хауэлл отправил мистеру Морсу нижнюю часть его приобретения, сказав, будто верхняя была повреждена при перевозке. Ее якобы отдали в починку и при первой же возможности пришлют новому хозяину. Ну а Чэпмену, ростовщику, Хауэлл, разумеется, наплел, что испорчена и ремонтируется нижняя часть шкафчика. — Холмс перевел дух, подавив очередной приступ хохота. — Затем пройдоха исчез вместе с деньгами, полученными от покупателя и от владельца ломбарда. Оба остались с половинками шкафа. Они не подозревали обмана, поскольку наивно думали, будто красть вещь по частям бессмысленно. Как плохо они знали Еасси! Тяжба по этому делу длилась три года. Мистер Морс обратился за помощью ко мне. По возвращении из путешествия мистеру Уистлеру пришлось выкупить полшкафа у ростовщика, уплатив набежавшие проценты, и доставить ее законному владельцу. Что до мистера Хауэлла, то он в очередной раз поспешил объявить о собственной кончине и распродал свое имущество с молотка.
Рассказ Холмса произвел на Лестрейда неизгладимое впечатление.
— Вот так так! Вот так так! — несколько раз повторил он.
— Одним из простаков, заинтересовавшихся этой распродажей, оказался Лео Майерс [19], сын и ученик Фредерика Майерса [20], основателя Общества психических исследований. После посещения аукционного зала Кристи молодой человек сообщил отцу, что узрел дух «покойного Хауэлла». Увидев среди выставленных вещей медальон с локоном, якобы принадлежавшим Марии Стюарт, Майерс-младший принялся его изучать: цвет пряди показался ему подозрительным. В этот момент откуда ни возьмись появилось «привидение». Оно робко приблизилось к Майерсу и шепнуло: «На вашем месте я не стал бы покупать медальон. Это всего лишь волосы Розы Корд ер».
Холмс, не в силах больше сдерживаться, снова расхохотался. Едва я успел подумать, что бесчестные деяния мошенника и вымогателя — не самый очевидный повод для веселья, как в дверь гостиной деликатно постучали и перед нами появился мальчик, помощник миссис Хадсон, с конвертом в руке.
— Телеграмма для мистера Лестрейда, джентльмены. Ответа не нужно.
Вручив послание инспектору, паренек удалился. О чем бы там ни говорилось, сообщение, очевидно, вернуло нашему другу из Скотленд-Ярда пошатнувшуюся было самоуверенность.
— Ну что ж! Доктор, Холмс! — воскликнул он, отрываясь от листка. — Новость как раз для вас. Вы, конечно, можете придерживаться собственного мнения о судьбе мистера Хауэлла, но это известие получено менее часа назад от дежурного констебля из больницы на Фицрой-сквер.
Глаза Холмса блеснули.
— Вы уверены, — спросил он, — что телеграмму в Скотленд-Ярд не отправил под видом дежурного констебля сам Хауэлл? Он на такое вполне способен!
Метнув в сторону моего друга сердитый взгляд, Лестрейд опять уткнулся в текст, после чего сообщил:
— В кармане пальто мистера Хауэлла найдена книга — стихотворения миссис Элизабет Барретт Браунинг. Издание, судя по виду, старое. Никаких других ценных вещей обнаружено не было. Перед смертью бедняга несколько раз повторил: «Листья травы».
Так мы впервые услышали о розовом томике, тогда еще ничего для меня не значившем. Но при чем здесь были «Листья травы»?
— Это лирический сборник мистера Уитмена, — сразу заявил я, узнав заглавие любимой мною книги модного американского поэта. — А разве в телеграмме не сказано, жив Хауэлл или умер?
Лестрейд хотел было ответить, но Холмс его опередил:
— Что бы ни говорилось в телеграмме, когда речь идет об Огастесе Хауэлле, ничему нельзя верить на слово.
И мой друг в который раз усмехнулся.
После очередного стакана виски и сигары Лестрейд пришел в умиротворенное расположение духа. Этим бы все и закончилось, если бы через полмесяца к нам не явились два других посетителя, причем совершенно иного сорта. За пару дней до их визита Холмс упомянул о том, что восьмого мая в половине третьего он ждет мистера и миссис Браунинг по деликатному вопросу, суть которого они предпочли заранее не раскрывать. Как я понял, наши новые клиенты — сын и невестка прославленной поэтической четы.
Знаменитый Роберт Браунинг умер всего год назад, но его не менее одаренной супруги, миссис Элизабет Барретт Браунинг, не было в живых уже почти тридцать лет. Их наследники пожелали посетить нас вскоре после того, как в кармане Хауэлла обнаружили томик сонетов, — это показалось мне любопытным совпадением. Шерлок Холмс, однако, в совпадения не верил. Он жил в мире причин и следствий.
В назначенный час миссис Хадсон, постучав, отворила дверь гостиной и торжественно представила нам посетителей:
— Мистер Роберт Видеман Пенини Браунинг и миссис Фанни Корнфорт Браунинг.
Как и любому читателю газет, мне было известно полное имя сына Роберта Браунинга. Все знали, что этот веселый молодой человек, попросту называемый Пеном Браунингом, предпочел поэзии живопись и скульптуру. На вид он показался мне субтильнее, чем следовало ожидать. В свои тридцать лет [21]он походил на юношу, который еще не вполне развился. Лицо, несмотря на пышные черные усы и редеющую шевелюру, сохраняло полудетскую округлость черт, мало напоминавших отцовские.
Фанни Корнфорт Браунинг выглядела несколько моложе своего мужа. Это была красивая статная женщина, чуть полноватая, голубоглазая и рыжеволосая, как героини полотен Тициана. Насколько я знал из газет, родилась она в Америке, но воспитывалась в Англии.
Как только с приветствиями было покончено и гости уселись, Пен Браунинг, если мне позволительно так его называть, заговорил:
— Мистер Холмс, доктор Ватсон! На днях мы обращались за помощью в Скотленд-Ярд к инспектору Лестрейду. Он смог сделать для нас очень немногое и посоветовал обратиться к вам. Дело сложное и деликатное. Оно касается смерти человека по имени Огастес Хауэлл: в последнее время он угрожал репутации моих родителей и моему собственному покою, прибегая к хитростям и искажению истины.
— Сожалею, — почтительно произнес Холмс, по случаю прихода именитых гостей надевший черный сюртук. — Мне известно, каков этот человек, и до меня дошло сообщение о его смерти. Я также знаю о том, что в кармане убитого мистер Лестрейд обнаружил сборник сонетов вашей матушки.
Пен Браунинг кивнул.
— Я ничего не слышал о Хауэлле до тех пор, пока не получил от него записку. Он изъявлял желание продать мне том стихов и ряд других предметов, имеющих отношение к моим родителям, за весьма солидную сумму. Хауэлл представился чьим-то агентом и в этом качестве собирался встретиться со мной на следующий день. В его руках якобы находились некие документы, которые ему надлежало продать с аукциона по поручению их владельца. Тот томик сонетов — редчайшее издание, выпущенное в тысяча восемьсот сорок седьмом году, за три года до широкой публикации сборника. Для того чтобы увидеться с Хауэллом, я и приехал в Лондон в прошлом месяце. Как вы, вероятно, знаете, большую часть года мы с миссис Браунинг проводим в Венеции.
— В палаццо Реццонико, на набережной Большого канала?
— Верно, мистер Холмс. Этот особняк купил для меня отец. Возможно, вам также известно и то, что в Венеции жил покойный Джеффри Асперн?
— Кто же не знает Джеффри Асперна? — проговорил Холмс не без некоторого удивления. — Ведь это предтеча Эдгара Аллана По, покинувший Вирджинию в тысяча восемьсот восемнадцатом году и с тех пор живший по большей части в Европе. Он был другом Байрона и, если не заблуждаюсь, сошелся также и с Шелли в последние годы его жизни в Италии. Насколько я помню, Эдвард Трелони пишет об их встречах в Венеции и Равенне в своих «Воспоминаниях» [22].
— Да, и еще больше в неопубликованных письмах и дневниках.
— Все это в высшей степени интересно! — увлеченно воскликнул Холмс. — Не смею называть себя литературным критиком, и все-таки, по моему мнению, Асперн не оправдал тех надежд, которые возлагали на него в юности. Однако его «Хуанита» не канет в Лету до тех пор, пока люди не утратят всякий интерес к поэзии. Если память меня не обманывает, он родился в тысяча семьсот восемьдесят восьмом и умер в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году, пережив и Байрона, и всех его английских друзей. Подобно Уильяму Вордсворту, Асперн успел увидеть закат романтизма и продолжал писать еще долго после того, как миновал его собственный творческий расцвет.
— Вы прекрасно осведомлены в вопросах литературы, сэр, — сказал Пен Браунинг и, посмотрев на Холмса, отвел взгляд в сторону, словно подошел к тому, о чем ему больно было говорить. — Вероятно, вы знаете и о том, что в прошлом году в весьма преклонном возрасте умерла подруга Асперна Хуанита Бордеро? [23]
— Я видел в газете сообщение о ее смерти. Ей было, если не ошибаюсь, не менее девяноста лет.
— Она познакомилась с Асперном в тысяча восемьсот двадцатом году, и чем хуже он к ней относился, тем крепче к нему привязывалась. После смерти поэта, двадцать семь лет назад, к Хуаните переехала младшая сестра Тина. Две дамы вели стародевическую жизнь в доме, именуемом Каза Асперн, на берегу маленького канала близ тихой заводи.
— Да, да, я слышал об этом, — подтвердил Холмс и выразительно поглядел на Пена Браунинга, будто предлагая смелее перейти к сути дела.
— После смерти сестры Тина Бордеро вернулась в Америку, и все эти месяцы дом пустовал. Вопрос о наследовании имущества оказался непростым, поскольку поэт и его возлюбленная не были обвенчаны и не имели детей. Сейчас все находится на попечении душеприказчиков и агентов. Судя по всему, в особняке хранятся ценнейшие литературные документы, а также бумаги, способные стать причиной громкого скандала. Мне говорили, будто в запертых ящиках наполеоновского секретера лежит неопубликованная переписка Асперна с лордом Байроном. — Шерлок Холмс прищурился, а Пен Браунинг тем временем продолжал: — Кроме того, в доме будто бы остались рукописи никому не известных байроновских поэм. Мне также предлагалось приобрести неопубликованный роман тысяча восемьсот двадцатого года: похоже, эту тетрадь его светлость передал Асперну, покидая Венецию перед роковым путешествием в Грецию. Произведение называется «Венецианская монахиня: готическая повесть» и принадлежит перу «фонтхиллского аббата» Уильяма Бекфорда. Единственная сохранившаяся копия была подарена автором Байрону. Какие еще раритеты пылятся в том доме, одному Небу известно. Меня же в первую очередь волнует то, что там могут находиться неизвестные стихотворения и письма моих родителей. Потому-то я и пришел к вам.
— Я польщен, — учтиво промолвил Холмс.
— Говорят, будто в архиве Асперна содержится корреспонденция отца и матушки. Вероятно, это лишь черновики, но оттого не менее компрометирующие. Среди них могут быть доверительные послания, которыми родители обменивались между собой, а также отцовские письма, адресованные другим женщинам после смерти моей матери в тысяча восемьсот шестьдесят первом году. Во Флоренции и он, и она очень сблизились с мисс Изой Блэгден. Отец поддерживал эту дружбу в течение долгого времени после того, как матушка умерла. Бывало, он писал мисс Блэгден каждый день. А в лондонскую пору мой отец питал не меньшую привязанность к мисс Джулии Веджвуд [24]. Такие женщины всегда играли немаловажную роль в его жизни. В его увлечении ими не было ничего порочного или даже легкомысленного. И все-таки переписка с ними носила сугубо личный характер. Теперь же, по словам агентов, та ее часть, что хранилась в собрании Асперна, попала в руки перекупщиков.
Пен Браунинг остановился, выискивая на наших лицах признаки недоверия, однако эти попытки были тщетны.
— Боюсь, — сказал Холмс, — письма являются собственностью тех, кому адресованы. Эти люди не имеют права публиковать их по собственному усмотрению, тем не менее содержание корреспонденции может стать довольно широко известным.
— То, что говорят о переписке моего отца, мистер Холмс, — ложь или в лучшем случае неполная правда. Не знаю, каким образом эти письма попали к Асперну, не говоря уж о сестрах Бордеро. Возможно, их попросту украли: предположим, у горничной появляется мнимый обожатель, ухаживающий за ней лишь с тем, чтобы проникнуть в дом и похитить ценные документы, а затем их продать. Джеффри Асперна мои родители, конечно же, знали, но едва ли настолько доверяли ему, чтобы отдать бумаги на хранение. Из поэзии моего отца в венецианском архиве якобы есть отвергнутое предисловие к «Кольцу и книге», а также драматический монолог, не вошедший в знаменитый сборник «Мужчины и женщины» тысяча восемьсот пятьдесят пятого года.
Наш гость снова замолчал.
— Прошу вас, продолжайте, — попросил Холмс.
Горевшее в его глазах нетерпение уже угасло.
— Подозреваю, что сестры Бордеро не держали в руках и половины документов, лежавших в их доме. Эти, простите за резкость, алчные гарпии не были большими ценительницами поэзии. После смерти Асперна они вели обывательскую жизнь, и я ни разу с ними не встречался. Что до моего отца, то он жил в Италии до тысяча восемьсот шестьдесят первого года и, безусловно, был с Асперном знаком. В последние годы отец часто и надолго приезжал к нам. В декабре он умер в нашем доме в Венеции.
— Вы не видели ни одной из бумаг, якобы хранящихся в секретере Асперна?
— До сих пор нет. Первым мне сообщил о них нотариус Анджело Фиори, одно время занимавшийся имуществом Асперна. По счастью, сестра этого человека — друг нашей семьи. Она ухаживала за моим отцом в последние дни его жизни, а позднее выступила посредником между мной и своим братом.
Холмс бросил взгляд на свою трубку, но воздержался от того, чтобы зажечь ее в присутствии гостьи.
— Прошу прощения, мистер Браунинг, но как столь внушительная коллекция частных писем вашего отца оказалась у Джеффри Асперна, если он сам не отдал их ему или же сестрам Бордеро? Едва ли горничная и ее поклонник могли так исхитриться, чтобы собрать этот архив. Да и Асперн умер прежде Роберта Браунинга, поэтому непонятно, каким образом переписка перекочевала к нему в дом.
— Именно, мистер Холмс. Может, кто-то попросту украл письма у владельцев и продал сестрам Бордеро? Вероятно, вполне невинное содержание этих посланий превратно истолковывается. Точно сказать не берусь, хотя после смерти Асперна сестры прославились своей склонностью к клевете и всяческим инсинуациям. «Насекомые в кудрях литературы» — именно так, словами Теннисона, отец назвал однажды этих женщин. Он всегда недолюбливал Хуаниту Бордеро и считал ее надоедливой. Говорил, что в молодости она нередко давала поводы для скандалов, а когда стала для этого слишком стара, начала проявлять интерес к пикантным обстоятельствам жизни других людей. Долгое время она коллекционировала письма и редкие публикации, кого-либо компрометирующие — например, Уильяма Бекфорда и ему подобных. Затем у нее вконец испортился вкус. Она стала посылать своих поверенных, если можно их так назвать, для ведения переговоров в аукционные залы или к владельцам интересующих ее вещей.
— Значит, ни к вам, ни к вашему отцу мисс Бордеро не обращалась?
— Она была не настолько глупа. Правда, после его смерти меня посещали двое сомнительных типов, которые интересовались, не желаю ли я выкупить кое-какие бумаги. Я указал им на дверь, но сейчас понимаю, что поступил, по всей вероятности, неосмотрительно. Теперь Хуанита Бордеро умерла. Тину ни бумаги, ни сам Асперн не занимают. Ей нужны лишь деньги. После кончины сестры она вверила все дела агентам, которые должны как можно выгоднее распродать коллекцию вне зависимости от того, как это скажется на чувствах живых и добром имени усопших.
— И разумеется, один из агентов мисс Бордеро — Огастес Хауэлл?
Пен Браунинг кивнул.
— Я приехал в Лондон для переговоров с ним, но в своем письме он намекнул, что я опоздал: слишком многие свидетельства частной жизни моих родителей уже оказались в руках аукционистов и коллекционеров. Тина Бордеро не уполномочила его забирать вещи у новых владельцев. Теперь я могу получить письма и книги отца и матушки лишь на публичных торгах.
— Так значит, Хауэлл не стал ничего обсуждать с вами?
— В конце концов он согласился сделать мне «уступку», предложив «специальную цену» за бумаги, которые я должен был купить до начала аукциона, не видя их и, по сути, не представляя себе их содержания. Но и это теперь невозможно, поскольку Хауэлл мертв.
— Или хочет убедить нас в этом.
— Таковы обстоятельства, приведшие меня к вам, мистер Холмс. Все нити сосредоточены в руках Тины Бордеро, которая находится неведомо где и которой нет дела ни до чего, кроме наживы. Скоро бумаги с молотка разойдутся по всему миру.
Мой друг подошел к окну и поглядел вниз на экипажи, следовавшие по залитой весенним солнцем Бейкер-стрит.
— Мистер Браунинг, — проговорил он, оборачиваясь, — чтобы не тратить ваших денег и времени понапрасну, давайте сразу условимся: вы вернетесь в Венецию при первом же удобном случае.
— Мы последуем вашему совету, — тихо произнесла Фанни Браунинг, — и отправимся домой в ближайший понедельник.
— Превосходно. Чем быстрее, тем лучше. Если пожелаете, мы с моим коллегой очень скоро последуем за вами. Думаю, не позднее чем в конце следующей недели. Но, повторяю, вы непременно должны прибыть в Италию раньше нас. При первой же возможности мы ознакомимся с документами.
— Но как? — воскликнула леди. — Ведь они разошлись по рукам стольких людей сомнительной порядочности!
— Мадам, — холодно произнес Холмс, — если вас обвивает ядовитая кобра, бессмысленно разжимать кольца ее тела, защищаться от ее зубов и колоть ее ножом куда придется. Отсеките голову, и хватка опасной твари вскоре ослабнет. Голова напавшей на вас змеи — Каза Асперн. Именно туда и следует нанести удар, пока не поздно.
— Я прошу вас, мистер Холмс… — порывисто заговорил Пен Браунинг, — станьте на защиту репутации моих отца и матери. По прибытии в Лондон я попытался навести справки об этом Хауэлле. Рассказывали, что он похвалялся, будто нырял за сокровищами затонувших галеонов и был шейхом арабского племени в Марокко. Хауэлл — хвастун и, очевидно, лжец. Я не желаю, чтобы доброе имя моих родителей оказалось в руках такого человека или тех, кто будет продолжать его дело.
— Ваши чувства, бесспорно, заслуживают уважения, — кивнул мой друг. — Полагаю, случай с Хауэллом — то редкое исключение, когда о мертвом извинительно отзываться дурно. Он был совершенно беззастенчивым негодяем, хотя и весьма неглупым.
— Тогда, прошу вас, мистер Холмс, поезжайте в Венецию, в особняк Асперна, и разрушьте это гнездо лжи и клеветы. В отличие от вас я не обладаю навыками сыска, а они здесь необходимы.
— Принять меры следует прежде, чем место Хауэлла займет кто-то ему под стать, — сказал детектив умиротворяющим тоном. — Кому выпала такая честь?
Пен Браунинг смешался.
— Сейчас в особняке междуцарствие. По распоряжению Тины Бордеро он временно перешел на попечение Фиори, венецианского нотариуса. Что до бумаг, то хозяйка интересуется лишь их коммерческой ценностью. В конце концов, возлюбленной Асперна была не она сама, а ее сестра. До тех пор пока в дело не вмешается кто-либо еще и аукционные дома не откроют торги, мы сможем, я полагаю, вести переговоры с моим знакомым notaio [25]. Вероятно, я сумею убедить его, чтобы он позволил вам в качестве моих доверенных лиц взглянуть на документы Роберта Браунинга, якобы хранящиеся в секретере Асперна.
— А потом? — устало спросил мой друг.
— Мистер Холмс, любовь моих родителей друг к другу была сильным и благородным чувством, которое оказалось выше болезни и смерти. Она не должна становиться предметом досужих толков или торговли. Если нужно заплатить за то, чтобы спасти ее от осквернения, я готов.
— Позвольте мне сделать необходимые приготовления до завтрашнего полудня, — посмотрев на гостя долгим задумчивым взглядом, ответил детектив.
— Разумеется, мистер Холмс.
Пен Браунинг встал. Вслед за ним поднялся и мой друг. Посетитель пожал ему руку с сердечностью, которой я не мог ожидать от столь известного человека. Мистеру Браунингу, как и мне, было очевидно: никакая сила не помешает великому детективу выехать в Венецию — оставалось лишь купить билеты в спальный вагон континентального экспресса. Нам предстояло защитить память двух благородных людей, но дело было не только в этом. Ноздри Холмса уже трепетали в предвкушении того, что скоро вдохнут тот самый воздух, которым дышали лорд Байрон и Роберт Браунинг. И конечно же, моему другу не терпелось сразиться с противником-невидимкой — покойным Гасси Хауэллом.
Тем не менее все услышанное произвело на меня угнетающее впечатление, и, едва мы оказались одни, я откровенно заявил:
— Не нравится мне это дело, Холмс. Боюсь, мы здесь бессильны: когда бумаги разлетятся по свету, скандала будет не избежать. И в чем бы ни заключалась правда, мудрые обыватели всегда скажут: «Нет дыма без огня».
Холмс оторвался от вечернего выпуска газеты «Глоуб».
— Я повторю для вас, Ватсон: тот, кто хочет убить змею, должен отсечь ей голову. Это единственный верный путь, и я намерен по нему следовать.
Такой ответ не слишком меня успокоил.
Через несколько дней наш поезд уже мчался по мосту, соединяющему пустынные улицы Местре со сказочным островом в Венецианской лагуне. Едва мы ступили на платформу, из суматошной вокзальной толпы вынырнул Пен Браунинг. Избавив нас от внимания санитарных инспекторов, призванных бороться с эпидемиями лихорадки, он отрывисто подозвал носильщиков. Под его умелым руководством наш багаж был вскоре погружен на катер, а сами мы сели в гондолу.
От предложения разместиться в палаццо Реццонико мы отказались, выбрав отель «Даниэли». Как выразился Холмс, «в отношении клиента лучше сохранять независимое положение». Кроме того, художник и скульптор Пен Браунинг славился своим умением изображать женскую наготу, что, по слухам, нередко становилось причиной его разногласий с супругой. Американка Фанни Корнфорт получила пуританское воспитание и была приверженкой строгой морали. «Не стоит, — заметил Холмс, — становиться свидетелями семейных ссор, дабы не принимать в них ту или иную сторону».
Браунинги покинули Лондон на три дня раньше нас. Прибыв в Венецию, Пен не терял времени даром: он сразу же обратился к синьору Анджело Фиори, нотариусу, чья сестра Маргарита, по удачному совпадению, ухаживала за Робертом Браунингом-старшим. Фиори, в свою очередь, немедленно направил Тине Бордеро сообщение о том, что, по итальянским законам, необходимо произвести оценку всего имущества Асперна, прежде чем дело двинется дальше. В тот же день нотариус получил ответ. После смерти сестры Хуаниты нынешняя хозяйка дома и коллекции незамедлительно исполнила свое давнее желание покинуть город, который никогда не любила. Еще большую неприязнь она питала к Джеффри Асперну, хотя ни разу с ним не встречалась. Было очевидно, что помогать нам мисс Бордеро не намерена, однако против скорейшей оценки имущества она не возражала, поскольку неприятные воспоминания блекли в свете перспектив выгодной сделки.
Между тем наша гондола скользила вдоль кромки Большого канала, покачиваясь на волнах. Движение было оживленным из-за большого количества катеров. Мимо нас проплывали мраморные дворцы, солнце бросало на воду слепящие блики. Пен Браунинг рассказывал нам о своих последних переговорах с Тиной Бордеро. Несмотря на их бесплодность, Анджело Фиори обещал, что Холмс сможет посетить особняк Асперна в качестве оценщика и ознакомиться с оставшейся частью коллекции. Нотариус внушил владелице, что не следует выдавать за подлинники непроверенные бумаги, которые могут быть фальшивкой. Аргумент был железным, и она согласилась.
— Вам, мистер Холмс, — сказал Пен Браунинг, — по счастью, не приходилось иметь дело с сестрицами Бордеро. Эти дамы довели бы вас до полного отчаяния, выманив все ваши деньги и ничего не дав взамен. Они набивали цену, словно рыбные торговки, и норовили заманить покупателя всяческими «специальными предложениями», а если тот не попадался на удочку, пускали в ход лесть самого низкого пошиба. «Почтем за счастье вам услужить», — говорили они, но бедный клиент, уходя от них, испытывал что угодно, только не счастье. Сам же Асперн принадлежал к числу мужчин, в которых женщины, подобные Хуаните Бордеро, до беспамятства влюбляются, с тем чтобы вскоре запричитать: «Ах, как он ко мне жесток!» Асперн, смею заметить, и впрямь не жалел свою подругу.
Итак, единственным представителем Тины Бордеро оказался Анджело Фиори. Кроме него, переговоры мы ни с кем не вели. С его разрешения я и Холмс могли в любое удобное для нас время явиться в «палаццо Асперна» — к нашему недоумению, именно так гондольеры называли обветшалое жилище покойного английского поэта. Экономке, неотлучно находившейся в особняке, нотариус поручил подготовить для нас все необходимое и, конечно же, проследить за тем, чтобы мы ничего не украли. Однако вскоре всякие сомнения в нашей порядочности были рассеяны. При первой встрече Фиори признался мне, что проникся безоговорочным доверием к нам после того, как по просьбе Пена Браунинга за нас письменно поручился «синьор Лестрейд» из Скотленд-Ярда. Слава английской криминальной полиции распахнула перед нами двери дома, подобно заклинанию «Сезам, отворись!».
Теплый воздух венецианской весны освежало дуновение бриза с лагуны, колыхавшее кружевные занавески на окнах. Вечерами мы наслаждались прохладительными десертами и пили кофе в кафе «Флориан» на площади Святого Марка. Приятно было коротать сумерки в свете ламп под музыку и оживленный говор отдыхающей публики, слушать мягкий шорох шагов по мрамору и любоваться закатными отсветами, догорающими на низких куполах и мозаиках знаменитого храма.
В первое же утро нашего пребывания в Венеции гондольер повез нас по тихому и чистому каналу с узкими тротуарами вдоль берегов. Этот скромный водный путь, удаленный от излюбленных путешественниками маршрутов, воскресил в моем воображении образы Амстердама.
Лодка причалила возле дома, отделанного серой и розовой штукатуркой. С виду строению было лет двести. Вдоль широкого фасада, украшенного пилястрами и арками, тянулся балкон. Холмс дернул порыжевший шнур звонка. На зов явилась женщина в шали. Мы вошли в длинное пропыленное помещение и, следуя за нашей провожатой, поднялись по высокой каменной лестнице к парадным дверям в пустой и заброшенный зал. Картины давно потемнели, позолота на рамах утратила блеск, на гербовых щитах там и сям виднелись следы краски, нанесенной много десятилетий тому назад. Голые полы и стены производили впечатление столь угнетающее, что трудно было предположить, будто в доме хранятся ценности. И уж вовсе бессмысленным казалось наше стремление искать здесь разгадку тайны Огастеса Хауэлла — если только он сам не намеревался явиться сюда и ответить на наши вопросы.
«Нельзя не признать, — сказал я Холмсу еще в поезде, — что он уже несколько раз объявлял себя мертвым, но убитым — ни разу». Однако мой друг, ничего не ответив, продолжил чтение своего «бедекера» [26].
Теперь же мы поднялись в верхние комнаты особняка Асперна, и из окна нам открылся вид на щербатые черепичные крыши и лагуну, сияющую вдалеке. Внизу зеленел сад, а точнее, маленький заросший пятачок земли, спрятанный от мира за каменными стенами. Неужели еще год назад в этом заброшенном «палаццо» жили люди? До чего убогой была жизнь сестер Бордеро!
Встретившая нас женщина достала связку ключей и отперла дверь. Мы вошли в следующую комнату, такую же пыльную, с плетеными стульями и тростниковыми циновками на полу, выложенном красной плиткой. Из окон, обращенных на север, лился неяркий свет. У дальней стены стояло внушительное, размером с большой гардероб, мрачное бюро красного дерева. Судя по украшавшим его бронзовым орлам и прочим символам имперского величия, оно помнило эпоху Наполеона Бонапарта. Очевидно, это и был знаменитый асперновский секретер — «хранитель скучных тайн душевного упадка», как назвал его поэт в известном стихотворении «Старость и юность». Казалось, нельзя найти лучшего вместилища для свидетельств запретных страстей и тайных преступлений, чем эти ряды запертых ящичков со шкафчиками по обеим сторонам. Посередине, на письменном столе, лежал один-единственный ключ для всех замков.
— Пожалуйста, — сказала наша провожатая, указывая нам на него. — Садитесь сюда, а я буду рядом, если вдруг понадоблюсь. Этот ключ открывает все.
Я удивился тому, что женщина заговорила с нами на хорошем английском языке, хотя и с акцентом.
— Некоторое время я была переводчиком в больнице, — с улыбкой пояснила она. — Анджело Фиори — мой двоюродный брат. Бумаги Джеффри Асперна, которые здесь хранятся, несколько раз едва не потерялись. Перед смертью старшая мисс Бордеро прятала их между матрацами и даже позвала моего кузена сделать приписку к ее завещанию: наверное, она немного стыдилась этих писем и потому пожелала, чтобы их похоронили вместе с ней. Но этого не выполнили. В последний вечер перед своим отъездом младшая мисс Бордеро сожгла несколько листков в кухонном очаге. Остальное здесь, в ящиках. Еще есть редкие книги: они в боковых шкафчиках и на полках.
— Большое спасибо, синьора, — любезно проговорил Холмс с легким поклоном. — Полагаю, вам доводилось встречаться с мистером Хауэллом?
Экономка улыбнулась, но в глазах ее мелькнуло беспокойство.
— Он был здесь более месяца назад, а затем вернулся в Англию. Больше я его не видела.
— Он не присылал вестей о себе?
— Нет, не думаю.
Женщина вышла, и через открытые двери мы услышали, как она хлопочет в соседней комнате.
Несмотря на ранний зной венецианской весны, Холмс по-прежнему был в строгом костюме. Достав из жилетного кармана мощную лупу, он положил ее перед собой на стол и приступил к работе, начав поочередно открывать ящики нижнего яруса. В первом не оказалось ничего, кроме пыли и древесной стружки. Из второго удалось извлечь лишь несколько клочков бумаги с записями вполне заурядного содержания. Наконец Холмс выдвинул нижний и самый глубокий из ящиков, а через секунду, вполголоса издав радостное восклицание, вытащил поношенный оливково-зеленый портфельчик. Очевидно, с него в ближайшие несколько месяцев стирали пыль, — вероятно, это делала Тина Бордеро. На дне ящика оказалась коробка с письмами, обитая кожей, на которой золотыми буквами было вытиснено имя Асперна. Открыв две защелки, Холмс достал содержимое. Затем он отпер боковые дверцы. Здесь на полках теснились тома — вовсе не читанные или в крайнем случае слегка потертые.
Я бы не удивился, обнаружив в секретере многочисленные тетради и папки для бумаг. Но вовсе не ожидал увидеть здесь столько книг. Большая часть их была напечатана сравнительно недавно и хранилась во множестве экземпляров, как на издательском складе. Имелись тут, конечно, и редкости: копии из первых тиражей, часто подписанные авторами. Я заметил сборник стихотворений Данте Россетти, напечатанный незадолго до смерти поэта, в 1881 году. Помимо его сочинений, основную часть собрания составляли творения Джона Рёскина, Уильяма Морриса и Алджернона Чарльза Суинберна. Также я увидел три раритетных издания стихотворений Роберта Браунинга с дарственными надписями, две из которых были адресованы Асперну и датировались пятидесятыми годами. Третью же книгу, «Золотые волосы», вышедшую в свет уже после смерти хозяина секретера, автор подарил Хуаните Бордеро. Так ли уж сильна была его неприязнь к этой женщине?
Холмс открыл тисненную золотом кожаную коробку для писем. Здесь, если верить нашему клиенту, хранились несметные литературные сокровища, включающие послания, которые Асперн получал от лорда Байрона, Роберта Браунинга и Уильяма Бекфорда. Корреспонденцию кто-то аккуратно разобрал, причем сделал это недавно, поскольку папки казались значительно новее содержимого. Письма, что мне удалось разглядеть, потускнели от времени, но буквы, выведенные черными чернилами, были четче и ярче, чем я ожидал. Холмс встал, подошел к окну и поднес к свету один из листков.
— Похоже, к железо-галловым чернилам, какими обыкновенно пользовались в двадцатые годы, добавили индиго, чтобы усилить цвет. Если так, то документ, скорее всего, подлинный и действительно относится к году, который указан на водяном знаке.
— О чем здесь говорится?
— Это исправленная страница рукописи шестой песни «Дон Жуана». Джон Пирпонт Морган отдал бы небольшое состояние за право хранить ее в своей библиотеке. Судя по реестру, эти строки собственноручно написаны самим Байроном. Обратите внимание на дату вверху листа: тысяча восемьсот двадцать второй год. Первая двойка выведена так, что ее легко перепутать с девяткой, правда?
— Да, в самом деле.
— Изготовитель подделки сделал бы обе цифры похожими как две капли воды. Но в жизни никто дважды не напишет одинаково одно и то же слово, даже собственное имя. Посему искусные фальшивки порой оказываются слишком последовательными и совершенными, словно буквы вырисовывали, а не просто писали. Взгляните на первые байроновские строки:
Приливы есть во всех делах людских,
И те, кто их использует умело,
Преуспевают в замыслах своих… [27]
Заглавная буква П в обоих случаях написана с петлями на двух концах поперечной черты. В этом ощущается не совсем естественная старательность. Можно заподозрить подделку. Но в последующих строфах перо Байрона уже бежит свободнее: петли исчезают, появляются добавочные соединительные «хвостики».
— Отличить подлинник от копии так просто?
— Ну что вы, дружище! Байрона подделывают чаще, нежели любого другого английского поэта. Мир жаждет новых открытий, и, пользуясь этим, Шультес-Янг в тысяча восемьсот семьдесят втором году явил публике две связки байроновских писем, якобы принадлежавших его, Янга, тетушкам. Это был очевидный обман. Часть бумаг мошенник вовсе не пожелал представить экспертам для изучения, а девятнадцать экземпляров оказались работой некоего де Гиблера, который выдавал себя за родного сына поэта. В свое время его легко разоблачили, поскольку Байрон умер за десять лет до даты на водяном знаке листа.
Аферы высшего класса были для Холмса родной стихией. Он снова сел за стол и взял увеличительное стекло.
— Когда документ изучается под лупой, становятся видны почти не заметные невооруженному глазу разрывы линии в тех местах, где перо поднимали от бумаги, — пояснил он. — В подлиннике подобных пробелов сравнительно мало, в подделке их обычно больше, ибо мошенник, особенно не слишком опытный, довольно часто останавливается, сравнивая свою работу с оригиналом. Иногда «бреши» пытаются «залатать», чтобы создать ощущение непрерывности письма.
— По этим признакам и выявляется фальшивка?
— По этим, а также по многим другим. Разумеется, искусный копировщик должен знать доказательства подлинности и постараться их предоставить. Если он подделывает рукописи одного и того же автора на протяжении долгого времени, почерк будет выглядеть уверенным, и для выявления обмана потребуются другие методы. Иногда преступника удается разоблачить, установив время изготовления чернил и бумаги. Думаю, в данном случае мы можем полагать, что это подлинная рукопись Байрона, — заключил Холмс, затем внимательно изучил какое-то письмо и с усмешкой процитировал две строки из «Дон Жуана»: — «Она писала это billet doux [28]на листике с каемкой золотою…» [29]Здесь можно не сомневаться: перед нами известная подделка почти восьмидесятилетней давности.
Через плечо Холмса я взглянул на узкий желтоватый пергамент, исписанный порыжелыми чернилами. Первые слова: «Еще раз, дражайшая моя…» — с виду были очень похожи на начальные строки байроновской рукописи «Дон Жуана».
Мой друг улыбнулся.
— Это послание, которое поэт якобы написал леди Каролине Лэм, в действительности сочинила она сама в тысяча восемьсот тринадцатом году с целью завладеть его портретом. История хорошо известна. Леди Каролина до помрачения рассудка влюбилась в Байрона — человека, которого называла дурным, безумным и даже опасным. Подделав его почерк, она написала письмо, в котором он будто бы поручает ей пойти к издателю Джону Мюррею и забрать знаменитую ньюстедскую миниатюру. Леди Каролина получила портрет поэта, а поэт получил у Мюррея «свою» записку.
Под фальшивой подписью поэт вывел: «Бумага составлена от моего имени леди Каролиной Лэм» — и поставил свой подлинный автограф.
— Обе подписи очень похожи.
— По тем временам леди Каролина могла стать хорошей копиисткой. И все же посмотрите еще раз на горизонтальные черточки: у Байрона они нависают над двумя соседними буквами, а его поклонница заводит их еще дальше. Преувеличивать особенности оригинала — грубая ошибка, как и смена стиля письма. Взгляните: вертикальную палочку «т» леди Каролина дважды усиливает чертой, идущей снизу вверх. Человек, желающий украсить букву, сделав ее пожирнее, никогда так не поступит. Скорее, он просто повторит уже имеющуюся черту, направленную сверху вниз. К тому же восходящие линии в естественном письме тоньше, чем нисходящие. Если нажим пера всюду одинаков — это один из признаков факсимильной копии или подделки. Иными словами, как бы ни были похожи два автографа, в письме леди Каролины слишком много подозрительного, чтобы ввести в заблуждение эксперта.
— Как же такой документ мог попасть к Джеффри Асперну?
— Надо полагать, ему отдал его сам Байрон. Перед тем как навсегда покинуть Италию и отправиться в Грецию, его светлость раздал друзьям некоторые памятные вещи.
Асперна считали обладателем богатейшей коллекции байроновских писем, однако многие из них оказались подделкой. Среди прочего мы нашли еще одну работу леди Каролины Лэм, на сей раз печатную, — стихотворение, которое она опубликовала в 1819 году, выдав его за новую песнь «Дон Жуана». Холмс вслух зачитал первую строку:
— «От славы я устал, постыла мне она…» Боже праведный, Ватсон! Этот лепет даже отдаленно не напоминает Байрона!
Внезапно мой друг замолчал и, отложив в сторону творение леди Каролины, принялся перебирать неровную стопку бумаг, скрепленных вместе. Несмотря на сосредоточенное выражение его лица, можно было заметить, как он взволнован.
— Ах вот же она! Это, очевидно, и есть поэма о путешествии Дон Жуана в Соединенные Штаты Америки! Говорят, будто Байрон мечтал быть послом в Новом Свете задолго до решения примкнуть к освободительной борьбе Греции против турок. С кем, как не с американским поэтом Джеффри Асперном, он мог поделиться таким намерением!
Холмс пробежал глазами по хрупкому листку, исписанному поблекшими чернилами, и передал его мне. Я принялся читать, благоговейно замирая при мысли о том, что держу драгоценность, некогда побывавшую в руках величайшего из романтиков, и мне довелось попасть в число тех немногих, кто к ней прикасался.
Равенна, 25 апреля 1821 года
Мой дорогой Асперн!
Вы с Мюрреем хотите, чтобы я написал поэму в духе эпических песен. Мое отношение к подобным подражаниям Вам известно. Однако что Вы скажете о путешествии моего героя на Вашу родину? «Дон Жуан в Новом Свете» — каково? Если я чем-либо выдам свое невежество по части обычаев Вашей родной Вирджинии, прошу Вас беспощаднейшим образом искоренить мою оплошность. Лишь при таком условии я отправляю нашего знакомца по стопам Томаса Джефферсона.
В Вирджинию наш Дон Жуан приплыл—
В край пламенных рабынь и знойных нравов
(Страшащий Боба Саути, но, право,
Страшней его жены сварливый пыл).
Жуан запутался в сетях Венеры,
Чьи перси в бусы лишь облачены.,
А ножки так быстры и так стройны—
На зависть нашим лондонским гетерам.
Славь, муза, Кольриджа и реку Алабаму!
(А Саути не славь: довольно уж с него.)
Везде, от Бостона до вилл Нью-Орлеана,
Жуан срывал плоды таланта своего.
Сенаторши и черные служанки
Вошли в его амурный каталог.
Властитель Золотого Рога, ты б не смог
Столь многим женщинам внушить страстей
столь жарких!
Как Вы относитесь к идее встретиться ближайшим летом? Может, навестите нас вместе с мисс Б. или хотя бы один?
Искренне и навсегда Ваш друг,
Я перечитал страницу и задумался: неужели в лежавшей перед нами папке и вправду была рукопись «американского эпоса», созданного Байроном еще в Италии и отправленного Асперну для уточнения описаний Вирджинии и Джорджии? Кто мог подделать такой документ? Хауэлл — вряд ли! Разве только сам Асперн!
Но на первый взгляд ничто в этих строках не выдавало фальши. Почерк казался точь-в-точь байроновским — не чета робкому рукоделию леди Лэм. Аутентичность бумаги сомнений не вызывала. Черные чернила, как положено, «заржавели». И, что важнее всего, в письме, адресованном Байроном Асперну и найденном среди корреспонденции последнего, мы прочли две строфы поэмы. Посему вопрос о происхождении рукописи звучал бы совершенно бессмысленно. Слог, если я хоть немного разбирался в поэзии, являл собой ярчайший пример байроновского стиля.
Раз так, то, может быть, папка, содержимое которой сейчас изучал Холмс, действительно хранила одну из величайших литературных тайн нашего времени? Вероятно, поэт, живописуя амурные приключения своего пылкого героя в Севилье, Кадисе или турецких гаремах, уже видел вдали Вашингтон и Делавэр?
Я взглянул на Холмса.
— Думаете, это оригинал?
— Ни на секунду не допускаю подобной мысли.
Его ответ поверг меня в разочарование, какое, должно быть, испытывает любой простак, обманутый мошенником. Я всем сердцем желал, чтобы это письмо было начертано рукой самого Байрона. Теперь же я ежился под холодным душем скептицизма. Увы, радостное волнение на лице моего друга было вызвано не открытием литературной жемчужины, а предвкушением разоблачения ловкого мошенника. Я понял это слишком поздно и все же попытался возразить:
— Написано очень убедительно.
— У Огастеса Хауэлла особый дар убеждения. Ему-то он и обязан своим успехом. Найденный в папке с байроновскими письмами к Асперну, этот листок произведет фурор в аукционных залах Лондона и Нью-Йорка.
— Много ли здесь страниц?
— Достаточно для большого костра.
Мой душевный подъем уступил место беспокойству.
— Но бумага действительно была изготовлена в тысяча восемьсот двадцать первом году?
— Почти наверняка.
— А чернила порыжели от времени?
— Как будто бы да.
— Строки написаны байроновской рукой?
— Почерк настолько похож, что нетрудно обмануться.
— Бумага, чернила, почерк… Рукопись семидесятилетней давности, а тогда Хауэлл еще не родился!
— Все верно. И тем не менее это подделка.
Холмс взял у меня документ и снова подошел к окну. Держа листок горизонтально, он слегка его наклонил, улавливая свет, и принялся изучать поверхность через лупу. В этот момент самоуверенность великого детектива не могла не вызвать у меня некоторого раздражения.
Не знаю, что ему удалось обнаружить, но он внезапно отложил письмо в сторону и стал вытаскивать из секретера ящики. За несколько минут мы, казалось, вынули оттуда все, что хоть сколько-нибудь заслуживало внимания, оставив лишь сор. Мой друг принялся искать полости, в которых могло бы поместиться потайное отделение. Он переворачивал каждый ящик вверх дном и тряс, пока не начинала сыпаться древесная труха. Не удовольствовавшись этим, детектив обшарил опустошенные нами гнезда громадного бюро и наконец облегченно вздохнул, отыскав маленькую полоску бумаги. Я сразу же признал в ней квитанцию лондонского торговца скобяными изделиями.
— Такие мелочи чрезвычайно важны для нас, Ватсон.
Судя по печати, квитанция на сумму в три шиллинга и восемь пенсов была получена на улице Хай-Холборн в лавке «Кинглейк и сын» 12 ноября 1888 года. Зачем хранить столь пустячный документ так долго, да еще и с такими предосторожностями? Может быть, его вовсе не прятали, а просто он выпал из ящика и остался валяться в гнезде? На этот вопрос мог ответить лишь Огастес Хауэлл, который, как все считали, был уже мертв. Вдруг я заметил на обороте листка надпись: «1 унция галла, 1 унция гуммиарабика, 1 унция сульфата железа для окисления, 6 семян гвоздики, 60 зерен индиго. Добавить 30 унций кипятку, настаивать 12 часов».
— Как же нам в этом разобраться?
— Тут все ясно, Ватсон. Это рецепт приготовления железо-галловых чернил, которыми давно никто не пользуется. На смену им пришли кампешевые, а затем сине-черные. Для окончательных выводов осталось лишь дождаться ответа на мою телеграмму из Сент-Панкраса, с фабрики по производству вакуумных очистителей.
— Но, Холмс, вы ведь не посылали туда телеграммы!
— И это чудовищная недальновидность с моей стороны! — нетерпеливо воскликнул он. — Мне следовало бы знать, чем все обернется! В ход пущены обыкновенные старые фокусы! Мы пойдем в агентство Томаса Кука и отправим запрос. А пока, если вас не затруднит, возьмите так называемое письмо Байрона, с которым вы уже ознакомились, и поднесите его к окну так, чтобы свет под углом падал на оборотную сторону. Скажите мне, что вы видите.
Я стал у подоконника и принялся вертеть листок, рассматривая его через лупу.
— Кое-где бумага помялась, в чем нет ничего удивительного — прошло целых семьдесят лет!
— Смотрите на рельеф.
— Он почти незаметен.
— И все же он есть.
— Действительно, я вижу подобие клетки из вертикальных и горизонтальных линий.
— Похоже, не правда ли, что лист лежал на решетке? И это вам ни о чем не говорит?
— Боюсь, что нет.
— Тогда поспешим в контору господ Куков. Чем быстрее мы там окажемся, тем скорее получим ответ.
Телеграмма из Сент-Панкраса пришла в тот же вечер. Фабрика, изготовлявшая вакуумные очистители для ковров, открылась всего годом или двумя ранее, хотя само устройство было не ново. Холмс, в очередной раз обратившись к неисчерпаемому источнику фактов, хранящихся в его памяти, сообщил мне, что автор изобретения получил патент в Америке еще в 1869 году. Первоначально пользоваться машинкой должны были два человека: один раздувает мехи для создания вакуума, а другой держит длинный шланг, всасывающий пыль. Мой друг, всегда интересовавшийся подобными новомодными приспособлениями, даже процитировал мне статью из журнала «Хардвермен» [30]за прошлый май. В ней говорилось, что благодаря замене мехов на мотор агрегат станет работать чище. Я же только слышал об этих вакуумных диковинах, но ни разу не видел ни одной из них.
Когда мы уселись за столик в кафе «Флориан» на площади Святого Марка, Холмс наконец-то приоткрыл завесу тайны:
— Легкие отпечатки, которые вы увидели на бумаге, Ватсон, оставлены проволочной сеткой.
— Вполне возможно. Но при чем здесь вакуумный очиститель ковров?
— Чтобы рисунок получился настолько четким, лист должны были закрепить на сетке при помощи скрепок и гвоздиков и удерживать так достаточно длительное время. К тому же включенный вакуумный очиститель сам по себе притягивал листок к решетчатой поверхности. Металл легко отпечатывается на мягкой и рыхлой тряпичной бумаге.
— Разве подобные манипуляции могут ее состарить?
— После такой процедуры как будто выцветают чернила.
— Неужели вакуум их видоизменяет?
— Вспомните рецептуру, записанную на обратной стороне квитанции от скобаря, — терпеливо подсказал Холмс. — Это рецепт для приготовления небольшого количества железо-галловых чернил, которыми в двадцатые годы пользовались Джеффри Асперн, лорд Байрон и их современники. Теперь такими давно не пишут. Посудите сами, кому и зачем могли понадобиться железо-галловые чернила в ноябре тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года?
— Но для того чтобы узнать, как они приготовляются, вам не нужно было отправлять телеграмму на фабрику вакуумных очистителей!
— Разумеется, нет, мой дорогой друг, — удивленно ответил Холмс. — Вооружившись мехами, можно создать вакуум и без помощи очистительного устройства, однако с большим трудом. Телеграмму я послал для того, чтобы узнать у этих благодетелей рода человеческого (преимущественно женской его половины), не было ли одно из чудодейственных изделий продано мистеру Хауэллу, проживающему в западной части центрального Лондона, на Саутгемптон-роу, девяносто четыре.
— И какой ответ вы получили?
— Отрицательный.
— Выходит, вы ошибались!
— Не совсем. Они доставили устройство по такому адресу. Только покупатель назвался мистером Асперном. — Щелкнув пальцами, Холмс подозвал официанта и заказал еще кофе. — Тряпичная бумага, на какой писал Байрон, плохо впитывает чернила. А затем они начинают медленно «ржаветь» от окисления. Если же буквы остались черными и яркими, рукопись не выглядит старой.
— Это ясно любому школьнику.
— Секунду терпения! Мягкая бумага с еще не просохшими строчками осторожно и терпеливо обрабатывалась с обратной стороны вакуумным очистителем: это ускоряло впитывание чернил, а значит, и их старение. Таким образом, можно, я полагаю, заключить, что Байрон не имел намерения отправлять Дон Жуана «по стопам Томаса Джефферсона». Зато мы с вами проделали небезуспешный путь по следам сестер Бордеро и их мошенника-поверенного.
Следующим утром мы получили от Лестрейда письмо, а точнее, газетную вырезку. Инспектор без пояснений вложил в конверт объявление из спортивного еженедельника «Виннинг пост», выпускаемого издательской конторой Роберта Стэндиша Сивера, что на Пэлл-Мэлл:
С прискорбием сообщаем читателям о кончине известного ловкача и обманщика Огастеса (или Гасси, как многие его именовали) Хауэлла, чьи бренные останки были погребены третьего дня на Бромптонском кладбище. На похоронах присутствовали кредиторы покойного, а также красавицы с улицы Пикадилли, надевшие по такому случаю траурные чулки из черного шелка. Поэт А. К. С. написал на смерть Хауэлла элегию, быстро распространившуюся в светских кругах:
Грязнейшая из душ
Уж не смердит средь нас.
Но ад во веки не был
Зловонней, чем сейчас.
В пятницу после скачек, в шесть часов пополудни, первейшие лондонские мошенники и шулеры соберутся в баре «Сент-Лежер», чтобы почтить намять усопшего.
— На сей раз он и вправду мертв, — сказал я.
— Жаль, — холодно произнес Холмс. — Он мог бы сперва оказать нам услугу, а уж затем умирать столько раз, сколько ему вздумается.
Примерно час спустя мы приступили к изучению последней связки документов, датированных 1845–1855 годами. Нам попалось несколько стихотворений, написанных от руки на осьмушках бумаги. Взяв один из листков, я пригляделся к аккуратному почерку, лишенному байроновских петель и завитков, и понял, что передо мной драматический монолог. Это была речь фанатика-реформатора Савонаролы, обращенная к городскому совету, который приговорил его к смерти.
ВОЗЗВАНИЕ САВОНАРОЛЫ К СИНЬОРИИ
24 мая 1598 года
Приму я чашу благодарно,
И прежде чем в мученьях страшных
Навеки голос мой затихнет,
Пусть прогремит он на прощанье
Для флорентийцев, что так жаждут
Отпраздновать мою кончину…
— Роберт Браунинг! — восторженно воскликнул я. — Это может быть только он. Я не знаток поэзии, но готов поручиться, что монолог написан им. Нам посчастливилось найти одно из тех стихотворений, которые не вошли в сборник «Мужчины и женщины» редакции тысяча восемьсот пятьдесят пятого года.
— Вы, как всегда, правы, дорогой Ватсон, — вяло ответил Холмс.
— В том, что это творение Роберта Браунинга?
— Нет! В том, что вы не знаток поэзии.
Уязвленный колким замечанием своего друга, я все же продолжил чтение, и с каждой новой строкой моя надежда крепла.
Синьоры! Если б человекам
Был свыше знак, уверивший бы всех
В блаженстве праведных по смерти,
Любой из вас и за любую цену
Мое бы занял место на костре.
Но эта боль дарована лишь мне.
Пусть плоть моя сгорит во славу Божью!
— Тон и стиль…
— К черту тон и стиль! Их может подделать любой шарлатан, — проворчал Холмс, рассматривая ровные аккуратные строчки через лупу.
— Допустим, — упорствовал я. — А каково письмо?
— Неплохо, — нехотя признал он. — Это работа мастера, который изучал и копировал рукописи автора до тех пор, пока не научился воспроизводить его почерк быстро и свободно, добиваясь немалой убедительности. Посмотрите на эти хвостики, соединяющие конец одного слова с началом другого: легкие штрихи протянулись от «был» к «свыше» и от «любой» к «из», словно перо скользило, почти не отрываясь от бумаги. Подобные мелочи встречаются в хорошо подделанных документах.
— Равно как и в подлинных.
— Поверьте, это фальшивка.
— А что вы скажете о чернилах?
— Они, разумеется, уже не железо-галловые, а обыкновенные сине-черные с примесью индиго. Такие гораздо менее подвержены выцветанию.
— То есть и почерк, и чернила выглядят вполне правдоподобно?
— Одну минуту.
Перебрав стопку осьмушек, Холмс отложил в сторону несколько писем, причем гораздо менее пожелтевших, чем байроновские. Написаны они были, очевидно, той же рукой, что и монолог Савонаролы. Первый из этих документов оказался посланием Роберта Браунинга к Элизабет Барретт, вернее, если судить по зачеркиваниям и вставке, его черновиком. Оно относилось к 1846 году, когда поэт тайно ухаживал за своей возлюбленной, которая была тяжело больна и жила в заточении в доме отца. Будущие супруги каждый день писали друг другу. Не стану раскрывать секреты их корреспонденции. Скажу лишь, что письма Браунинга были пронизаны глубочайшим почтением к «дорогой Ба», в свою очередь призывавшей на него благословение Небес. Мне показалась чудовищной самая мысль о том, что свидетельства столь глубоких и сокровенных чувств можно распродать с молотка, дабы утолить жадность торговцев и потешить любопытную толпу. Кто знает, сколько реликвий выставлено с подобной целью на всеобщее обозрение в аукционных залах всего мира?
Холмс обернулся ко мне.
— Думаю, нам понадобится мистер Браунинг-младший. Я пошлю за ним.
Исполнив это намерение и уведомив кузину Анджело Фиори о предстоящем появлении гостя, мы стали ждать. Не желая терять времени даром, сыщик взял миниатюрный черный чемоданчик, не более восемнадцати дюймов в длину и десяти в ширину, открыл его и достал блестящие медные составные части микроскопа Наше — мощнейшего прибора, который можно было собрать и вновь разобрать в считаные секунды. Корпус легко отсоединялся от трубчатой ножки штатива с фрезерованной головкой и аккуратно складывался в футляр.
Из того же чемоданчика мой друг извлек металлический угольник. То, что за этим последовало, я сотни раз наблюдал в нашей гостиной на Бейкер-стрит. Худощавая и долговязая фигура великого детектива склонилась над глазком, за которым открывался чудесный микроскопический мир. Один за другим Шерлок Холмс подносил к объективу листки, исписанные твердым аккуратным почерком Роберта Браунинга, а затем прикладывал свой чертежный инструмент к нижнему левому углу каждого из них. Сперва Холмс хмурился, но наконец его лицо прояснилось. Изучив последний документ, он выпрямился и повернулся на стуле.
— Кажется, Ватсон, этот мошенник у нас в руках. Вытряхните все ящики, опустошите все полки: думаю, сейчас мы отыщем то, чего нам недостает.
Я принялся целыми стопками вытаскивать из секретера книги и складывать их на стол. Холмс тем временем брал каждый томик в руки, раскрывал его и поочередно сопоставлял отобранные осьмушки с внутренней стороной переплетной крышки. Кто-то отрезал форзацы и использовал их в качестве писчей бумаги. Мог ли это быть сам Роберт Браунинг? Отложив рукописи в сторону, Холмс принялся тщательнейшим образом рассматривать через увеличительное стекло сами книги, открывая их наугад. Среди изученных им раритетов я заметил одно из первых изданий «Смерти Артура» лорда Теннисона в редакции 1842 года, «Сонеты» миссис Браунинг, опубликованные в 1847-м, и ее же «Беглого раба» 1849 года. Были здесь и сочинения Роберта Браунинга — «Клеон», «Статуя и бюст», напечатанные в 1855 году, — и «Сэр Галахад» Уильяма Морриса, и «Сестра Елена» Данте Габриэля Россетти, вышедшие в свет в 1857-м. Внимание моего друга привлекли лишь несколько книг, остальные он едва удостоил взглядом.
Холмс не мог оторваться от коллекции редких изданий, время от времени издавая радостные возгласы человека, нашедшего подтверждение собственной правоте. Тем временем в палаццо Асперна прибыл Пен Браунинг. Он вошел в кабинет и с некоторым удивлением посмотрел на сверкающий стальными деталями разборный микроскоп Наше. Детектив развернулся в кресле, однако не встал, чтобы поприветствовать именитого клиента.
— Мистер Браунинг! Пожалуйста, садитесь. — Он указал на один из плетеных стульев. — Начну с того, что вы знали и раньше: ваше доброе имя и репутация ваших родителей в большой опасности, поскольку тайны их частной жизни каким-то образом оказались в руках содержателей аукционных домов по всему миру. Но бояться шантажа и вымогательства вам, полагаю, более не следует.
Впервые со дня нашего знакомства мы увидели на лице Пена Браунинга улыбку.
— Если это правда, мистер Холмс, я ваш должник.
— Истинная правда. Однако сперва позвольте задать вам несколько вопросов.
— Охотно на них отвечу.
— Очень хорошо. Вы, наверное, немногое сможете сказать о сонетах, написанных вашей матушкой в тысяча восемьсот сорок седьмом году, еще до вашего рождения?
— Как мне известно, отец всегда сомневался в том, что эти стихи стоит печатать. Даже после тысяча восемьсот пятидесятого года, когда они все-таки были опубликованы, он продолжал говорить: «Не пристало бросать свое сердце на поклев галкам». Точно так же он ответил на предложение о посмертном издании их с матушкой любовной переписки.
— Очень интересно. Теперь я должен спросить вас о чрезвычайно важной вещи. Прошу как следует поразмыслить над ответом.
— Непременно.
— Когда ваш отец заканчивал переписывать стихотворение набело, присыпал ли он непросохшие чернила песком на старомодный манер или же пользовался промокательной бумагой, как делают многие в последние тридцать или сорок лет?
Вопрос, судя по всему, удивил Пена Браунинга, но с ответом он не затруднился:
— Ни то ни другое. Мой дед служил в Банке Англии и посыпал страницы песком, который затем стряхивал. Его медная песочница хранилась в нашем флорентийском доме, и я с ней играл. Никак иначе она не применялась.
— А промокательная бумага?
— Ребенком я нередко наблюдал, как отец начисто переписывает свои работы. Промокашкой он не пользовался, поскольку боялся, что из-за нее на листе получится клякса и придется начинать все сызнова. По-моему, среди его письменных принадлежностей никогда не было промокательной бумаги. Он говорил, что поэт должен, подобно средневековому каллиграфу, выставлять свои рукописи сохнуть на солнце. Благо в Италии солнца достаточно.
Холмс протянул Пену Браунингу монолог Савонаролы.
— Посмотрите, пожалуйста, на этот документ, датированный тысяча восемьсот пятьдесят пятым годом. Он написан вашим отцом?
— Почерк, кажется, его. И само стихотворение, вероятно, тоже, хотя я такого и не припоминаю.
— Взгляните внимательно на последние строчки и скажите, что вы видите?
— Ничего особенного. Только, пожалуй, они бледнее остальных. В чистовой копии отец такого не допустил бы.
— Неужели?
— Каллиграфическое исполнение рукописи было для него очень важно. Он считал, что произведение искусства должно быть прекрасно во всех отношениях, и потому переписывал стихи скрупулезно.
— Но автор этого документа не проявил большого старания, не правда ли? Тем более ваш отец, как вы говорите, не пользовался промокательной бумагой, а здесь это очевидно. Первые строки успели высохнуть и потемнеть, однако последние стали бледнее, когда рыхлая бумага вобрала в себя часть чернил.
— И это все?
— Нет, мистер Браунинг, это далеко не все. Под микроскопом можно увидеть, что от нажима промокательным листом очертания букв в последних строках стали перистыми. Мне даже удалось различить налипшие белые ворсинки.
Лицо Пена Браунинга несколько помрачнело.
— Я рассказал вам то, что помню, мистер Холмс, но не готов поклясться, будто отец ни разу в жизни не брал в руки промокашки. К тому же это, возможно, не чистовая копия.
— Верно, мистер Браунинг. Однако стихотворение, напоминаю, датировано тысяча восемьсот пятьдесят пятым годом. Забавно, не правда ли, что производство промокательной бумаги для продажи началось лишь в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году, причем в Соединенных Штатах? Кроме того, до тысяча восемьсот шестидесятого ее изготовляли из розового волокна, и только потом она стала белой.
— И это все, что вы хотели мне сообщить?
— Нет же, — ответил Холмс немного нетерпеливо. — Я не назвал бы форму бумажного листа, на котором написано это произведение, идеально прямоугольной. Этим грешит большинство рукописей, лежащих на этом столе. Возьмите мой угольник и проверьте сами: края многих листков расходятся с его ребром. А некоторые из них еще и слишком узки для осьмушки. Довольно нелегко сделать линию отреза идеально ровной, если отделяешь форзац от переплета у самого корешка.
На мягко очерченном лице Пена Браунинга выразилось недоумение.
— Я вас не понимаю, мистер Холмс.
— Эти страницы, вероятно, с полгода назад были вырезаны из томов, которые вы видите на столе. Пока вы были в пути, я сопоставил большинство листков с узкими полосками бумаги, торчащими из переплетов книг. Мошенник полагал, будто у него будет достаточно времени, чтобы вернуться сюда и уничтожить улики. Но смерть застала беднягу врасплох.
— С какой стати моему отцу вздумалось в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году писать стихотворение на форзаце, вырванном из…
— Из его собственной поэмы «Клеон» того же года издания?
— Да.
— Он ничего подобного не делал. Сама книга поддельная. Как все эти тома и дарственные надписи на них.
— Думаю, Холмс, вам следует объясниться, — вмешался я. — С чего вы это взяли? «Клеон» — известное произведение Роберта Браунинга, вошедшее в сборник «Мужчины и женщины».
— Что бы ни значилось на титульном листе, — сказал Шерлок Холмс, — это издание не могло появиться в тысяча восемьсот пятьдесят пятом, более того, тысяча восемьсот шестьдесят пятый, тысяча восемьсот семьдесят пятый и, пожалуй, тысяча восемьсот восемьдесят пятый годы также исключаются. Это было физически неосуществимо. Будьте добры взглянуть в микроскоп. Если сможете, мистер Браунинг, не обращайте внимания на печать. Смотрите только на саму бумагу. Что вы замечаете?
Мой друг бесцеремонно выдернул страницу из «ранней» копии «Клеона», расположил ее под объективом своего прибора, настроил линзу и уступил клиенту место за столом.
— Под увеличительным стеклом на ней видно много пятнышек. Вот и все, — пробормотал тот.
— Сосредоточьтесь, пожалуйста, на бледно-желтых отметинах. Некоторыми пока можно пренебречь, но есть пара особо примечательных. Они напоминают тонкие волоски. Вы видите?
— Да, — ответил Браунинг, сперва с сомнением в голосе, потом более уверенно. — Да. Вижу.
— «Листья травы»! — торжественно изрек Холмс. — Это последнее, что произнес Огастес Хауэлл, умирая (вне зависимости от того, действительно ли ему перерезали горло).
— Сборник Уолта Уитмена! — воскликнул я.
— Вынужден вас разочаровать, Ватсон: мистер Уитмен здесь ни при чем. Речь идет об эспарто — растении, также известном как трава альфа или ковыль тянущийся. Современные английские производители бумаги часто его используют. Подчеркиваю: современные. До тысяча восемьсот шестьдесят первого года вся бумага в Англии изготавливалась из хлопкового тряпья. Но гражданская война в Америке привела к нехватке хлопка, и на замену ему пришлось искать другие ингредиенты.
— Иными словами…
— Иными словами, — заключил Холмс, — монолог Савонаролы, датированный тысяча восемьсот пятьдесят пятым годом, поэма «Клеон» того же года и сонеты, якобы изданные в Рединге в тысяча восемьсот сорок седьмом году, — все это в действительности было написано или напечатано на бумаге, выпущенной не ранее тысяча восемьсот шестьдесят первого года, когда Томас Рутледж впервые использовал эспарто на своей фабрике в Эншеме, близ Оксфорда. Собственно говоря, главная причина, по которой ваш отец не мог сочинить «Воззвание Савонаролы», заключается в том, что, когда создавалось это произведение, он был уже на том свете. То же можно сказать и о так называемых черновиках его писем к вашей матушке. Нечестным путем завладев частью корреспонденции, мошенник бессовестным образом досочинил остальное в стремлении обогатиться.
В комнате с выложенными плиткой полами наступила тишина, нарушаемая лишь тихим шлепаньем весел по затененной воде канала. За окном ярко светило солнце. Пен Браунинг посмотрел на Холмса.
— Правильно ли я понимаю, сэр, что вы говорите о… — осторожно спросил он.
— Подделке! — с наслаждением произнес Холмс. — Причем неслыханно дерзкой и раздутой до абсурда. Осуществили ее совсем недавно, вероятно, всего несколько месяцев назад, и это неудивительно, поскольку мошенники могли безбоязненно развернуть свой план только после смерти вашего отца.
— Но вы говорили, мистер Холмс, что бумага, изготовленная из травы, появилась в тысяча восемьсот шестьдесят первом году — почти тридцать лет назад, — а отец мой умер лишь в прошлом декабре.
— Хорошо, посмотрите в микроскоп еще раз, и вы увидите пятнышки, отличные от волосков эспарто, — терпеливо пояснил мой друг. — Это частички древесной целлюлозы. Она подмешана в массу, из которой сделаны листы тома, датированного тысяча восемьсот пятьдесят пятым годом. Однако до тысяча восемьсот семьдесят третьего года этот материал не использовали при производстве печатной бумаги. В нынешнем виде древесная целлюлоза получила распространение только лет пять тому назад. Принимая во внимание этот факт, а также то, что ваш отец при жизни во всеуслышание уличил бы авторов «Савонаролы» в обмане, мы можем с немалой уверенностью заключить: возраст данной рукописи — менее полугода.
— А письма, мистер Холмс?
— Они написаны на такой же бумаге. Их сочинитель решился на рискованное предприятие: он приобрел поддельные книги и отрезал у них форзацы, полагая, будто такая бумага как нельзя лучше подойдет для осуществления его замысла.
— Вы уверены в том, что все эти книги не подлинные?
Холмс вздохнул.
— Я поясню, в чем я уверен, мистер Браунинг: раритетное редингское издание сонетов вашей матушки напечатано на бумаге, содержащей древесную целлюлозу. Следовательно, оно было выпущено не в тысяча восемьсот сорок седьмом году, а по меньшей мере на три десятка лет позднее. При наборе поэмы «Беглый раб» тысяча восемьсот сорок девятого года использовались такие литеры «f» и «j», какие были впервые отлиты для печатника Ричарда Клэя в тысяча восемьсот восьмидесятом году.
Пен Браунинг выглядел так, словно его оглушили.
— Здесь заговор, мистер Холмс! Никак не меньше.
Не ответив на это предположение, детектив продолжал:
— Бумага «первых» изданий «Смерти Артура» Теннисона и «Долорес» Суинберна, якобы выпущенных в тысяча восемьсот сорок втором и тысяча восемьсот шестьдесят седьмом годах, также содержит древесную целлюлозу и траву эспарто. Следовательно, она современная. Все тома стоят на этих полках в нескольких экземплярах, готовые разойтись по аукционам. У Джона Моргана и его соперников можно выручить за такую библиотеку целое состояние. Однако лорд Теннисон и мистер Суинберн еще живы, посему их книги пока ждут своей очереди. Смерть ваших родителей, как и преждевременная кончина лорда Байрона, развязала мошенникам руки. Как бы искусно ни был изготовлен поддельный документ, необходимо, чтобы тот, кому он приписывается, уже не мог опровергнуть своего авторства. Между тем рукописи Байрона и Бекфорда, Элизабет Барретт и Роберта Браунинга — сокровища, которые могут сделать преступника богатейшим человеком. Поверьте, это было лишь начало.
— Что же стало с мистером Хауэллом?
— Как сообщил еженедельник «Виннинг пост», издание весьма солидное, он и в самом деле отправился к праотцам.
— Ему перерезали горло?
— В этом я осмелюсь усомниться. Вероятнее всего, он поступил в больницу на Фицрой-сквер для лечения, скажем, от пневмонии, воспользовался случаем и распустил слух, чтобы ввести в заблуждение кредиторов. К несчастью и, быть может, к немалой неожиданности для него самого, он действительно умер. Думаю, сейчас мистер Хауэлл находится вне юрисдикции Центрального уголовного суда.
— Так это была не месть? — спросил я.
Холмс покачал головой.
— Если вы о монете, зажатой у него между зубами, то забудьте о неаполитанских преступных сообществах. Скорее, полсоверена положила в рот умершему рука преданной Розы Кордер или другой дамы, увлеченной классической мифологией: мошенник должен был расплатиться с паромщиком Хароном за переправу через Стикс в царство мертвых.
— А отверстие в трахее проделали для введения бронхиальной трубки, облегчающей дыхание? — проговорил я скептически.
— Это мы сможем выяснить.
— Что вы скажете о сонетах, найденных у Хауэлла? — прервал нас Пен Браунинг.
— Полагаю, книга действительно была у него в кармане, — невозмутимо ответил Холмс. — Гасси был не только алчен, но еще и дьявольски самолюбив. Именно тщеславие заставляло его сочинять сказки о том, как он нырял за сокровищами затонувших галеонов, предводительствовал племенем в Марокко и служил атташе при португальском посольстве в Риме. Возможно, умирая, он успел понять, что последний час пробил и сонеты, спрятанные в кармане его пальто, обязательно будут обнаружены.
— Но это не доказало бы его вины.
— Есть тип преступников, мистер Браунинг, для которых нет большего удовольствия, чем похвастать своими подвигами. Некоторые убийцы нарочно дразнят полицию, словно говоря: «Попробуйте-ка меня поймать!» Они будто бы сами просовывают голову в петлю лишь затем, чтобы через секунду ускользнуть.
— При чем же здесь Хауэлл?
— «Листья травы…» — насколько мне известно, это были его последние слова. Он говорил не о книге Уолта Уитмена, а о сонетах, которые держал при себе. О растении эспарто. Хауэлл обманул целый мир, но какая от этого радость, если перед смертью он, Гасси, не расскажет всем, до чего умно он их надул?
— Значит, мошенника не зарезали?
— Думаю, его убийцей был маленький и незаметный, но беспощадный легочный микроб, а вовсе не член неаполитанского бандитского клана. История о преступном возмездии слишком характерна для Гасси Хауэлла, чтобы ей верить.
Оставаться в Венеции без достойной, по его понятиям, цели Шерлок Холмс не желал. Сразу же приобрести билеты в спальный вагон европейского экспресса, идущего в Лондон через Кале, не удалось. Но на следующий день нам повезло. К тому моменту судьба Огастеса Хауэлла уже перестала быть загадкой. Он сам окутал обстоятельства своей смерти столь густым драматическим туманом, что дело представили на рассмотрение коронеру, и вскоре в континентальной «Таймс» напечатали вердикт: «смерть от естественных причин».
— «Как пали сильные!» [31]— воскликнул Холмс, сворачивая газету. — Бедный Гасси Хауэлл! Прожить такую жизнь и умереть естественной смертью!
Вечером накануне отъезда мы сидели за столиком на террасе кафе «Флориан», любуясь горящими в закатных лучах очертаниями великого собора и старинных дворцов. Мы ждали Пена и Фанни Браунинг, с которых Холмс взял обещание выпить в нашем обществе по чашечке кофе, прежде чем мы покинем Венецию.
— В этой семье что-то неладно, Ватсон, а что именно — сказать трудно. Вероятно, пуританские правила попросту не могут уживаться под одной крышей с обнаженными натурщицами. «В брачный путь у вас припасов на месяц-два» [32], — сказал бы Браунингу-младшему Шекспир. Именно поэтому я предпочел встретиться с супругами здесь, а не в их палаццо.
В свете фонарей, под аккомпанемент тихого, но гулкого плеска воды о ступени канала Холмс в последний раз дал молодому Пену Браунингу свой совет:
— Задача, стоящая теперь перед вами, проста: лично или же при посредничестве адвоката вы должны объявить, что рукописи ваших родителей, оказавшиеся в руках торговцев и аукционистов, не являются подлинными. Если будет необходимо, призовите меня в свидетели. Объясните обществу, что каждый, кто выказывает желание копаться в сомнительных бумагах, становится соучастником мошенничества. Как только вы предадите дело огласке, торговля подделками прекратится.
— Но не прекратится их публикация.
Опустив кофейную чашку на блюдце, Холмс несколько секунд подумал, прежде чем ответить.
— К сожалению, славный обычай наказывать хлыстом тех, кто печатает ложь, в последнее время считают несколько старомодным. Остается лишь грозить издателям подачей иска за клевету.
— Но ведь оклеветать умершего невозможно! — быстро возразил Пен Браунинг.
Как ни огорчен он был затруднительностью своего положения, его, очевидно, чрезвычайно порадовала собственная находчивость. Еще бы, ему удалось подметить ошибку великого детектива. Холмс снисходительно улыбнулся.
— Действительно, на выездной сессии в Кардифе в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году судья Стивен принял решение, согласно которому никто не может добиваться судебной защиты против клеветы в отношении мертвого, поскольку тот не является более юридическим лицом. Это, однако, не касается уголовно наказуемой диффамации, то есть распространения порочащих сведений, угрожающего общественному порядку. Она карается длительным тюремным заключением, и подобная перспектива, надеюсь, достаточно мрачна, чтобы своевременно остановить всех, кому вздумается оскорблять память ваших родителей.
Очевидно, мистеру Браунингу-младшему не следовало соревноваться с Шерлоком Холмсом в знании английских законов. Молодой человек проиграл спор, но при этом был благодарен победителю.
— Что ж, мистер Холмс. Тогда последний вопрос. Мне предстоит решить, что делать с любовной перепиской моих родителей: опубликовать ее или же сжечь. Около пяти лет назад отец бросил в огонь почти все свои письма и рукописи. Это было в Лондоне, на улице Уорик-Кресент. Он снес в гостиную старый дедушкин дорожный чемодан с бумагами и стал охапками швырять их в камин. На моих глазах сгорела вся отцовская переписка с Томасом Карлейлем [33].
— Какая же участь постигла письма вашей матушки? — спросил Холмс.
— Их отец не смог уничтожить. Собирался, но у него рука не поднялась. Они до сих пор там, где хранились всегда, — в инкрустированной шкатулке. Незадолго до смерти отец отдал ее мне и сказал: «Вот эти письма. Когда я умру, распорядись ими по собственному усмотрению». Так как же мне быть?
— Опубликуйте их, — не колеблясь, ответил Холмс. — Не сейчас, а лет через пять или десять. Всему свое время. Это переписка людей благородных и страстных, чутких и верных, готовых отдать жизнь друг за друга. Письма не должны погибнуть, если они хоть в малой степени отражают столь редкие в наше время достоинства человеческой души. К тому же публикация подлинников нанесет сокрушительный удар распространителям фальшивок. Эти темные существа не терпят солнечного света.
Наш клиент поднял глаза: слова великого сыщика оказались для него неожиданными, но оттого не менее убедительными.
— Вы правы, мистер Холмс, — твердо произнес Пен Браунинг.
Девять лет спустя письма были опубликованы и своей красотой навсегда уничтожили все жалкие подделки, дожившие до того дня.
На следующий день после прощальной вечерней беседы в кафе «Флориан» мы выехали в Англию. С Анджело Фиори, поверенного Пена Браунинга, Холмс ничего не взял. В качестве вознаграждения за свой труд он попросил лишь «бесценные» рукописи «Дон Жуана в Новом Свете», «Венецианской монахини» и «Воззвания Савонаролы», а также кое-какие из «первых изданий», в том числе «Сонеты Э. Б. Б.». Трофеи были помещены в так называемый шкафчик курьезов. По иронии судьбы, некоторые из этих подделок со временем стали цениться выше оригиналов.
И все же мой друг умел отличать золото от того, что блестит. Как только поезд тронулся с места, Холмс раскрыл томик, в последний момент купленный в пристанционном киоске. Это был роман Роберта Браунинга «Кольцо и книга» — стихотворное повествование об убийстве, совершенном в Риме двести лет назад. Гениальный детектив не отрывался от чтения до тех пор, пока не перевернул последней страницы заключительной, двенадцатой главы произведения. Через десять минут поезд подъехал к платформе вокзала Чаринг-Кросс.
Однажды декабрьским утром, за три года до начала Великой войны [34], миссис Хеджес рассказала нам странную историю о желтой канарейке.
В эту пору ветви огромных вязов и буков полностью оголяются. В аллеях Риджентс-парка, где я совершал утреннюю прогулку, раздавался непрестанный шорох: прохожие шагали по барханам высохшей листвы, словно по морскому мелководью. Без десяти минут десять начался дождь. Я поспешил домой, по дороге заскочив в лавку за двумя унциями табаку. Когда я выходил из квартиры, величайший сыщик наших дней еще сидел в халате за накрытым к завтраку столом, теперь же он был в твидовых брюках и однобортной норфолкской куртке с поясом. При моем появлении Холмс посмотрел на меня из-за раскрытой «Паддингтон газетт», отогнув ее уголок.
— Вы не забыли, Ватсон, что сегодня в десять тридцать нас должна посетить загадочная миссис Хеджес?
— Нет, — ответил я немного раздраженно, — помню.
Сев у окна, я стал растирать влажные табачные листья и стряхивать крошки в кожаный мешочек. Внизу прогрохотал омнибус. В те годы шум моторов уже вытеснял стук лошадиных копыт и уютный скрип колес кебов.
— Прекрасно, — сказал Холмс, и от его тона мое раздражение лишь усилилось. — Рад, что вы помните. В сей неромантический век, Ватсон, преступный мир стал скучен. Будем надеяться, миссис Хеджес внесет некоторое разнообразие в наше существование, ставшее излишне размеренным.
Мне это казалось маловероятным. Миссис Хеджес нам без особых церемоний рекомендовал Джон Джервис — молодой человек с начищенными ногтями и сияющим лицом, недавно получивший место священника в церкви Святого Олбана, что неподалеку от Бейкер-стрит, в Мэрилебоне. Будучи сам едва знаком с нами, он все же решился отправить нам записку с просьбой принять у себя означенную особу в десять тридцать, если это нас не затруднит. У женщины приключилась какая-то неприятность, связанная с желтой канарейкой, — вот и все, что мы знали. На мой взгляд, это едва ли сулило нам возвращение в славную эпоху дерзновенных преступлений. Но, как уже не раз случалось прежде, я ошибался.
За неимением других клиентов, Холмс ответил молодому священнику согласием.
— Поверьте, Ватсон, нет более верного признака подлинного злодеяния, чем кажущаяся пустячность происшествия. Не удивлюсь, если пение желтого кенара окажется прелюдией, предвещающей выход на сцену самых что ни на есть безжалостных головорезов.
Вероятно, в тот момент Холмс и сам не знал, насколько он был близок к истине. Я же растирал свой табак, глядя на темнеющее небо за окном. Вскоре по Бейкер-стрит по-зимнему грозно пронесся ливень, а затем облака рассеялись так же внезапно, как получасом ранее сгустились. За несколько минут до назначенных десяти тридцати Холмс поднялся, стал у окна и устремил взор на деревянную скамейку перед цветочной лавкой. Его высокую худощавую фигуру отделяла от чужих взоров тюлевая занавеска.
— Можно подумать, Ватсон, будто представители рабочего класса боятся не столько убийства или грабежа на большой дороге, сколько опоздания на важную встречу и потому всегда приходят раньше времени. Если я не заблуждаюсь, наша клиентка уже здесь. Взгляните-ка. — Холмс взял театральный бинокль в костяной оправе, который мы удобства ради всегда держали на полке у окна, и раскрыл футляр. — Достойная женщина непривилегированного сословия, как отрекомендовал нам ее мистер Джервис. Вы видите?
На скамейке в самом деле сидела какая-то дама. Ей, вероятно, было около сорока пяти лет, но тяжелый труд и лишения преждевременно состарили ее, и выглядела она на все пятьдесят пять. Наряд ее (хлопковая юбка в горошек, белая блуза, темно-синяя соломенная шляпка, закрепленная булавкой с искусственной жемчужиной) говорил о прилежании и бережливости хозяйки. Пальто женщины успело не только выйти из моды, но и порядком поизноситься.
— Мистер Джервис сообщил нам очень немногое, — тихо сказал Холмс. — Но при помощи увеличительных стекол, достаточно сильных для столь незначительного расстояния, мы сможем узнать больше. Наш пастырь служит в Мэрилебоне, а вот его знакомая, очевидно, проживает в трущобах Уайтчепела или Степни.
— С чего вы это взяли? — рассмеялся я.
— Посмотрите на небо. Дождевые облака движутся на восток со скоростью около пяти миль в час. Протеже мистера Джервиса не попала под ливень: взгляните, ее пальто совершенно сухое, как и зонтик, которого она даже не раскрывала. Обувь миссис Хеджес слегка замочила здесь, на Бейкер-стрит, уже после дождя. Но лишь подошвы, ибо на верхней части ее ботинок нет ни капель, ни даже следов высохшей жидкости. Значит, наша клиентка явилась сюда не больше десяти минут назад, после того как дождь закончился. Прибыла она, очевидно, на омнибусе, поскольку шума подъехавшего кеба мы не слышали. Да и едва ли ей по карману нанять экипаж. Кроме того, ненастье не застало миссис Хеджес перед поездкой, а это было, скажем, сорок минут назад. Женщина едва успела спастись от грозных туч, надвигавшихся с запада. Допустим, она находилась в трех с половиной милях к востоку или юго-востоку от нас, то есть, скорее всего, в Уайтчепеле или Степни. Если бы миссис Хеджес направлялась к нам с запада, она непременно бы вымокла, и, вероятно, даже дважды.
— Но возможно, она ехала в метро?
— Вряд ли. Тогда путь отнял бы меньше времени, и нашу клиентку хотя бы немножко обрызгало.
Мы с Холмсом отошли от окна. Ровно в половине одиннадцатого в дверь гостиной постучали. Наша квартирная хозяйка миссис Хадсон доложила о приходе посетительницы. Холмс тут же вскочил и, в два шага одолев расстояние до порога, через мгновение уже тряс руку гостьи, одновременно указывая ей на дамское кресло у камина.
— Миссис Хеджес! Мы очень рады, что вы приехали к нам из Степни! Меня зовут Шерлок Холмс, а это мой друг доктор Ватсон, в чьем присутствии вы можете говорить совершенно свободно.
Несмотря на столь радушную встречу, женщина заметно волновалась.
— Надеюсь, сэр, — тихо проговорила она, — я не причиню вам неудобства. Только, по правде говоря, я не из Степни, а из Уайтчепела.
Холмс укоризненно на меня взглянул, словно говоря: «О вы, маловерные!» — и галантным жестом отверг опасения гостьи по части обременительности ее визита:
— Не беспокойтесь, миссис Хеджес, мы будем искренне рады вам услужить.
— Я даже не совсем из Уайтчепела, — смущенно добавила она. — Я живу близ Хаундсдитч-стрит. Может, нужно немного рассказать…
Холмс ободряюще кивнул и снова с видом протеста взмахнул рукой. Я внутренне сжался: мой друг, очевидно, вознамерился от души поразвлечься.
— Давайте посмотрим, миссис Хеджес, что я смогу угадать сам. Ведь раскрывать чужие тайны меня обязывает профессия. Вы проживаете в окрестностях Хаундсдитч-стрит, и больше нам о вас ничего не известно. Разве только то, что вы были швеей до тех пор, пока не стали близорукой. Увы, это нередко случается с теми, кто вынужден напрягать глаза за мелкой работой. Вы левша. У вас маленькая девочка, которая недавно хворала и сейчас не посещает школу. Наверное, болезнь была заразной. Бедная малышка очень впечатлительна и теперь скучает дома одна.
— Откуда вы все это знаете, сэр? Мистеру Джервису про дочку я не говорила. Сказать честно, началось все с канарейки…
— Здесь нет никакой черной магии, дорогая миссис Хеджес. Ваши пальцы двигаются проворно, а на двух из них, большом и указательном, имеются отметины. Левая рука у вас более мускулистая, чем правая. Значит, вы левша и привыкли шить помногу, а не просто штопать вечерами у очага. Сейчас вы не в очках, следовательно, постоянно их не носите. Однако для работы вы ими пользуетесь, судя по отпечаткам на переносице. Эти следы были бы ярче, если бы вы сидели с иголкой так же долго, как раньше. Но вам пришлось оставить прежнее занятие, поскольку вы испортили себе зрение многолетним трудом при тусклом свете.
Холмс в равной степени умел быть любезным и язвительным, причем обходительным становился скорее в обществе бедной портнихи, нежели пэра или банкира. Своей проницательностью он, безусловно, очаровал нашу гостью. Она несколько успокоилась и даже заулыбалась. Мой друг улыбнулся ей в ответ. Фокус удался.
— Как бы то ни было, миссис Хеджес, мне нечего сказать о желтой канарейке. А о малышке я догадался по двум золотистым волоскам, приставшим к вашему темному шерстяному пальто чуть выше талии, где вы едва ли их заметите. Они короче и светлее, чем у вас. Должно быть, вы причесывали девочку, чей рост дюймов на двенадцать меньше вашего, или же она крепко прижималась к вам перед тем, как вы ушли и оставили ее одну.
Миссис Хеджес восхищенно покачала головой. Она с трудом верила своим ушам, но внимание великого детектива ей льстило.
— Для сборов в школу час был уже слишком поздний, — продолжал Холмс. — Между тем, согласно акту «Об образовании», каждый ребенок должен посещать занятия, если только он не болен. Я мог бы говорить об этом подробнее, но, полагаю, пора перейти к делу.
Миссис Хеджес вздохнула с некоторым облегчением.
— Ее зовут Луиза, — пояснила она. — Ей недавно минуло восемь. А болела она коклюшем. В школу ее не пустят, пока доктор не напишет справку.
Холмс соединил кончики пальцев, собираясь превратиться из рассказчика в слушателя.
— Какая же неприятность привела вас ко мне?
— Иностранцы, сэр. Они поселились в задних комнатах четыре недели назад.
— В задних комнатах?
— Да, мистер Холмс. Мы снимаем жилье в доходном доме Дикина, в тупике близ Катлер-стрит. Это, ясное дело, не королевский дворец: две передние комнаты, верхняя и нижняя, и две такие же сзади, окна в окна с мастерскими портных и галантерейщиков с Хаундсдитч-стрит. Между стенами и десяти футов не будет. Там как раз двор, где устроены отхожие места и у всех квартирантов есть маленький мощеный пятачок для стирки и сушки белья.
— Понимаю, — тихо сказал Холмс в ответ на подробный рассказ гостьи о своем убогом хозяйстве. — Пожалуйста, продолжайте.
— Так вот, сэр. — Миссис Хеджес подалась вперед, чтобы слушатель не упустил ни единого слова. — Из верхней комнаты виден не только наш дворовый закуток, но и соседские. Волей-неволей обращаешь внимание на других жильцов. Вообще-то, мы с ними встречаемся редко, к тому же многие из них — иностранцы. Русские и немцы, наверное.
— Кто ваши ближайшие соседи?
— С месяц назад, — ответила миссис Хеджес, — туда въехали какие-то люди. Откуда они родом, сказать не могу. Их комнаты крайние, и, кроме нас, никто в доме их дворика не видит.
— Ясно.
— Они не родня друг другу. Их всего человек десять: кто-то приходит, кто-то уходит. Мы не знаем, кто они такие. Один из них музыкант — играет дома и в клубе на Джубили-стрит, они там бывают.
— Эти люди вас беспокоят?
Женщина покачала головой.
— Сперва все было хорошо, сэр. Я весь день на работе, и мой Гарри тоже. В последнее время я уже не шью, зато помогаю паковать. А муж работает в миллуольских доках. Потому-то Луиза и сидит теперь дома одна.
— И ваши соседи обижают ее?
— Как-то утром, недели три назад, один из них — видно, русский — зашел к нам и предложил дочке три пенса, если она ему поможет. Он попросил ее сбегать к птичнику на Коммершиал-роуд и купить желтую канарейку без единого коричневого пятнышка, а если в лавке такой не найдется, то пойти туда, куда птичник укажет. Там желтой канарейки не оказалось, и Луизу послали на улицу Сент-Мэри-Экс.
До сих пор Холмс был спокоен и благодушен. Теперь же он слушал настороженно и с большим вниманием, время от времени помечая что-то в маленькой черной записной книжке.
— Много ли времени отняло у девочки это поручение?
— Думаю, сэр, часа полтора, — сказала миссис Хеджес, — а то и побольше. На другой день сосед — кажется, его зовут мистер Ленков — пришел опять и спросил Луизу, не сходит ли она еще разок в ту лавку на Коммершиал-роуд за клеткой и зернышками для птички. Она послушалась. Потом, на неделе, он снова послал нашу девочку за птичьим кормом и за табаком для себя. Опять пообещал три пенса. Ей неловко было отказать, и она согласилась.
Миссис Хеджес замолчала, и Холмс посмотрел на нее так проницательно, словно хотел, чтобы она раскрыла ему свой план ограбления Банка Англии.
— Прошу вас, мадам, продолжайте. Не спешите и не опускайте никаких подробностей. Ваш рассказ очень, очень интересен.
Столь пристальное внимание известного сыщика немного смутило посетительницу. На лице ее мелькнула тревога.
— Случилось вот что, сэр. Вечером того дня, когда Луиза купила канарейку, наша соседка из другой квартиры увидела у себя в садике точно такую птичку. Подумала, что ее случайно выпустили из клетки, и стала о ней заботиться. Но мистер Ленков отправлял нашу маленькую за кормом и назавтра, и через день. Моя подруга оставила канарейку у себя, потому как решила, что с бедняжкой дурно обходились и нарочно выбросили ее на улицу.
— Вероятно, это другая птица?
Миссис Хеджес едва не рассмеялась нелепости предположения Шерлока Холмса.
— В наших местах водится не так-то уж много желтых канареек, сэр! К тому же Луиза готова поклясться, что у птички, которую она купила, на лапке было бело-голубое колечко — наверное, знак хорошей породы. У той канарейки, которую нашла моя товарка, точно такое. К чему русским соседям корм и клетка, если птицы у них нет?
— Но вы не можете утверждать, — вмешался я, — будто кенар не упорхнул по собственному желанию.
— Верно, сэр. Но зачем тогда нужны зерна? Послушайте. Мне все равно, есть у соседей птичка или нет. Могут хоть каждый день покупать канареек и выпускать на волю. Это не мое дело. Я из-за другого волнуюсь. Они как пить дать что-то замышляют. А вдруг они хотят украсть мою Луизу?
— Не думаю. Она и без этого может быть им полезна, — мягко сказал Холмс. — Мистер Ленков впервые зашел к вам три или четыре недели назад, и с тех пор с девочкой, насколько я понимаю, ничего плохого не случилось. Что же было дальше?
— Теперь, когда мне надо отлучиться, я отвожу Луизу к золовке на Альтмарк-сквер или к другой родственнице. Решила, что хватит моей дочке быть у соседей на побегушках. Но в прошлую пятницу я пришла с работы и увидела, что наша задняя водосточная труба исчезла.
На бледном лице Холмса появилась легкая краска, забилась жилка на виске.
— Пожалуйста, миссис Хеджес, будьте очень внимательны. Расскажите мне об этом происшествии как можно более подробно.
Осмелевшая было гостья снова встревожилась.
— Что ж, сэр, хорошо. Трубы соединяют дождевой желоб на крыше с канавами на заднем дворе. Два соседних водостока сходятся к металлическому баку для воды из двух квартир, а ниже идет общая труба вдоль стены, которая разделяет дворики. Утром, когда я уходила, наша труба была на месте, а к вечеру она исчезла, хотя из-за темноты мы это заметили только на следующий день. Ночью лил дождь, и оба дворика, наш и соседский, затопило. Вода подобралась прямо к заднему крыльцу.
— Вы спросили о случившемся у мистера Ленкова?
— К нему ходил мой Гарри, и тот сказал, что все в порядке. Дескать, труба протекала, и работники из городского совета ее забрали. Ну а там говорят: знать ничего не знаем. А моя подруга, соседка с другой стороны, почти весь день слышала шум, будто бы кто-то пилил ножовкой по металлу. Труба слишком длинная, и воры не смогли бы утащить ее целиком. Следующим вечером Гарри заглянул к русским и увидел, как один из них волочил от нужника к дому что-то круглое и тяжелое. Наверняка это был двухфутовый кусок трубы. Для чего железяка им понадобилась, не знаю, мистер Холмс. Может, хотят сдать на лом. Но чует мое сердце, что неспроста они выманивают из дому мою Луизу. Однажды приду я вечером домой, а ее нет, увезли — продали в Россию или еще куда…
Ни с того ни с сего наша клиентка, до сих пор державшаяся довольно бодро, вдруг разрыдалась. Теперь я понял, почему молодой священник был так предусмотрительно немногословен, когда рекомендовал ее нам. Шерлок Холмс засунул карандаш обратно в нагрудный карман, еще раз бросил взгляд на свои записи и, встав, положил руку на плечо посетительницы. Он не был опытным утешителем плачущих женщин, но старался как мог.
— Умоляю вас, миссис Хеджес, не нужно так огорчаться. Уверен, никто не собирается похищать вашу дочку. Вы, кажется, сказали, что только из вашей квартиры можно увидеть дворик русских жильцов?
— Да, сэр, так оно и есть.
— А вы с мужем, как и большинство ваших соседей, проводите день на работе?
— Да, мистер Холмс. В округе работают почти все.
— В таком случае поручения вашей девочке давались для того, чтобы услать ее подальше на долгий срок. Вряд ли ей хотели причинить вред. Просто она не должна была видеть того, что происходило в соседнем дворике. Но вы правильно поступили, решив оградить ее от тех людей. Осторожность не помешает.
— А труба, мистер Холмс?
Немного помолчав, мой друг ответил:
— Думаю, трубой займется полиция. Если не возражаете, я лично обращусь в Скотленд-Ярд. Полагаю, дело о пропаже водостока чрезвычайно заинтересует инспектора Лестрейда. Вы же не беспокойтесь ни о чем, кроме безопасности дочки. Волноваться не следует. Не думаю, чтобы ей угрожала беда. Но на всякий случай постарайтесь не оставлять ее дома одну.
— «Чрезвычайно заинтересует»! — передразнил я сыщика. Миссис Хеджес ушла, и теперь я мог не скрывать своего скептицизма. — Инспектор Лестрейд сам не свой до водосточных труб! Боюсь, вы ошибаетесь. По-моему, распутывать такие тайны под стать местному констеблю или домовому совету.
Проводив посетительницу до двери, Холмс вольготно расположился на диване. Подле него на подставке лежала курительная трубка, а сам он развлекался тем, что удерживал на ребре ладони свою толстую трость с набалдашником в форме луковицы, как будто бы это упражнение помогало ходу мысли. Декабрьское небо снова потемнело, причем так резко, что пришлось зажечь газовый свет. Не отрывая глаз от трости, Холмс сказал:
— Если я не заблуждаюсь, Ватсон, мы имеем дело с крупным преступным заговором. Вероятно, это одно из тех дел, о которых родители рассказывают детям много лет спустя.
— Желтая канарейка и украденная водосточная труба?
— Водосточная труба распилена на двухфутовые отрезки. О чем это может свидетельствовать?
— О том, что отнести ее к сборщику лома целиком было невозможно. Воры арендуют квартиру и выносят из нее все, что только можно продать, а затем удирают — разве подобное случается так уж редко? Наверняка этих негодяев не сегодня завтра и след простынет.
— Не исключено. Но трубу могли украсть и с совершенно иной целью. Особенно если сделали это анархисты. Вспомните политическую историю прошедшего века: убийство царя Александра Второго, покушение на Наполеона Третьего… Вероятно, теперь вы согласитесь с тем, что двухфутовый чугунный цилиндр, умело начиненный и закупоренный с обоих концов, может превратиться в мощнейшую бомбу из всех, какие до сих пор знавал преступный мир.
Через два дня инспектор Лестрейд нанес нам вечерний визит, желая обсудить дело миссис Хеджес, в обстоятельства которого Холмс его посвятил. Доблестный полицейский с «бульдожьим лицом», как говорил о нем мой друг, уселся у камина со стаканом в руке. Настроен он был философски.
— Должен признать, мистер Холмс, вы не ошиблись, сказав, что птички, за исключением канарейки, улетят прежде, чем мы к ним наведаемся. Так и вышло. Думаю, возвращаться они не собираются, к радости миссис Хеджес и ее малышки. Негодяи немного опередили нас.
— Точнее, вас, — холодно заметил мой друг.
Лестрейд метнул в него сердитый взгляд, тряхнул головой и зажег предложенную сигару.
— Нам немногое удалось выяснить. Похоже, они не немцы, а действительно русские — как и добрая половина населения квартала. Именуют себя анархистами, но, по правде говоря, воюют они не с нами, а с теми, кто заставил их бежать из России и грозил расправой по возвращении. Лишь немногие из этих людей — закоренелые преступники. У остальных же нет причин от нас скрываться.
— Совершенно верно, — сказал Холмс. — Именно закоренелые преступники и ускользнули у вас из-под носа.
Перепалка продолжалась пару минут, до тех пор пока виски не возымело своего действия на спорщиков. Под конец вечера приятели перешли к обсуждению дела доктора Криппена, повешенного тремя неделями ранее за убийство жены. Лестрейд был причастен к его аресту. Оседлав своего любимого конька, Холмс принялся доказывать, что Криппена осудили и казнили несправедливо: он не хотел насмерть отравить Беллу Элмор скополамином, пытался лишь усыпить ее на время, пока в доме находилась его юная любовница Этель Ли Нив. Не пожелав губить репутацию вышеозначенной молодой особы, которую должны были допрашивать в суде, он признал вину и понес страшную кару.
В десятом часу вечера мы все еще увлеченно спорили перед ярко горящим камином. Холмс потянулся за кочергой, чтобы помешать угли, и вдруг в дверь дома 221-6 постучали. За ударами молоточка последовали два звонка. Холмс встал с кресла и спустился по лестнице в прихожую, опередив нашу хозяйку миссис Хадсон. Как он и предполагал, пришли не к ней. Мы услышали голоса и шаги людей, поднимающихся по лестнице. Холмс вернулся в гостиную вместе с констеблем в форменном мундире.
— К вам посетитель, Лестрейд.
— Мистер Лестрейд, сэр? Констебль Лусмор, Паддингтон-Грин, 245-д. Срочное сообщение из Скотленд-Ярда от комиссара Спенсера. По имеющимся сведениям, в лондонском Сити в данный момент происходит ограбление.
— Где? — отрывисто спросил Холмс.
— Близ Хаундсдитч-стрит, сэр, — ответил констебль, передав телеграмму Лестрейду. — Подозревают, что там готовится взлом несгораемого шкафа. Дежурный констебль Пайпер доложил об этом в бишопгейтское отделение полиции после того, как поступили жалобы от местных жителей. Из Бишопсгейта сообщение передали в Скотленд-Ярд. Полицейские уже направляются к месту происшествия, но господину комиссару известно, что инспектор Лестрейд сейчас расследует дело в тех краях. Мне приказано найти вас и спросить, не согласитесь ли вы возглавить высланный наряд.
Очевидно, наш гость не слишком обрадовался перспективе сменить тепло натопленной гостиной и стакан пунша на холод декабрьского вечера, однако Холмс уже надевал свой инвернесский плащ.
— У дверей стоит полицейский автомобиль, — пояснил Лусмор. — Шофер обещал довезти вас до Хаундсдитч-стрит за двадцать пять минут.
— Вперед, Лестрейд! — бодро воскликнул мой друг. — Нам с Ватсоном это расследование небезразлично, и мы должны ехать, даже если вы откажетесь. Но лучше давайте вместе, старина.
Мы гуськом начали спускаться по лестнице вслед за констеблем Лусмором, и тут Холмс, шедший позади меня, вполголоса сказал:
— Было бы нелишним, Ватсон, если бы вы положили в карман пальто свой армейский револьвер.
— Он при мне, — ответил я, не понижая тона. — На мой взгляд, опрометчиво бродить ночью в том квартале без оружия.
Полицейский автомобиль оказался «черной Марией» — обычно в фургонах таких машин преступников доставляли из тюрьмы в здание суда. Мы уселись на скамьи напротив друг друга. Заревел мотор. Почти ничего не различая в маленькое оконце, мы проехали по Юстон-роуд, затем свернули на Сити-роуд и наконец резко остановились. Когда мы выбрались наружу через задние дверцы, перед нами открылась широкая улица, зияющая черными дырами подворотен. Вдоль дороги тянулись высокие дома: нижние этажи занимали ювелирные и галантерейные лавки, а в верхних располагались склады. Даже здесь мне стало как-то не по себе, а ответвляющиеся в обе стороны тупики казались и вовсе неприветливыми. Единственный огонек горел в питейном заведении на Катлер-стрит, где шла оживленная торговля. Саму же улицу Хаундсдитч освещали три фонаря, принадлежащие только что прибывшим полицейским.
Человек, подошедший к нам, представился констеблем Пайпером. Он отдал Лестрейду честь.
— Мистер Лестрейд, сэр? В начале десятого к нам обратился мистер Вейл, владелец галантерейной лавки в доме номер сто двадцать, неподалеку отсюда. Он со своей сестрой занимает второй этаж над магазином. Они услыхали шум — будто рядом сверлили, пилили, пытались ломом раздробить кирпич. Я прибыл на место и сперва не обнаружил ничего подозрительного, но вскоре в самом деле послышались такие звуки.
— Сколько с вами людей? — спросил Лестрейд.
— Констеблей Вудхэмса и Чоута я оставил здесь, чтобы стерегли дом с улицы, а сам отправился на Бишопсгейт с сержантом Бентли. Скоро должны прибыть Мартин и Стронг, патрульные в штатском. Всего нас семеро.
— Для простого ограбления, пожалуй, более чем достаточно, — раздраженно буркнул Лестрейд, ежась от холодного ночного ветра.
Царила зловещая тишина. Нарушители порядка ничем не выдавали своего присутствия, и все же они были где-то близко.
По соседству с лавкой Вейла находился ювелирный магазин Гарриса. Шерлок Холмс перешел дорогу и приблизился к его витрине. Сквозь стекло мы разглядели большой и, казалось, надежный сейф, над которым днем и ночью горела электрическая лампочка. Тот, кто посягнул бы на него, был бы вынужден действовать на виду у всей улицы. Холмс повернулся к нам, не вынимая рук из карманов.
Как бы громко здесь ни сверлили и ни стучали несколько минут назад, сейчас я ничего не слышал, о чем и сказал констеблю Пайперу.
— Сэр, шум прекращается, как только кто-нибудь подходит к конторе мистера Вейла, — пояснил он. — Я почти уверен: грабить хотят не этот сейф, а тот, что в соседнем доме.
Лестрейд огляделся по сторонам.
— Нужно хорошенько прочесать задний переулок. Бентли и вы, парни, давайте со мной, — приказал он.
Наш бульдог отправился на охоту в сопровождении сержанта и пятерых констеблей. Пайпер остался на Хаундсдитч-стрит. Холмс и я двинулись следом за инспектором, так что при всем желании он не смог бы отдать нам команду держаться сзади. Из боковой улицы нам навстречу светили газовые лампы паба. Их слепящее сияние делало все вокруг совершенно неразличимым.
Поравнявшись с крыльцом заведения, Лестрейд повернул направо. Мы оказались в переулке, застроенном убогими домишками, чьи окна выходили на задворки лавок и складов Хаундсдитч-стрит. Вероятно, грабители намеревались подобраться к сейфу с заднего дворика одного из этих прижатых друг к другу строений. Некоторые лачуги были до крайности ветхи и, судя по темным окнам, пустовали. Как сейчас помню сырой холодный воздух и ветер, свистящий между полуразрушенными стенами. Переулок замыкала высокая складская стена. Мы почти дошли до нее, так ничего и не услышав. Холод и леденящая кровь тишина были нашими единственными провожатыми до самых дверей склада, но, как только мы уперлись в тупик, где-то справа и позади раздался крик.
Кричал один из четверых полицейских, пробравшихся через первый этаж заброшенного дома к задней стене ювелирной лавки. Вскоре зов повторился:
— Они почти прорвались! Осталось пробить только деревянную внутреннюю обшивку!
Холмс и я обернулись. В кромешной тьме было трудно что-либо рассмотреть. Вдалеке, в резком свете фонарей паба, быстро пронеслись чьи-то черные силуэты. Затем мелькнуло несколько вспышек, раздался щелчок, потом хлопок. Вдруг я ощутил удар, заставивший меня распластаться по мостовой. Через секунду я понял, что был повержен наземь вовсе не пулей, а сильной рукой Шерлока Холмса.
— Лежать! — крикнул он, не в первый раз спасая мне жизнь.
Один за другим прогремели еще несколько гулких выстрелов, эхом прокатившихся по темной улице. Я сжимал револьвер в руке, но не решался пустить его в ход, видя перед собой лишь тени, мелькающие в свете газовых фонарей, и не зная, где люди Лестрейда, а где грабители. К тому же, услыхав шум, из паба высыпали зеваки. Я наверняка попал бы в кого-нибудь из них.
На протяжении двадцати или тридцати секунд в переулке, охваченном сумятицей, ничего нельзя было разобрать. Я не мог сообразить, кто стрелял, в кого стреляли. Однако взял себя в руки и осторожно пошел вперед — если не пригодилось мое оружие, то навыки врача должны сослужить добрую службу.
Если бы в тот момент мне сказали, что в перестрелке, не продлившейся и половины минуты, были ранены пятеро полицейских, я бы не поверил. Но вот в свете фонаря я увидел Чоута, неподвижно лежащего у двери заброшенного дома. Констебль Такер, шатаясь, вышел из темного проема и упал, едва не накрыв товарища своим телом. Сержант Бентли навзничь распростерся на мостовой. Брайант сидел, привалившись к стене. Слава богу, он дышал. Вудхэмс поначалу держался на ногах, но они словно подломились, и он рухнул.
Поскольку наши полицейские не носят при себе револьверов, грабители, как правило, тоже их не имеют. Никогда раньше я не слышал о бандах, все члены которой были бы вооружены. Но очевидно, именно такая группировка повстречалась нам теперь. Быстро осмотрев раненых, я определил, что Чоут получил шесть пуль, в тело и в ноги. Такера поразили чуть выше сердца. Сержанта Бентли — в горло. Он был без сознания. Этим троим могли помочь только в больнице. Вудхэмсу прострелили бедро, и он не мог стоять. Брайант получил более легкие ранения в грудь и левую руку. Я принялся оглядываться, ища Лестрейда. Оказалось, пуля зацепила его плечо, но благодаря плотной ткани пальто инспектор отделался царапиной.
Тем, кто остался невредим, я велел вызвать с ближайшей станции машину «скорой помощи» для сержанта Бентли и констебля Чоута. Прежде чем она прибыла, мы остановили кеб, проезжавший по Хаундсдитч-стрит. Пассажиры сошли, и возница по возможности быстро доставил Такера в госпиталь Святого Варфоломея. Ранами Брайанта и Вудхэмса я занялся сам.
Как выяснилось позднее, от хаоса полуминутной перестрелки пострадали и сами преступники. Один из них по ошибке застрелил другого — некоего Гардштейна. Его отнесли домой, где он на следующее утро умер. Осматривавший его доктор вызвал полицию. Двух молодых женщин, живших с преступником под одной крышей, арестовали.
Таковы были события той ночи — путанные и на первый взгляд необъяснимые. В течение многих лет никакому другому происшествию не удавалось затмить тот шум, какой наделали в газетах «убийства близ Хаундсдитч-стрит» [35]. Никогда прежде взломщики сейфов не пробивали себе путь на свободу шквалом пистолетных выстрелов.
Почти весь следующий день Холмс провел в компании Лестрейда, а вернувшись вечером на Бейкер-стрит, рассказал нечто совершенно неожиданное. Он перешагнул порог и упал в свое кресло, не находя сил снять расстегнутое пальто.
— Дела плохи, Ватсон. Газетчики пока не знают и половины.
— Скверно, что часть информации просочилась в прессу.
Холмс покачал головой.
— Нет, мой дорогой друг. Это варварство может повлечь за собой гражданскую войну, войну против всех нас, войну анархистов против целого мира. Лестрейд, хвала Небесам, ранен легко. Я не всегда высоко оценивал его аналитические способности, но отваги ему не занимать. Мы с его сержантами просидели большую часть дня в одном из домишек на задах Хаундсдитч-стрит. Кажется, преступники неплохо там обжились. Очаг все еще дымился, когда мы прибыли.
— Каков был их план?
— Они собирались ограбить ювелирную лавку, которая имеет общую заднюю стену с уборной, расположенной во дворике заброшенной хибарки. Несгораемый шкаф стоит в глубине магазина. В кирпичной кладке проделана ромбовидная дыра в два фута шириной. Чтобы подобраться к сейфу, бандитам оставалось распилить доски внутренней отделки помещения. Поскольку кирпич был уже пробит, ни сверления, ни ударов лома мы не услышали. Через каких-нибудь пять минут преступники оказались бы у цели, а передняя панель сейфа скрыла бы их от глаз тех, кто мог заглянуть в витрину ювелира в столь поздний час. Грабители все рассчитали с удивительной точностью: они решили завладеть ценностями, фактически находясь вне магазина.
— Но каким образом они взломали бы несгораемый шкаф?
Холмс встал, скинул с плеч пальто и принялся греть руки, склонившись над камином.
— Вскрывать замок они, безусловно, не намеревались, поскольку это пришлось бы делать при ярком электрическом освещении на виду у всей улицы. Однако через дворик заброшенного дома проходит газовая труба. К ней при помощи черной ленты присоединили резиновый шланг длиной в шестьдесят три фута. Он свободно дотягивается до задней стенки сейфа. Добавлю, что грабители, убегая, бросили на месте преступления несколько алмазных буров, долото для работы по стали, три лома, комбинированный гаечный ключ и резец. Подобного арсенала бандитам вполне хватило бы, чтобы прожечь или прорубить дыру в шкафу, оставшись незамеченными с улицы. Языки пламени или искры, высекаемые при разрезании металла, потонули бы в свете лампы, направленном в сторону витрины.
Тем вечером, в тишине нашей гостиной на Бейкер-стрит, мне казалось, что события предыдущей ночи были страшным сном. Между тем Холмс продолжал свой рассказ: утром полицейские по срочному вызову отправились в дом на Гроув-стрит — это примерно в миле к востоку от места перестрелки. В комнате второго этажа, на матрасе, насквозь пропитанном кровью, лежал мертвый молодой человек. Им оказался Георг Гардштейн, русский анархист, один из тех, кто стрелял накануне в полицейских. Во время схватки с Чоутом он получил от своего товарища случайную пулю, предназначенную констеблю.
— Гардштейна наверняка повесили бы, — философски произнес Холмс, оборачиваясь ко мне, — но его друг избавил нас от лишних хлопот. В карманах умершего нашли обойму с семью пистолетными патронами калибра семь и шестьдесят пять сотых миллиметра, сверло, газовые клещи, защитные очки для сваривания металла и ключ от нового замка, который преступники навесили на заброшенный дом, чтобы нежеланные гости не мешали их работе.
— Железные улики! — ободряюще произнес я.
Тонкие губы Холмса скривились.
— Однако не самые интересные. Что действительно любопытно, так это найденная в той же комнате скрипка и небольшая картина маслом — довольно искусно написанная сцена парижской жизни. На обороте значится имя, которое нам небезызвестно.
— Гардштейн писал сам или же был коллекционером?
Холмс снова покачал головой и вздохнул.
— В последние годы я взял себе за правило время от времени заглядывать в политические клубы Стенни и Уайтчепела в качестве молчаливого слушателя. Из тамошних завсегдатаев почти никому не доводилось видеть Георга Гардштейна, действовавшего, как и большинство анархистских главарей, под конспиративным именем. Его настоящая фамилия — Муронцев. Он бежал из Варшавы, где прославился не столько как революционер, сколько как грабитель и убийца.
— Так кто же автор картины?
Холмс выпрямился и зевнул.
— Этот человек, Ватсон, — не чета Муронцеву и ему подобным. Он, вероятно, будет вершить судьбы народов, если однажды революция возведет философию анархизма или коммунизма на престол европейской мысли. При упоминании его имени трепещут короли, цари и кайзеры. Своих соратников он способен вдохновлять и на политические споры, и на кровопролитие. Это Петр Пятков, известный в анархических кругах как Художник. О да, он мог бы прославиться благодаря таланту живописца, но это скромное поприще его недостойно. Ради торжества суровой справедливости Пятков убьет человека так же невозмутимо, как мы с вами разрежем яблоко.
— Новый Робеспьер!
Холмс посмотрел на меня так, словно я его не понял.
— Робеспьеру была нужна только Франция. Пятков хочет власти над всем миром, не больше и не меньше.
— И он здесь, в Англии? — смущенно спросил я.
— Пока нет, но скоро прибудет. И наша страна незамедлительно об этом узнает. Сведения, которыми я располагаю, новы и в высшей степени надежны.
Предсказания Холмса не на шутку меня обеспокоили. Казалось, он находил своеобразное удовольствие в том, чтобы предрекать грозные потрясения, и с тайным наслаждением предвкушал, как в одиночестве сразится со страшным врагом. В ту ночь я плохо спал, встревоженный чем-то зловещим в атмосфере нашей гостиной, а точнее, поведением своего друга. За всю историю нашего с ним знакомства он лишь несколько раз выходил на открытую дуэль с преступником. Теперь я вспомнил тот ужасный день, когда Шерлок Холмс встретил смертельную угрозу в лице профессора Мориарти, сказав: «Отныне земля не сможет носить нас двоих. Если за то, чтобы избавить мир от этого человека, мне придется поплатиться жизнью, я сочту цену вполне умеренной».
Через два дня, когда я спустился к завтраку, Холмс уже сидел за столом в необычайно бодром расположении духа. Он отложил вилку с ножом и показал мне маленький предмет, лежавший у него на ладони.
— Как вам эта вещица, Ватсон? Увы, мне пришлось похитить ее из комнаты Муронцева, воспользовавшись невниманием Лестрейда и его славных подчиненных.
Я увидел круглую свинцовую пулю для винтовки, заряжающейся с дула. Мне случалось иметь дело с таким оружием в годы военной службы, и я, не колеблясь, отрезал:
— Двенадцатый калибр!
Холмс усмехнулся:
— Прекрасно, Ватсон! Лестрейд и его сержанты не рассчитывали найти что-либо подобное. Потому и не нашли.
— По чем же свидетельствует эта улика?
— Очевидно, Гардштейну и его товарищам были нужны ружья. До сих пор анархисты довольствовались револьверами, поскольку пройти по лондонским улицам с длинноствольным оружием и не возбудить ничьих подозрений довольно затруднительно. И все же в деле винтовка — совсем не то что пистолет. Стреляет она не в пример точнее, и с ее помощью можно серьезно обороняться. Ли-Энфилд — самая доступная модель, желанное приобретение для наших противников. Если они столь основательно готовятся к защите, а может быть, и к нападению, революция, вероятно, гораздо ближе, чем мы думаем.
Меня это заключение отнюдь не порадовало, Холмс же, напротив, казался воодушевленным.
— Вот кое-что для вашего альбома, дружище! — сказал он, пролистав свою газету.
Я принялся было внимательно читать репортаж о пятничном происшествии — кровавой драме, разыгравшейся ночью в окрестностях Хаундсдитч-стрит, — но Холмс, нетерпеливо взмахнув вилкой, подсказал мне:
— Третий абзац передовицы, старина. Это как раз то, чего я так желал избежать.
«По удивительному совпадению, в минувшую пятницу известный консультирующий детектив Шерлок Холмс находился рядом с полицейскими, подвергшимися нападению бандитов. Как сообщает Скотленд-Ярд, мистер Холмс лишь сопровождал инспектора Лестрейда и в расследовании не участвует. Тем не менее наши читатели надеются на изменение ситуации. Нации и обществу грозит гибель. Слишком долго мы терпели на своей земле присутствие политических отбросов Европы. Если бы Шерлоку Холмсу удалось очистить Англию и весь цивилизованный мир от этих злодеев, каждый добропорядочный гражданин считал бы себя вечным должником великого детектива. Если к мистеру Холмсу до сих пор не обратились с призывом защитить отечество от серьезной опасности, следует сделать это теперь».
Я в замешательстве опустил газету: никогда еще мне не доводилось читать редакционной статьи, написанной в столь резком и откровенно побудительном тоне.
— Автор немного преувеличивает, — весело заметил Холмс. — Кстати, ни с каким призывом ко мне так и не обратились, если не считать приглашения на ужин.
— К кому же вы приглашены?
— Неужели я вчера позабыл об этом упомянуть? Так вот, дружище, сегодня я вернусь домой немного позднее обычного. Лестрейд, со свойственным ему благоразумием, решил посоветоваться с моим братом Майкрофтом. Положение нашего друга инспектора сейчас более затруднительное, чем когда бы то ни было. Даже в политическом отделе Скотленд-Ярда ему мало помогли. Ну а Майкрофт живет в мире политики. Заговоры для него — родная стихия. От лица правительства он всегда следит за подводными течениями.
— В том числе и в России? — спросил я скептически.
Холмс улыбнулся.
— Майкрофт прекрасно говорит по-русски, он знаток русской истории и культуры. Насколько мне известно, его переводы из Александра Блока очень хвалят. Итак, я взялся помочь Лестрейду. Сегодня мой брат пригласил нас с инспектором отужинать в одном из кабинетов клуба «Диоген». Так что, пожалуйста, меня не ждите.
Больше мой друг ничего мне не сказал. Когда он ушел, я принялся размышлять о том, в какой лабиринт заманила нас судьба. Наступил вечер. После раннего ужина я взял с полки роман сэра Вальтера Скотта «Эдинбургская темница» и мысленно перенесся на север, в шотландскую столицу, охваченную так называемыми беспорядками Портьюса [36]. Я собирался отправиться в постель пораньше, однако повествование настолько меня увлекло, что после каждой главы я давал себе обещание прочесть еще одну и лечь спать, но всякий раз его нарушал.
Думаю, минуло одиннадцать часов, когда я услышал шум: что-то вроде жестяной банки, брякнув, ударилось о наружную стену нашего дома, а затем покатилось по мостовой.
— Мистер Хо-о-олмс! Мистер Ше-е-ерлок Холмс! — В дверь дважды постучали молоточком. — Вот и я, мистер Холмс! Вы знаете меня, а я знаю вас: вы лакей и лизоблюд! Жалкий холоп короля и его министров! Вы угнетаете народ и разделите участь ваших хозяев!
Эти вопли были так нелепы и неожиданны, что некоторое время я сидел в полной растерянности. Наступило небольшое затишье, и я подумал, что пьяный мужлан прокричался и пошел своей дорогой. Вероятно, его сбило с толку отсутствие ответа. Или он решил, что ошибся домом, хотя адрес Шерлока Холмса, несомненно, ни для кого не был секретом. Осторожно подобравшись к окну, я проделал крошечную щель между задернутыми занавесями и выглянул на освещенную фонарями улицу.
На ее противоположной стороне, перед темной витриной цветочного магазина, стоял человек. Вопреки моим ожиданиям, вместо мешковатой куртки я увидел на нем красивое черное пальто с каракулевым воротником. В левой руке этот высокий, опрятно и недешево одетый мужчина держал широкополую шляпу, а в правой — нечто напоминающее камень. Темные волосы и усы незнакомца были щегольски подстрижены, а черты лица казались скорее аристократическими, нежели плебейскими, хотя горбатый нос и походил на клюв.
— Вы знаете меня, мистер Холмс! Знаете! Слыхали, кто такой Пятков? А вы кто такой? Не можете ответить? Что вы друг тиранов, мне всегда было известно. Но не думал я, что вы такой трус! Полицейский лакей!
Словно выдернутый из вымышленного мира Вальтера Скотта, я вернулся к неприглядной действительности. Что мне было делать с этим негодяем? Я стал вспоминать вчерашние слова Холмса о Пяткове. В этот момент хулиган замахнулся своей длинной правой рукой и с силой, делающей честь хорошему игроку в крикет, запустил камнем в наш фасад. Этажом ниже раздался звук разбитого стекла. Подумав о том, как, должно быть, испугалась миссис Хадсон, я все же не решился покинуть свой наблюдательный пост. Теперь злоумышленник преспокойно фланировал вдоль стены противоположного дома. Кое-где в окнах зажегся свет. Ночной шум, несомненно, должен был привлечь внимание патрульных полицейских.
Внезапно я вспомнил, что среди экспонатов памятной коллекции Холмса имелся полицейский свисток, добытый нами в погоне за доктором Нилом Кримом, ламбетским отравителем. Я принялся шарить в ящике книжного шкафа, но в этот момент кто-то из потревоженных жильцов стал подзывать констебля, появившегося, очевидно, где-то поблизости.
Я вновь подошел к окну и, к величайшему своему удивлению, увидел, что Пятков (если это был он) продолжает стоять у стены цветочного магазина, будто ему совершенно ни до чего нет дела. «Вдруг, — с ужасом подумал я, — в кармане у него револьвер, и он намерен, подражая пятничному подвигу своих товарищей-анархистов, застрелить первого же полицейского, который к нему приблизится?»
Но нет, возмутитель моего спокойствия оказался не настолько глуп. Он надел свою богемную шляпу и выждал несколько секунд, явно заметив что-то, чего не видел спешивший к нему полисмен в каске и блестящем непромокаемом плаще. От Риджентс-парка к станции метрополитена, как корабль, сияющий огнями среди ночного моря, поплыл ярко освещенный двухэтажный автобус. Дождавшись, когда он подойдет достаточно близко, молодой человек сделал два-три шага навстречу и вскочил на подножку, причем так ловко, будто всю жизнь только этим и занимался. Теперь полицейский и хулиган неподвижно смотрели друг на друга, в то время как расстояние между ними увеличивалось. Ближайшая остановка у станции подземки была видна из моего окна, и незнакомец спрыгнул возле нее на тротуар. Конечно, в вечернем сумраке я мог ошибиться, но в любом случае констебль уже не догнал бы нарушителя порядка.
Отправившись на ужин, Холмс велел мне не ждать его. Но другого занятия я для себя не нашел. Вернулся он ближе к полуночи. Несмотря на то что мысли великого детектива были заняты идеями брата Майкрофта, он все же заметил разбитое окно и, выслушав мой рассказ о недавнем происшествии, сильно разволновался, хотя тревога эта объяснялась вовсе не страхом за собственную безопасность.
— Мы не ждали Пяткова так скоро, — произнес он. — Впрочем, он не мог находиться далеко, раз его товарищи вынашивают какой-то дерзкий план. Наши люди следили за ним в Париже. Мсье Амар, шеф Сюрте-Женераль, обсуждает подобные дела со Скотленд-Ярдом по выделенной телефонной линии. Майкрофт уверяет, что с тех пор, как Пяткова в последний раз видели во Франции, не прошло и недели. Он, в конце концов, действительно художник, и две его картины сейчас выставляются в частной галерее близ Орлеанской набережной.
С минуту Холмс сидел неподвижно, похожий на угрюмую тощую птицу. Чутье подсказывало мне, что нарушать его молчание не стоит. Наконец он протяжно вздохнул.
— Не стану отрицать: последнее событие несколько изменило суть дела. Завтра я поговорю с Майкрофтом. Вы же, мой дорогой друг, можете оказать нам большую услугу: постарайтесь узнать Пяткова в его теперешнем обличье. Лестрейд предоставит в ваше распоряжение экипаж и двух полицейских в штатском. Вместе с ними вы объедете Хаундсдитч-стрит, Уайтчепел и другие столь же непривлекательные районы нашего города. Никому, кроме вас, Ватсон, не известно лицо этого человека. Он редко дважды выходит на дело в одном и том же образе, однако едва ли ему под силу перевоплощаться каждый день. Даже лондонские анархисты не могут представить себе, каким он вернулся из Парижа. Если мы сумеем напасть на его след, он, возможно, приведет нас в эпицентр заговора.
Наше положение казалось безрадостным, но пока мы не могли предпринять ничего иного. Я не думал, что наш враг заявится на Бейкер-стрит в ближайшее время, и все же положил револьвер на столик подле кровати.
Утром нас ожидал еще один неприятный сюрприз. В газете (той самой, которая несколькими днями ранее призывала Холмса спасти Англию) снова появились наши имена. «Экстренное сообщение», якобы подоспевшее за секунду до того, как макет отправился в типографию, в искаженном свете выставило на всеобщее обозрение те факты, которые необходимо было держать в секрете.
«АНАРХИСТЫ БЕСЧИНСТВУЮТ НА БЕЙКЕР-СТРИТ.
ХУДОЖНИК В ЛОНДОНЕ
Революция на пороге! Вчера поздним вечером главарь международной банды анархистов-коммунистов Петр Пятков, по прозвищу Художник, угрожал расправой мистеру Шерлоку Холмсу, знаменитому консультирующему детективу. Не менее десяти минут человек, назвавшийся Пятковым, выкрикивал оскорбления в адрес сыщика и с противоположной стороны улицы забрасывал его дом опасными предметами. Пострадало окно первого этажа. При виде полицейского преступник скрылся, вскочив на подножку проезжавшего мимо автобуса. Судя по всему, глашатай революции и страж порядка оказались друг другу под стать.
Очевидцы описывают Пяткова как высокого худощавого мужчину с крупными чертами лица, темными волосами и усами, в черном пальто с каракулевым воротником и широкополой фетровой шляпе а-ля Рембрандт».
— …Что делает его совершенно неразличимым в толпе сотен тысяч других обитателей Лондона, — философски заметил Холмс.
Меня разозлил фамильярный тон репортера.
— Какая издевка над читателями! — сказал я. — Подобное нахальство газетчиков только на руку Пяткову. Даже если он не увидит этой статьи, ее непременно прочтут его единомышленники.
— Не сомневайтесь, — ответил Холмс, продолжая намазывать масло на тост, перед тем как покрыть его слоем джема, — никто из них в неведении не останется.
Вскоре мой друг отправился оказывать помощь нации в лице собственного брата. Вот уже много лет неуклюжий с виду, но оттого не менее блистательный Уильям Майкрофт Холмс с успехом служил государству в должности главного советника правительства по межведомственным вопросам. В непредвиденных случаях он незамедлительно оказывался на месте событий. Однажды его младший брат Шерлок заметил: «Майкрофт не просто советник британского правительства. Иногда он сам и есть британское правительство».
Час или два, пока братья занимались необходимыми приготовлениями, я провел в томительном ожидании предстоящей прогулки по Холборну, Хаундсдитч-стрит, Уайтчепелу, Майл-Энду и другим закоулкам, где мы могли отыскать Пяткова. По моим представлениям, напасть на его след было несложно, поскольку в среде анархистов и коммунистов, а возможно, и в мире искусства его приезд восприняли едва ли не как явление мессии.
Меня должны были сопровождать сержант Уайли и констебль Паркс. Они прибыли на Бейкер-стрит в кебе, оба в штатском. Их нарочито неприметные серые фланелевые костюмы, шляпы-котелки, аккуратно подстриженные волосы и усы могли возбудить у преступников не меньшие подозрения, чем полицейские мундиры, и меня бы это нисколько не удивило. Впрочем, подумал я, внешний вид конвоиров — не моя забота. Кебмен (вероятнее всего, эту роль поручили еще одному переодетому полисмену) лихо промчал нас по Бейкер-стрит, а затем свернул в сторону Холборна и бедных окраин.
Несмотря на участие в пятничных событиях, я почти ничего не знал об анархистской географии лондонского Ист-Энда. Мои спутники смыслили в этом куда больше, посему я должен был лишь «смотреть в оба», пока улицы мелькают за окном кеба. Так продолжалось целый день. Выходить из экипажа мне не разрешали, поскольку кто-либо из преступников, участвовавших в перестрелке, мог меня узнать. И я колесил по задворкам Лондона, считая это такой же обязанностью, как помощь больным и умирающим.
К счастью, мои провожатые были хорошо осведомлены и подготовлены. На Майл-Энд-роуд, застроенной унылыми складскими зданиями и лепящимися друг к другу домишками портовых рабочих, сержант Уайли остановил кеб. Мы подобрали парня, лениво околачивавшегося возле хранилища пеньки. Юнец в красно-коричневой непродуваемой куртке, вельветовых брюках и шарфе, небрежно намотанном вокруг шеи, никоим образом не привлек бы моего внимания. Между тем это был сержант Атертон, «замаскированный» под местного обывателя. Не стоило удивляться тому, что после недавно разыгравшейся кровавой драмы опасные кварталы были наводнены полицейскими, переодетыми в чистильщиков сапог, лоточников и бродяг.
Свернув с большой дороги, мы высадили Атертона в маленьком переулке севернее Джубили-стрит. Среди одноликих убогих домиков возвышалось строение, напоминающее полуразрушенную церковь, однако, увидев вывеску, я понял: передо мной «Дом друзей рабочих». Основал его самый известный из всех анархистов — князь Кропоткин, который много лет провел в эмиграции, в том числе в Англии. Проходившие в рабочем клубе собрания считались анонимными. К примеру, его завсегдатаи называли Муронцева даже не Георгом Гардштейном, а просто Русским. С виду здание казалось заброшенным, но в действительности в этих стенах и возле них ежедневно кипела жизнь.
После полудня Атертон, или Волков, как его именовали «соратники», снова сел в наш кеб. Дождавшись нас в нескольких кварталах от места сходки, сержант подтвердил, что там говорили исключительно о приезде Пяткова и о его предстоящем триумфе. Далеко не все присутствовавшие мужчины и женщины считали себя сторонниками насилия, но все они, казалось, были рады объявить Художника вождем назревающей революции.
О самом же Пяткове нам пока ничего не удалось узнать. Возница погнал лошадь из Уайтчепела на Хаундсдитч-стрит, а оттуда в Хай-Холборн. По дороге он останавливался на стоянках кебов, будто бы ожидая новых седоков. Мы добрались до конечного пункта своего маршрута без малого в половине пятого, когда на туманных улицах уже зажглись фонари. Минут десять я наблюдал за прохожими, неспешно идущими мимо нарядных зеркальных витрин, и вдруг заметил человека, который шагал быстрее и целеустремленнее остальных. Голову его покрывала широкополая богемная шляпа, а на воротнике черного пальто виднелась полоска каракуля. И все же я не мог быть уверен, что мы наконец-то нашли того, за кем охотились. Как справедливо сказал Холмс, по Лондону разгуливают тысячи людей примерно одного роста в одинаковых пальто и шляпах.
Человек, привлекший мое внимание, собрался переходить дорогу и взглянул на наш кеб, желая убедиться, что путь свободен. Я смотрел на его лицо каких-нибудь десять секунд, и этого оказалось вполне достаточно. Твердый взгляд, клювоподобный нос, опасный румянец на скулах — это был именно тот портрет, который запечатлелся в моей памяти со вчерашнего вечера. На другой стороне улицы Художник повернулся к нам спиной и, прошагав по тротуару несколько ярдов, вошел в ярко освещенный магазин. На бордовой деревянной вывеске сияли медные буквы, и, прежде чем обратиться к сержанту Уайли, я прочитал: «Э. М. Рейлли и К°. Ружья и винтовки».
Мои спутники получили предписание держаться от объекта на безопасном расстоянии, поскольку он мог иметь при себе оружие. Я не знал наверняка, есть ли револьверы у сержанта Уайли и констебля Паркса, но, как правило, даже на подобные неординарные задания полицейские отправлялись безоружными. Так или иначе, Шерлок Холмс велел нам не арестовывать Пяткова немедленно. На свободе преступник был нам более полезен, так как мог вывести нас на след других участников заговора.
Уайли и Паркс тихо вышли из кеба, порознь пересекли улицу и с двух сторон приблизились к человеку, которого я им указал. На этом мое участие в операции закончилось: я не должен был попадаться на глаза анархисту, чтобы не быть узнанным. Крайне раздосадованный, я направился на Сент-Джеймс-сквер в свой клуб «Армия и флот», где и отужинал в одиночестве.
Зимой смеркалось рано. Сквозь затуманенные окна обеденного зала смутно виднелись размытые силуэты прохожих, напоминавшие облака. В половине десятого я сел в обычный кеб, и он отвез меня на Бейкер-стрит. Едва я просунул ключ в замочную скважину дома 221-6, в холодном прокопченном воздухе десятикратно раздался звон колокола церкви Святой Марии на Йорк-стрит. Горничная зажгла газ, за каминной решеткой уже уютно потрескивал огонь, но Шерлока Холмса дома не было. Он снова ужинал у брата. Решив удовольствоваться стаканом виски, выпитым в одиночестве, я потянулся за «Эдинбургской темницей».
Минут через двадцать на лестнице послышались шаги и голоса. Первым в гостиную вошел Холмс, за ним Лестрейд.
— А! — воскликнул Холмс, опуская трость в подставку для зонтиков и принимая у гостя пальто. — Перед нами ищейка Ватсон! От Майкрофта мы наслышаны о том, как вы нам сегодня помогли, старина. Мои поздравления! Это действительно Пятков, и, если бы не бдительность, которую вы проявили вчера и сегодня, он не оказался бы у нас в руках.
Плеснув виски в два стакана, мой друг передал один инспектору.
— Если преступник уже на крючке, то, вероятно, до поры до времени не следует его арестовывать? — спросил я.
Лестрейд, в котором все это время закипало необоримое желание высказать нечто важное, наконец не выдержал:
— Ходить за ним как тень! Не спускать с него глаз! Такие распоряжения, доктор, мы получили сверху — не от начальства Скотленд-Ярда и даже не от мистера Майкрофта Холмса, а от самого мистера Уинстона Черчилля!
Министр внутренних дел из правительства Асквита не нуждался в представлении. Прежде занимая посты в двух министерствах — по делам колоний, а также торговли и промышленности, — он успел заявить о себе как о государственном деятеле, не страшащемся никаких преград. «Ни к чему заявлять о том, что у нас есть трудности! — восклицал Черчилль в ответ на жалобы подчиненных. — Трудности заявят о себе сами!»
— Противостояние Черчилля и Пяткова — это своего рода личная дуэль, — заметил Холмс. — Но вместе со своим главным врагом Уинстон, как его называют за глаза, хочет посадить в мешок всю анархистскую банду. Он распорядился не ворошить гнездо до тех пор, пока мы не выявим всех участников заговора. Анархизм он называет гидрой революции: отрежьте ей одну голову, и на ее месте тут же вырастут двадцать.
— Так что же все-таки произошло?
На лице Лестрейда появилась довольная улыбка.
— Сержант Уайли заглянул в оружейный магазин и мило побеседовал, если можно так выразиться, с управляющим: Пятков назвал тому фамилию Штерн, при этом, как ни странно, объявил себя французом. Согласно документам из архива Министерства внутренних дел, которые мистер Черчилль передал в наше полное распоряжение, в Париже Художник действительно представляется Штерном, а для многих товарищей-анархистов он просто Француз.
— Суть в том, — нетерпеливо проговорил Холмс, — что он купил три винтовки Энфилда. Они заряжаются с дула, стреляют очень точно. Их доставят одной посылкой на имя Штерна по адресу: Степни, Джубили-стрит, сто тридцать три.
— Но ведь на этой улице находится так называемый клуб анархистов! — воскликнул я.
— Более того, в этом самом доме, доктор. Если мы установим за ним слежку, все участники заговора попадут к нам в силки, прежде чем успеют привести свой план в действие. — Лестрейд вытряс трубку и продолжил: — Имея при себе одни пистолеты, они могут поражать только близкие цели. Из винтовки хороший стрелок способен попасть в мишень, расположенную на расстоянии сотни ярдов. Это, господа, орудие политических убийств. Мистер Черчилль приказал усилить охрану премьер-министра во время его передвижений с Даунинг-стрит в палату общин. Особые меры безопасности будут приняты в Новый год, когда король и королева посетят заседание парламента. Нам известно, что пули для винтовок у Гардштейна и его друзей были и раньше. Теперь у них есть сами винтовки.
— Неудивительно! Ведь вы позволяете бандитам преспокойно покупать оружие в магазинах!
К моему крайнему удивлению, инспектор заговорщицки потер нос и, казалось, с трудом удержался, чтобы не подмигнуть мне.
— Если позволите, доктор, мы разберемся с этим делом сами, — ответил он.
Холмс промолчал. Вскоре Лестрейд встал и пожелал нам доброй ночи. В дверях он обернулся.
— В завтрашней газете, доктор, вы увидите Художника таким, каким его запомнили сегодня служащие полиции. Поделитесь со мной своим мнением о портрете — как о произведении искусства, разумеется.
Из гостиной было слышно, как инспектор усмехается, спускаясь по лестнице. Сунув под мышку «Эдинбургскую темницу», я направился к себе в спальню, бубня под нос: «Какая чудовищная самоуверенность!» — или что-то в этом роде. Шерлок Холмс снова воздержался от ответа, не отрывая задумчивого взгляда от догорающих углей.
В последнее время меня стало задевать некоторое пренебрежение со стороны моего друга. Я полагал — и не без оснований, — что заслуживаю большего внимания. Вот и сегодня Шерлок Холмс сел завтракать, не дождавшись меня. Я хотел уже высказать ему упрек и вдруг заметил, до чего бледное и изнуренное у него лицо. Спать он, очевидно, не ложился. Однако следов его ночного труда в гостиной вроде бы не наблюдалось. Лишь через несколько минут я уловил запах горячей кислоты и металла, неизменно присутствующий в мастерских, где паяют железо.
Но мысли о таинственных затеях Холмса улетучились, едва я отложил нож с вилкой и заглянул в «Морнинг пост». С внутреннего разворота на меня смотрело лицо, как две капли воды похожее на то, что я увидел из окна позавчера вечером, когда о стену дома брякнула жестяная банка. Над рисунком красовалась крупная подпись: «Петер Художник».
— Это он! — воскликнул я.
— Неужели? — равнодушно отозвался Холмс. — Вам лучше знать, мой дорогой друг. Его видели только вы да двое наших людей в штатском.
— Поразительное сходство! Теперь он не сможет высунуть носа на улицу, чтобы его тут же не узнали!
Прибор Холмса лежал на столе без дела: сегодня моему другу изменил всегдашний утренний аппетит.
— Не сомневайтесь, Ватсон: как только этот тираж сошел с типографских станков, наш Художник преобразился до полной неузнаваемости. Лестрейду и его молодчикам следовало бы держать это, — поморщившись, сыщик ткнул пальцем в газету, — при себе.
Возразить, увы, было нечего.
Бросив недоеденный завтрак, мой друг поднялся и занял любимую позицию у окна. Решив не продолжать неприятного разговора, я с притворным интересом изучил колонку новостей и по ходу дела расправился с тостом, джемом и кофе.
Через десять минут молчания Холмс отвернулся от окна и двинулся к вешалке.
— Сегодня я проведу день с Майкрофтом, — сказал он, застегивая плащ. — Мы обязаны отчитаться перед мистером Черчиллем и его советниками. Других встреч ни у меня, ни у вас, насколько мне известно, не предвидится. К вам, однако, может заглянуть мистер Чан Ли Су. Будьте любезны попросить у него карточку и передайте ему, что я вскоре его навещу по указанному адресу.
Мистер Чан Ли Су! Я не мог предположить, что же скрывается за всей этой нелепой таинственностью, а Холмс ничего мне не объяснил. Вероятно, он взялся разгадывать новую головоломку, о которой позабыл упомянуть по причине ее ничтожности в сравнении с угрозой революции и анархии.
Когда детектив спустился по лестнице, я занял его место у окна. У дверей стоял кеб, и мой друг сел в него в сопровождении двух армейских офицеров. По знакам отличия на лацканах и головных уборах, известным мне со времен военной службы, я понял, что один из этих двоих — полковник, а другой — бригадир. Какую бы игру ни вел Холмс вместе со своими союзниками, она начинала казаться мне слишком серьезной.
Отобедал я в столовой Лондонского госпиталя в компании своего приятеля и коллеги Альфреда Дженкинса. Мы вместе служили в Афганистане. В то время он был лейтенантом, но через несколько лет после того, как я получил ранение в Майвандской битве и отправился в отставку, ему присвоили звание майора. Когда же и для него настала пора возвращения к мирной жизни, он занял должность старшего хирурга больницы.
Пока мы налегали на бифштексы и почечный пирог, к нам за столик подсел ассистент Дженкинса.
— Мы его получили! За него пришлось побороться, но он того стоит: прекрасен, как Адонис. Великолепное тело! — радостно сообщил он.
Ценным приобретением оказался труп Муронцева, называвшего себя Георгом Гардштейном. Поскольку при жизни лишь немногие знали его в лицо, для окончательного опознания необходимо было на протяжении следующих трех месяцев сохранять останки нетленными. Сию почетную миссию возложили на нашу больницу. Мертвеца поместили в стеклянную камеру с парами формальдегида. Глаза его осторожно раскрыли, и полицейский сделал с него фотографию, которую вскоре опубликовали.
Холмс вернулся домой раньше меня. Он явно не был расположен к беседе, сказал лишь, что люди Лестрейда в Ист-Энде вели наблюдение за Пятковым, который, вопреки нашим опасением, не изменил своего облика. Я в шутку заметил: «Он, должно быть, не выписывает „Морнинг пост“», но Холмс даже не улыбнулся в ответ, сухо бросив, что Художника видели на Джубили-стрит. В клубе анархистов за ним следил Атертон-Волков. Прочие собравшиеся так оторопели при виде своего кумира, что поначалу никто не решался с ним заговорить. Очевидно, его прихода не ждали.
Винтовок на Джубили-стрит никто не доставлял. Как ни умны были полицейские под предводительством Майкрофта Холмса, этот груз они упустили.
Я встал, потянулся и пожелал своему другу спокойной ночи. Покидая гостиную, я заметил на буфете визитную карточку с крошечным фотографическим портретом ничем не примечательного европейца в костюме и шляпе. Под снимком значилось: «Чан Ли Су, непревзойденный китайский фокусник». Чуть ниже я прочел: «Ждем вас в партере театра „Вуд Грин Эмпайр“. Гастроль продлится до субботы». Что понадобилось моему другу от этого циркача, я не знал и в данный момент, пожалуй, не хотел знать.
Если у братьев Холмс и был план, то действовать в соответствии с ним они явно не спешили. Через несколько дней, спустившись утром в гостиную, я вновь ощутил запах свежего припоя, исходивший, как мне показалось, от одежды Шерлока Холмса. Где и с кем он провел минувшую ночь? Чем был занят? Опять он выглядел так, словно голова его не касалась подушки больше суток.
Я даже подумал о том, не начать ли мне собственное расследование, но вовремя себя урезонил. Ведь даже Скотленд-Ярду до сих пор удалось добиться лишь самых скромных успехов. Благодаря чете безобидных горожан, обеспокоившихся судьбой своего исчезнувшего квартиранта, управлению уголовных расследований стало известно, где находилась мастерская Гардштей-на-Муронцева. Там обнаружили химикаты, необходимые для приготовления бомбы: своим недоверчивым хозяевам анархист объяснил, что работает над формулой огнестойкой краски, которую хочет запатентовать. Кроме того, в помещении нашли запас винтовочных патронов (хотя оружия нигде не оказалось), а также несколько обойм для маузера. Муронцев жил тихо и не доставлял арендодателям никаких хлопот. Иногда он запирал свои комнаты и уезжал на континент.
На следующей неделе на основании поступивших сведений лондонская полиция арестовала троих мужчин и двух женщин. Федорову, Петерсу и Дубову предъявили обвинение в попытке ограбления ювелирной лавки и нападении на полицейских близ Хаундсдитч-стрит, Саре Мильштейн и Розе Трассионской — в содействии грабителям. Как ни печально, тех, кто на них донес, обещанное вознаграждение интересовало, очевидно, больше, нежели истина. По рассмотрении улик всех пятерых задержанных пришлось отпустить. Доказать их причастность к кровопролитию не представлялось возможным.
Поиск новых подозреваемых продвигался с большим трудом. Анархическое движение было организовано таким образом, чтобы его члены по возможности не знали имен друг друга. Вместо них пользовались подпольными кличками, например Француз, Немец, Русский. На одного человека, знавшего Петра Пяткова по фамилии, приходилась тысяча тех, для кого он был просто Художником. Даже на самом суровом допросе невозможно сообщить полиции то, что тебе неизвестно.
И все же Скотленд-Ярду удалось добыть несколько имен: двоих из участников событий на Хаундсдитч-стрит звали Сварсом и Соколовым. Поймать их не удалось. Холмс, вздохнув, заметил, что они, вероятнее всего, уже в России или во Франции.
Так обстояли дела. Однажды глубокой ночью у меня возникло странное ощущение, будто я очнулся от одного сна и тут же попал в другой. Прошло секунд десять или двадцать, прежде чем я понял, что не сплю. Часы показывали около четырех утра. Мой друг, по моим предположениям, мирно почивал в постели, поскольку еще до полуночи отправился к себе в комнату. Тем не менее в гостиной кто-то разговаривал.
Уловить суть беседы я не мог, но два голоса, несомненно, принадлежали Шерлоку Холмсу и его брату Майкрофту. С ними совещались еще несколько человек — то ли двое, то ли четверо. Одного из незнакомцев выделяла своеобразная манера речи: он произносил слова медленно, но с нажимом, а иногда почти рычал. Порой звуки становились нечленораздельными, точно язык с трудом умещался у него во рту. Когда этот человек окончил довольно длинную фразу, другой что-то сказал ему в ответ, назвав его Уинстоном.
Должно быть, я все-таки спал и видел сон. Что Майкрофт Холмс, министр внутренних дел и некто, запросто называющий последнего по имени, делают в нашей гостиной в четыре часа утра?
Между тем дебаты поутихли, и теперь до меня доносился лишь неясный гул. Чутье подсказывало мне, что спускаться в гостиную без приглашения не следует. Но на случай, если я все-таки понадоблюсь, нужно было встать и одеться.
Я все еще возился с булавкой для галстука, когда на лестнице скрипнула половица. Через секунду Холмс, вероятно увидев свет в щели под дверью, легонько постучался и вошел в комнату.
— Я услышал, что вы проснулись, — негромко сказал он. — Боюсь, возле клуба анархистов, точнее, в двухстах ярдах от него затевается нечто не вполне безобидное. Кажется, вот-вот начнется мятеж. По сведениям, полученным сержантом Атертоном, заговорщики намерены уничтожить как можно больше полицейских и государственных служащих, причем высокопоставленных. Иными словами, готовятся политические убийства под покровом всеобщих волнений. Для первого пригодятся винтовки, для остального — пистолеты.
— Что вы собираетесь делать? — спросил я, откручивая крепления пресса для брюк.
— Здесь майор Фредерик Вудхаус из военного министерства. По пути он заехал на Экклстон-сквер и привез сюда министра внутренних дел. Об их участии в деле никому говорить не следует. Вмешательство армии может быть встречено с осуждением.
— Они поедут к месту мятежа, и вы с ними?
В свете газовой лампы профиль Шерлока Холмса казался особенно четким и утонченным.
— Да, старина, прямо сейчас. К нам присоединится капитан шотландских гвардейцев. Их полк стоит совсем близко, в Тауэре, а собственными силами полиции, боюсь, не обойтись. В машине нет больше мест, поэтому вам придется как можно скорее выехать следом. Возьмите кеб от станции метрополитена до полицейского отделения Степни. Оно располагается близ Коммершиал-роуд. Обратитесь к дежурному сержанту. Он скажет вам, где нас найти.
Холмс вышел. Послышались голоса и шаги посетителей, спускающихся вслед за ним к входной двери. Я взглянул на свои часы: стрелки показывали пять минут пятого. Через десять минут я уже мчался по Бейкер-стрит к метро. На стоянке кебов дремал один-единственный возница, встрепенувшийся при моем появлении.
Вдоль безлюдных, словно вымерших, улиц тянулись ряды тусклых фонарей. Менее чем за полчаса мы добрались до Коммершиал-роуд. Велев кебмену подождать, я поднялся по ступенькам, освещенным синей полицейской лампой. А за порогом мне почудилось, будто я нахожусь в фойе театра «Альгамбра» за пять минут до начала представления. Работа кипела, полицейские возбужденно сновали туда-сюда. Я с трудом пробрался к стойке дежурного сержанта, и в ответ на мой вопрос он произнес два слова, которым вскоре суждено было облететь весь мир:
— Сидней-стрит.
Точного адреса мне не сообщили. Да был ли он нужен, если хотя бы половина из того, что сказал Холмс, соответствовала действительности? Кебмен провез меня еще с полмили: до полуразрушенного здания клуба анархистов и дальше по Хокинс-стрит. Там пришлось остановиться — на дорогу вышел констебль в каске и помахал фонарем с выпуклыми стеклами, в свете которого кружились снежинки. Следов других экипажей видно не было.
— Проезда нет, сэр, — сказал полисмен, заглядывая в окно. — Улица перекрыта. Если вам на запад, то придется повернуть обратно и ехать по Коммершиал-роуд.
— Я доктор Джон Ватсон. Меня ждет Шерлок Холмс. Насколько мне известно, он сейчас с майором Вудхаусом и мистером Черчиллем.
— Тогда другое дело. Не удивлюсь, если вы сегодня понадобитесь.
С этими словами констебль открыл дверцу кеба. Я заплатил вознице и пошел за своим провожатым по припорошенной снегом дороге. Медицинского чемоданчика я с собой не захватил, однако пока не видел и не слышал ничего такого, что заставило бы меня пожалеть о своей непредусмотрительности. Револьвера в кармане тоже не оказалось.
Часы пробили пять. Сидней-стрит выглядела зловеще — вероятно, из-за падающего снега, но мрачные предчувствия, скорее, внушал строй полицейских, стоящих в боковом переулке совершенно неподвижно и безмолвно. Если это начало анархо-коммунистической революции, подумал я, то у нее есть шанс остаться в истории событием, прошедшим в гробовой тишине.
Мы добрались до поворота. Здесь ширина Сидней-стрит достигала по меньшей мере сорока футов. По обеим сторонам тянулись сомкнутые ряды одинаковых краснокирпичных коттеджей — тут жили рабочие. Сейчас центром внимания стали восемь доходных домов Мартина, выстроенных десять лет назад и названных по имени владельца. В каждом было с десяток комнат. Задние окна выходили на неухоженные дворики, кривые сараи и тропинки. С одной стороны участки отгораживал от улицы деревянный забор с воротами и выцветшей надписью: «Исаак Дикхольц. Торговля углем и перевозка грузов». Первые этажи некоторых домов занимали магазинчики с выкрашенными облупленной черной краской стенами и зарешеченными окнами.
Севернее, на следующем перекрестке, стояли здания пивоварни Манна и Кроссмана, а за ними располагался двор с конюшнями. Его грузовые ворота также были видны из доходных домов Мартина. Южнее, на углу, но с другой стороны, находился паб «Восходящее солнце», к которому мы сейчас приближались. Плоская крыша питейного заведения и градирня пивоваренного завода представляли собой прекрасные наблюдательные посты, откуда Сидней-стрит просматривалась в обоих направлениях.
Убийцы-анархисты по-прежнему ничем не выдавали своего присутствия. В слабом утреннем свете фонарей темнели силуэты безмолвствующих полицейских, перекрывших улицу с двух концов. Кордоны стояли в боковых переулках, чтобы их нельзя было заметить из окон дома номер 100, который вызывал наибольшие опасения. Там вполне могли прятаться пятьдесят человек, вооруженных и готовых сражаться насмерть.
По задворкам жилых зданий вилась дорожка. По ней шли двое полицейских в мундирах, а между ними — молодая женщина, босая и полураздетая. Я уставился на них во все глаза.
— Из домов Мартина выводят мирных жителей. — Голос Шерлока Холмса раздался у меня над ухом так неожиданно, что я вздрогнул — мой друг, как всегда, подкрался совершенно бесшумно. — Здесь министр внутренних дел и майор Вудхаус, — шепнул он, — но, повторяю, об этом никто, кроме вас и меня, не должен знать. Иначе каждый лондонский репортер будет путаться под ногами и привлекать к высокопоставленным лицам внимание врага.
Холмс предложил отойти к перекрестку. Теперь мы стояли под окнами «Восходящего солнца», напротив домов Мартина.
— Сколько здесь вооруженных анархистов? — поинтересовался я.
— Точно неизвестно. Мы знаем двоих: Сварса и Соколова по прозвищу Хромой. Они, как выяснилось, не уехали в Россию, и оба весьма недурно стреляют. У них может быть внушительное подкрепление. Пятков, если он с ними, будет руководить операцией.
— А полиция?
— Сюда направляется Лестрейд, но здесь нужны стрелки, которых у Скотленд-Ярда нет. Двадцать или тридцать констеблей заняли позиции в домах на дальнем конце улицы, на крышах пивоварни и паба. Вооружены лишь немногие из них, что никуда не годится.
— А мистер Черчилль?
Холмс усмехнулся.
— Он принял командование у комиссара полиции. Как сказал майор Вудхаус, «Уинстон предпочитает открытый бой». Военному министру отправили телеграмму с просьбой немедленно освободить отряд шотландских гвардейцев от несения службы в Тауэре. Это тоже только для ваших ушей, хотя уже через час солдаты будут здесь.
Мы стали ощупью пробираться вверх по слабо освещенной лестнице «Восходящего солнца». «Открытый бой, шотландские гвардейцы… Не устраиваем ли мы много шуму из ничего?» — подумалось мне. Когда мы выбрались на крышу, пробило пять с четвертью. Я припомнил, что в это время года светает не раньше восьми.
Наверху уже собрались три маленькие группы людей, тихо разговаривавших между собой. Среди них были майор Вудхаус и министр внутренних дел в высокой шляпе из черного шелка и длиннополом пальто с бархатными обшлагами и воротником. По сильному хрипловатому голосу и по фотографии в журнале я представлял его себе гораздо более высоким. На деле же он оказался человеком плотного телосложения, но, пожалуй, на целый фут ниже Холмса.
На протяжении последующего часа нам докучал хозяин «Восходящего солнца», очень желавший сдать плоскую крышу своего заведения газетным репортерам по соверену с человека. Наконец помощник майора Вудхауса велел ему «отстать и не мешать работать». Присутствие журналистов было здесь совершенно излишним, тем более что события, требующие освещения в прессе, еще не начались. Мистер Черчилль распорядился не развязывать боя до того, как небо просветлеет: тогда мы увидим врагов в лицо, им же труднее будет незаметно перебегать от укрытия к укрытию на дальнем конце улицы.
— Для преступников, сэр, нет ничего проще, чем переходить из дома в дом, пробив потолки верхних комнат, — заметил Шерлок Холмс. — На чердаках стены либо вовсе отсутствуют, либо сложены в один кирпич и их легко сломать. В таком случае площадка боевых действий растянется на восемь зданий, вплотную прижатых друг к другу.
— Совершенно верно, мистер Холмс, — рявкнул министр. — Спасибо за напоминание.
Мистер Черчилль закурил, укрывшись за дымовой трубой, чтобы слабый огонек сигары не был виден с улицы.
Два часа мы провели в напряженном ожидании рассвета. Время от времени хозяин паба выносил нам рюмки рома и сэндвичи с ветчиной и языком. Наконец часы на башне пробили семь.
— Отлично, джентльмены, пора начинать. За неимением иных инструкций все остаются под прикрытием, — приказал министр внутренних дел.
Он спустился по лестнице в сопровождении майора Вудхауса, его помощника и капитана Нотт-Бауэра, комиссара лондонской полиции. Мы с Шерлоком Холмсом по команде замкнули колонну. Я не представлял, чем могу быть полезен, но держался рядом со своим другом. В зале паба нас ждал лейтенант Росс в шинели и фуражке Шотландского гвардейского полка. На то, чтобы поднять военного министра и добиться у него разрешения выйти из Тауэра, ушло немало времени, но теперь отряд уже направлялся сюда. Участвовать в операции добровольно согласились девятнадцать рядовых и два сержанта, исполняющих обязанности наставников по стрелковому делу. Лейтенант Росс прибыл на место, опередив своих подчиненных.
Выпавший снег превратился в слякоть, хлюпающую под ногами. Наш маршрут пролегал вне зоны видимости для тех, кто сидел в засаде за стенами дома номер 100. Было неизвестно, скрывается там целая банда анархистов или стрелок-одиночка. Майор Вудхаус, Холмс и я быстро перешли на другую сторону улицы и тут же укрылись за столбом в воротах пивоварни. К моему недоумению, министр внутренних дел остался стоять на виду и, не пряча своего лица, в упор разглядывал зашторенные окна домов Мартина. Повернувшись в сторону, он отдал какую-то команду. Констебль в мундире пересек дорогу и, приблизившись к опасному зданию, постучал в дверь. В ответ не раздалось ни звука. Тогда полицейский наклонился, набрал горсть мелких камешков и бросил их в одно из верхних окон.
В этот момент я увидел, как из щели приоткрытой рамы медленно и зловеще высунулось длинное черное дуло. Револьвер представлял бы для мистера Черчилля меньшую угрозу, но винтовка в руках умелого стрелка наверняка поразила бы столь близкую цель. Из ствола вырвалось пламя, раздался щелчок, гулко разлетевшийся по улице. Я ожидал, что министр упадет, но он лишь пригнулся и снова выпрямился. Зачем он демонстрирует свое безрассудство, вместо того чтобы лечь на мостовую?
Из соседней оконной створки показалась вторая винтовка. Прежде я много раз слышал выражение «сердце ушло в пятки», но только теперь понял, насколько оно точно. Снова мелькнула вспышка, и треснул гром, коротко и оглушительно. Впоследствии часто говорили, будто Черчилля вынудили уйти в укрытие. В действительности же он продолжал стоять, словно фокусник на арене.
Через несколько секунд в ушах загудело от третьего выстрела. Лишь после того, как три пули, выпущенные с небольшого расстояния, чудесным образом просвистели мимо своей мишени, грузный человек в длиннополом пальто и высокой шляпе развернулся и ушел с открытого участка. Он остановился невдалеке от нас, у каменной колонны. Вероятно, стрелки узнали его и решили уничтожить любой ценой. И она оказалась высокой: преступники, потерпев неудачу, выдали себя. Теперь мы знали расположение и численность вражеских сил. Если бы анархисты не начали стрелять в министра, у них была бы возможность незаметно уйти под покровом темноты или выстрелами пробить полицейское оцепление, пока на Сидней-стрит не явились шотландские гвардейцы.
Через пять минут прогремел первый залп с нашей стороны. Посылая во врага пулю за пулей, прибывшие солдаты поспешно занимали позицию на противоположной стороне улицы — за перевернутыми диванами в комнатах первых этажей или за трубами на крыше. Окна, из которых стреляли анархисты, уже лишились стекол. Занавески превратились в лохмотья, одна из них горела. На фоне гулкого эха выстрелов прозвучала обращенная к гвардейцам команда о прекращении огня. Но затишье было недолгим: враг принялся за дело с удвоенной энергией. Я увидел, как один из констеблей, стоявших на уязвимом участке, пошатнулся и упал, прокричав своему товарищу: «Мне конец, Джек!» По счастью, его забрали в больницу и успели спасти.
Если при попытке убить министра внутренних дел анархисты пустили в ход винтовки, то заградительный огонь они вели из автоматических пистолетов. Я мог различить длинные стволы маузеров, выпускавших по две пули в секунду — такая скорость была для нас недостижима. И все же в точности стрельбы они значительно уступали винтовкам, однако наши враги вдруг перестали их использовать. Почему? Чего мятежники добились с их помощью, кроме того, что выдали свое присутствие и навлекли на верхние окна своей цитадели мощный огонь? Вероятно, половина из тех, кто скрывался в доме номер 100, были уже убиты. Неужели министр намеренно предложил им себя в качестве приманки?
О последующих событиях вскоре написали газеты всей страны. Каждый школьник узнал об «осаде Сидней-стрит» и о той роли, которую сыграли в этой операции шотландские гвардейцы и Уинстон Черчилль. За полицейскими кордонами с двух концов улицы росли толпы, и сдерживать их становилось все труднее. Каждый наш выстрел люди поддерживали ободряющими криками. Не верилось, что это происходит в сердце Лондона мирным утром, в то время как клерки и торговцы направляются в свои конторы и лавки, а дети спешат в школу. Теперь многие забыли о своих повседневных обязанностях и напряженно следили за разворачивающейся у них на глазах драмой.
Стоя рядом с Холмсом под прикрытием колонны, я поражался тому, как невозмутимо иные жители Сидней-стрит занимаются бытовыми делами, пока две противоборствующие стороны ведут перестрелку. Пожилая женщина в шали перешла дорогу близ дома номер 100, чтобы забрать выстиранное белье. Свистящие пули смутили ее так же мало, как если бы это был падающий снег.
В воротах углеторговца стоял, опираясь на палку, молодой репортер — первый из прибывших газетчиков. Он едва не потерял равновесие, когда его трость надвое разломила шальная пуля. Еще несколько дюймов, и она отняла бы у мира будущего знаменитого журналиста и писателя сэра Филипа Гиббса. Другой выстрел пришелся в стену: от угла отлетело несколько камешков, один из них упал возле меня, а другой ударился о металлическую каску вздрогнувшего от неожиданности полицейского. Вскоре сырой воздух наполнился едким запахом жженого кордита, от которого у всех стало свербеть в горле. На залпы солдатских винтовок осажденные анархисты по-прежнему отвечали пистолетной пальбой. Нам приказали отойти назад.
Для иронических наблюдений было не время, и все же я не мог не заметить, что в одном из чердачных окон здания, где укрывались преступники, пестрела табличка с изображением британского флага и надписью: «Пошивочная мастерская „Юнион Джек“» [37]. Сегодняшний день едва ли сулил хозяину хорошую выручку!
Репортеров становилось все больше — к огромной радости хозяина «Восходящего солнца». Он все-таки сдал им крышу своего заведения. Капитан Нотт-Бауэр, глава городской полиции, стоял рядом с нами, наблюдая за фасадом дома номер 100, меж тем как его инспектор выстраивал оцепление с тыла, чтобы помешать осажденным уйти или получить подкрепление. Действенность этой меры, однако, не представлялась бесспорной: загнанные в угол анархисты наверняка стали бы стрелять с соседних крыш или через сточные трубы, как поступали повстанцы в России.
Только теперь журналистам сообщили, что в операции участвует Шотландский гвардейский полк, а руководит ею сам министр внутренних дел. Я услышал разговор мистера Черчилля с лейтенантом Россом, который спросил, не отправить ли отряд на штурм домов Мартина.
— Вздор! — энергически рыкнул Черчилль. — Неужели вам не ясно, что эти узкие лестницы и запутанные коридоры — мышеловка для ваших людей? Бандиты только и мечтают вас туда заманить. В случае штурма я обещаю вам самые прискорбные потери. У вас всего двое сержантов и девятнадцать солдат. Нельзя рисковать ни одним из них. Нет уж, сэр, стойте там, где стоите.
Строго говоря, шотландские гвардейцы вовсе не стояли: они стреляли по окнам осажденного дома, лежа на опрокинутых щитах для расклеивания газет. Анархисты успели многократно перезарядить свои пистолеты. Иногда обгоревшие лоскуты занавесок разлетались в стороны, открывая руку, сжимающую оружие. Однажды я увидел профиль оборонявшегося: на долю секунды выглянув наружу, он тут же скрылся, поскольку находиться на линии непрерывного огня противника означало верную смерть.
Пистолеты стрекотали так ожесточенно, что в этом аду каждый из нас с трудом мог слышать собственный голос. Мятежники палили либо стоя в простенках между оконными проемами, либо из глубины комнаты, наугад. Многие, очевидно, перебегали от окна к окну. Один из анархистов стрелял с высокой точки, — наверное, для этого ему пришлось взобраться на стул или стремянку.
Я увлекся сражением и не заметил, как Шерлок Холмс куда-то ушел. Когда я наконец обернулся, он уже приближался ко мне.
— Я разговаривал с Вудхаусом, — сказал мой друг. — Черчилль требует, чтобы сюда доставили полевое орудие с экипажем из полка конной артиллерии, который стоит в Сент-Джонс-Вуде. Это никуда не годится. Здесь Лондон, а не Москва и не Одесса.
Осажденные по-прежнему не показывались из своей крепости, если не считать рук и лиц, изредка мелькавших за развевающимися занавесками. В открытые ворота пивоваренного завода залетела пуля, запахло газом. Холмс внимательно посмотрел на чердак, где находилась портняжная мастерская. Думаю, в ту минуту никому, кроме него, не было дела до верхних этажей: все прочие взоры были устремлены на окна, из которых стреляли анархисты.
— Я скоро вернусь, — сказал он.
Мне подумалось, что мой друг собирается разыскать запропастившегося куда-то Лестрейда или Майкрофта, если он прибыл из Уайтхолла.
— С чего это Холмс вдруг вспомнил Москву и Одессу? — спросил я у капитана Нотт-Бауэра, стоявшего рядом.
— Оглянитесь по сторонам, — мрачно ответил он. — Женщины прильнули к окнам, мужчины и мальчишки расселись на крышах. На улице собрались толпы людей. Если мы начнем палить отсюда из артиллерийских орудий, во все стороны полетят осколки снарядов и обломки кирпичей. Жертв будет не счесть. Именно так случилось в Москве и Одессе. Понятия не имею, о чем думает Уинстон.
В ответ я хотел было сказать, что понятия не имею, куда подевался Холмс, но капитан вдруг обвел взглядом чердак и воскликнул:
— Видите портняжную мастерскую? Вывеску в оконце?
— Да, вижу.
— Надпись перевернута. Такого не было, когда мы сюда пришли.
— Возможно, кто-то из анархистов поднимался, чтобы оглядеть наши позиции. Он убрал вывеску, чтобы она не мешала обзору, а потом поставил ее на место вверх ногами.
— Зачем ему понадобилось снимать доску, если можно было посмотреть поверх нее, правее или левее?
— Не знаю.
— Взгляните! — нетерпеливо проговорил Нотт-Бауэр. — Вы не замечаете?
— Ну да, буквы вверх ногами. Но неужели в такой момент это имеет значение?
— Разве вы не знаете, доктор, — понизил голос капитан, — что перевернутый «Юнион Джек» — это сигнал бедствия, принятый у моряков всего мира?
Только теперь я сообразил, куда исчез мой друг. Несколько сотен человек смотрели на осажденный дом и не замечали странной мелочи, но для Шерлока Холмса она оказалась деталью, от которой зависит чья-то жизнь.
Вдруг толпа загудела. Люди подняли головы, но взгляды их устремились не на чердак, а на крышу здания: из задней трубы струилась тонкая белая полоска дыма. В этот момент в оконное стекло дома на нашей стороне улицы врезалась пуля. Она просвистела возле самых ворот, в каких-нибудь двух футах от места, где мы стояли. Нотт-Бауэр подтолкнул меня, и мы, пригнувшись, бросились на другую сторону Сидней-стрит к мертвой зоне. Когда под непрекращающийся грохот пальбы мы поворачивали за угол, чтобы попасть на задворки домов Мартина, меня встревожил крик, донесшийся из первого этажа «Восходящего солнца»: «Вон они! Давай еще! Пускай получают!»
Подняв голову, я увидел, что в угловом окне мелькнула тень. Толпа заревела еще возбужденнее. В оконный проем влетело несколько пуль, но через секунду был отдан приказ приостановить стрельбу, чтобы мы не пострадали. Впоследствии кто-то сказал, будто патроны, рикошетом отскочившие от стены, убили двух журналистов. Говорили также, что в доме номер 100 укрываются восемь бандитов и с ними их женщины. Один из зрителей пустил слух о перестрелке внутри здания. Никто ничего толком не знал.
Тут я оглянулся и увидел новое облако дыма, клубящееся над цитаделью анархистов. Толпа замерла в боязливом ожидании. «Неужели дом загорелся? — спросил я себя. — Вероятно, его подожгли сами осажденные в последнем бешеном порыве ненависти? Нет, они продолжают отстреливаться и, скорее всего, даже не подозревают о том, что происходит этажом выше». Ненадолго выглянув на улицу, я увидел в чердачном окне яркий всполох огня, который тут же притух и сменился тлением. Разгорающийся пожар словно пытался отвлечь внимание зрителей от поединка, который вели между собой солдатские винтовки и пистолеты анархистов.
Прежде чем повернуть за угол, противоположный «Восходящему солнцу», и выйти в проулок позади построек, мы тщательно осмотрелись по сторонам. Чердак снова осветился яркой вспышкой пламени. Вскрикнули люди: в оконце показался силуэт человека. Насколько я мог различить, он поднимал или тянул какой-то предмет, который исчез, едва огонь утих. В моем сознании сразу же отпечатался четкий профиль — потому, возможно, что именно его я и ожидал увидеть. Действительно ли это был Холмс? Если да, то спасется ли мой друг из горящего здания?
Мы пробирались задворками доходных домов, я шел впереди, капитан — за мной. Неряшливое нагромождение закутков и сарайчиков позволяло найти множество мест для укрытия. Тут и там прохаживались полицейские в неприметной гражданской одежде, с дробовиками и охотничьими винтовками, спешно позаимствованными у оружейного мастера в Уайтчепеле. Переодетые стражи закона так напоминали анархистов, что я подивился, как это ни один из них еще не подстрелил другого. Встретив наконец инспектора в форменном мундире, я обратился к нему:
— В доме сто находится консультирующий детектив. Сейчас он пытается выбраться и, по-моему, хочет кого-то оттуда вывести. Не стреляйте. Я врач и буду здесь, если понадобится моя помощь.
Секунду поразмыслив над моим заявлением, полицейский ответил:
— В этом здании нет никого, кроме захватчиков. Пожалуйста, сэр, отойдите. Вчера оттуда выселили жильцов, каждую комнату обыскали. С тех пор никто из мирных жителей туда не входил.
— Послушайте, его имя…
— …Шерлок Холмс, — подоспел мне на помощь капитан, и с инспектором произошла чудесная перемена. Нотт-Бауэр продолжал: — Я не представляю, зачем он проник туда, но мы только что видели его на чердаке. Огонь хорошо освещал его. Не знаю, сможем ли мы вызволить детектива, но, если он сумеет выйти сам, вы, конечно же, не станете стрелять.
— Но мы не заметили, как мистер Холмс вошел, сэр.
— Не сомневаюсь, — едко проговорил Нотт-Бауэр.
— Сюда пропустили только работника газовой компании, чтобы перекрыть трубу.
Мы с капитаном молча переглянулись. В эту самую минуту чердачное окно, выходившее во двор, озарилось сполохами пожара. Раздался треск дощатых перекрытий, но даже он не смог заглушить грохот выстрелов. Вдруг в дымной пелене мелькнула знакомая фигура.
— Холмс там, в крайнем доме, — задыхаясь, крикнул я.
Мы с инспектором и Нотт-Бауэром бросились вперед, петляя между грязными лужами и сараями, и остановились у последнего дома в ряду краснокирпичных коттеджей Мартина. Над нами продолжали свистеть пули: очевидно, Холмс пробрался сюда не затем, чтобы заставить анархистов прекратить стрельбу. Дверь в одну из задних комнат была открыта, и там уже клубился белый дым, обволакивая обитые тканью стулья, которые могли в любую секунду загореться.
Внезапно я увидел Шерлока Холмса: мой друг сошел по ступеням так же невозмутимо, как если бы шагал по лестнице нашей квартиры на Бейкер-стрит. Он держал за руку растрепанную девчонку лет четырнадцати или пятнадцати — очень худую, бледную и испуганную. Одежда Холмса покрылась пылью, на лице чернели полоски сажи.
— Это Анна, — сказал он успокоительным тоном. — Девушка неважно говорит по-английски, но она не анархистка. Когда будете обыскивать такие помещения в следующий раз, инспектор, не забудьте, что обычно на верхних этажах расположены мастерские, где за гроши сутками напролет трудятся женщины и дети. По окончании рабочей смены некоторые из них тайком устраиваются на ночлег тут же, чтобы не спать под мостами, в подворотнях или на рыночных площадях. Эти несчастные умеют скрываться от обысков.
Ничего не ответив, полисмен приказал своим людям построиться и приготовиться к атаке здания с черного хода. Холмс смерил холодным взглядом охотничьи винтовки полицейских.
— Анархисты изрешетят вас из маузеров. В ответ на каждую вашу пулю они выпустят двадцать или тридцать. Впрочем, оружие сейчас не играет большой роли, потому что вы опоздали — дом в огне. Газовые трубы пробиты выстрелами. Даже если вам не устроят засаду на лестнице, вы все равно не войдете в комнату. Там заперлись люди, готовые сражаться до конца. Их осталось только двое, и они выбрали, как хотят умереть. Лучше им не мешать.
Пламя уже лизало края деревянных ступеней. О штурме больше никто не заговаривал. Как нам сообщили, толпа видела одного из мятежников: он показался за стеклянной дверью фасада, позади него бушевал огонь. Выстрел из винтовки отбросил анархиста назад, мертвого или смертельно раненного. Новая вспышка осветила его товарища, лежащего на постели лицом вниз. Очевидно, он был убит.
Пули перестали вылетать из окон горящего дома задолго до того, как подоспела конная артиллерия. Когда мы с Холмсом и спасенной девочкой вышли на Сидней-стрит, обе стороны уже прекратили стрельбу. Следом за артиллерийским орудием прибыла пожарная машина. Деревянные балки чердака рассыпались тлеющими углями, стены рушились, проваливаясь на нижний этаж, где до недавних пор скрывались анархисты. Едва ли внутри могли оставаться живые люди.
Гвардейцы дали несколько залпов по передней двери и окнам первого этажа. Им не ответили. Сочившийся газ усилил возгорание, и дом превратился в ревущий столб пламени. Солдаты не покидали своих позиций: с колена целясь в дверной проем, они готовились немедленно возобновить стрельбу при виде беглеца. Но бежать было некому. Когда рухнули перекрытия, отряд построился для отступления. Теперь на огромный, устремленный в небо костер были нацелены уже не винтовки бойцов, а брандспойты пожарных.
Неизвестно, сколько анархистов погибло и сбежал ли кто-нибудь из них до или после прибытия полиции. Позднее обгоревшие руины обыскали. Среди обугленных досок и кирпичей нашли голову и руку одного мужчины и простреленный с затылка череп другого. Рядом валялись искореженные пистолеты, которые взорвались от жара. От пошивочной мастерской «Юнион Джек» остались лишь пара манекенов и швейных машин. Кроме того, полицейские обнаружили металлические части кроватей, а также резервуары для ацетилена или газа, имевшие форму торпеды и вполне пригодные для изготовления бомб. Таковы были улики, на основании которых предстояло истолковать случившееся.
Анну, спасенную от верной гибели Шерлоком Холмсом, бережно передали в руки дам из Армии спасения: они разбили лагерь за полицейским оцеплением, дабы по мере своих сил оказывать помощь пострадавшим. Добродетельные матроны охотно согласились доставить девушку к матери и сестрам в Уайтчепел.
— Откуда ей известны условные знаки английских моряков? — удивленно спросил я. — Она же полька, кто ей сказал, что перевернутый «Юнион Джек» — сигнал бедствия?
Холмс улыбнулся.
— Отец Анны много лет служил на торговом судне и развлекал ее историями из флотской жизни — менее изысканными, чем романы Джозефа Конрада [38], но не менее поучительными. Девочка многое из них почерпнула. А вы разве не знали, что означает перевернутый британский флаг?
Этот вопрос несколько задел мое самолюбие.
— Прекрасно знал, разумеется. Но когда пули свистят вокруг, я не обращаю внимания на вывески, даже если они висят вверх ногами.
— В подобных обстоятельствах, мой дорогой Ватсон, вы смотрите и видите, — снисходительно кивнув, сказал Холмс, — но, боюсь, немногое замечаете. А между тем и другим есть весьма существенная разница.
Казалось, огонь уничтожил все свидетельства, которые могли бы пролить свет на предысторию осады Сидней-стрит. Особенно неясной, если верить прессе, представлялась судьба кровавого Петера Художника. Погиб ли он в огне или же благополучно вернулся в Париж, Берлин, Москву? Безусловно, Пятков не был привидением: в полицейских досье разных стран хранились сведения о совершенных им убийствах и поднятых мятежах. В будущем он занял видное место в правительстве революционной России, и Холмс оказался одним из немногих, кто это предсказал. Пока же велись споры о том, кому Пятков подчинялся, кем командовал и какое обличье мог принять. В Англии он, по общему мнению, пробыл недолго: приехал и уехал (или погиб?) через несколько недель после событий на Хаундсдитч-стрит.
Поскольку я видел Пяткова собственными глазами, некоторое время мне докучали журналисты, однако им не удалось выудить из меня ничего нового. Для меня Художник стал еще одним воплощением абсолютного зла, которому не удалось одержать верх над Шерлоком Холмсом.
Я взялся за тетрадь, чтобы поведать читателям об участии моего друга в раскрытии анархического заговора. Стоял ясный февральский день, была суббота. Траву Риджентс-парка все еще покрывала тонкая корка инея. Холмс ушел куда-то по делам, наша хозяйка миссис Хадсон уехала в Далвич навестить сестру. Мэри Джейн, служанка, выполнявшая всю работу по дому, отправилась на прогулку со своим кавалером. В доме воцарилась тишина, Бейкер-стрит была оживлена менее обычного, и, воспользовавшись этим, я начал: «Однажды декабрьским утром, за три года до начала Великой войны, миссис Хеджес рассказала нам странную историю о желтой канарейке…»
Я успел написать страницу или две, как вдруг прозвенел звонок. Визит был весьма некстати, но, по словам Холмса, ради пользы дела следует принимать всех посетителей. Ворча, я отложил перо, спустился по лестнице и открыл дверь.
— Мистер Хо-о-олмс! Мистер Ше-е-ерлок Холмс!
Без преувеличения могу сказать, что в тот момент я оцепенел от ужаса. Я ни секунды не сомневался, кто передо мной стоит. Вопреки надеждам властей, этот человек не погиб на Сидней-стрит. В моем мозгу мелькнула тревожная мысль о том, что в квартире никого нет, а револьвер заперт наверху, в ящике стола. Разве только злодей подумает, будто нас может услышать прислуга, и не решится в меня стрелять?
— Вы, полагаю, дома один? Но, кто бы вы ни были, вас зовут не Шерлок Холмс. Вероятно, если я скажу вам, что моя фамилия Пятков…
Тот же каракулевый воротник, та же широкополая шляпа, те же коротко остриженные волосы, породистое лицо, нос с горбинкой… Только голос звучит спокойно, и на лице играет усмешка. Эх, если б я знал заранее о приходе анархиста, то подготовился бы к встрече. Но он застал меня врасплох, и от неожиданности я на несколько секунд лишился дара речи. Художник расправил плечи, слегка запрокинул голову, и мне показалось, что он вот-вот разразится демоническим хохотом. Вдруг с моих глаз словно спала пелена, сквозь которую я смотрел на мир последние несколько недель.
— Холмс! — воскликнул я.
Он засмеялся, потом перевел дух и снова залился веселым смехом, совершенно не похожим на сатанинское карканье Пяткова.
— Холмс, какого черта?!
— Простите, мой дорогой Ватсон, я не смог отказа… — стоя в дверях нашего дома, он задыхался от хохота. — Я не смог отказать себе в маленьком удовольствии еще разок перевоплотиться. Очень уж мне хотелось вновь взглянуть на ваше лицо в тот момент… Дружище, вы отдавали себе отчет, что всякий раз, когда перед вами появлялся Пятков, меня рядом не было? Да, да! Вы видите, но не замечаете!
Я был так потрясен, что молча попятился в сторону, дав ему войти. Холмс поднялся по ступеням. Скинув пальто с каракулевым воротником и зашвырнув широкополую шляпу на вешалку, он стер с лица искусственный румянец, вынул изо рта кусочки ваты, меняющие форму щек, и удалился в свою комнату, чтобы избавиться от щегольских усов и накладного носа из гуттаперчи и гуммиарабика.
К его возвращению в гостиную я уже почти опустошил стакан виски, который сейчас был мне необходим. Вытирая руки одним из многочисленных свежих полотенец, приготовленных для нас миссис Хадсон, Холмс сказал:
— В этой шутке над вами повинен также мой брат Майкрофт: именно его квартиру я использовал как артистическую уборную.
— Ваш брат все знает?
— Да.
— А Лестрейд?
— Столь впечатлительным людям, как инспектор, не всегда следует говорить правду.
— Но к чему вы затеяли этот маскарад?
Холмс, вздохнув, опустился в кресло.
— Лондонским анархистам почти ничего не известно о Пяткове. Они не имеют представления о его наружности: у него множество личин и он меняет их так же часто, как и манеру говорить. Поскольку члены противоборствующих анархических группировок следят друг за другом, а за ними всеми наблюдает полиция, Художник никогда никому не сообщает своего местонахождения. Его приезды и отъезды всегда неожиданны. Он этакий Алый Первоцвет [39], только не столь обаятельный.
— Не может же он скрываться ото всех!
Холмс потянулся за трубкой.
— Для подобных людей конспирация превыше всего. Они называют свои имена немногим соратникам, лица же не открывают почти никому. Такой человек может не бояться предательства. Пятков не покидал Парижа, но лондонские анархисты — а вместе с ними и полицейские — думают, что он в Англии, живой или мертвый.
— Какой же от этого толк?
— Мы с Майкрофтом сочинили план, в который не посвятили ни единую живую душу. Всех — журналистов, полицию и даже вас, мой дорогой друг, — я заставил поверить, будто Пятков в Лондоне, и, переодевшись, выдал себя за него. Из осторожности мы имели дело лишь с теми, кто никогда не видел настоящего Художника. Оказалось, Сидней-стрит наводнена революционерами, которые намерены начать движение к своей цели с политических убийств.
— И с кем же они хотели расквитаться?
Холмс состроил гримасу.
— Список оказался еще длиннее, чем я ожидал. В него вошли король и премьер-министр, затем сэр Уинстон Черчилль, который возглавляет министерство внутренних дел, а значит, руководит полицейскими силами империи. В солидном перечне имен я нашел и свое — признаюсь, я был бы разочарован, если бы его там не оказалось. Вас, дружище, почему-то помиловали. Маленькое представление, которое я устроил на Бейкер-стрит, и шумиха, поднятая наутро газетчиками, принесли нам огромную пользу — как и ваша поездка по улицам Степни и Уайтчепела в сопровождении двух полицейских. Поверьте, для дела было совершенно необходимо, чтобы вы верили в наш обман. Кругом шпионы. Представьте себе Лестрейда в этом спектакле: бедняга не продержался бы и пяти минут.
— Стало быть, вы сами купили оружие в лавке «Э. М. Рейлли и К°» на Нью-Оксфорд-стрит, а затем передали его в клуб анархистов?
— Именно. Эти превосходные модели очень подходят для уничтожения врагов революции. Сомневаюсь, чтобы товарищам удалось заполучить такие, если б не мой подарок. У революционеров предостаточно пистолетов, но с винтовками дело обстоит гораздо сложнее. Во время осады вы видели мои покупки в действии. Я сумел спасти один образец, когда мне пришлось ненадолго заглянуть в горящий дом. Как справедливо считают анархисты, именно винтовки должны быть орудием политических убийств.
— Разве это не безумство с вашей стороны?! — воскликнул я.
Холмс покачал головой.
— Нет, Ватсон, это холодный расчет. По договоренности с Майкрофтом, я стал интендантом мятежников. За всем необходимым они обращались ко мне. Зная нужды анархистов, я легко догадывался и об их планах. А поскольку мне были известны их намерения, я превратился для них из слуги в хозяина.
— Как же Лестрейд?
— Его мы ни во что не посвящали и впредь не собираемся. Спектакль можно считать оконченным.
— Если я вас верно понял, — проговорил я, сдерживая волнение, — вы снабдили анархистов винтовками и патронами, которые они впоследствии пустили в ход на Сидней-стрит?
— Мы не знали наверняка, где именно будет использовано наше оружие, хотя и знали для чего. В сложившихся обстоятельствах наиболее подходящей мишенью оказался, разумеется, министр внутренних дел.
— Мистер Черчилль согласился взять на себя такую роль?
— Он даже настаивал на этом.
Мне не хотелось называть своего старого друга лжецом, но я не верил, чтобы кто-то — а тем более министр внутренних дел — по собственной воле решился подставить под пули незащищенную грудь.
Последний акт этого, с позволения сказать, фарса был наиболее удивительным. Холмс пообещал рассеять мои сомнения, но как, я и представить себе не мог. Следующим утром он сказал мне, что после обеда у нас будут гости. Действительно, в начале пятого, когда на Бейкер-стрит зажглись фонари и витрины магазинов, под окнами нашей гостиной остановился кеб. По странному совпадению, миссис Хадсон в это время вновь не оказалось дома. Холмс сам спустился, чтобы открыть дверь.
На лестнице послышались голоса, и вскоре в комнату вошел Майкрофт в сопровождении двух незнакомцев, чей вид показался мне, мягко выражаясь, необычным. Одного из них я узнал по визитной карточке, которую он однажды оставил для Шерлока Холмса. Это был Чан Лин Су, «непревзойденный китайский фокусник» из театра «Вуд-Грин-Эмпайр». Вместе с ним пришла его жена Су Син. На мой взгляд, они не слишком-то походили на китайцев. Как выяснилось в дальнейшем, вне сцены их звали Уильямом и Оливией Робинсон.
— Дабы доказать вам, что мы не подвергали жизнь министра внутренних дел опасности, — произнес мой друг, обращаясь ко мне, — я попрошу мистера Чан Ли Су и его супругу выстрелить в меня. Если, конечно, вы сами не возьметесь.
Майкрофт Холмс слушал брата совершенно невозмутимо.
— Конечно нет, — отказался я.
Представление началось. Принесли две винтовки — одну Холмс купил у Э. М. Рейлли, а другая, очевидно, принадлежала фокуснику. Мне дали две пули, чтобы я на каждой из них нацарапал какой-либо опознавательный знак. Несмотря на растущую тревогу, я выполнил просьбу. Оружие зарядили. В том, что патроны боевые, сомневаться не приходилось. Чан Ли Су и Майкрофт Холмс взяли в руки по винтовке. Я искренне опасался стать свидетелем того, как главный советник британского правительства по межведомственным вопросам застрелит младшего брата.
— Прекратите! — яростно вскричал я. — Это опасные шутки!
Пальба в нашей гостиной звучала неоднократно: Шерлок Холмс любил выводить узоры на штукатурке пулями из моего револьвера. Но теперешняя игра казалась куда менее невинной. Мой друг взял серебряное блюдо, подарок одного из наших клиентов, и, держа его на уровне груди, будто бы предлагая угощение, встал в дальнем конце комнаты. От стрелков его отделяло футов двадцать. Я упал в кресло. От волнения меня начинало мутить. Подняв винтовки, Майкрофт и фокусник прицелились Шерлоку Холмсу прямо в сердце.
Два выстрела прогремели почти одновременно. Из стволов вырвались языки пламени, в воздухе повисло пороховое облако, запахло жженым кордитом. Ни один мускул на лице моего друга не дрогнул. «Пинь!» — услышал я вместо крика боли. На серебряный поднос упали пули, которые я собственноручно пометил своими инициалами. Безусловно, здесь крылась какая-то хитрость, хотя стреляли всерьез.
— Мистер Черчилль рисковал не больше моего, — мягко сказал Холмс. — Раздразнив врага своим невозмутимым видом, он вызвал огонь и тем самым заставил мятежников выдать себя прежде, чем они могли бы натворить бед.
— А если бы они взялись за пистолеты?
— Осажденные не могли целиться, не раздвигая занавесок. Как только в окне показалось бы дуло маузера, министра заслонили бы стальным щитом. Наши люди были к этому готовы, но, к счастью, такие меры не потребовались.
«Расстрел», который я увидел в нашей гостиной, по два раза за вечер под бешеные аплодисменты производился на сцене театра «Вуд-Грин-Эмпайр». Теперь мне объяснили суть фокуса. Механизм винтовки был слегка видоизменен: пуля теряла убойное действие, так как пороховые газы выходили внизу по шомпольной трубке. Анархисты разгадали этот трюк слишком поздно.
Сидя в гостиной, где еще витала пороховая пыль, я понял, почему по утрам Холмс иной раз выглядел таким утомленным и от него пахло припоем. Мой друг проводил ночи в обществе своего брата Майкрофта или «непревзойденного китайского фокусника», конструируя оружие для мятежников.
Я не могу завершить свое повествование, не сообщив читателю о том, что некоторые участники драм, разыгравшихся на Хаундсдитч— и Сидней-стрит, впоследствии вновь дали о себе знать. И, говоря это, я имею в виду не только тогдашнего министра внутренних дел, чье имя позднее прогремело на весь мир.
Чан Лин Су, «непревзойденный китайский фокусник», пал жертвой собственной изобретательности. Из-за многократного извлечения затвора износился механизм его винтовки, и однажды она случайно выстрелила. Увы, 23 марта 1918 года человек, оказавший нам неоценимую услугу, был насмерть сражен пулей на глазах у зрителей, рассчитывавших провести приятный субботний вечер в театре «Вуд-Грин-Эмпайр».
О Петре Пяткове мы узнали, что до отъезда в Париж он изучал медицину у себя на родине, куда и возвратился вскоре после лондонских событий. Свое прозвище Художник получил, зарабатывая на хлеб изготовлением театральных декораций. Когда началась война, Пятков избежал призыва в царскую армию, эмигрировав в Германию, и о нем ничего не было слышно, пока в 1917 году он не вернулся в революционный Петроград.
Передо мной вырезка из газеты «Таймс» от 14 апреля 1920 года. Обратив внимание на эту статью, Холмс прочитал мне ее за завтраком. Автор, подписавшийся буквой С., сообщал, что в Москве опубликованы имена 189 человек, расстрелянных согласно приказу Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. Все казненные были участниками митинга на Путиловском заводе в Петрограде: они потребовали «хлеба и свободы», осудив действия большевистской власти, которая дала им лишь «тюрьму, кнут и пули» взамен «мелких политических свобод царского режима». Как писала газета, для проведения массового расстрела из Москвы в Петроград был направлен Петр Пятков — «Петер Художник, снискавший себе дурную славу на Сидней-стрит». Перед казнью несчастным объявили, что они приговорены к смерти за осквернение идеи свободы, которую их великий вождь Ленин определил как самодисциплину пролетариата.
Сообщение об этой кровавой расправе и упоминание имени палача заставили меня содрогнуться. Впоследствии, читая о событиях в России, я встречал и другие знакомые имена. Двоюродный брат анархиста, погибшего при осаде Сидней-стрит, занял видное место в ЧК, советской тайной полиции. Газета «Таймс» назвала этого человека [40]одним из самых жестоких убийц первых лет террора.
Документальные свидетельства событий, о которых я собираюсь поведать читателю, на протяжении многих лет содержались в самом надежном банковском хранилище лондонского Сити. Один ключ от черных металлических ячеек находился у меня, второй — у тайного советника его величества, и открывать их мы могли лишь по обоюдному согласию. В сейфах хранились письма, телеграммы, а также пачки бумаг, перевязанные розовой лентой на манер адвокатских досье. Некоторые были помечены краткими надписями, сделанными самим Шерлоком Холмсом. К примеру, одна из них, выведенная черными чернилами, гласила: «Артур Циммерманн, 1917. 20 лет». Два десятилетия — это срок, на протяжении которого мой друг и я присягнули хранить в тайне известные нам секретные факты Великой войны 1914–1918 годов. В августе 1914 года, когда вся Европа устремилась в кровавую бездну, первый лорд адмиралтейства в Букингемском дворце принял нашу клятву о неразглашении. Много воды утекло с тех пор, и теперь, с согласия правительства его величества, документы могут быть обнародованы.
До недавнего времени я полагал, что доказательства нашей причастности к борьбе с Германской империей погибли в огне камина — Холмс в последние дни своей жизни сжег часть архива. «Конечно же, он не мог не уничтожить этих бумаг», — думал я и, как оказалось, ошибался. Они лежали, целые и невредимые, среди прочих писем и заметок, которые мой друг не думал скрывать. Вероятно, он считал, что телеграмма, давшая название моему нынешнему рассказу, ни о чем не сообщит человеку, случайно ее нашедшему.
Сейчас это послание, напечатанное на фирменном бланке компании «Вестерн юнион», лежит передо мной. Оно было отправлено 19 января 1917 года из Вашингтона в Мехико через Галвестон, штат Техас. Читатель может ознакомиться с текстом, если пожелает. Немного опережая события своего повествования, я готов показать, сколь обескураживающий вид порой имеют зашифрованные сообщения разведывательных служб великих держав. Вообразите себе хотя бы на миг, что жизни миллионов людей и судьбы государств зависят от того, сумеете ли вы в течение двух-трех часов решить такой ребус:
«В ГЕРМАНСКУЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ МИССИЮ МЕХИКО
Пересылка за счет посольства Германии
Вашингтон, 19 января 1917 года
Через Галвестон
130 13042 13401 8501 115 3528 416 17214 6491 11310 18147 18222 21560 10247 11518 23677 13605 3494 14936 98092 5905 11311 10392 10271 0302 21290 5161 39695 23571 17504 11269 18278 18101 0317 0228 17694 4473 23264 22200 19452 21589 67893 5569 13918 8958 12137 1333 4725 4458 5905 17166 13851 4458 17149 14471 6706 13850 12224 6929 14991 7382 15857 67893 14218 36477 5870 17533 67893 5870 5454 16102 5217 22801 17138 21001 17388 7446 23638 18222 6719 14331 15021 23845 3156 23552 22096 21604 4797 9497 22464 20855 4377 23610 18140 22260 5905 13347 20420 39689 13732 20667 6929 5275 18507 52262 1340 22049 13339 11265 22295 10439 14814 4178 6992 8784 7632 7357 6926 52262 11267 21100 21272 9346 9559 22464 15874 18502 18500 17857 2188 5376 7381 98092 16127 13486 9350 9220 76038 14219 6144 2831 17920 11347 17142 11264 7667 7762 15099 9110 10482 97556 3569 3670
Таков этот удивительный документ. Предвосхищая вопросы читателей, скажу, что ни одна из цифр телеграммы не имеет постоянного соответствия той или иной букве алфавита. Слова сообщения могут повторяться, однако каждый раз они приобретают новый вид. Под «7» в одном случае подразумевается «а», в другом — «т», в третьем — «м». Последовательность цифр определяют бесконечно меняющиеся ключи.
Шерлок Холмс был одним из немногих людей на земле, способных за несколько часов решить подобную головоломку. Помогали ему люди разного рода деятельности, порой самого неожиданного. Наряду с морскими офицерами и знатоками классических языков из лучших университетов Великобритании разведывательная служба адмиралтейства приглашала к сотрудничеству фанатиков разгадывания ребусов, чудаков и оригиналов всех мастей. Вместе с моим другом над шифрами бились математики, пионеры в символической логике, в том числе ученики преподобного Ч. Л. Доджсона, известного миру как Льюис Кэрролл. Холмс не раз замечал, что, будь с нами покойный автор «Алисы», все секреты германской разведки, с первого дня войны и до последнего, были бы раскрыты.
Так или иначе, великий детектив прекрасно понимал, что он и сам недурно справляется с возложенной на него задачей. Как-то раз, когда наш поединок с Циммерманном уже закончился и война осталась в прошлом, Холмс откинулся на спинку своего любимого кресла у камина и, отдавшись во власть столь нестерпимого для меня философского настроения, зажег вересковую трубку.
— По правде говоря, Ватсон, — сказал он, гася спичку, — работа оказалась довольно утомительной, и все же неплохо, что я подвернулся под руку нашим министрам, когда они столкнулись с этой маленькой головоломкой.
Я рассмеялся, хоть мой друг и не шутил. Он напомнил мне герцога Веллингтона, однажды сказавшего о битве при Ватерлоо: «Черт побери! Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не я!»
Англия должна быть благодарна своим сынам, которые в минуты тяжких испытаний всегда приходили ей на помощь и отстаивали победу до последнего. Смею надеяться, читателю будет небезынтересен мой рассказ о том, как Шерлок Холмс выиграл странную, но оттого не менее судьбоносную битву за телеграмму Циммерманна.
К участию в этом деле нас привлекли в самый канун войны по настоянию первого лорда адмиралтейства сэра Джона Фишера, прозванного Джеки. Еще в мирное время он приезжал к нам на Бейкер-стрит с просьбой расшифровать коды перехваченных немецких сообщений. Теперь же любой прохожий мог оказаться профессиональным шпионом или просто предателем, за вознаграждение «сочувствующим» германскому адмиралу Тирпицу, и Джеки Фишер был не вправе рисковать, лично являясь на квартиру к известному частному сыщику.
От нашего друга, главного инспектора Лестрейда, теперь служившего в Специальном отделении Скотленд-Ярда, мы узнали, что в окрестностях Бейкер-стрит проживают иностранцы, внушающие полиции опасения: часовой мастер — швейцарец, банковский посыльный — швед, испанец-ресторатор. Подозревали, что кто-то из них завербован немцами для слежки за Шерлоком Холмсом. Будучи гражданами нейтральных государств, эти люди могли передавать сведения в берлинские разведывательные службы через свои посольства, не опасаясь, что в Лондоне их повесят или расстреляют за измену родине.
Дабы ввести в заблуждение соглядатаев, сэр Джон Фишер назначил Шерлоку Холмсу встречу при весьма необычных обстоятельствах — на предвоенном придворном балу в Букингемском дворце. Место и время были выбраны весьма удачно, поскольку все знали о нелюбви Холмса к такого рода развлечениям (о которых обществу предстояло на несколько лет забыть). Всю свою жизнь мой друг столь мало интересовался «светской чепухой», что теперь необходимость посетить бал не на шутку нас озадачила. За полным неимением других знакомых леди, я был вынужден смутить двух своих кузин, старых дев из Девоншира, предложением стать нашими спутницами.
Всеобщая тревога не умалила блеска последнего бала мирного времени, который Холмс мрачно назвал весельем на подступах к Армагеддону. Торжество должно было состояться месяцем ранее, до объявления ультиматумов, но его отложили из-за траура по австрийскому эрцгерцогу Францу-Фердинанду и его супруге Софии, убитым боснийским студентом 28 июня 1914 года. Кто бы мог подумать, что выстрелы, прогремевшие в далеком пыльном балканском городе, ввергнут весь мир в пучину войны?
Никогда не забуду пышности того праздника, ознаменовавшего собою прощание с догорающей мирной эпохой. Юный принц Уэльский, застенчивый мальчик, которому в 1936 году суждено было стать Эдуардом VIII, исполнял фигуры большой кадрили в паре со своей матерью, королевой Марией, пока король Георг вел серьезную беседу с графом Бенкендорфом, послом нашей союзницы России. Германские и австрийские дипломаты на бал не явились: они укладывали свои чемоданы, считая убывающие минуты до истечения срока ультиматума.
Холмс и я очутились в дальнем углу бального зала, в кружке, центром которого был лорд Уильям Сесил, королевский конюший и офицер военной разведки. Мой друг не любил светских бесед и вскоре впал в угрюмую молчаливость. Даже тогда, когда к нему обращались прямо, он неучтиво цедил сквозь зубы односложные ответы. Будучи слишком взволнованным, чтобы самостоятельно сгладить неловкость нашего положения, я принялся высматривать среди присутствующих высокую элегантную фигуру сэра Джона Фишера в синем мундире с золотым кантом. Первый лорд адмиралтейства увидел меня, однако не подал виду. Он тоже был мрачен: «веселые» морщинки возле углов рта остались, но улыбка погасла, светлые глаза потускнели.
Дружба великого детектива и великого адмирала продолжалась уже много лет. Холмсу пришелся по душе простой принцип, которого Джеки Фишер придерживался в ведении войны на море: «Бей первым, бей сильнее, бей без передышки». В присутствии моего друга нельзя было и слова сказать против сэра Джона — Холмс считал его человеком, совершенно чуждым всякого позерства и достойным девиза «Ни одной из партий я не присягал; не могу молчать, я и вовек не лгал» [41].
Лорд Уильям Сесил вдруг перестал фонтанировать банальностями, и это вывело меня из задумчивости. Словно по чьему-то сигналу, он подхватил нас с Холмсом под локти и, что-то бормоча, потащил к обеденному залу, где уже начинала собираться толпа. Однако мне с моим другом не удалось подойти к столам, сверкающим серебром и фарфором на ослепительно-белых скатертях, а королевским лакеям не довелось предложить нам икры и лосося. Холмс и я проследовали к украшенной золотой лепниной белой двери, которая заперлась за нами, едва мы перешагнули порог и оказались в приемной, обитой шелковыми шпалерами. Согласно данной нами клятве, все сказанное здесь надлежало хранить в тайне.
Сэр Джон Фишер говорил от лица короля Георга. Лорд Уильям Сесил вел записи для военного министерства. В комнате также присутствовал незнакомый мне джентльмен в форме капитана Королевского флота. Даже если бы нам не было суждено увидеться снова, я вряд ли позабыл бы наружность этого подтянутого человека с правильной куполообразной лысиной и крепким раздвоенным подбородком. Особенно запоминались его глаза, обладавшие темной всепроникающей гипнотической силой.
— Джентльмены, — сказал Фишер, обращаясь к нам, — позвольте представить капитана Реджинальда Холла, в настоящее время командующего линейным крейсером «Королева Мария». В скором времени имя этого человека прозвучит на всю Англию: сэр Реджинальд получит звание адмирала и должность начальника разведывательной службы адмиралтейства.
Мне сразу стало ясно, какую игру нам навязывают. Реджинальд Холл легко кивнул нам и словно невзначай взял с маленького журнального столика вечерний выпуск «Глоуб». Заголовки, набранные крупным шрифтом, кричали о вторжении германской армии на территорию Бельгии и о бесплодном героизме бельгийцев, неспособных отразить атаку превосходящих сил. Небрежно положив газету на место, капитан устремил на нас свой пронизывающий взор.
— Вот такие дела, мистер Холмс и доктор Ватсон.
— Смею заметить, сэр Реджинальд, — произнес Холмс с излишней, как мне показалось, холодностью, — что подобные дела не отвечают ни моему роду занятий, ни моему вкусу. Признаюсь, в свое время я отправил на тот свет пару негодяев и не сожалею об этом, но убийства такого масштаба — блюдо, которого я не перевариваю.
Прежде чем прославленный детектив успел сказать что-нибудь более резкое, в разговор вмешался Фишер:
— Солидарен с вами, мистер Холмс. Но если мы вступаем в войну, нам остается либо проиграть, либо выиграть ее — третьего не дано. И мой долг перед его величеством — сделать все возможное для победы.
Слова первого лорда адмиралтейства не были для меня неожиданными. В последние несколько недель очень многие высказывались в подобном духе. Фишер напомнил нам о том, что Англия не участвовала в крупных европейских войнах без малого сто лет — с 1815 года, когда Наполеон был разбит при Ватерлоо. Теперь нас застали врасплох — а сэр Джон неоднократно предрекал это, — и если англичане не хотят поражения, работа найдется для всех. Отныне «гражданских» быть не должно: у каждого мужчины и у каждой женщины есть определенные обязательства перед нашим общим домом. Первые британские полки, тайно направленные во Францию, уже приступили к выполнению своего долга. Миссия, которую отечество возложит на Шерлока Холмса и меня, пока была не вполне ясной, однако, как подчеркивал сэр Джон, важность ее беспрецедентна.
— Ваша роль совершенно очевидна, мистер Холмс, — сказал Фишер, глядя моему другу в глаза. — Вы должны стоять на страже безопасности нашей нации. Если вы не согласитесь служить в разведке, в этой войне мы окажемся слепы и глухи.
— Начнем с того, — проговорил Холмс (вопреки моим опасениям, его тон несколько смягчился), — что, если я, точно какой-нибудь конторский посыльный, стану совершать ежедневные путешествия с Бейкер-стрит в Уайтхолл, за мной увяжутся все шпионы Лондона. Если я вас верно понял, вы предлагаете мне работу в знаменитом кабинете под номером сорок в старом здании адмиралтейства. Происходящее за дверями этой комнаты держится в столь строгом секрете, что любой уличный мальчишка в Вест-Энде расскажет вам о ней с дюжину историй.
— Чем больше соглядатаев последует за вами по пятам, — спокойно резюмировал Фишер, — тем лучше: меньше труда их ловить. Поверьте, мы сумеем использовать вражеских агентов наиболее выгодным для себя образом. Я немало об этом думал.
Холмс, казалось, слушал не слишком внимательно. Гораздо сильнее его занимал интерьер приемной, которую он оглядывал с таким видом, будто не понимал, как можно жить в этом невообразимом буйстве краски и позолоты, среди всех этих шелков и атласов. В ответ на слова Фишера мой друг лишь слегка приподымал бровь, словно удивляясь, что простой флотский адмирал берет на себя смелость возражать ему, мудрецу с Бейкер-стрит.
— Очень хорошо, — буркнул он наконец. — Расскажите, в чем состоит ваше предложение.
Джеки Фишер облегченно вздохнул и принялся объяснять свой план:
— Вы, конечно же, помните чертежи подводной лодки Брюса-Партингтона, украденные из сейфа вулиджского арсенала. С того дела началось наше с вами знакомство. Вы оказали мне неоценимую услугу, и доктор Ватсон впоследствии поведал об этом своим читателям.
— Отнюдь не по моей просьбе, — отрезал Холмс, но Фишер оставил его реплику без внимания.
— Кроме того, — продолжил он, — вы, насколько я помню, увлекались изучением хоровой музыки Средних веков и даже написали трактат о песнопениях Орландо ди Лассо, не так ли? Это чрезвычайно меня удивило.
— У вас превосходная память, — сухо сказал Холмс, снова, однако, нимало не смутив собеседника.
— Мой план таков. Наши берлинские противники многое отдали бы за сведения о ваших занятиях в ходе войны. Я предлагаю удовлетворить чем-нибудь их любопытство. Что же до вашего нежелания участвовать в военных событиях, то это решение разумно и гуманно. Я вовсе не заставляю вас поступаться своими принципами. Более того, прошу вас написать в «Таймс», или «Морнинг пост», или в обе эти газеты и выразить сожаление в связи с осложнившимися британско-германскими отношениями и надежду на благополучное разрешение…
— Я не просто сожалею об осложнившихся отношениях. Я против этой войны и всех других кровопролитий, — парировал Холмс.
Капитан Холл досадливо поморщился, но Фишер невозмутимо продолжал:
— Я даже заинтересован в том, чтобы ваше обращение в прессе прозвучало как можно более искренне. Заявив о своей ненависти к войне, вы могли бы добавить, будто отныне собираетесь посвятить себя изучению наследия Орландо ди Лассо. Немцы, разумеется, могут усомниться в правдивости ваших слов, но едва ли сумеют их опровергнуть. Вы выберете для работы подходящую библиотеку. Она не должна быть публичной, иначе за вами будут непрестанно следить, чего нельзя допускать. Пусть враг лишь видит, как вы входите и выходите — тогда, когда это нам удобно.
— И что же будет скрываться за загадкой Ахилла, удалившегося от ратных дел в свой шатер? — спросил Холмс.
— Я предлагаю, — сказал сэр Джон Фишер, и в его глазах наконец-то загорелась знакомая мне искра, — вернее, его величество предлагает вам заняться расшифровкой и поиском источников вражеских сигналов. Отныне мы разделяем британскую разведывательную службу на агентурную и радиотехническую ветви. Вы возглавите радиоразведку, центром которой станет кабинет номер сорок. Видите, какие плоды приносит ваша слава!
Холмс постепенно таял под действием чар Джеки Фишера. Пока мы в приемной обсуждали новую работу, предложенную великому детективу самим монархом, в нескольких футах от запертой двери бушевал вихрь шелков и бриллиантов.
Предполагалось, что о самом существовании кабинета под номером 40 должны знать лишь немногие избранные, и, вопреки ироническим ремаркам Холмса, это действительно было так. Комната в Старом Адмиралтействе, выходящая окнами на плац-парад конной гвардии, Сент-Джеймсский парк и ренессансную громаду Министерства иностранных дел, действительно оставалась тайным центром, в стенах которого лучшие умы военной разведки трудились над закодированными сигналами, курсировавшими в ночном эфире между Берлином и Анкарой, Вальпараисо и Токио.
Кроме того, Фишер сообщил нам, что немцы передают как военные и дипломатические шифрограммы, так и обыкновенные сообщения при помощи глубоководного кабеля. Он идет от бременского порта по дну Северного моря к Ла-Маншу и через Бискайский залив к порту Виго на севере Испании. Провода тянутся также через Атлантику: к Нью-Йорку и Буэнос-Айресу через остров Тенерифе, принадлежащий Канарскому архипелагу.
Этим подводным линиям передач суждено было прекратить существование в первые же часы после объявления войны. Корабль «Телкония», собственность крупной кабельной компании, уже стоял в Дувре с военными моряками на борту. Ночью перед истечением срока британского ультиматума Берлину судно должно было выйти в рейс с запечатанным пакетом, содержащим секретные предписания, и направиться к нейтральному нидерландскому берегу, чтобы затем нанести удар по немецкой глубоководной системе связи в самом уязвимом месте — на мелководье. Экипажу «Телконии» приказали бросить якорь на водной границе Голландии с Германией и под покровом темноты и тумана ждать из адмиралтейства полуночного сигнала всем судам Королевского флота об объявлении войны.
Согласно плану, после этого «Телкония» зацепит крюками и вытащит на поверхность пять трансатлантических кабелей, покрытых железной оболочкой, военные связисты перережут их и концы будут брошены в море. Пусть нейтральная Голландия продолжает беспрепятственно вести переговоры с миром. Вражеской же Германии теперь придется довольствоваться открытым радиовещанием, передавая сигналы из крупного узла в Науэне, близ Берлина, либо через соседние дружественные страны, такие как Швеция. Сообщения в эфире будут перехватываться новыми станциями оборонного ведомства, которые цепью протянулись вдоль всего британского побережья.
Посвятив нас в эти подробности, Фишер заговорил о строжайших мерах безопасности и секретности:
— Общество не должно знать о вашем, мистер Холмс, сотрудничестве с адмиралтейством. Противнику наверняка известно, что в прошлом вы уже расшифровывали его засекреченные депеши. Нужно заставить немцев поверить, будто вы навсегда оставили это занятие.
— Прежде всего, — вступил в разговор капитан Холл со скромностью, приличествующей новичку на политических дебатах, — мы предприняли попытку убедить неприятеля в существовании широкой и действенной британской шпионской сети на континенте. Два офицера Королевского флота, лейтенант Брендон и лейтенант Тренч, были приговорены в Германии к тюремному заключению. Судя по всему, Тирпиц отвергает версию того, что его шифрограммы раскодированы: он охотнее верит, будто ключи оказались в наших руках вследствие неосторожности или даже измены с немецкой стороны. Разумеется, у нас есть агенты в Европе, но их гораздо меньше, нежели полагают на Вильгельмштрассе. Некоторые из самых ловких и надежных сотрудников британской разведки играют по нашей просьбе роль перебежчиков. Насколько известно, немцы высоко ценят сведения, полученные от предателей.
Холмс задумчиво молчал, глядя в сторону. Через несколько мгновений сэр Джон Фишер прервал его размышления нетерпеливой тирадой:
— Вы, мистер Холмс, протестуете против войны. Однако вы не можете осуждать ее горячее, чем я… или наш король. Она подвергнет лучших молодых людей смертельной опасности на суше и на море. Чем быстрее конфликт будет исчерпан, тем лучше. С вашей помощью триумф может достаться нам без крови. Войн без сражений, разумеется, не бывает. Но если постараться, то можно избежать многих битв, которые грозят обойтись нам в десятки тысяч жизней. Разве такая победа, к которой стремлюсь я, не лучше человеческих жертвоприношений?
Холмс повернулся к сэру Джону.
— Очень хорошо, — со спокойной решимостью произнес мой друг. — Я подданный его величества и обязан подчиниться. Надеюсь, что это действительно приблизит окончание войны и уменьшит число ее жертв.
В белой приемной, обставленной мебелью с золотым кантом, прошелестел всеобщий вздох облегчения.
Наши переговоры с Фишером и Холлом оказались отнюдь не преждевременными. В тот же вечер несколько офицеров в парадных кителях, при орденах спешно покинули бал: с нарочным во дворец прислали сообщение о том, что двум нашим лучшим полкам приказано немедленно вернуться в лагеря. Не имея времени даже на сбор резервистов, они должны были в нынешнем составе явиться на станцию Ливерпуль-Стрит, откуда их поездом отправят в Кингс-Линн для отражения возможного нападения германских войск на восточное побережье Великобритании. Атаки врага ожидали уже к рассвету.
Эта внезапная новость породила во мне ощущение иллюзорности происходящего, будто я участвовал в спектакле «Хеймаркета» или «Лицеума». Однако очень скоро о случившемся заговорили все вокруг, и действительность предстала передо мной без прикрас.
Еще в Букингемском дворце, выслушивая план сэра Джона Фишера, я с трудом верил в то, что врага удастся долго держать в заблуждении. До начала войны первому лорду адмиралтейства легко было похваляться тем, как ловко он одурачит немцев. На деле же все оказалось сложнее. Ведь Лондон уже наводнили вражеские шпионы всех видов и мастей. Даже если не принимать в расчет предателей из числа соотечественников, любой из проживающих в Англии граждан нейтральных государств мог сочувствовать германской стороне. Каждый раз, покидая квартиру на Бейкер-стрит, Холмс и я думали о том, не идет ли следом соглядатай.
Двоих молодчиков, постоянно ходивших за нами по пятам, мы вычислили достаточно быстро. Обвинить их в нарушении закона было трудно, да и в любом случае, по справедливому утверждению Холмса, держать шпионов в поле зрения куда полезнее, чем за решеткой. Место арестованных непременно займут другие, и будет скверно, если мы заметим это слишком поздно.
Одним из немецких наймитов был тучный молодой человек, краснолицый и одышливый. Изображая конюха, направляющегося в парк, он часто появлялся в кепи и гетрах близ Корнуолл-Террас именно в тот момент, когда Шерлок Холмс садился в кеб. Проводив великого сыщика взглядом, толстяк переходил дорогу и поворачивал в противоположную сторону, к Мэрилебону. Мы не могли выдвинуть против него никаких обвинений и все-таки знали наверняка, что он шпион. Вахту у него принимал другой тип, который нередко выруливал на велосипеде на угол Парк-стрит рядом с кебом Холмса. Судя по темным волосам и заостренной бороде, словно тронутым изморозью, он был гораздо старше своего полнотелого сообщника, однако двигался чересчур резво для столь преклонных лет, что позволяло заподозрить его в маскараде. Так или иначе, никто не смог бы пригрозить ему за это расстрелом.
Мы почти никогда не мешали соглядатаям заниматься своим делом. Лишь однажды, в один из первых дней войны, я вздумал вывести на чистую воду громадного рыжеволосого детину с типично немецкой физиономией, причем сделал это главным образом для того, чтобы умиротворить миссис Хадсон, нашу мнительную квартирную хозяйку. Холмса дома не было, а «шпион» оказался переодетым сержантом из управления уголовных расследований, приставленным к нам для нашей же безопасности. Нечего и говорить, эта ошибка, допущенная мною от чрезмерного усердия, немало позабавила моего друга.
Письмо, в котором Холмс осуждал бессмысленность войны, в назначенный день появилось в газете «Морнинг пост». Оно было написано достаточно прочувствованно, чтобы показаться неискушенному читателю абсолютно убедительным. Я даже опасался шквала ответных гневных посланий от воинственных патриотов, но такового не последовало. В ту пору страсти еще не успели накалиться.
Каждое утро кебмен доставлял Шерлока Холмса в Сент-Джеймсскую библиотеку, находящуюся возле Пэлл-Мэлл, для продолжения работы над трактатом о контрапункте в сочинениях Орландо ди Лассо. Это заведение для библиофилов было основано в 1840-е годы знаменитым Джоном Стюартом Миллем [42]. Открыта сокровищница знаний лишь для тех, кто получил рекомендации и впоследствии членство, посему узнать имена посетителей не составляет труда. Холмс-музыковед работал здесь до вечера, после чего возвращался на Бейкер-стрит.
Служащие морской разведки предупредили нас, что за зданием библиотеки ведется наблюдение из окон респектабельного Европейского клуба, расположенного напротив. Так или иначе, вражеские агенты вряд ли видели, как Шерлок Холмс входит в читальный зал после прибытия из дому, изучает там книги, а потом выходит на улицу перед отъездом на Бейкер-стрит. Не думаю, чтобы чье-то внимание привлек молодой плотник, который чинил библиотечные полки, а потом, размахивая сумкой с инструментом и насвистывая, направлялся на другую работу. Порой по ступеням поднимался неуклюжий провинциальный джентльмен, приехавший из Суссекса или Суррея, чтобы час-другой полистать редкие фолианты. Иногда в дверях появлялся пожилой ученый в старомодном цилиндре, прибывший, очевидно, оксфордским поездом, или добродушный сельский пастырь, спешащий возвратиться в свой приход.
Читатели, знакомые с другими приключениями Шерлока Холмса, без труда узнают его в насвистывающем плотнике, мешковатом эсквайре, дряхлом ученом муже и деревенском священнике. По счастью, германской разведке не было известно, что однажды, в 1879 году, великий сыщик выступил в постановке «Гамлета» на сцене театра «Лицеум», подменив исполнителя роли Горацио и на один вечер став партнером самого сэра Генри Ирвинга [43]. После первого — и, увы, последнего — выхода на лондонские подмостки моего друга пригласили принять участие в восьмимесячном турне по Соединенным Штатам шекспировской труппы Сазонова. Говорили, что дебют начинающего актера был блестящим, он не просто был органичен в историческом костюме, но глубоко проник в образ своего героя.
Что же до нашего нынешнего спектакля, то, пожалуй, вершины перевоплощения Холмс достигал в минуты, когда на Пикадилли-сквер останавливался кеб и знакомая многим сухощавая фигура устремлялась к дверям библиотеки, в то время как возница, стегнув лошадь, поворачивал на Пэлл-Мэлл. Шпионы видели то, чего ожидали, даже не подозревая, что по ступенькам поднимается актер-любитель или же оставивший сцену профессиональный лицедей, а сам консультирующий детектив в поношенном пальто лихо гонит свою лошадку в надежно охраняемую конюшню старого адмиралтейского двора.
На всякий случай, для пущего удовлетворения немецкого любопытства, Холмс ближайшей весной опубликовал две безукоризненные статьи о полифонии Орландо ди Лассо. Одни только ссылки на печатные и рукописные источники занимали в них по нескольку страниц. Экземпляры журналов были заказаны через нейтральную Женеву и доставлены, как оказалось, в берлинское бюро военной разведки. С тех пор соглядатаев, ежедневно сопровождавших прославленного сыщика с Бейкер-стрит на Пикадилли, заметно поубавилось — как и тех, вероятно, кто скучал у окон Европейского клуба.
Учитывая, с какой неохотой Холмс согласился участвовать в войне, которая, как надеялись тогда, к Рождеству закончится, читатель легко представит себе чувства моего друга, когда Западный фронт превратился в месиво грязи и крови. Приятным июньским вечером, спустя почти два года после начала военных действий, мы сидели у окна, обсуждая потери Британии в Ютландском сражении, произошедшем пару недель назад, а также недавнюю гибель военного министра лорда Китченера на затонувшем крейсере. Холмс пребывал в наихудшем расположении духа.
— Боюсь, Англия и Германия превращаются в два трупа, скованные одними наручниками, — мрачно сказал он и, поглядев на тихую улицу, после паузы добавил: — Даже если мы разгромим наших врагов, это может привести лишь к нищете и смуте в Центральной Европе на ближайшие полвека.
— Здесь кабинет номер сорок бессилен, — философски произнес я.
Холмс поднялся и взял сигаретную коробку с каминной полки. Приближалось летнее солнцестояние, и закатный свет ложился на дальнюю стену нашей гостиной, будто расплавленная позолота.
Мой друг зажег сигарету, взмахом руки погасил спичку и снова уселся в свое кресло у окна.
— Я никак не могу втолковать Холлу, — сказал он, — что, если мы хотим вести на поводу германскую разведку, нужно позволить им читать наши шифровки.
«Не ослышался ли я? — подумалось мне. — Вероятно, в его тоне была ирония, которой я не уловил?»
Холмс встал. За многие месяцы изнурительной работы его долговязая фигура, которую теперь освещали золотистые солнечные лучи, стала еще худощавее прежнего. Внезапно я не без некоторой тревоги заметил на лице друга знакомые признаки нетерпения, вызванного приливом всепоглощающей энергии, страстным натиском аналитического ума.
— Вы хотите, чтобы немцы узнали наши секретные коды?
— Разумеется! — с жаром проговорил он. — Мы не можем читать все мысли врага, только перехватывая его сообщения. Для Германии настала пора выиграть этот поединок шифровальщиков. Горстке наших шпионов, под диктовку Холла рассказывающих немцам небылицы о планах Британии, уже никто не верит. Этот трюк устарел. Ведь Тирпиц далеко не глуп. Он адмирал, равный Фишеру, и слишком часто сталкивался с обманом, чтобы верить иным фактам, кроме тех, о которых сам прочел.
— Но вы ведь не собираетесь выдать немцам наши секреты?
Холмс досадливо помотал головой.
— Мы должны предоставить неприятелю ключи к нашим шифрограммам. Пусть он думает, будто не проигрывает, а побеждает. В последнее время мы слишком много кричали о наших успехах. Теперь настал черед врага перехватывать наши сообщения с жалобами на новые немецкие коды, сбившие нас с толку.
— Но такой информации не поверят!
К моему удивлению, Холмс улыбнулся.
— Представьте себе: мы передаем германской разведке полный набор засекреченных экстренных кодов, которыми собираемся пользоваться в ближайшие шесть месяцев.
— Вы полагаете, будто все это будет принято на веру?
— Думаю, да. Нужно лишь позволить противникам выкрасть у нас шифровальные таблицы. Уверен, с этой задачей под силу справиться нам с вами. Не станем беспокоить адмирала Холла. Нам необходимо всего лишь передать в Берлин кое-какие сведения.
При последних словах моего друга мне показалось, будто у меня остановилось сердце.
— Вы не опасаетесь, что нас расстреляют как предателей родины или убьют в Германии? — с трудом переведя дух, в отчаянии воскликнул я.
— Мой дорогой Ватсон, враг охотно поверит в подлинность наших шифровальных таблиц, если преподнести их ему соответствующим образом. Немецкие шпионы в нейтральных странах готовы платить за любые факты, какие только могут им передать наши так называемые двойные агенты. Это очень хорошо для нас: нам остается лишь по неосторожности допустить утечку ценных сведений, включающих армейские и флотские коды и таблицы. Еще понадобится человек, простоватый малый, который вызовет у немцев доверие.
— И кто же этот малый? — презрительно спросил я.
— Вы, — ответил Холмс и, уклонившись от продолжения разговора, оставил меня наедине с собственными мыслями.
Признаюсь, я никогда не воображал себя в роли шпиона, но теперь с удивлением отметил, что рискованное предложение Холмса не лишено для меня авантюрной заманчивости. До сих пор я лишь добросовестно исполнял свои нехитрые обязанности при кабинете номер 40, собирая копии перехваченных телеграмм, которые высыпались из пневматической трубы в комнате вахтенного, и раскладывая их по четырем папкам: «Адмиралтейские», «Армейские», «Дипломатические» и «Политические».
Эта работа очень утомляла меня своей монотонностью, и я не был бы живым человеком, если бы не чувствовал, что создан для более сложных поручений. Год назад, ничего не сказав Холмсу, я предложил военному министерству свои услуги в качестве хирурга. К моему огорчению, мне, невзирая на мой афганский опыт, отказали на том основании, что я уже на двадцать лет старше предельного призывного возраста! Если я соглашусь исполнить роль агента, это, по крайней мере, вернет меня в строй. Мне вспомнились известные слова доктора Сэмюэла Джонсона [44]о том, что мужчина, которому не довелось быть солдатом, не может уважать себя. Если рассматривать предложение Холмса как своего рода мобилизацию, то, наверное, стоило согласиться.
Через несколько дней я был вызван к сэру Джону Фишеру. Он заверил меня в том, что враги с жадностью примут любую информацию, особенно если должным образом раздразнить их аппетит. Как мне было известно, первый лорд адмиралтейства недавно разговаривал с Шерлоком Холмсом.
— Каким образом вы узнаете, — спросил я, — что они поверили документам, которые мы им дали?
— Если поверят, вернутся за новой порцией, — усмехнулся сэр Джон. — Иными словами, продолжат нам платить. Да, да, доктор. Наши самые ценные агенты в нейтральной Европе — это те, кто выдает себя за изменников, желающих продать военные тайны своей родины. Деньги, которые присылаются для них из абвера [45], как немцы называют свою разведывательную службу, поступают прямиком в особый фонд кабинета номер 40. Мы потратим их на собственные нужды, когда отпразднуем победу.
— Так, значит, я должен выдать себя за предателя? — спросил я, с неохотой выговорив последнее слово.
— Полагаю, что в данном случае нет. Мы слишком часто пускали эту карту в ход.
— Тогда какова же будет моя роль?
— Нам нужен… — Елаза адмирала забегали, видимо, он старался подыскать замену слову «простофиля». Наконец сэр Джон улыбнулся: — Нам нужен наивный человек с невинной душой, у которого легко украсть необходимые врагу сведения.
Через два дня Холмс представил Фишеру план продажи германской разведке внушительной папки с поддельными секретными кодами. Ее содержимое мой друг сочинил сам. С помощью этих фальшивых ключей агенты на Вильгельмштрассе до конца войны должны были непрерывно получать от нас недостоверные сведения.
Первым звеном цепи стал нидерландский двойной агент, выдававший себя за импортера суматранского табака. Этот человек, еще с довоенных времен за плату предоставлявший сведения нашим врагам, якобы не имел прямого отношения к британской разведке. Он оставался просто торговцем, который всегда восхищался Германией и некогда учился в школе с Уильямом Гревиллем из Министерства иностранных дел. Тот в дружеской беседе по неосторожности упомянул о готовящемся выпуске нового сборника шифровальных ключей, экземпляры которого будут распространены в узком кругу проверенных лиц. Прежде на Вильгельмштрассе никто даже не мечтал о том, чтобы заполучить подобные документы. «Табачник», разумеется, не вызвался раздобыть коды сам: это внушило бы немцам подозрения. Он лишь передал то, о чем его простодушный друг случайно проболтался. Поскольку война, набирая обороты, грозила охватить страны, доселе сохранявшие нейтралитет, в список получателей сборника шифровальных ключей включили также британского консула в Роттердаме. В начале августа Уильям Гревилль, ранее служивший дипломатическим курьером, должен был доставить ему пакет и с нетерпением ждал этой командировки в надежде отдохнуть от войны в компании школьного друга, торговца табаком, под мирным голландским небом. Старый служака был честным, но не слишком умным малым — потому-то и рассказал бывшему однокашнику больше, нежели следовало.
Как читатель наверняка догадался, роль простоватого министерского курьера Уильяма Гревилля поручили мне. Перед тем как я вышел на сцену, наши разведчики в течение нескольких недель за мной наблюдали и не обнаружили видимого интереса к моей персоне со стороны германских агентов. Очки в роговой оправе, отсутствие усов, волосы, перекрашенные в более темный цвет, и особые каблуки, делавшие меня выше на пару дюймов, превратили меня в эмиссара и помощника секретаря младшего министра иностранных дел — так, по крайней мере, меня описывал мой дипломатический паспорт.
Прежде чем я покинул родной берег на голландском корабле, цель моей миссии стала известна многим нежелательным лицам. Виной тому были неосторожные фразы, слишком громко брошенные мною в гостиницах и ресторанах, где бывают иностранцы, сочувствующие Германии. Я боялся, что этой приманки недостаточно, но мои руководители не разделяли моих опасений, а спорить с ними не подобало. В конце концов, как известно, не попробовав пудинга, нельзя узнать, каков он на вкус. С этой мыслью я отправился в Голландию вечером первой пятницы августа.
В Роттердаме для меня заказали комнаты в гостинице, расположенной вблизи доков. Ее управляющий, по сведениям нашей морской разведки, сотрудничал с немцами. Очевидно, меня заметили, как только я сошел на берег. Время моего прибытия было выбрано неслучайно: оно пришлось на первую августовскую субботу — начало продленного трехдневного уик-энда, когда все конторы Англии прерывают свою работу. В британском консульстве в Нидерландах придерживались отечественного календаря, и оно должно было открыться лишь во вторник, что якобы оказалось для меня неожиданностью.
Теперь мне, незадачливому эмиссару, предстояло целый вечер и еще два дня читать газеты в фойе отеля и поглощать виски — словом, маяться от безделья. Через пару часов такого времяпрепровождения у меня завязался разговор с управляющим, как нередко случается, когда в гостинице пусто. Я пожаловался на скуку ожидания, объяснив, что контора, куда мне необходимо попасть, не работает в первый понедельник августа. Теперь собеседнику стало совершенно ясно, кто я и зачем прибыл. Подтверждение своей догадке он мог найти, заглянув в мой паспорт. Я не знал, известно ли голландцу, что из Министерства иностранных дел Великобритании должны привезти пакет со сверхсекретными шифрами. Но те, перед кем этот человек отчитывался, были, безусловно, обо всем осведомлены.
В последующие сутки со мной не произошло ничего примечательного. Воскресным вечером услужливый управляющий поинтересовался, не желаю ли я развлечься, дабы скрасить свой затянувшийся досуг. В ответ я посетовал на то, что никого в Роттердаме не знаю и не представляю, куда можно пойти. Мой собеседник любезно сообщил мне адрес и название заведения, расположенного неподалеку: там одинокого путешественника всегда ждал теплый прием. Я бурно обрадовался и поспешил в свою комнату, чтобы переодеться. Отперев чемоданчик, в котором хранились секретные документы, я достал деньги и, возбужденный предвкушением обещанных удовольствий, позабыл закрыть замок. Незапертый саквояж остался в выдвижном ящике платяного шкафа, наспех прикрытый стопкой белья.
Теперь мне предстояло действовать по заранее заученному плану, который был до крайности прост. Покинув гостиницу, я убедился в том, что за мной никто не идет по пятам, подошел к стоянке кебов и громко назвал адрес рекомендованного мне заведения. Едва мы повернули за угол, я сказал вознице, будто решил сперва пообедать, и попросил меня высадить. Он, пожав плечами, остановил лошадь. Оглядевшись и не обнаружив слежки, я отклонился от маршрута, указанного управляющим отеля. Накануне по пути с причала я заметил симпатичное кафе на набережной и теперь устроился за столиком на его террасе.
С этой точки я мог прекрасно видеть противоположный берег реки и окно своего гостиничного номера — третье справа на третьем этаже. При выходе я, разумеется, погасил лампу, а теперь медленно пил свой шнапс и ждал. Минутная стрелка описала круг, затем еще треть круга, и я наконец-то с облегчением вздохнул: в моей комнате вспыхнул свет.
Было очевидно, что там хозяйничает не горничная, пришедшая переменить постель. Лампа горела более часа: незваный гость наверняка успел сфотографировать каждую страничку сборника секретных шифров и вдобавок перерыть все мои вещи, дабы убедиться, что я действительно Уильям Гренвилль. Прежде чем начать обыск, неприятельский агент выждал время, чтобы простофиля-англичанин добрался до пункта назначения и с головой погрузился в атмосферу веселья. Управляющий, должно быть, дежурил за своей стойкой на случай моего неожиданного возвращения, которого, однако, ничто не предвещало. Шпионы могли работать не спеша.
Свет погас. Подождав еще немного, я пошел в ресторан, расположенный близ знаменитой статуи Эразма Роттердамского, поужинал там и направился обратно в отель. За свой врачебный век я повидал достаточно пьяниц, чтобы достоверно изобразить человека, который выпил лишнего. Добросердечный управляющий помог мне взобраться по лестнице и приготовиться ко сну. Убедившись в том, что я лег в постель, и получив щедрые чаевые, он удалился.
Едва за ним закрылась дверь, я встал и отпер платяной шкаф: чемоданчик лежал под стопкой белья, однако было видно, что его сдвигали с места. Более того, агент, который в нем копался, в спешке случайно защелкнул замок. Так завершилась моя трехдневная служба в рядах британской военной разведки. Не могу сказать, чтобы приключение оказалось слишком увлекательным, ведь вся моя работа заключалась в томительном многочасовом бездействии. Однако Холмс остался мной доволен, а сэр Джон Фишер при встрече был необычайно приветлив.
Более полугода адмирал Холл и его подчиненные посылали в эфир сообщения, которые немцы могли расшифровывать благодаря моему подарку — ценному в их глазах, но, по сути, ничего не значащему. Готовить эти передачи следовало с крайней осторожностью: по большей части они должны были соответствовать последующим событиям. Искажались лишь некоторые существенные детали. Однажды адмиралу Битти даже пришлось на два дня перенести начало учений, чтобы подтвердить сведения, полученные на Вильгельмштрассе при помощи фальшивых ключей. Пожалуй, правдоподобие нашего гениального обмана стоило такой жертвы.
Отталкиваясь от ложных фактов, переданных в Берлин, мой друг спланировал операцию, которую в кабинете номер 40 в шутку называли «вторжением Шерлока Холмса в Бельгию». Это произошло в те дни, когда некоторые наши отряды были сняты с Западного фронта для усиления экспедиционных сил, направленных в Салоники, — как пояснил мне Холмс, нужно было добиться, чтобы немцы также вывели часть своих войск.
При помощи полученных кодов на Вильгельмштрассе прочли изобилующий вымышленными деталями отчет о передвижении наших мелких судов у восточного побережья Англии. Там испытывали плоскодонные лодки, предназначенные для высадки солдат на песок. В следующей шифрограмме говорилось о немедленном прекращении сообщения через канал между Великобританией и нейтральными Нидерландами. Это распоряжение якобы должно было действовать на протяжении двух недель, чтобы торговые суда не мешали военному флоту, направляющемуся к берегам Бельгии. Далее, используя похищенные у меня шифровальные таблицы и приложения к ним, немецкие разведчики узнали подробности этой операции, предполагающей нанесение удара в тыл германской армии, которая в тот момент находилась во Франции. Адмиралтейские приказы, касающиеся мифического наступления британского флота, один за другим поступали в Берлин. Наши суда будто бы выходили из трех точек: из Хариджа, из Дувра и из устья Темзы. Распоряжение о прекращении сообщения с Голландией уже одобрили на высшем уровне, однако еще не ввели в силу.
Чтобы окончательно развеять сомнения немцев в правдивости всей этой истории, адмирал Холл и главный редактор «Дейли мейл» договорились о специальном выпуске: тираж состоял всего лишь из двадцати четырех экземпляров, предназначенных для продажи в Нидерландах. Там их дисциплинированно раскупили германские агенты. Первую страницу газеты украшали заголовки: «Большие военные приготовления на восточном побережье» и «Плоскодонные лодки». Через несколько часов появился новый выпуск — уже без статей о готовящейся операции британского флота (их словно бы вымарал цензор).
Противник не должен был заподозрить, что план охраняется недостаточно ревностно. Поэтому автор статьи по просьбе Холмса намеренно «ухватил палку не с того конца»: в ней говорилось, будто первоочередную задачу адмиралтейство видит в том, чтобы достойно отразить нападение со стороны Германии. Высшее немецкое командование знало: их флот не собирается атаковать восточное побережье Англии. Значит, газетчик лишь пересказал неясные слухи, однако нет дыма без огня. Британцы явно что-то затевают. Вероятнее всего, высадку на бельгийский берег. Сделав такие выводы, немцы сочли необходимым перевести целую дивизию на пустынные пески близ Остенде.
Теперь две стороны меняли шифры чаще, чем прежде, — каждые сутки, ровно в полночь. Гонка была не из легких, но Холмсу она оказалась под силу. Еще до конца года он взломал сложнейший немецкий дипломатический код — правда, не без помощи кайзеровского вице-консула в Персии. Несчастный дипломат бросил свой багаж и бежал в одной пижаме, после того как стал свидетелем неудачной попытки германских солдат захватить нефтяные сооружения в Абадане. С этого началось наше приближение к победе в «войне призраков и теней».
К осени 1916 года нейтралитет сохранили Нидерланды, государства Латинской Америки и, что особенно важно, Соединенные Штаты. Но в адмиралтействе и военном министерстве взволнованно поговаривали о грядущих переменах: североамериканцы собирались вступить в войну на стороне Антанты.
Холмс целыми днями корпел над своей работой, а ночами читал. Все чаще и чаще он уносился мыслями в неведомые дали. Однажды вечером я увидел у него на столе материалы русско-японской войны 1904–1905 годов. Тогда Великобритания поддержала Японию, чтобы предотвратить усиление влияния России на Дальнем Востоке. В итоге отсталые азиаты победили европейскую державу. Позднее я заметил надпись, сделанную Холмсом на полях: «В нынешней войне японцы будут нашими союзниками, пока не получат германских владений в Китае и Тихом океане. Но если однажды мы окажемся противниками Японии, она обратит свой взор на наши и американские дальневосточные земли». Это замечание показалось мне циничным, но, увы, вполне здравым.
Через день или два мой друг погрузился в изучение книги Джона Рида «Восставшая Мексика», повествующей о событиях 1910 года. Здесь оставалось лишь развести руками: теперь по милости Панчо Вильи и его бандитов новейшая мексиканская история представлялась сплошной вереницей кровавых мятежей. Следующим вечером, пока Холмс работал за своим столом, я взял книгу Рида с полки и снова увидел заметку на полях: «Армия Соединенных Штатов — сорок тысяч. Три четверти — в Мексике или на границе под командованием Першинга».
Все, кто читал газеты, знали, что президент Вильсон бросил свои военно-морские силы на порт Веракрус, а американский корабль «Прерия» перехватил немецкое торговое судно, на борту которого находилось двести пулеметов и несколько тонн боеприпасов для повстанческих войск Вильи и Каррансы. Груз сопровождали тридцать или сорок германских офицеров, направлявшихся в Мексику для обучения солдат революционных войск. Какое отношение все это имело к ужасам Западного фронта?
— Будем надеяться, Холмс, что в ближайшее время мы не увидим Панчо Вилью и его головорезов, которые мчатся по Бейкер-стрит с окровавленными саблями наголо, — попытался пошутить я.
Ничего не ответив, мой друг поднялся и подошел к бюро. Отперев ящик, он достал листок бумаги. Это была расшифровка дипломатической телеграммы, выполненная за истекшие сутки. Мое внимание приковали к себе три фразы.
«Невзирая на присутствие американской армии под командованием Першинга на границе Мексики и США, право на решение мексиканского вопроса перешло из рук президента Вильсона в руки президента Каррансы, от генерала-американца к Панчо Вилье».
Это утверждение было спорным, однако нисколько меня не удивило. Я стал читать дальше:
«Чем бы Вильсон ни грозил нам в ответ на распоряжение о начале неограниченной подводной войны, и он, и Конгресс склоняются к сохранению мира: Америка не в состоянии воевать».
Я встревожился: кому — «нам», кто — «мы»? На эти вопросы мог быть лишь один ответ, и он хранился в сейфах Вильгельмштрассе. Далее в сообщении говорилось:
«Становится все более очевидным, что Соединенные Штаты воздержатся от обострения отношений с Германией по причине своей неготовности к борьбе с Мексикой».
Война двух североамериканских стран казалась мне плодом больного воображения высшего германского командования. Но в шифрограмме оставалась еще одна строчка, и в ней сообщалось нечто, пугающее своим правдоподобием:
«Без нефтяных скважин в мексиканском Тампико британский флот не сможет покинуть Скапа-Флоу».
— Похоже, у германских адмиралов повальное воспаление мозга! — воскликнул я.
— Нет, Ватсон. Мозг, измысливший это, сейчас находится в нескольких тысячах миль от Берлина.
— Откуда же пришла шифровка?
— От нашего старого знакомого под номером 13042, — тихо сказал Холмс. — Это германский дипломатический код. Вчера с его помощью граф Бернсторф, посол в Вашингтоне, вышел на связь с Берлином. Он представил Артуру Циммерманну из Министерства иностранных дел свой еженедельный отчет о так называемой военной ситуации. Немцы продолжают пользоваться кодом и шифровальными таблицами, которые достались нам в подарок от германского вице-консула в Абадане. — Отложив трубку, Холмс пожал плечами. — Это последнее из многих сообщений такого рода.
— С какой стати американцы хотят войны с Мексикой?
Мой друг поморщился, досадуя на мою непонятливость.
— Они и не хотят. Эта война нужна немцам. На Западном фронте положение безнадежное, но Циммерманы, рейхсканцлер Бетман-Гольвег и кайзер надеются при помощи своих подводных лодок принудить Англию к вступлению в переговоры. При этом Германия понимает, что не следует излишне обострять отношения с Америкой. Поскольку сейчас три четверти регулярной американской армии находятся в Мексике, Соединенные Штаты не в состоянии воевать в Европе. Германия может пускать в ход свои подводные лодки. Но если войны в Мексике не будет, американцы уже в ближайшие несколько месяцев высадятся во Франции.
— Все это нелепо.
Холмс пожал плечами.
— Могу лишь сказать вам, что, согласно шифрограммам Бернсторфа, которые мы перехватили в последние несколько недель, Япония и Мексика уже делят с Берлином плоды будущей победы. Как нам известно, японский линейный крейсер «Асума» с солдатами на борту уже бросил якорь в Калифорнийском заливе — не думаю, чтобы посол стал лгать министру иностранных дел своей страны.
— Но немцам не добраться до Мексики!
— В некотором смысле они уже там, — покачал головой детектив. — Бернсторф похваляется тем, что в этой стране двадцать девять ячеек Союза германских граждан и семьдесят пять филиалов Общества ветеранов — кавалеров Железного креста. По его словам, в обеих Америках набирается уже пятьдесят тысяч добровольцев, и наше Министерство иностранных дел это подтверждает. Сто четыре ветви немецких патриотических организаций в Мексике насчитывают двести германских офицеров: они прибыли в страну для мирных занятий, но готовы к бою и уже обучают других. Что до Соединенных Штатов, то там проживают полмиллиона немцев призывного возраста.
— Едва ли они справятся с остальной частью населения!
— Если хотя бы каждый тысячный из них готов участвовать в диверсиях на кораблях, поездах и нефтеочистительных заводах, у Германии будет пятьсот агентов. За последние пару месяцев на судах, шедших от восточного побережья США к берегам Британии и Франции, сработало около двух десятков бомб с часовыми механизмами. Действуя заодно с мексиканскими повстанцами, эти диверсионные силы сумеют удержать Америку от вмешательства в нашу войну с Германией.
В ту ночь я не сомкнул глаз. Мне вспомнилась история, которую я услышал двумя годами ранее в клубе «Армия и флот». Тогда она показалась мне невероятной. В курительной комнате после ужина собралась компания. Чтобы позабавить приятелей, один мой знакомый, офицер Колдстримского гвардейского полка, рассказал, что Япония в альянсе с Мексикой может высадить войска на берег Калифорнийского залива (где, по имеющимся у нас сведениям, теперь стоял крейсер «Асума»). С целью захвата территорий, утраченных Мексикой, соединения союзников якобы нападут с юго-запада на ничего не подозревающих американцев, прорвутся через Техас и Луизиану и займут долину Миссисипи. Таким образом, Штаты будут расколоты на две части, прежде чем граждане страны успеют оказать слаженное сопротивление. Если Холмс не заблуждался, то японско-мексиканские войска, усиленные хорошо обученным подкреплением из Германии, должны были получить существенный численный перевес над сорокатысячной армией мирных Соединенных Штатов.
Когда забрезжил поздний зимний рассвет, я все еще лежал без сна.
Вскоре последовали события, впоследствии названные кризисом Циммерманна. Гражданин нейтральной Дании, капитан торгового судна, вернувшегося из Киля, передал нашему военно-морскому атташе в Копенгагене, что, согласно слухам, распространившимся среди офицеров немецкого флота, Германия фактически готова к неограниченной подводной войне. Боевые действия начнутся через шесть недель, в середине января 1917 года. Только что построенные субмарины (сколько их — неизвестно) уже отбыли из Вильгельмсхафена с трехмесячным запасом провизии, топлива и торпед.
— Это может означать только одно: планируется операция близ американского побережья от Флориды до Мэна, — тихо сказал Холмс. — Ни один главнокомандующий не отправит свои суда в Бискайский залив или западные фарватеры Ла-Манша на столь длительное время, если нет порта, который их примет. Для пересечения Атлантики потребуется три или четыре недели. К началу января подводные лодки выйдут на американские прибрежные морские пути с расчетом расположиться на базе в Мексике.
Прежде Германия уже не раз наносила удары по судоходству Соединенных Штатов. Немецкие подводные лодки затопили британский лайнер «Лузитания» с пассажирами-американцами на борту, а также атаковали несколько американских судов, таких как «Галфлайт» и «Суссекс». И тем не менее до сих пор два государства удерживались на грани хрупкого мира. Все кризисы разрешались выражением протеста со стороны Вашингтона.
Вудро Вильсон по-прежнему пытался склонить участников войны к заключению мира без побед и трофеев — ради блага человечества. Холмс был согласен с этой позицией, однако им руководил более трезвый расчет. Мой друг уверял, что жертвами германских подводных лодок могут пасть десятки или сотни людей, в то время как участие Соединенных Штатов в мировой войне, незначительно изменив ситуацию на Западном фронте, обойдется стране в миллион молодых жизней. Национальная гордость не стоит таких человеческих потерь.
После того как подводные лодки новейшей модели покинули Вильгельмсхафен, были перехвачены германские дипломатические шифрограммы, в которых флотское руководство уверяло берлинское Министерство иностранных дел в лице Артура Циммерманна, что в течение ближайших шести или, самое большее, двенадцати месяцев Великобритания будет вынуждена вступить с Германией в переговоры. В Уайтхолле все меньше и меньше надеялись на вмешательство Соединенных Штатов, способное переломить ход войны. Очевидно, было уже слишком поздно.
В праздничные дни от Рождества и до Нового года Шерлок Холмс редко бывал на Бейкер-стрит. Если он и ложился в свою постель, то уходил еще до завтрака, а возвращался за полночь. Часто он спал на складной кровати в комнатушке, выделенной для него в Старом Адмиралтействе. Ему предлагали и более солидный кабинет, но он всякий раз отказывался. Мой друг почти безвыходно сидел в своей «норе», работая в одиночку. Передвижения немецких субмарин давали обильную пищу для секретной переписки, над расшифровкой которой приходилось трудиться сутками напролет.
Январь 1917 года выдался морозным. После трехдневного отпуска, проведенного у эксмурских кузин в Уайвлискомбе, я вернулся в Лондон ночным поездом из Тонтона. Он доставил меня на Паддингтонский вокзал раньше, чем конторские служащие успели усесться за свои письменные столы. Шерлока Холмса дома не оказалось. Более того, он, очевидно, отсутствовал все эти три дня. Я позвал миссис Хадсон.
— Я думала, сэр, — ответила мне наша почтенная квартирная хозяйка, — что мистер Холмс отправился в Девон вместе с вами. Его не было здесь с тех самых пор, как вы уехали.
Я незамедлительно нанял кеб и велел отвезти меня в Уайтхолл. Если Холмс не показывался дома три дня и две ночи, его, должно быть, не отпускала неотложная работа в кабинете номер 40. Я прибыл еще до утренней смены караула и поспешил в комнату вахтенного. В лотке лежали телеграммы, высыпавшиеся из пневматической трубы. Часы на стене показывали время в разных городах мира: Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Берлине. На столе стояли телефонные аппараты, при помощи которых можно было экстренно переговорить с начальником морской разведки, военным министерством, Специальным отделением Скотленд-Ярда и даже резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит. Корзины, как всегда, были переполнены скопившимися за ночь скомканными листами. Сержанты Королевского флота ежедневно выбрасывали отработанные бумаги в печь штаба конногвардейского полка.
Несколько ночных дежурных, как правило, оставались на посту до десяти часов. Утренний свет подчеркивал бледность их изнуренных лиц, темные ввалившиеся глаза неестественно блестели. И все же, если требовалось, бедняги могли еще несколько часов биться над новой военной или дипломатической шифровкой из Берлина или Вены.
В то утро я застал здесь одного Холмса. Он сидел на деревянном стуле за пустым столом, сложив руки и закинув голову. Я знал, что мой друг не спит. Едва я вошел, он открыл глаза.
— Где остальные? — спросил я.
— Ушли, — устало ответил Холмс. — Им незачем здесь быть. Для них нет работы.
— А шифрограммы?
— Они больше не поступают, — сказал он, вставая. — Обмен дипломатическими сообщениями между Берлином и Вашингтоном прекратился, тогда как для нас нет ничего важнее этой переписки. Насколько известно, в последние два дня германская разведка не отправляет и не получает шифровок.
Я посмотрел в окно: от Букингемского дворца нас отделяло туманное зеленое пятно Сент-Джеймсского парка. Глядя на то, как две джерсейские коровы жуют подмороженную траву, я пытался осознать смысл сказанного Холмсом.
— Конечно же, сигналы должны быть, ведь теперь Вильсон и Циммерманы, как никогда, стремятся избежать войны. Циммерманы наверняка поддерживает связь с Бернсторфом и вашингтонским посольством.
Холмс вздохнул.
— Не напрямую. Германско-американские переговоры сейчас ведутся с большой осмотрительностью. В последнем перехваченном сообщении говорилось лишь о том, что рейхсканцлер Бетман-Гольвег согласен рассмотреть четырнадцать пунктов предложения мира на всех фронтах, которое подготовил президент Вильсон. Это подтвердил Эдвард Белл из посольства Соединенных Штатов. Как он сказал мне в доверительной беседе, Вильсон разрешил ведение мирных переговоров с Германией посредством обмена зашифрованными сообщениями по американскому дипломатическому телеграфу.
— Как же немецкий подводный флот, который сейчас пересекает Атлантику?
— Американцы о нем не знают. Германские разведывательные службы посылали друг другу информацию о передвижении подводных лодок, используя станцию в Сэйвиле на Лонг-Айленде, под видом телеграмм торговых и пароходных компаний. Теперь обмен прекратился.
— Каким же образом сигнал поступает из Берлина в Вашингтон?
— В ходе нынешних переговоров Циммерманн выразил пожелание, чтобы его личные телеграммы Роберту Лансингу в Государственный департамент передавались из Берлина американским дипломатическим кодом вместе с сообщениями от посольства Соединенных Штатов. Берлинский посол Вильсона Джеймс Джерард одобрил эту меру. Теперь сигнал идет по нейтральному кабелю в Стокгольм, оттуда в Буэнос-Айрес, а затем в Вашингтон.
— Американскому дипломату предложили передавать сообщения германской разведки? Это же нелепость!
— Возможно. Тем не менее Джерард и госсекретарь Лансинг дали согласие — вероятно, по распоряжению Вильсона. Что еще хуже, американцам поручена пересылка телеграмм Циммерманна, адресованных лично Бернсторфу, однако для обеспечения конфиденциальности их по-прежнему будут кодировать немецким шифром и переправлять из Государственного департамента в посольство Германии без какой-либо проверки. Содержания Лансинг и Вильсон знать не будут. Германско-американские переговоры — дело слишком деликатное, чтобы стороны могли мириться с риском перехвата сведений в Лондоне или где бы то ни было.
— Немыслимо!
— Такова война, — мрачно проговорил Холмс. — Вильсон испытывает к ней отвращение и ради того, чтобы ее прекратить, готов сделать Циммерманну эту маленькую уступку. Ведь немцы в любом случае будут обмениваться дипломатическими телеграммами со своим посольством в Вашингтоне, и не беда, если британцы и французы не смогут их перехватывать.
— Что же лишает нас такой возможности?
— Для того чтобы читать телеграммы Циммерманна, нужно взломать американские дипломатические коды. Мы не можем себе этого позволить, поскольку Соединенные Штаты — дружественная нам держава. Вчера в восемь часов вечера лорд Бальфур категорически запретил раскодирование американских шифрограмм. Теперь мне не остается ничего иного, как надеяться на возобновление прежних передач немецким дипломатическим кодом.
— Выходит, мы оказались в тупике, — сказал я и беспомощно развел руками.
— Не совсем. Телеграммы передаются через Стокгольм. В наших архивах имеются кое-какие шведские шифрограммы, до сих пор не стоившие внимания. Теперь я занялся ими, и, хотя мои нынешние успехи весьма скромны, мне удалось установить, что шведский дипломатический представитель в Мехико сочувствует немцам. Однажды он даже позволил себе непростительное легкомыслие, прямо высказавшись в поддержку германской политики в отношении Мексики. — Холмс достал из кармана листок с переписанным сообщением и прочел: — «Первого сентября тысяча девятьсот шестнадцатого года. Президент Карранса не скрывает своей дружбы с Германией и готов по мере возможности и необходимости оказывать помощь германским субмаринам, когда они достигнут территориальных вод Мексики».
По моим жилам пробежал холодок.
— Помощь субмаринам из Вильгельмсхафена! — воскликнул я.
— Очевидно, поддержкой Каррансы немецкое командование заручилось прежде, чем лодки покинули порт, — заметил Холмс и продолжил чтение: — «Правительство Германской империи намерено приложить все силы к устранению Британии, своего основного противника. Для ведения подводной войны в Атлантическом океане, целью которой является уничтожение вражеского торгового флота, необходимы береговые базы для снабжения субмарин топливом и припасами. В благодарность за предоставление подобных объектов стратегического значения Германия обязуется рассматривать Мексику как свободную и независимую страну, каковой она и является». — Помолчав, Холмс добавил: — Телеграмма весьма пространна, но в этом заключается самая суть.
Я обвел взглядом мрачную, слабо освещенную комнату и спросил:
— И американцам ничего не известно?
— Пока никому ничего не известно. Министр иностранных дел Артур Бальфур опасается, что, если мы обнародуем содержание шведской телеграммы сейчас, американское руководство сочтет это уловкой, нацеленной на вовлечение Соединенных Штатов в войну. К тому же в документе всего лишь изложена позиция одного дипломата. Ее не стоит расценивать выше, чем мнение какого-нибудь иностранного корреспондента, побывавшего в Мехико.
В хитроумной мозаике, которую мы сейчас складывали, не хватало центрального пазла. Казалось, отыскать его почти невозможно. Шерлок Холмс, впрочем, как и я, не привык полагаться на удачу и вовсе не ждал от судьбы готового решения сложной задачи. И все-таки на этот раз нам повезло: мы нашли пусть и не саму разгадку, но человека, способного вручить нам путеводную нить. Им оказался мистер Варни, англичанин из Мехико.
Годом или двумя ранее он попал в большую беду, и Холмс заочно ему помог. Мистер Варни был владельцем типографии, работники которой втайне от него печатали мелкие мексиканские деньги. Узнав об этом, он тут же сообщил в полицию. Каково же было смятение несчастного англичанина, когда его арестовали как фальшивомонетчика, после чего он предстал перед революционным трибуналом и его приговорили к расстрелу!
Пока мистер Варни ждал исполнения приговора в тюремной камере, его сестра, проживающая в Масвелл-Хилле, поспешила на Бейкер-стрит и рассказала Шерлоку Холмсу эту печальную историю. Мой друг немедленно обратился в Министерство иностранных дел, куда вскоре вызвали мексиканского посла. Британский посланник в Мексике лично встретился с президентом Каррансой. Объединив усилия, мистер Бальфур и его заокеанский представитель убедили революционные власти в том, что Варни едва ли мог оказаться зачинщиком в предприятии по изготовлению купюр, равноценных нескольким английским пенни. Через два дня его освободили, и он поклялся сделать все возможное, чтобы отблагодарить Шерлока Холмса за свое спасение.
За несколько месяцев до описываемых мною событий мистер Варни вернул долг моему другу, проникнув в телеграфно-почтовую контору Мехико. Во избежание нового восстания революционные законы запрещали отправку зашифрованных сообщений. Однако за небольшую взятку правительственный инспектор нередко позволял коммерческим шифрограммам проходить незамеченными. Мистер Варни подкупил одного из госслужащих и стал получать сведения о телеграммах, которые компания «Вестерн юнион» передавала от графа Бернсторфа из Вашингтона германскому дипломатическому представителю Экхардту в Мехико.
— Все довольно просто, — сказал Холмс на следующий день за завтраком. — Американское посольство в Берлине отправляет немецкие телеграммы в Государственный департамент Соединенных Штатов и германское посольство в Вашингтоне. Но пересылать их немецкому представителю в Мексике государственный департамент не уполномочен. Передавать сообщения дальше Галвестона берется только «Вестерн юнион». Эта компания, как подтверждает мистер Варни, исправно доставляет послания господину Экхардту. Они зашифрованы, но вскоре все подобные депеши будут нам доступны. Возможно, нам недолго осталось работать вслепую.
Однажды вечером на Бейкер-стрит принесли телеграмму от мистера Варни, переданную при содействии капитана Гая Гонта, британского военно-морского атташе в Вашингтоне, служившего также в разведке. К тексту было приложено зашифрованное сообщение, ныне известное как телеграмма Циммерманна и представляющее собою ряды цифр, которые приводятся в начале повествования.
Мы вместе уселись за стол, и в ближайшие несколько часов нам удалось достичь немалых успехов в раскрытии кода. Растерянно разглядывая таинственную числовую цепь, которую Холмс переписал для меня на отдельный лист, я не представлял, как к ней подступиться, но та энергия, с которой принялся за дело мой друг, моментально озарила непостижимую абракадабру светом смысла, подобно тому как молния прорезает черноту ночи.
— Взгляните, Ватсон, на первые две группы цифр. Так, «130» — всего лишь номер телеграммы, он не имеет для нас большой ценности. Приставкой «13042» обозначаются сообщения, зашифрованные при помощи германского дипломатического кода. Это уже говорит о многом. А «13401» — указание на то, что послание отправлено из Министерства иностранных дел Германии, не из вашингтонского посольства. О подлинности шифровки судить рано, но источник хотя бы не вымышленный. Числовая группа «8501» означает: сообщение отправилось в путь из Берлина как сверхсекретная телеграмма графу Бернсторфу, который передал ее в Мехико. Все эти сведения немного облегчают нашу работу.
— За последние две недели мы не перехватили ни одной телеграммы из Берлина в Вашингтон, — осторожно сказал я. — Не могла ли немецкая разведка подстроить нам ловушку?
Холмс нахмурился и пробежал карандашом по рядам цифр.
— Думаю, нет, — заявил он. — Судя по номеру, это свежее сообщение, переданное Циммерманном Бернсторфу под прикрытием американского дипломатического кода. Если бы телеграмма не была переправлена в Мехико, мы никогда бы ее не увидели. Посему, полагаю, западни можно не опасаться. Взгляните лучше на уже известные нам слова: вероятно, в них содержится подсказка. — Несколько секунд карандаш Холмса блуждал по листку. Затем мой друг поднял глаза и произнес: — Номер и источник сообщения переданы шифром, с которым мы сталкивались ранее. Основное содержание, несомненно, закодировано по-иному, и в этом сложность нашей задачи, однако принцип шифрования, скорее всего, тот же самый. — С этими словами сыщик показал мне свой листок. — Взгляните: во вступительной части мы встречаем нашу старую знакомую — комбинацию «17214». Она всегда означала «ganz geheim» — «совершенно секретно». Смотрим далее: «6491 11310 18147». Эти цифры тоже мне известны: «selbst zu entziffern» — «подлежит расшифровке». Начиная отсюда, код меняется и смысл сообщения становится не столь прозрачным.
Я принялся выискивать знаки, повторение или своеобразное расположение которых могло бы послужить для нас отправной точкой. Холмс предпочел действовать иначе.
— Известно, что герр Экхардт, находясь в Мехико, должен сам расшифровать эту телеграмму, — заметил он. — Она срочная и потому, вероятно, записана при помощи кода, понятного всем, кто знал прежний шифр. Эркхардт не имеет права показывать сообщение своим подчиненным или обращаться за посторонней помощью. Значит, система ему знакома.
Холмс склонился над листком, и тень его орлиного профиля легла на стену, залитую резким белым светом газовой лампы. Мой друг отметил наиболее часто встречающиеся слова и, выбрав одно из них, усмехнулся:
— Вот, Ватсон, вот и вот. Чаще других встречается комбинация «67893». Опыт, полученный при расшифровке подобных сообщений, подсказывает нам, что, судя по расположению, это имя существительное и почти наверняка собственное. Какое же наименование может употребляться в срочной дипломатической телеграмме, адресованной германскому посланнику в Мексике?
— Скорее всего, именно «Mexiko».
— Рядом, причем с обеих сторон, — группа цифр «5870». Через два слова она появляется опять. Пусть меня пнут так, что я долечу отсюда до самого Чаринг-Кросса, если это не запятая! Какой же еще знак может повторяться так часто? Если запятых много, то перед нами перечень, верно? Перечислены три объекта, средний из которых назван двумя словами. Второе слово — «Мексико». Тогда, возможно, первое — «Нью»? Посмотрим.
Я не переставал удивляться интуиции своего друга. Подобные выводы никогда не пришли бы мне в голову, не будь его рядом, но благодаря ему казались совершенно очевидными и единственно разумными.
— По видимости, это список американских штатов, — быстро догадался я.
— Отлично, Ватсон. Имя собственное, расположенное перед «Нью-Мексико», состоит из пяти букв. Допустим, это «Техас». Третьим в списке значится слово из четырех слогов. Оно обозначает штат, находящийся вблизи Техаса и Нью-Мексико.
— Аризона? — с надеждой произнес я.
— А что объединяет Техас, Нью-Мексико и Аризону? В прошлом они принадлежали Мексике и были у нее отняты. Какой план теперь могут вынашивать немцы?
— Вернуть эти штаты мексиканцам? Невозможно!
— Отнюдь! Тем более если это сулит Германии немалую выгоду. Часто появляется комбинация «52262». Если помните, в последнем из расшифрованных нами сообщений все названия стран состояли из пяти знаков. Позволю себе предположить, что это «Япония». В одном из предыдущих отчетов Бернсторфа звучало название линейного крейсера, чей визит в Мексику сильно затянулся, — «Асума». Он так долго стоял в Черепашьей бухте, что сел на мель, и другим японским судам пришлось его вызволять.
— А как же Соединенные Штаты? — робко спросил я. — Ведь эта страна, как правило, упоминается не реже Японии, когда речь идет о Мексике?
— Если чутье меня не подводит, здесь говорится о позициях, которые занимают в отношении Америки другие государства. Поэтому само слово «Соединенные Штаты» может встречаться сравнительно редко. Взгляните на комбинацию «39695». Буду удивлен, если она не окажется ответом на ваш вопрос.
Мы работали, не обращая внимания ни на уличный шум, ни на январский холод, проникающий в окна, ни на ужин, который миссис Хадсон поставила возле нас на подносе.
— Да, да! — нетерпеливо отмахнулся Холмс в ответ на добродушный упрек нашей хозяйки.
Гостиная быстро наполнилась табачным дымом, но блюда остались почти нетронутыми.
Боюсь, что от моего присутствия проку было довольно мало. И все-таки я продолжал сидеть за столом, завороженный титаническим упорством великого детектива. Сверяясь с телеграммами, расшифрованными ранее, он выискивал названия государств, и они, к его удовольствию, занимали свои места, подобно фигурам на шахматной доске. Шли часы, и на листке, испещренном безликими числами, одна за другой, словно островки, всплывали разгаданные комбинации.
В начале первого Холмс ощутил новый прилив вдохновения. Имена существительные обозначались группами из четырех или пяти цифр. Некоторые сочетания в системе шифрования слегка изменялись. Оказалось, что «6926», «6929» и «6992» — формы союза «и», применяемые в зависимости от того, с какой буквы начинается следующее слово. Благодаря этому открытию Холмсу удалось прочесть существительные «Япония», «понимание», «предположение». Основной смысл телеграммы стал ясен прежде, чем мы раскодировали половину текста. Так, «5905» означало «Krieg» — «война». Комбинация «98092» была известна Холмсу по предыдущим шифрограммам: «U-boot» — «подводная лодка». Мы получили неполную фразу «ersten 13605 un-14936 U-boot Krieg».
— Ватсон, какое сегодня число?
Этот вопрос был для меня столь неожиданным, что я на несколько секунд задумался.
— Двадцать третье января. Точнее, уже наступило двадцать четвертое.
— Превосходно! Значит, это «den ersten Februar» — «первого февраля»! Поскольку телеграмма срочная, речь в ней должна идти о событиях ближайшего будущего, не далее начала следующего месяца. Посмотрим на отрицательную приставку «un-», и у нас получится: «Первого февраля не-14936 подводная война». Подводная война уже идет, но вскоре она, очевидно, примет новую форму. Как теперь нетрудно догадаться, в целом фраза выглядит так: «Первого февраля — неограниченная подводная война». Иными словами, Бернсторфу в Вашингтон и Экхардту в Мехико сообщают о том, что через неделю Германия начнет без предупреждения торпедировать нейтральные суда, входящие в европейские воды.
— В таком случае Вильсон будет вынужден вступить в войну!
— Не обязательно. Все зависит от немцев. Если они решат осуществлять свою угрозу с осторожностью, американский президент, вероятно, не пожелает ввергнуть страну в кровавую пучину. Ведь несколько потопленных кораблей — ничтожная жертва по сравнению с миллионами погибших на фронтах и гигантскими затратами на ведение войны, которые разрушат национальное благосостояние. Скорее всего, дело закончится тем, что нейтральные суда станут обходить стороной европейские территориальные воды, а наш торговый флот будет затоплен германскими торпедами. Таким образом немцы намереваются нас уничтожить. Мир с Америкой они постараются сохранить, а если это не удастся, сделают все, чтобы Соединенные Штаты воевали только на собственном континенте.
К трем часам пополуночи это неутешительное предположение подтвердилось. Мы раскодировали абзац: «Циммерманы Бернсторфу. Совершенно секретно. Подлежит расшифровке. Первого февраля мы намерены начать неограниченную подводную войну. Для нас желательно, чтобы Соединенные Штаты сохранили… Если это окажется не… мы предложим Мексике…»
— В первом случае пропущено слово «нейтралитет», — сказал я, — во втором — «возможно».
До конца ночи мы перебирали цифры нерасшифрованной части телеграммы, пытаясь узнать, что же именно Германия собиралась предложить Мексике в обмен на союзничество в борьбе с Соединенными Штатами. Нам удалось прочитать фразу «вместе в войне, вместе в мирное время». Затем мы вернулись к словам «Техас, Нью-Мексико, Аризона» и «zurück» — «обратно». Как ни нелепо это звучало, президенту Каррансе предлагали вернуть потерянные мексиканские земли в обмен на преданность кайзеру. Мы окончательно убедились в правильности такого вывода, когда Холмс расшифровал дважды встречающуюся комбинацию «22464» — «президент». Подразумевался Венустиано Карранса, который должен был стать, с одной стороны, союзником Германии, с другой — ее посредником в заключении союза с Японией («52262»). Предполагалось, что Англия через несколько месяцев будет вынуждена подписать мирный договор под шквалом подводных ударов. Флот и топливо для субмарин должна была предоставлять Мексика. Что до Вильсона, то при его немногочисленной регулярной армии мексиканские войска могли благополучно занять долину Миссисипи, пользуясь поддержкой германских «легионеров» и японских подразделений. В этом случае подлежащие возврату земли будут отрезаны от других штатов. Именно такой прожект, на первый взгляд совершенно нелепый, я слышал несколько лет назад в клубе «Армия и флот»! Вспомнив тот вечер, я расхохотался, но Холмс не разделил моего веселья.
— Вы же не можете воспринимать это всерьез! — изумленно проговорил я. — Подумать только: японцы оккупируют долину Миссисипи!
— Америка, как и Англия, сильна на море, но не на суше. Сей факт, Ватсон, нельзя сбрасывать со счетов. Он доказан ходом истории. Я также всерьез допускаю, что маленькая американская армия станет отважно сражаться, сперва понесет потери, но в итоге победит. Произойдет это через несколько месяцев или даже лет, а тем временем Германия, благодаря нефтяным скважинам в Тампико, добьется триумфа в подводной войне. Я не исключаю, что немецкие субмарины перережут наши линии снабжения, британский флот будет парализован отсутствием топлива, ситуация на Западном фронте зайдет в тупик и мы подпишем с Германией мирный договор, по условиям которого за ней сохранятся все европейские завоевания.
— Такой мир равносилен поражению, — пробормотал я, словно разговаривая сам с собой.
— Бельгия окажется марионеткой немцев и предоставит в их распоряжение свой берег Ла-Манша. Франция окончательно утратит то, что потеряла в войне тысяча восемьсот семьдесят первого года, а также многое другое. Марокко превратится в германскую колонию за Гибралтаром. Вспомните, как во время кризиса тысяча девятьсот одиннадцатого года немецкое командование отправило в Агадир канонерскую лодку «Пантера».
Ранним утром, когда тишину спящей зимней улицы нарушили первые хлебные фургоны и повозки молочников, мы решили оставить наполовину расшифрованное послание и разойтись по своим комнатам, с тем чтобы через несколько часов окончить работу и представить ее итог сэру Реджинальду Холлу.
Содержание телеграммы Циммерманна раскрывалось миру постепенно. Поначалу я думал, будто мы напрасно трудились над расшифровкой сообщения: 31 января граф Бернсторф лично явился в государственный департамент и уведомил секретаря Лансинга о том, что на следующий день Германия начинает неограниченную подводную войну. Немецкому послу вручили паспорт и велели возвратиться на родину. И все-таки Вильсон оставался сторонником мира. «Я отказываюсь признавать серьезность подобных угроз, — заявил он. — Только открытые действия с германской стороны могут вынудить меня переменить мнение».
«Открытые действия» не заставили бы себя ждать, но Холмс не терял времени даром. Артур Бальфур ознакомил с содержанием пресловутой телеграммы посла Соединенных Штатов Уолтера Пейджа, пригласив его для личной беседы в свой министерский кабинет. Вудро Вильсон, столь упорно надеявшийся на сохранение мира даже в условиях немецких подводных атак, теперь был поражен дерзостью плана, изложенного в телеграмме. Для конфиденциального ведения мирных переговоров он, Вильсон, предоставил германской стороне свой дипломатический канал, разрешив даже использовать его для передачи закодированных сообщений из берлинского Министерства иностранных дел в немецкое посольство в Вашингтоне. Стало очевидно, что американский президент собственноручно создал Германии все условия для плетения интриг за спиной Соединенных Штатов.
Вскоре Циммерманы отправил Экхардту в Мехико срочную телеграмму, которую не успел даже закодировать. В ней содержался приказ сжечь все компрометирующие документы. Но было уже поздно. Теперь Вудро Вильсон так же безоговорочно решил вступить в войну, как прежде стремился ее избежать.
Тем не менее в сенате Соединенных Штатов по-прежнему считали телеграмму Циммерманна провокацией британских разведывательных служб. Прочитав об этом, Шерлок Холмс, обычно не склонный к бурным проявлениям страстей, скомкал газету и, не вставая с места, швырнул ее за каминную решетку.
Как выяснилось впоследствии, моему другу не стоило так сердиться. Американская разведка уже удостоверилась в том, что телеграмма была передана компанией «Вестерн юнион» из Вашингтона в Мехико и Циммерманы нарушил дипломатический этикет, предложив нападение на страну, которая стремилась к сохранению мира и создала немецкой стороне условия для дружественных переговоров.
Решимость, которой преисполнился Вудро Вильсон, сломила тех, кто готовил против него заговор. Циммерманн перед всем миром признал, что поступил вероломно, отправив графу Бернсторфу свою знаменитую, а точнее, печально известную телеграмму. 18 марта три американских судна были потоплены без предупреждения, а 6 апреля президент Вильсон объявил о вступлении Соединенных Штатов в войну. Карранса поспешно опроверг свое намерение предоставить базы для немецких подводных лодок или, вступив в союз с Германией, совершить нападение на Техас и Нью-Мексико. Япония заявила, что Циммерманн опорочил ее императорский двор ложным обвинением в бесчестных замыслах.
Для Циммерманна дело закончилось отставкой. Топливо из скважин в Тампико и мексиканские базы для германских субмарин оказались миражом. Напротив, Королевский флот был надежно обеспечен нефтяными запасами. Объединенные британско-американские военно-морские силы прогнали германские подводные лодки из Атлантики, словно волков из овчарни. В исходе войны можно было более не сомневаться. Оставалось лишь ждать дня победы.
Шерлок Холмс состоял на правительственной службе до прекращения боевых действий. Однако в последние месяцы работы в адмиралтействе у него появился досуг, позволивший ему вернуться к частной практике консультирующего детектива. Теперь я с удовольствием вспоминаю первое дело, за которое мой друг взялся после длительного перерыва.
Нашим клиентом стал сэр Генри Джонс, лэрд [46]Тайнабруха, чей сын, капитан Абидайя Джонс, числился пропавшим без вести. Предполагалось, что молодой человек погиб в битве с янычарами. На протяжении некоторого времени о нем ничего не было слышно. Но однажды его отец получил из Турции пустую открытку с написанным незнакомой рукой адресом: «Сэру Генри Джонсу, дом 184 по Королевской улице, Тайнабрух, Шотландия».
Дабы отпраздновать возвращение к мирной жизни, Холмс попросил миссис Хадсон принести для нашего первого штатского клиента стакан утренней мадеры и нарезанный ломтиками кекс с тмином. После долгих месяцев аскетического быта и изнурительного умственного труда в кабинете номер 40 эти маленькие излишества показались нам далеким отголоском довоенных времен.
Сэр Генри был растерян и встревожен. Он не знал, что сталось с его сыном, и воспринял пустую карточку как подтверждение своих наихудших опасений. Необычность этого послания заключалась еще и в том, что деревенька Тайнабрух насчитывает всего несколько строений, разбросанных по клочку земли. Королевской улицы в ней нет, а дома не нуждаются в нумерации.
С минуту Холмс внимательно изучал переданную ему открытку, после чего поднял глаза.
— Полагаю, сэр Генри, у вас есть все основания надеяться на то, что ваш сын жив и невредим, — произнес мой друг. — Он и его солдаты, скрываясь от вражеской погони, оказались отрезанными от своего полка и теперь возвращаются обратно. Они пробираются к лагерю тайно, имея при себе лишь самые скромные припасы, однако до сих пор никто не пострадал. С чьей-то помощью вашему сыну удалось отослать домой эту весточку.
Слова Холмса, несомненно, чрезвычайно обрадовали старика, но он смотрел на нас с недоумением, будто боялся верить собственным ушам.
— Боже мой! Но как же вы, мистер Холмс, смогли прочесть все это по открытке, на которой ничего не написано, кроме неверного адреса?!
Мой друг выпрямился.
— Сэр Генри, ремесло детектива требует уверенного знания величайших книг человечества, таких как сочинения греческих и римских классиков, а также Священное Писание. Древние языки нередко используют в военных шифрограммах. Вам, должно быть, известен исторический анекдот о том, как в годы Второй англо-маратхской войны командир одного из британских отрядов сообщил начальству о своем местопребывании, написав на листе бумаги одно-единственное слово: «Credidit». Любой школьник знает, что этот латинский глагол означает «уверовал» или «уверовала». Отряд находился в Гуджарате, у Веравала.
— Прекрасно, — нетерпеливо ответил сэр Генри. — Но при чем здесь мой сын?
Холмс снова взял в руки открытку.
— В вашей деревне нет ни Королевской улицы, ни дома под номером сто восемьдесят четыре. Но адрес этот написан, очевидно, не без умысла. Вероятно, вам предлагают обратиться к Ветхому Завету, к летописям эпохи иудейских царей, то есть к Книгам Царств. Номер сто восемьдесят четыре может означать главу восемнадцатую, стих четвертый.
— Невероятно!
Ответив на восторженный возглас клиента легким наклоном головы, Холмс продолжил:
— Как вы, несомненно, помните, Третья книга Царств гласит: «…Авдий взял сто пророков, и скрывал их… в пещерах, и питал их хлебом и водою». Ваш Абидайя, или Авдий, если называть его на библейский манер, прячет от врага сотню своих солдат, деля с ними скудный провиант. Выпьем за здоровье этого храброго молодого человека, и пусть он благополучно вернется в расположение своей части!
Холмс, конечно же, оказался прав. Спустя некоторое время сэр Генри с гордостью сообщил нам о том, что за проявленную отвагу его сын награжден Военным крестом и теперь зовется уже не капитаном, а майором Абидайей Джонсом.
Но вернемся в то утро, когда осчастливленный старик, многократно поблагодарив нас, покинул Бейкер-стрит и направился в военное министерство для наведения дальнейших справок по своему делу.
— Полагаю, Ватсон, сэр Генри — первый клиент, которого нам довелось принять в этой гостиной за многие месяцы, — сказал Холмс, вытягиваясь в кресле и устремляя взгляд на язычки пламени, весело танцующие за чугунной решеткой.
— Именно так.
— Тогда, пожалуй, война действительно завершилась, раз наше маленькое детективное агентство снова открыло свои двери. Разговаривать с клиентом, смотреть на его лицо, когда он попросту сидит перед тобой у камина, куда приятнее, чем быть слугой правительства. Не затруднит ли вас передать мне «Морнинг пост»?
Шерлок Холмс сделал глоток мадеры, отправил в рот кусочек тминного кекса и, развернув газету, принялся изучать репортажи с последних заседаний Центрального уголовного суда. Так на Бейкер-стрит вновь воцарился мир.
1
Члены тайных религиозно-мистических обществ, существовавших в Европе в XVII–XVIII веках.
2
Место действия (лат.).
3
«Искусство хиромантии» (нем.).
4
Новелла Дональда Томаса перекликается с комедийным детективом Оскара Уайльда «Преступление лорда Артура Сэвила».
5
Королевская династия, правившая Англией с 1154 по 1399 год.
6
Один из образов аллегорического романа «Путь паломника», написанного английским писателем и проповедником XVII века Джоном Беньяном.
7
Около 16 градусов по шкале Цельсия.
8
Персонаж трагедии Уильяма Шекспира «Макбет».
9
Выдающийся инженер-мостостроитель XIX столетия.
10
Уильям Шекспир. Жизнь и смерть короля Джона. Акт V, сцена 7. Перевод Евгении Бируковой.
11
Полное название «Historia anglorum, or Historia minor» — «История англов, или Малая хроника» (староангл.).
12
Согласно историческим источникам, Матвей Парижский скончался около 1259 года.
13
Альберт Саксен-Кобург-Готский, супруг королевы Виктории, родоначальник Виндзорской династии, скончался от тифа в 1861 году.
14
Первая часть двойного названия — часто встречающийся топоним, который в переводе со староанглийского может означать «южная ферма»; вторая часть — «крест, пересечение» (англ.).
15
Уильям Шекспир. Макбет. Акт IV, сцена 3. Перевод Михаила Лозинского.
16
Писательница и драматург XIX века, известная своими очерками о жизни провинциальной Англии.
17
Британский политик второй половины XIX века, член либеральной партии, министр внутренних дел в правительстве Гладстона.
18
Одной из отличительных черт диалекта кокни, простолюдинов лондонского Ист-Энда, является опускание звука [h] в начале слова. Фамилия Хауэлл (Howell), произнесенная таким образом, напоминает слово owl— «сова».
19
Английский романист, автор трилогии «Корень и цветок».
20
Поэт, эссеист, филолог и философ, исследователь паранормальных явлений.
21
Роберт Видеман Пенини Браунинг родился в 1849 году.
22
Книга английского мемуариста «Воспоминания о последних днях Шелли и Байрона» была издана в 1858 году и получила признание в кругах прерафаэлитов.
23
Джулиана и Тина Бордеро, тетка и племянница, — героини повести Генри Джеймса «Письма Асперна» (1888), проживающие в полуразрушенном особняке, с описаниями которого во многом перекликается созданный Дональдом Томасом образ венецианского жилища двух сестер. Прототип Джулианы Бордеро — возлюбленная Байрона Клер Клермонт. Асперн — вымышленный поэт-романтик, сочетающий в себе черты Байрона и Шелли, а также самого Джеймса (американец по рождению, он восхищался культурой Старого Света и большую часть жизни провел в Европе).
24
Английская писательница, мемуаристка и литературный критик.
25
Нотариусом (ит.).
26
Путеводители издательства, основанного Карлом Бедекером в 1827 году, носили его имя.
27
Джордж Гордон Байрон. Дон Жуан. 6: 1. Перевод Татьяны Гнедич.
28
Любовное письмо (фр.).
29
Джордж Гордон Байрон. Дон Жуан. 1: 198. Перевод Татьяны Гнедич.
30
«Скобяных дел мастер».
31
Цитата из Второй книги Царств (1: 27).
32
Уильям Шекспир. Как вам это понравится. Акт V, сцена 4. Перевод Татьяны Щепкиной-Куперник.
33
Британский философ, историк, публицист.
34
Так современники называли Первую мировую войну.
35
Инцидент, произошедший в декабре 1910 года между анархистами из российской Риги и Скотленд-Ярдом, был не первым. Анархистская группа «Liesma» («Пламя»), возглавляемая Петром Пятковым, обосновалась в Лондоне в начале 1909 года.
36
Волнения возникли в 1736 году из-за отложенной казни капитана городской стражи Джона Портьюса, виновного в убийстве мирных жителей Эдинбурга. Приговор был приведен в исполнение разъяренной толпой горожан.
37
Обиходное название государственного флага Соединенного Королевства.
38
Английский писатель, морской капитан, сын польского повстанца (настоящее имя Теодор Иосиф Конрад Корженевский). Среди прочих тем его занимала психология анархического бунта и революционного протеста.
39
Герой одноименного романа английской писательницы Эммы Орци, британский шпион, действующий в революционной Франции и спасающий аристократов от гильотины.
40
Вероятно, автор подразумевает двоюродного брата Фрица Сварса — Якова Петерса, в 1918 году занимавшего пост зампреда ВЧК. С 1909 по 1917 год Петерс находился в эмиграции и был арестован лондонской полицией как предполагаемый участник событий на Хаундсдитч— и Сидней-стрит. Нередко Петерса отождествляют с легендарной фигурой Петера Художника.
41
Перефразированная цитата из «Послания к Болингброку» Александра Поупа, одного из крупнейших авторов британского классицизма.
42
Английский экономист, философ и общественный деятель XIX века.
43
Английский актер-трагик и руководитель собственной труппы, за заслуги перед британской культурой возведенный в рыцарское достоинство.
44
Английский лексикограф, литературный критик и поэт эпохи Просвещения.
45
Орган военной разведки и контрразведки Германии, был образован в 1919 году, в период Веймарской республики.
46
Шотландский помещик.