Книга: Волчья шкура

Волчья шкура
Предисловие
Общеизвестны слова западногерманского философа Теодора Адорно: «После Освенцима нельзя писать стихи». То есть нельзя писать стихи, не учитывая, не принимая в расчет, не держа в уме Освенцим. Столь же крылатой стала формула Мартина Вальзера, сказавшего, что если современный писатель умалчивает о фашизме, то неизбежно складывается впечатление, что он не говорит о самом главном. Фашистская катастрофа в Германии явилась тяжелым «уроком немецкого» для всего мира, стала тем историческим опытом, который определил, в частности, направление мысли и художественных усилий целого поколения писателей. Не случайно антифашистский по своей идейной направленности, роман занял ведущее место в послевоенной литературе ФРГ. Г. Бёлль и Г. Грасс, З. Ленц и М. Вальзер, Г.-Э. Носсак и А. Андерш вновь и вновь возвращаются в своем творчестве к этой теме. Рядом с лучшими произведениями этих мастеров, в большинстве уже известными нашему читателю, утвердился и роман австрийца Ганса Леберта «Волчья шкура».
Ганс Леберт родился в 1919 году в Вене. Он вырос в буржуазной семье, разорившейся в результате распада Австро-Венгерской империи, так что рано проснувшийся в нем интерес к скрытым пружинам истории не был сугубо теоретическим интересом. Племянник известного композитора Альбана Берга, Леберт юношей был вхож в тогда модные, хотя и быстро линявшие литературно-художественные салоны Вены. Он рано начал писать стихи и драмы, подражая кумиру своего детства экспрессионисту Францу Верфелю, в особняке которого часто бывал с дядей. От печатания своих вещей юный Леберт, однако, уклонялся, несмотря на столь солидное покровительство. Его манил мир театра, он работал сначала декоратором, потом стал певцом, пел — с 1938 по 1950 год с перерывами — на многих сценах Австрии и Германии, главным образом в операх Вагнера.
В 1941 году, в пору насильственного «присоединения» Австрии к Германии, Леберт был арестован за неугодные режиму высказывания, и лишь психиатрическая лечебница спасла его от тюрьмы или концлагеря.
Профессиональным литератором Леберт стал в послевоенные годы. В 1946 году он впервые опубликовал несколько стихотворений в австрийском журнале «План». В начале 50-х годов вышел из печати его сборник стихов «Выезд», затем небольшая повесть «Корабль в горах» (1955), явившаяся пробным эскизом двух последующих романов, сохранивших ее сюжетное зерно: беженец возвращается после войны па родину, в Австрию, и ведет расследование совершенных там в годы «аншлюса» преступлений.
Над романом «Волчья шкура» Леберт работал десять лет — в полном уединении, изолированности от литературного цеха, не уступая, несмотря на стесненные материальные обстоятельства, нетерпеливым издателям. Одни наброски и варианты глав романа могли бы составить несколько пухлых томов. Настойчивый труд писателя увенчался успехом — вышедший в 1960 году в западногерманском издательстве «Клаассеп» роман был вскоре переиздан в ГДР, где получил хорошую прессу, переведен на другие языки, отмечен самой авторитетной в Австрии Государственной премией за литературу. И хотя второй роман Леберта, «Огненный круг», появился совсем недавно, первого успеха оказалось достаточно, чтобы обеспечить писателю прочную литературную репутацию. Маститый Хаймито фон Додерер признал в нем своего преемника. В 1968 году, к столетию со дня смерти Адальберта Штифтера, была выбита памятная медаль в честь австрийского классика. По единодушному решению жюри она была вручена Гансу Леберту как крупнейшему представителю критического реализма в современной австрийской литературе.
Действительно, в послевоенной Австрии не было второго такого антифашистского романа, в котором бы целый комплекс общественно-психологических проблем недавнего прошлого, не утративших своей злободневности и в настоящее время, был воплощен с такой же художественной глубиной и такой же критической беспощадностью. Обличительная сила этого романа, которая тем действеннее, чем менее декларативна, обеспечивает ему выдающееся место в современной австрийской литературе. При всей своей «криминальной» оснастке роман Леберта — не просто занимательная история о загадочных преступлениях в отдаленной альпийской деревушке, но гневное разоблачение преступности фашизма и попустительства фашизму, равнодушия к злу, мещанской политической близорукости и угодливости. Этот широко задуманный п крепко скроенный роман — о прошлой вине и теперешнем замалчивании вины, о том, что «непреодоленное прошлое», преодолев настоящее, может при благоприятных условиях завладеть и будущим.
Описанная Лебертом деревушка становится выразительной «моделью» распространения ядовитых нацистских бредней. Леберт видит питательную почву фашизма в тех довольно широких слоях обывателей, которым присущи неискоренимое приспособленчество к «силе» и личная безответственность за любые зигзаги истории. Своей ведущей идейной тенденцией роман «Волчья шкура» нацелен на взращенный этой средой миф о «великогерманском» или «почвенном» духе, легший в основу нацистской идеологии; общая антифашистская направленность романа выводит его за рамки узкоавстрийских проблем. Место действия вполне могло находиться северо-западнее описанного: в баварском лесу, например, или Люнебургской степи. Затаившиеся матерые преступники, бойко карабкающиеся по служебной лестнице в послевоенное время, их привычное перекладывание вины на «время», «обстоятельства», «приказ» и внутренняя готовность к реваншу; но уничтоженные до конца сорняки нацистской пропаганды; казенный патриотизм, насаждаемый в школах, — все это реалии в еще большей степени западногерманские, нежели австрийские. В то же время проблема «пособничества», молчаливого соучастия в фашистских преступлениях является, бесспорно, одной из главных общественных проблем и послевоенной Австрии.
Основной идейный лейтмотив романа намечен уже в эпиграфе. Вагнеровские строки: «Только волчью шкуру в чаще нашел… Отец мой вдруг исчез…» в емкой метафоро заключают основную мысль произведения: фашизм опасен, потому что у него природа оборотня, он способен затаиться и ждать своего часа. Нравственный долг современного писателя, полагает Леберт, в том, чтобы раскрывать суть подобных превращений, разоблачать фашизм во всех его проявлениях. И здесь у Леберта немало союзников. Вышеприведенные вагнеровские строки могли бы быть эпиграфом не только к его роману, но и ко многим другим антифашистским произведениям. Неустанный поиск истинных виновников фашистских злодеяний ведется, например, в романах Ленца, Вальзера, Грасса, Гейслера: конфликт времени, сосредоточенный и раскрытый в конфликте поколений, обрисован этими писателями с большой социальной п исторической конкретностью.
В чем же художественное своеобразие романа Леберта, какими средствами решает он общую для прогрессивных западных писателей задачу — воспрепятствовать возрождению фашизма?
Прежде всего бросается в глаза, что своей цели Леберт достигает резко сатирическими средствами. Словно с полотен Гойи перенесен в его роман этот невиданный паноптикум уродов, отталкивающих как телесно, так и духовно. Немытые рожи и непроветренные мозги, замусоренные улицы и прокопченные хибары, смрад, вонь, гниль, грязь, лицемерие, ханжество, скудоумие, скупость, скотство — так выглядит под его пером мир символически нареченной деревни (Schweigen — букв, «молчание», в переводе — «Тиши»). Особенно выпукло (это выпуклость кривого сатирического зеркала) изображается «аристократия» деревни — те самые «волки-оборотни», которые еще недавно бесчинствовали под штандартами Гитлера и которые теперь готовы взять «на пле-ечо!» по первой команде. Война видится им в ореоле все еще притягательной героики, контрастирующей с теперешней прозой их жизни; их грудь по-прежнему распирает истошное «Хайль!», которым они облегчают душу в хмельном порыве, чтобы, протрезвев, вернуться к монотонной будничной скуке. Выразительная, хлесткая карикатурность их портретов подкрепляется символикой имен — у всех персонажей романа «говорящие» фамилии: Айстрах, Пунц, Карамора и др.
Однако слова сатира, гротеск, карикатурность обозначают лишь самую общую тональность книги. Резко сатиричны и Грасс и Вальзер. Своеобразие романа Леберта, пожалуй, в том, что его стилистическую окраску невозможно определить однозначно: пристальная натуралистичность в изображении деталей деревенского быта сочетается с пространными лирическими пассажами, криминальная завязка перерастает в символическую притчу.
Автор исподволь и обстоятельно знакомит нас с жизнью глухой австрийской провинции, строя повествование как неторопливую сельскую хронику, ведущуюся в основном от лица обобщенного «мы», с которым часто сливается авторский голос.
Леберт искусно вводит читателя в мир своего романа, — поначалу напряжение нагнетается не столько событиями, сколько самой атмосферой: какой-то скрытый смысл угадывается за всеми этими случайными встречами, косыми взглядами, перебранками, недомолвками, молчанием, что-то тревожное, цепенящее, подспудногрозное чудится в безобидном с виду деревенском житье-бытье. Постепенно раскрываются люди — самодовольные, ограниченные, погруженные в мелкие нужды сегодняшнего дня: будущее их не волнует, прошлое, кажется, тоже. До тех пор, пока они уверены друг в друге, они держатся вместе, но видно: стоит зародиться подозрению — и заподозренному несдобровать.
И действительно — несколько монотонная мелодия повествования то и дело прерывается трагическим диссонансом: пять убийств происходит в деревне за четыре месяца. По мере развития сюжета все более и более выявляется притчеобразная структура романа, его символический план. С жестокостью хищного зверя травят «оборотни» тех из своей стаи, кто ослабел, стал сдавать — заговариваться, выбалтывать тайну. Но ведь именно так «устраняли» свидетелей или ненадежных пособников и нацисты. Особенно характерен здесь эпизод с «зеброй», беглым каторжником, которого «оборотням» выгодно выдать за убийцу. Свирепыми побоями и шантажом у него вырывают ложное признание, а затем убивают, пряча концы в воду, прекращая расследование преступления как якобы раскрытого. Но ведь именно так действовало нацистское «правосудие», явившее миру тысячи примеров наглого вероломства людей, облаченных в форму служителей справедливости.
Сама сюжетная ось романа, как видим, глубоко символична. Обобщенный смысл придан автором и всей системе образов «Волчьей шкуры». Все персонажи книги — характерные социальные типы. Таковы не только сами «оборотни», местные богатеи, завсегдатаи «Грозди», часто оказывающиеся на переднем плане изображения, но и те, кто составляет его фон. Вот, например, учительница фрейлейн Якоби, эта нестареющая валькирия нацизма, толкующая на уроках о «расе господ» и сводящая в могилу ученика Бахлера своей «оздоровительной» программой. Здесь под обстрел взята вся система нацистского воспитания, калечащая души молодого поколения.
Или деревенский жандарм Хабихт, человек, которому сама должность но позволяет поступать по совести. Вместо преступников он преследует их преследователей, он шантажирует невиновного — беглого «зебру», заставляя его взять на себя убийство, попустительствует расправе над ним и в конце концов получает от начальства поощрение за свою исправную службу. Это тоже система, в которой служители закона творят беззаконие, в которой карают за мелкие преступления и потворствуют крупным. Общественная система, при которой преступникам определенного ранга легко добиться преуспеяния — таков гротескный взлет Хабергейера, бывшего ортсгруппенлейтера, главного виновника совершенных в деревне преступлений, становящегося в финале романа депутатом ландтага.
«Оборотням» противостоят в романе двое — фотограф Малетта и Иоган Недруг, «матрос», как, обозначая дистанцию, называют его в деревне. Фотограф и матрос — как бы расщепление одного и того же лица на разные маски, разные состояния, на дурное «я» и хорошее «я». Фотограф сам признается, что видит в матросе свою лучшую половину, что завидует ему, его жизненной силе. Убогий Малетта слишком слаб, чтобы противостоять миру и утвердить добрые порывы, ведомые его душе. Он жалко, безнадежно гибнет — осмеянный, оплеванный, буквально измаранный нечистотами, он становится жертвой не ему предназначавшейся пули. Пассивное неприятие — ненадежный союзник в борьбе с фашизмом. Не случайно Малетта — фотограф (ведь любая деталь в этом романе имеет, как мы помним, символическую нагрузку): бесстрастная фиксация, «фотография» зла не представляет для зла серьезной опасности.
Матрос тоже страдает от «диктатуры садовых гномов», символизирующих в романе косный, рутинный быт с его сонной одурью, темнотой, суеверием, страхами, с царящим в нем «собачьим триединством: глупостью, трусостью и бессовестностью». Но им движет решительное стремление к справедливости, истине. Недобрая обывательская молва взваливает на матроса всю ответственность за преступления, но он спокойно отводит клевету «гласа народа». Он одержим своей целью — раскрыть преступление, разгадать тайну. Тайна требует все новых жертв, набухает кровью и наконец лопается, как ни сопротивляются этому угрюмые обыватели. Тайное становится явным: незадолго до конца войны жители деревни расстреляли шестерых иностранных рабочих. Против своей ноли совиновным оказался и отец матроса, покончивший с собой после случившегося.
Раскрыв преступление, Недруг обрушивается с гневными обвинениями на односельчан, но его отчаянный крик — это глас вопиющего в пустыне. Ни жандармерия, ни административные инстанции не желают внять голосу справедливости. Разоблачение натыкается на круговую поруку. И матросу не остается ничего другого, как взять котомку и удалиться в горы, напевая Голубую песню, — подобно какому-нибудь романтическому герою, он презирает мораль недочеловеков, но бессилен ее исправить.
Погрязший в пороках мир кажется ему конюшней, которую невозможно вычистить. Старики заразят своим духом молодежь, та в свою очередь наплодит новых убийц — все вернется на круги своя…
Здесь бесспорная слабость матроса — слабость той позиции отвлеченного гуманизма, которую он занимает. Роман Леберта убедителен в разоблачениях фашизма, но ему явно недостает показа тех исторических сил, которые активно боролись с гитлеризмом. О героях Сопротивления говорится в романе сочувственно, но слишком глухо. При всех художественных достоинствах романа Леберта известная ограниченность идейной концепции «Волчьей шкуры» очевидна.
Поэтику Леберта, как она обозначилась в его первом романе, австрийская критика не раз ставила в связь с экспрессионизмом, и это отчасти справедливо. От этой литературной традиции унаследовал автор обращение к такой художественной конструкции, в которой выпукло обозначена нерасторжимость жизни и смерти, вечного и земного, в которой моральный мотив возмездия сливается с мифическим мотивом власти мертвых, в которой любая деталь но однозначна, а как бы источает дополнительный, намекающий смысл: лес, например, становится символом путаного пути человеческого, болото — символом зыбкости моральных устоев, обывательщины и т. д. Язык Леберта порывист, взбудоражен, в описаниях природы он обнаруживает вполне экспрессионистскую неистовость. Природа у Леберта также одушевленная стихия. Она то окутывает деревню гнетущей тишиной, обволакивает ее загадочно-тревожным молчанием, то обрушивает на нее ураган гнева. Природа сама карает одного из убийц — дождь «прыгает» на него из темноты.
Описания природы занимают много места в романе, порой ощущаешь даже некоторую их избыточность. Пейзажи удаются Леберту лучше, чем диалог, — он, пожалуй, один из искуснейших пейзажистов в современной немецкоязычной литературе. Ландшафты в «Волчьей шкуре» — не застывшие изящные гравюры, но полные буйных красок картины, воспроизводящие динамику органической жизни. Взгляд писателя прикован к грубой реальности, общую атмосферу романа не в последнюю очередь определяет «дух земли», душный запах плоти, гниения, тления — всего этого так много в романе не только потому, что такова, в конце концов, кондовая деревенская основа, но и — вспомним о символическом плане романа — потому, что тут речь идет о фигуральном навозе «почвенничества», дающего питательные соки фашизму.
На ландшафтах Леберта, кроме того, отблеск демонических сил, ставших еще в первой половине XX века характерной чертой при описании альпийских пейзажей в австрийской литературе нашего века. Многие австрийские писатели, словно помня, что и Гитлер был выходцем из одной такой альпийской деревушки, придают в своих произведениях старым альпийским поверьям о злых духах подчеркнуто антифашистскую трактовку. Особенно показателен в этом смысле «горный» роман Германа Броха «Искуситель», с которым довольно часто сравнивали «Волчью шкуру». Оба романа действительно обнаруживают немало схожих идейных и стилистических черт. Однако в отличие от Броха Леберт не сводит историю к отражению борьбы древних инстинктов, фашизм для него не просто взрыв первобытных демонических сил, но исторически обусловленная реальность — реальность, конечно, безумная, но пасовать перед ее непостижимостью было бы еще большим безумием: ее можно и должно избежать в будущем.
Об исторической необходимости извлечь урок из минувшего Леберт говорил в своей «Речи о свободе», с которой выступил в 1964 году в ряде высших учебных заведений Австрии. Свою речь Леберт начал с рассказа о том, как ему довелось побывать в отдаленных альпийских деревеньках как раз в ту пору, когда весь мир обсуждал дело Эйхмана в связи с его процессом. Большинство посетителей местных харчевен считало, что участники Сопротивления и есть главные военные преступники, потому что они воевали против «своих», против «своей страны». Подобный уровень политического мышления широких слоев обывателей не может не вызывать самой серьезной озабоченности, считает Леберт. В речи он не раз возвращался к исходной метафоре своего романа, говоря о волках-оборотнях, о замаскировавшихся сегодня фашистских элементах. Любая успокоенность в таких условиях была бы залогом неминуемых катастроф.
Пафосом обличения нацизма проникнут и второй роман Леберта — «Огненный круг» (1971), в котором воспроизведены и развиты отдельные мотивы его первой книги. Диапазон изображения здесь несколько суживается: из обширной галереи лиц, воссозданных на страницах «Волчьей шкуры», Леберт оставляет два типа, соответствующих фрейлейн Якоби и матросу.
Некто Готфрид Ершек, ставший в эмиграции капитаном английской армии, возвращается в 1947 году на родину, в Австрию, и поселяется у своей сводной сестры, одиноко живущей в наследственном доме в приальпийском лесу. Постепенно капитан убеждается, что его сестра Хильда Бруннер не просто начинена лозунгами фашистской пропаганды, но рьяно следует им в своей жизни, что на совести у нее тяжкие преступления. Ее облик — словно плакатное воплощение основных фашистских «добродетелей»: нерассуждающей силы, напора, жестокости.
И Ершек сам карает ее — расстреливает из парабеллума в комнате, а дом, символически тронутый гнилью, сжигает, облив бензином: только так следует производить окончательный «расчет с прошлым». Идейный замысел этой притчи подчеркнуто откровенен.
Написанный в той же идейно-стилистической плоскости, роман «Огненный круг» все-таки не достигает художественной силы «Волчьей шкуры». Образы романа местами чересчур плакатны, им не хватает жизненной достоверности.
Лучшим достижением Леберта остается без сомнения роман «Волчья шкура». В австрийской литературе нет пока другой книги, в которой с такой же силой говорилось бы о непреодоленном прошлом, о готовности иных социальных групп и теперь следовать за «сильной» личностью по пути преступлений. По прошествии двенадцати лет со дня выхода в свет роман «Волчья шкура» еще не стал памятником словесности, потому что не отошли в прошлое проблемы, нашедшие на его страницах живой, выразительный отклик.
Ю. Архипов
Но бой разлучил нас с отцом;
он пропал из виду,
напрасно искал я, —
только волчью шкуру в чаще
нашел, — след, брошенный им.
Отец мой вдруг исчез…

Таинственные события, взволновавшие нас прошлой зимой, начались, если толком разобраться, не девятого, как обычно утверждают, а, скорей всего, еще восьмого ноября, с того самого странного шороха, каковой будто бы услышал матрос.
Да. Но сперва бросим взгляд на карту.
Вот это — Тиши, а тут, чуть южнее, — Плеши. Там — железнодорожная станция Плеши — Тиши и узкоколейка, которая кончается тремя станциями дальше. На западе к Тиши подступает гряда холмов — Кабаньи горы; их огибает дорога из Плеши в Тиши. На этом-то изгибе, южнее Тиши, и находится подозрительная печь для обжига кирпича. А что еще?.. Вот тут поля, там лес, эти точки обозначают хутора, а линии — дороги, теряющиеся в лесу.
Это богом забытый край, край, с которого нечего взять и потому почти неизвестный. В стороне от больших магистралей живет он своей непроглядной жизнью, и тот, кто думает, что хорошо знает эти места, как я, например, в конце концов знает только, что этот край существует и что находится он у черта на куличках. По утрам лисы, которых там тьма-тьмущая, продираются сквозь чащобу поближе к хуторам и принюхиваются к дыму из труб, пахнущему палеными перьями. Потом навострив уши озираются: пустота, вершины деревьев тонут в облаках, дождь тихонько барабанит по жнивью.
Но вернемся к делу.
Восьмого ноября, около трех часов утра, матрос проснулся от какого-то неприятного чувства — леденящего, омерзительного ощущения, что дверь стоит открытой. Он вскочил и убедился, что она закрыта. Тогда он снова улегся, но заснуть уже не мог. Раздосадованный, он вскоре опять встал, закурил трубку и посмотрел в окно. Улицу заливал молочный сумрак. На востоке луна за облаками высвечивала на туманной пелене расплывчатое пятно, чахоточно-бледную лужицу, из которой как. призраки поднимались голые сучья фруктовых деревьев.
В общем-то, все выглядело как обычно, все шло своим чередом. Тем не менее матросу вдруг почудилось, что его ждет какое-то приключение. Покуда он стоял и раздумывал, что же такое может случиться, до него вдруг донесся тот странный шорох, который и до сих пор не находит себе объяснения. По словам матроса, шорох исходил от печи для обжига кирпича и постепенно заполнял собою все до самого небосвода. Это звучало как звон в ушах или как Эолова арфа — словно в воздухе дрожала туго натянутая струна.
Звук этот вдруг замер, как бы иссяк в ночной дали, заблудился в лесу, опустился в заболоченную долину, где под утро сгущается туман и иней сверкает на травах. Наконец он подключился к тихому звону телефонных проводов (с которым имел известное сходство) и в дальнейшем ничем от него не отличался.
А мы в это утро уже опять крепко спали. Да и не было у пас причин плохо спать. Мы полагали, что война со всеми ее последствиями для нас миновала; жизнь по всей стране налаживалась, даже намечалась какая-то конъюнктура; и если нас что и мучило, то разве только скука, которая в мирное время чувствует себя в этих местах как дома и серым неуловимым призраком бродит среди домов и заборов из колючей проволоки.
С нее (со скуки) и начался день, похожий на все другие дни этого месяца. Вперед себя он выслал заплаканную красноту (красноту воспаленной конъюнктивы, впрочем через несколько минут побледневшую) и, тусклый, серый, нехотя пополз по гребням холмов. Правда, была суббота, и в «Виноградной грозди» ожидался танцевальный вечер, но вряд ли он мог чем-то непривычным разорвать тягостное кольцо однообразия, кольцо, состоящее из земледелия и скотоводства, голых лесов и бурых земляных валов, что к концу года всего теснее сжимается вокруг нашей местности.
Все было как всегда. Взревели грузовики и мотоциклы. Паровая машина лесопильни начала пыхтеть, как больной в жару, а кругом, в лесах, уже обреченных на вырубку, проснулись и залаяли топоры лесорубов. Как каждое утро, в Тиши открылись ставни: в булочной, в мелочной лавке и в мясной (принадлежавшей хозяину «Виноградной грозди»). Как каждое утро, дети побежали в школу, и серебристые облачка дыхания клубились впереди них.
И все-таки! Что-то было иначе (уже должно было быть иначе) в тот сонный субботний день, который лишь месяц спустя показался нам подозрительным. Но это, странное дело, ощутил только матрос, хотя тоже совсем безотчетно, разве лишь потому, как напряглись в нем тончайшие нервные волокна. При всем желании он не мог бы объяснить, что же это было и было ли что-нибудь вообще.
Матрос вышел из своего дома (из «хижины гончара», притулившейся на опушке леса высоко над деревней), взглянул на облака, и лицо его исказилось гримасой. Не в воздухе было тут дело и не в освещении. Так в чем же, спрашивается? Ни в чем. Он напряг слух, но услышал лишь, как шелестят травы, как сухо потрескивает хворост в лесу, а из долины раздается пыхтение лесопилки. У колодца матрос наполнил водою кувшин и вернулся в дом, чтобы сварить кофе.
Давайте же откопаем мертвеца! Не из тех безымянных, которых пытался откапывать матрос, а хорошо всем нам знакомого (он тогда еще принарядился ради воскресенья, которое ему не суждено было пережить) мертвеца по имени Ганс Хеллер, сына крестьянина-богатея (заправилы крестьянской общины, владельца хутора, что по дороге в Плеши).
Около десяти утра он на своем мотоцикле прикатил в Тиши, вошел в парикмахерскую Фердинанда Циттера и тяжело плюхнулся в одно из кресел. Ганс Хеллер был красивый, ладный парень, с головы до ног одетый в блестящую кожу. Он отлично монтировался со своей машиной и тоже казался свежеотлакированным: все на нем было с иголочки, и когда он самодовольно развалился в кресле и вытянул ноги, обутые в канадские сапоги, всем (я имею в виду тех, кто видел его тогда) казалось, что и в нем работает сильный мотор, иными словами, не приходилось сомневаться, что сердце у него здоровое.
— Побрить! — рявкнул он.
Фердинанд Циттер (хилый старикашка с белыми кудрями и в роговых очках, сидевших у него на носу так низко, что казалось, они вот-вот свалятся) поклонился и потер руки.
— Сию минуту! — сказал он. — Ирма сейчас придет. Не угодно ли пока посмотреть газету?
— Сегодняшнюю?
— Нет, вчерашнюю.
— Уже читал, — буркнул парень. Он разглядывал себя в зеркале, насвистывая модную песенку.
Позднее, когда несчастье уже случилось, Фердинанд Циттер рассказывал:
— Ирма, как всегда, заставила себя ждать. Наверно, она в это время ела свой второй завтрак и руки у нее были вымазаны сыром или повидлом. Тогда я решил по крайней мере намылить господина Хеллера, хотя знал, что это не доставит ему большого удовольствия. Ведь он, собственно, только ради Ирмы сюда и пришел. Итак, я взял чистое полотенце и заткнул ему за воротник. При этом я пощупал его щеку — проверить, жесткая ли щетина. И вдруг испугался. Да. Именно испугался. Лицо у него было какое-то омертвелое, холодное и дряблое — ни дать ни взять покойник. Тут появилась Ирма и меня сменила. Слава богу! У меня руки дрожали, да и вообще пропала всякая охота работать.
Ганс Хеллер пригласил парикмахершу на танцы в «Гроздь».
Она согласилась, изрядно поломавшись (хотя все равно собиралась туда идти); он-де должен дать ей слово, что заедет за нею, она не намерена в нарядных туфлях шлепать впотьмах по грязи и явиться на танцы свинья свиньей.
Он кивнул и сказал, что это его вполне устраивает: они успеют еще немного покататься и она получше познакомится с его новой машиной. Покуда Ирма брила его, мягко и ласково над ним склонившись, он, боясь, как бы она его не порезала, низким голосом, почти не открывая рта, как говорят чревовещатели, рассказывал о неисчерпаемых радостях, которые дарит мотоцикл. Она слушала его доверчиво и немного сонно, полузакрыв глаза и время от времени подавляя зевоту. Иногда она улыбалась, показывая свои зубки, и говорила (это звучало как стрекот сверчка):
— Да? Правда? Вот здорово!
Потом, смыв с лица Хеллера остатки пены, она бережно его обтерла, опрыскала одеколоном и, орудуя расческой и щеткой, аккуратно причесала его соломенного цвета кудри. День озарил матовое оконное стекло серым, неаппетитным светом. Фердинанд Циттер смотрел на них, сидя возле почки, которая потрескивала и тихонько гудела.
— При этом у меня было такое чувство, — рассказывал он впоследствии, — будто, кроме нас троих, в комнате был еще четвертый, невидимый, и этот четвертый указывал на Ганса Хеллера.
— Как почему? — спрашивали мы. — И что же это было за чувство?
— Трудно описать такое. Это было как сильный мороз. Мне казалось, что я замерзаю, хотя я сидел у печки. (Печь непрерывного горения, распространявшая сильный жар!)
Наискосок от парикмахерской, на противоположной стороне улицы, стоит дом Зуппанов. Старое, нескладное здание, по всей вероятности, семнадцатого столетия, фронтон его с единственным окошком мансарды, точно человеческое лицо, глядит на улицу. Когда Ганс Хеллер вышел из парикмахерской, вскочил на мотоцикл и заставил мотор взреветь так оглушительно, что все стекла кругом задребезжали, в доме происходило следующее: занавеска, закрывавшая окно (белая с кружевной оторочкой), немного раздвинулась, отчего образовалась темная щель, впрочем достаточно широкая, чтобы взглянуть в нее одним глазом, и этот глаз, хотя и не заметный с улицы, но, несомненно, притаившийся за занавеской, таращился на «окаянного парня», покуда тот не исчез за поворотом на своем чертовски трескучем мотоцикле.
Допустим, здесь нет ничего особенного. Если в Тиши кто-то идет по улице, он во всех окнах может заметить глаза, которые более или менее подозрительно следят за ним. Но об этом случае в виде исключения стоит упомянуть, поскольку за вышеуказанным окном мансарды обитал, как всем нам известно, Карл Малетта с нашими фотографиями.
Вспомним, что было дальше.
Спустя полчаса (должно быть, около половины одиннадцатого) нас, как обычно, удостоил визитом Константин Укрутник. Укрутник — скототорговец, двадцати восьми лет, рост метр девяносто, великолепный образец мужчины. Вылитый боксер! Грудная клетка его напоминает литавру, по ней так и хочется стукнуть — не загремит ли (как пустота, как пустая бочка). Однако кто из нас, деревенских жителей, отважился бы стукнуть в грудь верзилу-скототорговца? Он утверждает, что сила у него колоссальная, и (а это куда опаснее) корчит из себя важного господина, потому что денег у него куры не клюют и девушек — хоть пруд пруди.
В то время он приезжал почти каждую субботу и оставался (никто толком не знал зачем) на воскресенье. Он жил в «Грозди», где за ним неизменно сохраняли номер, и обсуждал с Францем Биндером, хозяином гостиницы, фермером и мясником, разные, частенько темные, махинации, которыми они занимались сообща. Он был явно неравнодушен к Герте Биндер, хозяйской дочке. Подносил ей небольшие подарки, чаще всего нейлоновые чулки, что она особенно ценила, хотя на нежной паутинке — обычно с первого же раза вследствие чрезмерного натяжения (фрейлейн Биндер гимнастка, и у нее необычайно развиты икры) — петли спускались буквально наперегонки.
Она и на этот раз получила от него подарок, но не чулки, а духи, словно он угадал ее тайное желание, ибо такое тело, н-да, словом… понятно. Излучая радость (ведь так, кажется, говорят), излучая радость, она стояла в подворотне между гостиницей и мясной лавкой. Ее короткие толстые пальцы, жирные от свиного сала, нежно сжимали флакон, который даже в обертке распространял вокруг себя изысканный запах. Укрутник тем временем отогнал свою машину (в прошлом собственность вермахта) за дом, в так называемый гараж.
Там, в этом сарае без окон, который, как слепец, присел возле навозной кучи, в невообразимом беспорядке валялся разный хлам, обломки старой крестьянской телеги и сельскохозяйственных орудий, покрытые пылью и затянутые серой паутиной. В углу притаилась кошка. Она злобно смотрела на рослого скототорговца. Осеннежелтыми глазами следила за каждым его движением, казалось, накапливая тайные силы ненависти. Он поставил машину и хотел уже выйти из сарая, но, заметив ее, остановился. Кошка была черная.
Теперь Укрутник и кошка не сводили глаз друг с друга и оба, казалось, готовились к прыжку. Осенне-желтые кошачьи глаза освещали сарай, как луна, повторенная маревом, золотит сумрак ночи. Глаза человека тоже светились, но совсем иначе, чем глаза зверька. Темные и томные, цвета подгнивших оливок, они блестели, как зеленоватое смазочное масло. Он прищурился (глаза — две узкие щелки), сжал зубы, энергично выставил вперед подбородок, мускулы его лица напряглись. Немного наклонясь, он стоял возле ворот, через которые падал дневной свет, а кошка, комочек мрака, притаилась в глубине сарая и замерла. Не дыша, они подстерегали друг друга, и между ними в воздухе, казалось тоже кого-то подстерегавшем, сверкнуло нечто похожее на электрический разряд.
Но скототорговец об этом не подозревал (подозрения обошли его стороной). Он только ощутил удар в спину, удар невидимого кулака, пошатнулся и, не разгибаясь, все еще как бы готовый к прыжку, неслышными, скользящими шагами хищного зверя приблизился к кошке. И вдруг сделал резкое движение, словно хотел схватить ее за хвост; в ту же секунду кошка вскочила и черным вихрем пронеслась мимо него.
Он успел только заметить, как она со вздыбленной шерстью и комично прижатыми ушами выскочила из темноты на серую светлость, бросилась к дому и исчезла в подвальном окне.
(Происходило все это около одиннадцати, и дым из труб уже пах едой, но не поднимался к небу, а, как наземный туман, удушливо стелился понизу.)
Но поговорим о Карле Малетте!
На третий год после поражения (или освобождения), майским утром, холодным и влажным, как собачий нос, он явился к Зуппанам. Обоим старикам, до сих пор и не подозревавшим о его существовании, он представился, во-первых, как родственник, а во-вторых, как жертва войны. «Какой такой родственник?» — спросили они. Точнее он ничего не сумел объяснить. «И в каком смысле жертва?» — допытывались старики. Он и этот вопрос как-то обошел. Малетта снял у них одну из двух комнат в мансарде (другая была уже сдана фрейлейн Якоби, новой учительнице). На запряженной волами телеге со станции привезли его чемоданы, он распаковал их, установил аппарат и укрепил на заборе вывеску, видимо им самим намалеванную: «Фотография Малетта, второй этаж налево».
Поскольку мы считаем себя красивыми и к тому же в нас говорило любопытство, то мы почти все ходили к нему фотографироваться. Вскоре он уже мог оклеить нашими портретами стены своей комнаты. Наверно, это выглядело отвратительно, ибо всякая массовость отвратительна.
Давайте теперь послушаем беспристрастного свидетеля, приезжего владельца извозного заведения, который тоже сфотографировался у Малетты, но к делу никакого отношения не имеет.
Он рассказывает:
— Почитай, двенадцать было, когда я зашел к нему, смотрю, он еще в постели валяется, лентяй несчастный. Ну, я, конечно, живо его на ноги поднял. Об чем это вы задумались? — спрашиваю. Он отвечает: «Мне много чего обдумать надо, а в постели лучше думается». Потом встает, натягивает штаны, которые висели на стуле, и старается в них рубашку заправить. Покуда он со своей аппаратурой возился, я его комнату оглядел. Вот это да! Жуткое дело! Стены сплошь в фотографиях. Все важные персоны из Тиши и Плеши рядышком, друг подле дружки, и все, можно сказать, на одно лицо.
— Честь имею! — говорю я. — У вас тут целый ферейн! А вы часом не заболеете, на них глядючи?
— Дело привычки, — говорит он и улыбается (лицо у него похоже на плавленый сыр). — Все дело привычки. Теперь прошу вас. — Я уселся на табуретку, она уже наготове стояла, а он за аппарат зашел.
— От этих портретов, — говорю я, — страх берет. Лупятся тебе прямо в лицо, как будто загипнотизировать хотят.
Он смеется, а сам голову упрятал под черный платок.
— Это потому, что люди прямо в объектив таращатся, — говорит он, — наверно, чтобы их сущность лучше проявилась на фотографии, — говорит. — Прошу, смотрите на мой палец! — А палец-то смахивает на сырного червя. Он высоко его поднял, словно хотел что-то объяснить.
— Внимание! Благодарю вас, — говорит он. А когда я с ним расплатился, добавил: — Мне здесь порой невмоготу становится, иной раз сам себе кажешься фиалкой, которую засушили в альбоме с фотографиями преступников.
В ту роковую субботу, вскоре после полудня, Малетта отправился (как всегда) закусить в «Гроздь». Мы видели, как он в шляпе и непромокаемом пальто, похожем на маскировочный халат, шел вниз по улице. Мы уже успели привыкнуть к нему и не очень-то обращали на пего внимание — мы хоть и жили в захолустье, где все следят друг за другом, но уж не в таком, чтобы не привыкнуть к виду Малетты.
В подворотне (над ней висела шикарная вывеска «Мясная торговля и гостиница «Виноградная гроздь» Франца Биндера») Малетта на секунду остановился, как бы помедлил перед невидимой границей, а может, ему просто стало нехорошо от запахов, доносившихся справа — из кухни, и слева — из мясной лавки. Он снял шляпу, пригладил волосы, одернул галстук… Наконец собрался с духом и вошел в заведение.
Франц Биндер, восседающий за стойкой — ни дать ни взять пивной бог, — приветствовал его по обыкновению несколько свысока. И тут Малетта сделал то, чего еще никогда не делал. Он пропустил приветствие мимо ушей и, ни слова не сказав, проследовал мимо стойки и мимо хозяйского брюха. Сняв пальто, он сел за столик (возле дверей в кухню и в туалеты), за которым обычно обедал учитель. Этот последний уже сидел на своем месте и чинно хлебал суп (тепловатую желтую водичку, в которой плавали редкие вермишелины). Он-то и дал нам позднее точный отчет о том, что произошло в дальнейшем, но мы, стремясь приблизиться к истине, вынуждены этот отчет несколько видоизменить.
Итак, Малетта уселся, взял со стола картонную подставку под пивную кружку и с наслаждением принялся рвать ее на куски. Его обычно беспокойно блуждающие глаза сегодня уставились в одну точку на стенной обшивке — хотя смотреть там, по правде говоря, было не на что, — и в этих глазах вдруг вспыхнул огонек, словно чуть всколыхнулась водная гладь. (К примеру: на столе стоит стакан с водою; в окно светит осеннее солнце; по улице с грохотом проезжает грузовик; вода в стакане начинает дрожать, и отраженное в ней солнце мерцающими бликами пляшет на потолке.)
— Как жизнь? — спросил учитель.
— Спасибо, хорошо, — ответил Малетта.
— А как дела в фотографии?
— Спасибо, тоже неплохо. — Он говорил кратко и отрывисто.
Кельнерша, средних лет ведьма, тощая и омерзительно косоглазая, проходя мимо, швырнула ему меню.
— Спасибо, — сказал Малетта, но не притронулся к засаленному листку, который упал на стол неисписанной стороной вверх.
— У них сегодня свинина, — сказал учитель.
— Так, — сказал Малетта.
— И телячье жаркое, — сказал учитель.
— Ага, — сказал Малетта.
Мимо прошмыгнула кельнерша.
— Суп будете есть? — крикнула она на ходу.
Малетта продолжал горящими глазами смотреть в ту же точку на стенной обшивке.
— Да, пожалуйста, — ответил он, глядя прямо перед собой, словно кельнерша была нарисована на стене.
В развевающемся платье из пестрой шерстяной материи, она выбежала вон и, вернувшись через несколько минут, наотмашь (чтобы показать, как лихо она справляется со своими обязанностями) брякнула на стол тарелку, так что суп расплескался.
Малетта оторвал взгляд от стены, и глазам его представилась малоаппетитная картина. Тарелка стояла чуть ли не посреди стола, возле нее растеклась лужа, ложки не было.
— Эй, фрейлейн! — позвал он.
С чего бы это? Он же знал здешние нравы, да и обходились с ним так уже не впервые. Посетитель, которому не подали ложку, обычно просто встает и сам берет ее. Подобная система обслуживания вошла здесь в обычай с военного времени. Тогда ее опробовали и, поскольку она выдержала испытание, приняли. Тот, кому она не по душе, может обедать в другом месте. По в Тиши имеется только одно это заведение. Что же касается лужи возле тарелки, то это уж, ей-богу, не велика беда (для хозяина). Такие случаи предусмотрены: на скатерти постелен лист оберточной бумаги.
Однако Малетта вдруг не захотел с этим считаться.
— Фрейлейн, — крикнул он, — во-первых, вы мне не дали ложку, а во-вторых, пролили суп!
Кельнерша не слышала или не пожелала слышать; и вообще она уже занялась другими посетителями (возчиками, уплетающими копченое мясо, и рабочими с лесопилки, которые пропивали свой недельный заработок). Малетта сидел, положив руки на колени, и дожидался, а суп тем временем остывал.
— Вы лучше сами возьмите ложку, — сказал учитель.
— И не подумаю, — ответил Малетта.
— Почему? Я тоже сам принес ложку.
В его голосе вдруг зазвучали назидательные нотки.
Малетта удивленно на него взглянул. Свет его глаз пробежал по лицу соседа. Тот ответил ему взглядом, подобающим учителю народной школы, — несколько удивленным, несколько предостерегающим и достаточно снисходительным… Двое мужчин, не по своей воле сошедшихся за худшим столиком в заведении Франца Биндера — другие, более приятные столики тот держал для местных и почетных посетителей, — двое мужчин глядели друг на друга: один силился сохранить учительскую позу, другой, медленно опуская веки, старался затенить, скрыть свой взгляд, и все же им не удавалось утаить уже, вероятно, давнюю безграничную антипатию. Она, как сигнал тревоги, вспыхнула в глазах обоих.
— Я принесу вам ложку, — сказал учитель. Он сделал вид, что хочет встать, даже оторвал зад от стула.
— Сию же минуту сядьте! — прошипел Малетта. — Или вы вздумали меня воспитывать?
Учитель сел.
— В чем дело? — спросил он. — Вы так раздражены. — Затем поднял руку, как школьник в классе, и дружелюбным тоном позвал: — Алло, фрейлейн Розль! Господин Малетта просит ложку.
И тут произошло то, что в тот день заставило Малетту немедленно покинуть «Гроздь».
Кельнерша подошла. Конечно же, подошла. Но она принесла не ложку, а грязную посуду (с обглоданными костями и тому подобным), собранную с других столов, а так как хозяин тут же крикнул ей, что вино налито, пусть забирает его, то она поставила посуду на стол — по ее мнению наиболее удобный: он ведь стоял у двери в кухню, — то есть прямо под нос фотографу. Малетта немедленно поднялся.
— Ну, с меня хватит, — воскликнул он, а то, что он при этом был абсолютно спокоен, как раз и произвело весьма неприятное впечатление.
Надев пальто, он остановился у стойки и спросил Франца Биндера, что стоит суп, растекшийся по столу, кстати, есть его все равно было невозможно.
— Полторы марки, — ответил тот.
Малетта отдал деньги и вышел из зала.
Что мне еще сказать вам! В прихожей он услышал приближающиеся шаги и остановился как вкопанный. Он узнал их. То были шаги Герты Биндер, быстрые, твердые, уверенные. Они приближались из темноты, в которой тонул дневной свет, проникающий с улицы в подворотню. В углах и закоулках, на лестницах и в переходах старого здания эти шаги пробуждали эхо, глухой отзвук их, казалось, шел из подземелья, из преисподней. Он еще мог бы убежать, в несколько прыжков выбраться на волю. По нет, он стоял как пригвожденный — между внутренними помещениями дома и улицей, — ждал ту, что приближалась, ибо звук ее шагов действовал на него одуряюще.
Попробуем войти в положение фотографа. Он ничего не ел, он был голоден, он отказался от обеда. В животе у него была только проглоченная досада, а ею сыт не будешь. Но когда он захотел выйти, чтобы вдали от нас эту досаду переварить — между ресторацией и мясной лавкой, между кислым запахом пива и тяжелым запахом свиных и говяжьих туш, — раздались шаги, которыми утверждала себя жизнь, жизнь, оставлявшая его голодным, жизнь, насмешливо и грубо прошедшая мимо него. Приближалась дочь мясника, готовая, судя по ее шагам, растоптать его.
— Никогда не дадут спокойно поесть, — накинулась она на него. — Вы же знаете, что сейчас закрыто!
Малетта растерялся. В глазах его вспыхнул огонь, который (как утверждает Герта Биндер) мог бы спалить весь дом.
— Не понимаю, чего вы от меня хотите, — пролепетал он.
— Ничего я от вас не хочу.
— И я ничего от вас не хочу.
— Но вы же звонили!
— Звонил? Я? Ничего подобного.
Тут надо кое-что объяснить: возле двери в мясную лавку имеется звонок. Убедившись, что дверь заперта, покупатель звонит (если у него хватает мужества) и таким образом вызывает из лавки хозяина. Вполне возможно, что недавно кто-нибудь и позвонил (нетерпеливая покупательница или озорной мальчишка). По так как у дверей стоял Малетта, на которого Герта уже успела накинуться, то она, чтобы не извиняться, а, напротив, сорвать свою злость, продолжала обходиться с ним как со злодеем.
— Я вас впущу, но в виде исключения! Только в виде исключения! — сказала она наконец и с этими словами отперла дверь.
— Но я и не думал звонить! — оправдывался Малетта.
— Ладно, я ведь все равно уже пришла. Так что же вам нужно?
Она открыла дверь и вошла в гулкое помещение. Ее ягодицы вихляли под юбкой, а ляжки ходуном ходили под подолом. Малетта шел за нею как зачарованный.
«Ничего я от вас не хочу, подонки!» — эти слова, как видно, давно вертелись у него на языке. Сейчас ему оставалось только произнести их и героически удалиться, потому что двести граммов колбасы для собаки он мог с таким же успехом купить в другом месте. Но нет, в результате колдовства (иного объяснения не придумаешь), завороженный шагами Герты, завороженный ее ягодицами, завороженный всеми этими телесными соблазнами и еще тем, что эта девица равно отталкивала и привлекала его, завороженный противоречиями собственных чувств, странной смесыо вожделения и брезгливости, которая причиняла ему сладкую боль, он потащился за нею к прилавку, за которым исчезли ее бедра.
— Так что же вам свесить? — проворчала она.
— Двести граммов брауншвейгской, — сказал Малетта.
Она принесла колбасу, швырнула ее на доску и принялась резать. Толстые ее пальцы проворно двигались. Нож (огромный нож мясника) с пугающей быстротой мелькал у самых ее ногтей с остатками кроваво-красного лака. Позади нее на белой кафельной стене была подвешена половина свиной туши, бесстыдно выставлявшая напоказ свои внутренности, как бы говоря: пожалуйста, смотрите — это все. Но Малетта ничего не замечал. С жадной ненавистью, с ненавидящей жадностью смотрел он на толстые пальцы мясниковой дочери, словно ожидая, что они вот-вот закогтят что-то неподобающее.
И вдруг ему бросилось в глаза: колбаса-то в пятнах, в пятнах, серых, как день, что сонно заглядывает в окно.
Л может, лак на ногтях Герты вызвал этот обман зрения? Или голод? Фрейлейн Биндер клянется, что колбаса свежая, а Малетта просто ищет, к чему бы придраться. Она положила нарезанную колбасу на весы и добавила еще два кружочка. В этот момент Малетта дрожащим от возбуждения голосом проговорил:
— Колбасу я не возьму. Она в пятнах.
— В пятнах? Где?
— Вот здесь! И везде!
— Это от перца.
— Вранье!
Он взял ломтик колбасы и понюхал.
— Воняет, — объявил он. — Воняет, как грязная тряпка! Может, вы в состоянии это терпеть, а я нет.
Ну, тут уж Герту прорвало. И как же она его поносила! Ее ругань гулко отдавалась в полупустом помещении.
— Надо же такое вообразить, — орала она. Или он думает, что она станет навязывать ему испорченный товар? Не хочет — не надо. Может покупать себе жратву где-нибудь в другом месте. Вообще, пусть проваливает туда, откуда пришел! (Малетта открыл было рот, но ему не удалось даже слова вымолвить, Герта честила его без передышки.) Колбасу она завернула в газету.
К сожалению, сказала Герта, колбаса уже нарезана, обратно принять ее она не может.
Что ж, он достал кошелек и заплатил (видно, не только пролитый суп, но и тухлая брауншвейгская колбаса имели свою цену). Его лицо стало серым, как цемент, серее, чем пятна на колбасе, серее, чем ноябрьский день за окном, а руки так тряслись, что мелочь со звоном покатилась по полу.
Он подобрал монеты, бросил их на прилавок и пошел к выходу.
— А колбаса! — крикнула Герта. — Мне-то она на кой?
Он схватил сверток и сунул его в карман.
— Для собаки сойдет, — буркнул Малетта уже в дверях. Огонек в его глазах внезапно потух, как будто он и его в карман засунул.
В последние дни у тротуара перед гостиницей образовалась гигантская лужа. Ребятишки, возвращаясь из школы, всегда пускали в луже бумажные кораблики. Несколько мальчиков и сейчас с шумом и криком занимались этим видом спорта. Ветер, насквозь продувавший улицу, гнал кораблики по морю, поднимая грязно-бурую зыбь.
Когда Малетта вышел из подворотни и свернул направо, торопясь уйти отсюда (сегодня он был сыт нами по горло), на тротуаре, до того узком, что двое едва могли разойтись на нем, навстречу ему попался Укрутник в своих высоченных сапогах. Малетта остановился и прижался к стене, чтобы пропустить его. И поступил не только правильно — он ведь шел, как положено, по правой стороне, — но и деликатно: постарался стать совершенно плоским. Однако Укрутник, властитель деревни, царь, пахнущий коровьей течкой и бриллиантином, не желал довольствоваться половиной тротуара. Вжаться в стену, как это сделал фотограф, он счел бы ниже своего достоинства, ступить в лужу — тем паче, ведь он собирался предстать перед Гертой холеным, элегантным, в начищенных до блеска сапогах.
Так что же произошло? Сначала и Укрутник остановился, но, поскольку Малетта не сделал попытки сойти с тротуара — справа была стена, а слева он зачерпнул бы своими полуботинками жидкую грязь, — итак, поскольку Малетта, придерживаясь правил уличного движения, этого не сделал, Укрутник попросту дал ему пинка, затем применил классический прием «толчок корпусом» и таким образом освободил себе место, необходимое, чтобы с достоинством продолжать путь.
Малетта пошатнулся, угодил сначала одной, а потом и другой ногой в лужу, туда, где сшибались, налетали друг на дружку и опрокидывались килем вверх бумажные кораблики. Вода брызнула ему под брюки, а когда он попытался вылезти из лужи, залилась в полуботинки. Мальчишки взвыли от восторга.
— Это… Это… Это же… это же просто… — Он не находил подходящего выражения.
Укрутник как ни в чем не бывало шел дальше, и прохожие, оказавшиеся поблизости, слышали, как он сказал:
— Смотри не утони, дурья башка.
Вот те субботние похождения Малетты, свидетелями которых мы стали. Тому же, о чем я сейчас расскажу, свидетелей, собственно говоря, не было, и лишь теория вероятности (и не в последнюю очередь мои блуждания в потемках) заставляет меня предположить, что ото имело место.
Под улюлюканье мальчишек он вышел из деревни и в ярости зашагал по ухабистому шоссе, высоко поднимая ноги, как породистый конь. Его тошнило, ему хотелось облевать государственный лес, кататься по земле, забить рот песком и опавшими листьями. В башмаках у него хлюпала и чавкала вода, как будто он босиком шлепал по болоту. И в таком-то виде он продолжал свой путь — навстречу року, давно уже его поджидавшему.
Он шел по направлению к Плеши. Отправляясь в путь без определенной цели, он всегда шел туда. Почему? Этого я не знаю. Плеши такая же грязная дыра, как и Тиши. Обычно он не доходил до самой деревни, а сворачивал на полпути, там, где шоссе, пройдя через узкую полоску леса, спиралью спускается в долину. Примерно в восьмистах метрах от этой точки его пересекает «неприметная тропинка». Я теперь убежден, что Малетту прихватило именно на этой тропинке, и потому история вдруг приняла чрезвычайно серьезный оборот.
Давайте внимательно и спокойно оглядим местность. Дорога с редкими кленами на обочине огибает здесь Кабаньи горы, и каждый, кто идет из Тиши в Плеши, попадает в тень, отбрасываемую горной грядою. Справа, над глинистым обрывом, поросшим мелким кустарником, на опушке начинающегося чуть повыше леса, притулился домик матроса и крохотными глазками окон смотрит вниз с обрыва. Напротив него, на невозделанном клочке земли (где никогда ничего путного не вырастало), высятся полуразрушенные стены кирпичного завода — позорное пятно на здешнем ландшафте, грубое и красное. Позади них, словно сведенная судорогой, зияет пасть глиняного карьера. Мало-помалу эту пасть с белокурой бородой из тростников, шелестящих над поверхностью грунтовых вод, засыпают всякой дрянью. На заросшей луговой дороге, что ответвляется от шоссе и сквозь заросли бурьяна и отливающего желтизной ковыля ведет к кирпичному заводу, стоит старый, вконец искалеченный дуб. Молния расщепила его много десятилетий назад. Одна половина дерева отмерла, и глубокие щели в стволе почернели, казалось, обугленные изнутри.
Там, у дуба — в какой-нибудь сотне шагов от печи для обжига кирпича, — начинается так называемая «неприметная тропинка». Мы не знаем, что она такое. Она змеей вьется по залежному полю и поднимается в гору по ту сторону шоссе. Видно ее не всегда. Она появляется и снова исчезает. В те дни ее лишь с трудом можно было различить: стояла осень и трава повсюду одинаково пожухла.
Когда Малетта свернул с шоссе, вернее, когда он попал в зону этой тропинки, произошло, видимо, следующее.
Не обращая внимания на дорогу — он знал ее вдоль и поперек и, по всей вероятности, мог бы пройти по ней даже во сне, — Малетта идет и идет вперед. Внезапно что-то принуждает его остановиться — остановиться посреди дороги, — словно ее перегородило какое-то препятствие. Если бы машина, которая недавно его обогнала, здесь проехала только сейчас, она бы неминуемо его задавила, избавив меня от напрасных усилий вдумываться в его образ действий. Так что же здесь случилось? Да ничего. Стояла тишина, шум машины уже пропал за горою, сумерки баюкали окружающий ландшафт, облака лежали над ним, как листы шифера. И все-таки! Все-таки что-то произошло. Что-то коснулось его, легко, точно крылышко стрекозы, скользнуло с его макушки на плечи, потом вниз по рукам, на кончики пальцев, и — отлетело.
На секунду-другую он словно прирос к земле, даже дышать не смея. Недвижно стоял он на дороге, полузакрыв глаза, и настороженно вслушивался в себя. В эту самую минуту (или чуть позже, здесь это зачастую бывало, да и не в этом дело) слева, с залежного поля, взлетели две вороны и круто взмыли в небо. Он поднял веки и, не поворачивая головы, как будто у него свело шею, стал смотреть на кирпичный завод. Все было как всегда. Ничего необычного не замечалось. Обе вороны между тем кружили над дорогой и малоутешительно каркали. Он взглянул на них и, чтобы не поднимать головы, судорожно закатил зрачки. Черные птицы описали петлю и на распростертых крыльях опустились на одно из деревьев Кабаньих гор. Малетта, провожавший взглядом их полет, вдруг как зачарованный уставился на домик матроса. Он что-то увидел там, наверху. Человека? Предмет? Какую-то странную штуку под суком яблони, необъяснимую, но тем не менее о чем-то напоминавшую.
Внезапно Малетта покачал головой. Неприятное чувство охватило его — чувство сильней обиды, мучительнее ярости, — омерзение, легкий зуд, вызванный чьим-то прикосновением, словно к нёбу его прилипли волоски или лицо опутала паутина. Предмет, им увиденный, казалось, слегка раскачивался, не меняя, впрочем, своего положения. Как будто на сук повесили огородное пугало!
И вдруг ему почудилось, что сам он превращается в крест, крест из тысячи нитей, тихо вибрирующих и незримо протянувшихся от Тиши к железнодорожной станции Тиши — Плеши, от лесной тишины к тишине заброшенных хуторов и от хижины гончара к кирпичному заводу. Он стал как бы центром, точкой, в которой перекрещивались все эти нити, где, слегка колеблясь, они соприкасались одна с другой и порождали в нем шорох, похожий на едва слышное трепыхание стрекозиных крылышек.
Тут надо взвесить три обстоятельства.
Во-первых: Малетта стоял на «неприметной тропинке», в сфере влияния таинственных сил;
во-вторых: какая-то связь существовала между ним и матросом, даже когда они еще не знали друг друга;
в-третьих: в прошлом у него был один повешенный, вернее, какая-то мерзость, которую он с муками вытеснил из своего сознания, но которая, по разным поводам и в том или ином обличье, поднималась со дна души, повергая его в ужас.
Так как же он поступил в этом душевном состоянии, задетый дыханием непостижимого? Вместо того чтобы пойти дальше по шоссе, он повернул вправо, перепрыгнул через кювет и, горя желанием разгадать загадку, начал карабкаться по склону горы, пробираясь через бурьян и заросли сухого кустарника. Разгадка и впрямь ждала его наверху: «предмет» (повешенный, огородное пугало) оказался всего-навсего водоразборной колонкой неподалеку от дома, полым стволом высотой в человеческий рост, мужчиной, который, выставив вперед мощный металлический уд, мочится — в зависимости от ветра — то прямо на землю, то в поросшую мхом колоду.
Теперь Малетта мог бы убедиться, что все это вполне естественно и все в полном порядке. Однако чувство, ранее охватившее его, не исчезло. Напротив, усилилось: тишина злобно зашушукала у него в ушах. И не потому, что он стоял на том самом месте, где позднее его настигла судьба, этого он ведь не мог предвидеть.
Малетта прокрался мимо хижины гончара, мимо сарая, где сушились глиняные горшки, а так как у него не было ни малейшей охоты возвращаться на шоссе, то он стал тяжело подниматься к лесу, обнаженному и чахлому, что, словно мертвое царство почернелых стволов, высился над участком. В шелесте опавшей листвы, почти оглохнув от тишины, пробирался он сквозь бесконечные колоннады все дальше вверх, все больше углубляясь в холод и безлюдие леса, словно в дурманящую бездну наркоза. Может быть, я актер? — спрашивал он себя (шушуканье вокруг него забивало ему уши). Но кто суфлирует мне? — Как? — Что? — Злые силы? — Громче! — Не понимаю…
Потом настала ночь, ночь первого потрясения. Она разливалась все шире и шире, затопляла землю плотной серой мглой, что ливнями праха лилась с неба. В «Грозди» уже были зажжены все лампы и задернуты гардины на окнах. Франц Биндер восседал за стойкой в ожидании хорошей торговли и прислушивался к звукам ночной улицы, по которой с грохотом проезжал то мотоцикл, то автомобиль, прорезая темноту ослепительными снопами света. Биндер откупорил ликеры — разноцветную пакость, а также несколько бутылок «рефоско», излюбленного напитка здешних женщин. Уставившись в одну точку, он рассеянно вертел в руках карандаш. Рядом в «отдельном кабинете» играло радио.
Напротив стойки за столом (за этот стол не всякому разрешалось садиться) сидели в шляпах двое бородатых мужчин, пили молодое вино и сосали трубки. Один был Алоиз Хабергейер, егерь (ныне депутат ландтага), другой — Пунц Винцент (в феврале мы его похоронили). Лицо Пунца — дабы не посрамить фамилии — как всегда было пунцовым. Ни дать ни взять черт собственной персоной. Наверно, от постоянной злости, которую — к счастью — он срывал не только на жене и детях, но и на лесоповале. Хабергейер же смахивал на господа бога (я хочу сказать, что он вызывал всеобщее доверие), ибо носил тогда окладистую патриархальную бороду, а это очень импонировало жителям наших мест. Прежде, во время войны, он выглядел совсем иначе, у него были весьма оригинальные усы, своего рода соплеуловитель под носом. Но в 1945 году он внезапно исчез, а когда год спустя вернулся, две трети его лица уже закрывал матрац из седых волос, так что в Тиши мало-помалу привыкли окладистую бороду считать за лицо (так же ведь обстоит и с господом богом), а того, кто скрывался за бородой, уже не замечали.
Разговор этих двоих, ленивый и сбивчивый, шел вовсе не о лесоповале, не о лесах, обреченных на вырубку. Человеку приезжему он показался бы темным, темным, как осенняя ночь за окном. II где-нибудь в других краях он стал бы рассказывать, что здесь ведутся странные разговоры. Однако для нас и для матроса, который уже опять вполне освоился в родных местах, болтовня обоих собутыльников тонула в мутном море равнодушия.
— Мы — это мы! — сказал Хабергейер, глотнув вина.
— Мы — это мы! — сказал Пунц, очевидно чувствуя неодолимую потребность повторять слова егеря.
— Мы такие, как были, — добавил последний и сделал еще глоток.
— Как были, — повторил Пунц, — несмотря ни на что.
— Однако, — сказал Хаберхейер и поднял вверх палец, — надо приспосабливаться, надо идти в ногу со временем.
— Правильно, надо идти в ногу со временем. Надо приспосабливаться.
Хабергейер (он вдруг положил руку на сердце и прижал конец бороды к жилету):
— Вообще-то, — сказал он, — вы знаете, я никогда не был «за»…
Пунц решил показать свою мудрость. Наклонившись над столом, он с важным видом заявил:
— Я всегда себе твержу: приказ есть приказ, и если уж тебе дали приказ, ты… — Он вдруг вскочил и под столом щелкнул каблуками, по-уставному отдал честь предмету, или человеку, от которого в мечтах все еще ждал приказа.
Поощренный этой выходкой, Хабергейер попытался запеть. Но ничего из этого не вышло. Не успел он издать и нескольких звуков, как у него начался приступ кашля.
— Да, друг мой, — сказал он, высморкавшись. — Да, друг мой, время идет вперед! Надо учиться забывать!
Пунц (он повалился на стол и вдруг взревел так, что едва не лопнул):
— Сегодня так! Понимаешь? А завтра эдак! Понимаешь?
— Это политика.
— Это время.
Франц Биндер, до сих пор слушавший молча, теперь вмешался в разговор:
— Надо было продержаться. Разве я был «за»? Надо было продержаться. Я всегда был лоялен. Верно? Но мне надо было продержаться.
— Понятно, понятно, — сказал Хабергейер. — Ты только и знал, что тайком резать скот.
— А кто этого не делал? В голодные-то годы!
— Ты, друг, здорово разжирел! Хе-хе!
— Тебя, — зашипел Пунц, — тебя, понимаешь, надо было порубить! Понимаешь? Вас всех надо было порубить! Всех до одного! Как лес рубят.
— Я все делал, как другие, — сказал Франц Биндер, — я был вполне лоялен, но все делал, как другие.
— Вот именно, — сказал Хабергейер. — Все делал, как другие. То-то и оно!
— Это политика.
— Это торговля.
— Но мы такие, как были.
— Мы — это мы!
Внезапно с улицы послышался отчаянный шум. Явились посетители, бывавшие здесь по выходным дням, молодежь из Тиши, Плеши и с окрестных хуторов. Один за другим они подъезжали на своих мотоциклах и еще довольно долго стояли на улице и разговаривали. Затем внезапно, как по команде, издали какой-то воинственный клич и всей оравой ринулись в ресторацию (как телята в хлев).
Герта Биндер вышла из кухни поздороваться. В ярко-красном шелковом платье, в туфлях на неимоверно высоких каблуках и с ниткой кораллов на шее. Волосы, уложенные Фердинандом Циттером крутыми локонами, были взбиты надо лбом и напоминали вылезший из матраца конский волос.
— Добрый вечер, — сказала Герта и подала каждому руку (ладонь у нее была чуть влажная). Ее мускулистые икры, разделенные надвое чулочным швом, казались особенно мощными от высоких каблуков.
В зал вошли: помощник лесничего Штраус, предводитель всей этой компании; Эдуард Цоттер, сын хозяина мелочной лавки; сестры Шмук из Шатенхофа; сестры Бибер из Розенхофа; Зиберт, инвалид войны, с протезом вместо ноги, и его унылая жена; Алоиз Хакль, сын пекаря; Алоиз Цопф, сын бургомистра; железнодорожник из Плеши, рабочий с лесопилки (на него никто не обращал внимания). Вслед за ними Паула Пок, портниха; Герберт Хауер, сын трактирщика из Плеши; Эрнст Хинтерейнер, сын столяра, и Эрна Эдер (красивая блондинка, от которой всегда разило потом, она собиралась стать либо манекенщицей, либо кинозвездой). И конечно же, молодой Хеллер с парикмахершей. Согласно договоренности, они поехали кататься. Если бы в пути с Хеллером стряслась какая-нибудь беда, это никого бы не удивило, во-первых, потому что он гонял как сумасшедший, а во-вторых, потому что в наши дни дорожные аварии в порядке вещей. Но он прикатил сюда целый и невредимый, кожаными перчатками похлопал себя по ляжкам и похлопал по ягодицам фрейлейн Ирму; ангел-хранитель и на сей раз уберег его.
Вся компания ввалилась в «отдельный кабинет», парни стянули с себя кожаные куртки, включили радио, и начались танцы.
За белыми гардинами, которые мягко, как водоросли, шевелились от сквозняка, притаилась ночь.
Около семи Малетта (его видела учительница) вернулся со своей прогулки весь заляпанный грязью, вымокший до нитки, с исхлестанным ветками лицом. В ночном лесу он ощупью, как слепой, пытался найти обратную дорогу (но для того, у кого за спиной остался повешенный, нет пути назад, ибо, даже возвращаясь, он все равно идет дальше, дальше — в неизвестность, и куда бы он ни шел, он уходит «от себя»).
У дверей Малетта, с ключом в руке, помедлил. Не шевелясь, стоял он в темноте и дышал часто и прерывисто. Подобно ураганному огню, деревню вдруг прорезало тарахтение мотоциклов — к «Грозди» все еще подъезжали посетители. Слышно было, как они шумно приветствуют друг друга, как изо всех сил стараются перекричать радио, орущее в подворотне.
Малетта прищурился и заскрежетал зубами. Незримые нити дрожали в нем, точно телефонные провода на ветру. Он сунул ключ в замок и отпер дверь. Лампа, горевшая в сенях, полоснула его по глазам беспощадным светом. Побеленные стены слепили Малетту, холодом дышали на него. Все было как всегда, и все казалось ему призрачно изменившимся. И не случайно это выглядело так, а не по-другому. То был злой умысел: дом словно бы выстроили специально для него и специально для него пропитали запахом тления.
Волоча ноги, он проплелся через сени. Тишина стояла вокруг, и в скрипе расшатанных половиц ему чудилась тайная погоня. Это заставило его стремглав кинуться вверх по лестнице. Но на первой же ступеньке он столкнулся с фрейлейн Якоби в выходном платье. Внешне она была полной противоположностью Герты Биндер — высокая, белокурая, голубоглазая, типичная немка — и все-таки чем-то ее напоминала. Окинула его внимательным п, как ему показалось, несколько насмешливым взглядом.
— В чем дело? — спросил он.
— Ии в чем. Что вы имеете в виду?
— Почему вы так на меня смотрите?
— Разве я на вас смотрела?
— Да.
— А я и не заметила.
— Что ж, тем лучше!
— Для кого лучше?
— Для нас обоих. Вы на танцы идете?
— Конечно. А вы разве не собираетесь?
— Неудачная острота, — сказал Малетта.
Протискиваясь мимо нее, он ощутил угловатость ее тела, и — когда за ней захлопнулась входная дверь — поднялся наконец наверх и вошел в свою комнату.
В этот момент — он едва успел переступить порог — в него закралось подозрение. Ему вдруг почудилось, что в зияющей перед ним промозглой тьме творится нечто необычное. То было чреватое опасностью присутствие, внимание, угрожающе устремленное на него. Он больше не был один в своих четырех стенах. Что-то притаилось здесь.
Чтобы выиграть время (и набраться мужества), он не сразу включил свет. В пальто и шляпе уселся на кровать, вытащил из кармана пакет с брауншвейгской колбасой, осторожно поднес ее к носу и понюхал. Мертвечина! Настоящая мертвечина! Отвратительно сладкий запах, как при эксгумации. Трясясь от омерзения, он опустил руку, но продолжал держать пакет в сведенных судорогой пальцах, не зная, куда его девать. Треск мотоциклов, от которого дребезжали стекла, буравил ему слух, как насекомое, бился в его ушах. Напряжение стало невыносимым, ему казалось, что черные губы шепчут в темноте: «Смотри, трус, все равно от нас не уйдешь!» И тут что-то коснулось его, да, коснулось, но, продолжая держать дистанцию, оставаясь в недосягаемой дали, точно паук, протянуло к нему свою нить, только нить. Малетта вскочил и зажег свет.
Взору его представилась мансарда, унылая, как всегда. Кровать, умывальник, фотоаппарат. Много дней нетопленная печь. Шкаф, загораживающий дверь к фрейлейн Якоби. Занавешенное окно, то и дело начинавшее дребезжать. Со стен на него пялились фотографии (наши вполне безобидные фотографии).
Они глядели на Малетту. Тысяча пустых физиономий, тысяча фотографических портретов, подретушированных для благообразия. Скоты! — подумал Малетта. Скоты! Он почувствовал себя пастухом альпийского стада. Держа левую руку на выключателе, а правой судорожно сжимая пакет с колбасой, он стоял среди них, маленький, невзрачный, тщедушный, стоял среди этой выставки скота и хотел только одного — плюнуть. Все эти рожи, ханжеские или тупые, вдруг показались ему лишь масками, масками, сквозь глазные прорези которых проглядывало нечто совсем другое, нечто, ничего общего не имеющее с респектабельным обликом этих людей. Это нечто пробивалось сзади сквозь стены, сквозь камни, цемент и штукатурку и незримым пятном тления ложилось на фотобумагу. Казалось, оно взывало к нему, заклинало его. А потом внушило ему некую мысль. И он поспешил погасить свет.
В темноте, вновь его объявшей, все еще легонько дребезжали стекла. Дребезжали, как крылышки стрекозы. Как далекая барабанная дробь. Как те непостижимые провода и нити, в зловещем скрещении которых он запутался. И вдруг ему стало понятно, о чем он думал. Убить, думал он, кого-нибудь убить! Мысль эта, бесконечно ему чуждая, засела в его мозгу.
Между тем танцы в «Грозди» были в самом разгаре. Гостей еще прибавилось, и один из них, тощий парень, которого называли Караморой и презирали как отъявленного бездельника, принес с собой гармошку; под жалобные ее звуки они танцевали «по-народному» (верные статуту «союза сторонников национальной одежды»), когда — изредка это все же случалось — им надоедал джаз. Ганс Хеллер танцевал с парикмахершей, помощник лесничего Штраус — с фрейлейн Якоби, Укрутник, тоже присоединившийся к танцорам, — с Гертой Биндер и Эрной Эдер, а рабочий с лесопилки (его по-прежнему никто не замечал), оставаясь как бы за бортом веселья, — со стареющей Паулой Пок.
Танцевали свинг, самбу и буги-вуги, потом польку, вальс и опять польку. Пот лил с них градом, и воздух превратился в плотную колышущуюся массу людских испарений, в которой все перекрывал аромат подмышек фрейлейн Эдер. В перерыве между танцами они пили, дурачились, тискались. Укрутник с железнодорожником изощрялись друг перед другом в соленых шутках, а дамы пронзительно визжали, сжимая ляжки, чтобы не обмочиться. Потом все вместе мчались в клозет.
Парни тем временем затянули солдатскую походную, кулаками отбивая такт на столе, а потом, закатив глаза и тряся головами, запели сентиментальную тирольскую песню. Они вели себя так, словно были близкими друзьями и не могли себе представить ничего лучше такого братского единения. Тем не менее что-то таилось в них. Среди нарочитого веселья, среди смеха, искажавшего их лица, пробужденное вином и осенней похотью тлело нечто, похожее на подземный огонь, нечто, готовое в любую минуту вырваться наружу. И в первую очередь у старших: у Зиберта, Укрутника, Хауера, у помощника лесничего Штрауса, у железнодорожника — словом, у тех, кто был на войне и убивал (или мучил) людей, лица вдруг стали судорожно напряженными, как под стальными касками, словно они все еще сидели в окопах, готовые отразить атаку или (по первому приказу) перейти в наступление, броситься в бесконечность — из серой пустыни монотонности, из страшного Ничто упорядоченной жизни, с хутора, с фермы, из лесничества, где больше нет врагов, туда, где каждый — враг. Но приказа не воспоследовало, не взлетела со свистом ракета. Только гардины на окнах беззвучно шевелились, словно невидимые губы шептали неслышные слова. Кульминация праздника осталась позади.
— Муть все это, — вдруг поднявшись, заявил помощник лесничего. Да, он поднялся и, как бы повинуясь внезапному наитию, вышел вон (как оказалось, просто помочиться). Незадолго до него ушли Пунц и Хабергейер. Эти двое еще ничего не заметили своими зоркими глазами охотников. Пустая, словно выметенная огромной метлой, простиралась перед ними продутая ветром улица. Ничего подозрительного, никаких необычных теней. Только ночь немного посветлела, так как высыпали редкие звезды. Ветер разорвал облачный покров и предал землю во власть вселенского холода. Но едва помощник лесничего вышел за дверь и добросовестно оросил один из мотоциклов (разумеется, не свой собственный, не настолько уж он был пьян), как на другой стороне улицы увидел черную неподвижную фигуру человека, отчетливо выделяющуюся на тускло мерцавшей стене дома. А так как Штраус чувствовал себя обязанным играть здесь роль полицейского и надзирать за людьми, то он и окликнул этого человека.
— Эй, — заорал он, — что ты там торчишь? Если тебе чего надо, подойди сюда!
Струя Штрауса зажурчала. Облегчившись и правой рукой застегивая штаны, он перешел улицу, левой вытащил зажигалку, щелкнул ею и без церемоний сунул колеблющийся язычок пламени под нос упрямому детине, не пожелавшему ни смыться, ни ответить.
На него глянули холодные водянисто-голубые глаза, и рот, почти лишенный губ, исказился гримасой.
— Матрос!
— Да. А почему бы и нет?
— Что ты здесь делаешь?
— Ты же видишь, стою и слушаю вашу музыку.
— Шпионишь?
— Очень надо! Не такие уж вы важные птицы, чтобы вами интересоваться.
— Войди же!
— Зачем? Мне и здесь хорошо.
— Распей с нами стаканчик. Я тебя приглашаю.
— Благодарствуй! Не такие уж мы с тобой приятели, Я и сам могу за свою выпивку заплатить.
— Тебе разве не охота с дамочками потанцевать?
— Нет. Лучше я буду смотреть на луну.
— На луну? Да где же она? Что-то не видать!
— Вон там!
Матрос указал на восток, где перевернутый серп месяца покачивался в ветвях какого-то дерева.
— Она только-только взошла.
— Весьма важное наблюдение!
— Мне оно доставляет удовольствие.
— Ну так и лупись на нее, а меня поцелуй в… — крикнул Штраус и потащился обратно в заведение. Ноги у него были как ватные.
Матрос беззвучно рассмеялся. Он знал, что сейчас приятно щекочет перышки Птицы Страуса (он так называл помощника лесничего) и какие мысли шевелятся в его птичьем мозгу. Зачем, спрашивается, этот тип торчит на улице? Какого черта шляется ночью по деревне? Может, мотоцикл хочет украсть? Или вломиться в курятник? Или собирается красного петуха пустить? Этот что хочешь на него подумает! Но смеялся он главным образом оттого, что собственное поведение представлялось ему весьма и весьма подозрительны»!. Он сам себе не мог объяснить, а, значит, другие и подавно, почему во время этого рейда, совершить который его неудержимо потянуло, он вдруг остановился здесь. Правда, в его жизни (иной раз изрядно ему надоедавшей) случались вещи необъяснимые. Так было и этой бессонной ночью, которая уже начала приподнимать свои туманные вуали. Что-то вдруг задержало его, когда он, радуясь, что скоро будет дома (вокруг уже становилось как-то неуютно), проходил мимо заведения Биндера. Не музыка и не луна, забравшаяся на дерево, не надежда встретить знакомого и обменяться с ним несколькими словами (это меньше всего). Скорее, внезапное ощущение непрочности, бессознательное предчувствие опасности, какая-то жуть, как бывает во сне, словно пол, на котором еще танцевали эти люди в ресторации, дощатый пропыленный пол, раскачиваясь, с каждым мигом все страшнее повисал над бездонной пропастью.
Прищурившись, он смотрел на луну, смотрел, как она, (словно ее снимали скоростной камерой) передвигалась с ветки на ветку. Нет! Не страх он испытывал; не страшился ни за себя, ни за других. Он был только насторожен и внимателен, как зритель в театральном зале, перед еще не поднятым занавесом.
А чего ты, собственно, ждешь? — спрашивал он себя.
Ничего. Просто стою и гляжу на луну.
Не ври! Чего-то ты ждешь. Весь день ждешь. Какое там день! Ждешь уже неделями! А сейчас ты замер и не двигаешься с места, потому что чувствуешь: внезапно это приблизилось, так приблизилось, что вот-вот на тебя наткнется. А луна? Луну ты и вовсе не видишь.
Но ведь человек всегда чего-то ждет. Может, мне уйти отсюда?
Попробуй!
Я не могу.
Видишь, как оно тебя держит!
Ерунда! Ты уж как здешний парикмахер стал. Вконец сдурел от этой глухомани, от этого моря, что больше не движется потому, что оно превратилось в глину и липнет к сапогам…
А сегодня ночью? Что это было?
Может быть, сон? Или очень уж сильный порыв ветра. Эти волны, застывшие там, где растет кустарник и стоят остовы деревьев, сообщают странное звучание голосу ветра; его поневоле слышишь, покуда наконец не уснешь.
Ничего удивительного! Ветер — дитя небес! И поэтому ты слоняешься здесь под окнами деревенской ресторации!
Поэтому? Нет. Отнюдь нет. Просто у меня слишком много свободного времени. Вот в чем дело.
(Оно было еще невидимо, недоказуемо. Было еще безымянно. Еще только носилось в воздухе, подобно запаху засохших листьев, что в эту ясную ночь тончайшей вуалью окутывал все чувства.)
Да, ты прав, это именно так! Когда у человека времени сколько угодно, он вдруг останавливается, замирает и начинает вглядываться во мрак, в одну и ту же точку во мраке. Там, конечно, что-то таится, не разберешь только что. Глазам ведь надо привыкнуть к темноте, надо, чтобы глаза у нас стали как у филина.
В ресторации между тем омрачилось веселье, прокисло, как молоко перед грозой. Давно уже пора было расходиться по домам, но никто не решался уйти. Когда они вот так часами бывали вместе, каждому в отдельности казалось невероятно трудным что-то сделать но собственному побуждению, покинуть остальную компанию например. Опустошенные, отупевшие, как после тяжелой работы, они толклись вокруг залитых вином столов, и каждый дожидался, покуда другой соберется уходить. — тщетно, ибо никто не отваживался быть первым. Затем — с воодушевлением воинов, у которых сердце ушло в пятки, — они опять затянули солдатскую песню, но пели, как говорится, кто в лес, кто по дрова, да и гармошка фальшивила, вторя им.
Внезапно Хеллер бросил исполненный ненависти взгляд на Карамору. Последний ответил ему тем же. Эдуард Цоттер вытаращился на обоих. Потом все стали смотреть друг на друга, и песня оборвалась.
— Ну?
— Ну?
Ганс Хеллер, повсюду слывший славным парнем, заскрежетал зубами, точно в кирпичи вгрызался.
— Ты, негодяй! — крикнул он Караморе. — Лодырь проклятый! Бродяга!
И они сцепились.
(Существуют горы, зеленеющие и мирные. Птицы вьют там гнезда на деревьях; на лугах пасутся тучные стада. Так хорошо вздремнуть там в жаркий полдень. Но вдруг что-то начинает клокотать в их недрах, они выбрасывают высоко к небу обломок скалы, и вот уже на землю извергается огромный поток лавы — ненависть, что тлела под земной корой.)
Падают стулья. Стаканы разбиваются вдребезги. Паула Пок — она сняла туфли, чтобы немного проветрить вспотевшие ноги, — испускает пронзительный протяжный крик, который как ножом перерезает «народное единение». Под высоко поднятые ноги, под задравшиеся юбки дам подкатывается тугой клубок, которым стали оба парня. Если бы Укрутник не разнял их, несколькими ударами кулака не лишил обоих боеспособности, они с наслаждением размозжили бы друг другу головы. Но сейчас они, тяжело дыша, приземляются на скамейки, срыгивают излишек пива и вина, а потом приводят в порядок волосы и одежду: дурацкая потасовка, ничего больше!
Тем не менее драка послужила сигналом к уходу. Одним из первых зал покинул Ганс Хеллер. Вслед за ним, усталая и хмурая, поплелась парикмахерша. В подворотне она остановилась, пожала плечами, сгорбила свою узкую спину, а руки скрестила под грудью. Испугалась она чего-нибудь? И мороз пробежал у нее по коже? Может, живот схватило! — думал матрос. Он все стоял на том же самом месте (уже без луны; она как раз скрылась за трубой) и шевелил пальцами в башмаках, иначе они бы совсем заснули. Но вдруг сделал несколько маленьких шажков, так, для пробы. Он совсем не хотел, чтобы его опять обнаружили, не хотел снова возбуждать подозрения.
Или, продолжал он размышлять, она боится ночи? Может, совсем позабыла за танцами, что на дворе ее поджидает ночь!
Хромая, как старик (суставы у него вконец одеревенели), он стал прохаживаться по тротуару, с трудом переставляя ноги. Шлак, которым был посыпан тротуар, скрипел под его подошвами. Но, как видно, никто этого не слышал, никто не замечал его. Он все больше удалялся от «Грозди», силуэт его становился все расплывчатее, все трудней было узнать его на улице, разорванной лунным светом и тенями.
Между тем Ганс Хеллер, коротко простившись с фрейлейн Ирмой, вскочил на свой мотоцикл. Мотор взревел (его рев запрыгал между домов; свет фар пробежал по стенам; деревня, кляня все на свете, пробудилась ото сна), Хеллер дал наконец газ и умчался. Матрос схоронился в тени дерева, покуда тот не пронесся мимо. Дурак, сейчас вдруг заторопился, подумал матрос, именно сейчас! Когда все равно уже поздно. Поздно? Для чего поздно? Этого он не знал. Казалось, кто-то холодным пальцем провел по его позвоночнику. Прежде чем двинуться дальше, он оглянулся на парикмахершу. Она семенила через улицу, и ее сутулая спина тонула во мраке, как серебристая спина рыбки, что, путаясь в водорослях, уходит на дно морское.
В это самое время (во избежание недоразумений я обязан об этом упомянуть) усталость уже свалила Малетту, и он спал крепким сном. Фрейлейн Якоби, которая покинула «Гроздь» после Ганса Хеллера, вернувшись домой и приступив к различным омовениям, слышала, как он храпит у себя в комнате — точь-в-точь циркульная пила. Ей это ужасно действовало на нервы, говорила она по-зднее, тем более что (после восьмушки «рефоско») ее мучили тошнота и головная боль.
Теперь и вправду все выглядело так, словно эта потасовка — пожар, раздутый алкоголем, который даже не успел разбушеваться, а мгновенно заглох в кулаках Укрутника, следовательно, всего-навсего коротенькая жалкая вспышка — осталась единственным событием ночи восьмого ноября (собственно, уже девятого, ибо время подошло к половине второго, а следовательно, миновал и час призраков). Однако в те несколько минут, наполненных холодным сиянием луны, когда молодежь торопливо расходилась по домам, случилось то, что в каком-то месте, в каком — нелегко было определить, разорвало кольцо однообразия (внутри которого нам так хорошо спалось), кольцо из земледелия и скотоводства (окружавшее нас наподобие крепостного вала), иными словами — случилось то, что предчувствовал матрос.
Пройдя мимо последних дворов деревни, он уже приближался к тому изгибу улицы, откуда заросшая травою тропинка круто вела к его хижине. Все было как всегда: улица, обнаженные клены, трава, белесая от сухости, инея и лунного света, темные, неясные очертания горы, несколько звезд, повисших на решетке леса, тихое жужжание проводов, лужи, покрывшиеся тоненькой корочкой льда, шепот осенней ночи, холодный, тоскливый… Что же во всем этом неприятно поразило его? Что встревожило? Или он еще не стряхнул с себя то странное оцепенение? Нет, он опять двигался легко и свободно. Опять был хозяином своего тела. Скоро он ляжет спать; простыни укроют его, как снег; придет тепло замерзания; ветер в трубе, земля — море, на черных нескончаемых волнах оно качает его хижину… Но — черт возьми — то, что не позволяло ему сдвинуться с места, то, что его парализовало, — запах беды, он опять был здесь, был в синих ночных далях, был везде, как горизонт, он точно сводом накрыл матроса, пройдя через удивительное превращение: став слышимым. Словно купол из звучащего стекла, из звуковых волн, трепетавших вокруг его головы, заставлявших дрожать лунный свет, как мороз, как скрежет зубовный…
Матрос постоял у развилки, прислушался, досадливо повертел головой, словно стараясь высвободиться из сети, сети кошмарных снов. И вдруг понял, что это такое. Треск мотоцикла. Конечно же! Он уже несколько минут слышал его, несколько минут бессознательно в него вслушивался. Хор других колес давно смолк в ночной дали, а этот треск по-прежнему раздавался где-то между небом и землей, все на одном и том же расстоянии, равномерный, словно бы увековеченный, словно вмерзший в глыбу льда. Это было противоестественно!
Он вздернул брови (кустистые брови с проседью). И двинулся вперед, но не в гору, не к своему домишке, а, решительно повернув руль, дальше по шоссе, навстречу тому грозному и несказанному, что как бы вселилось в этот треск.
Он ускорил шаг. Стал раскачиваться, как корабль на волнах. Все тот же звук трепетал вокруг него. Теперь он слышался слева, где-то между печью для обжига кирпича и шоссе, где рос искалеченный дуб. Громким этот звук нельзя было назвать, скорее, приглушенным. Если бы ветер дул в другую сторону, он вряд ли донесся бы до матроса, который изо всех сил напрягал зрение, всматриваясь в темноту. Печь для обжига кирпича он наконец разглядел. А потом и дуб — черный коготь, протянувшийся к небу, черный скелет, покачивавшийся в лунном свете. Подойдя ближе, он обнаружил и мотоцикл, прислоненный к стволу дуба словно бы в спешке. Фары были потушены, но мотор работал, тарахтел одиноко и загадочно в ночной пустоте.
Матрос сошел с шоссе и через сорняк и мокрые кусты стал пробираться налево, к остову дуба; последние тридцать шагов он уже не шел, а бежал. И вот он стоит, с трудом переводя дыхание, перед брошенным мотоциклом и торопливо озирается. Ни души! Ни человека, ни зверя. Кирпичный завод как проеденный зуб, но ни водителя, ни пассажира — никого. Только машина, прислоненная к стволу, тарахтит, как бы силясь прогнать злого духа.
— Эй! Эй! — крикнул матрос. Его жесткий, с оттенком металла, моряцкий голос заглушил назойливое тарахтение. Он встал лицом к кирпичному заводу, сделал еще несколько неверных шагов, крикнул: — Есть там кто-нибудь?
Эхо отскочило от стен.
И вдруг он увидел человека. Человек неподвижно стоял у одного из окон, наклонясь вперед, цепляясь, хотя поза у него была какая-то расслабленная, за стену, и, казалось, напряженно, зачарованно вглядывался в черную темноту, наполнявшую здание.
В то же мгновение все потемнело вокруг. Облака, наплывавшие на луну, мало-помалу совсем закрыли ее. Потух свет, падавший на кожаную куртку человека.
— Эй ты! — крикнул матрос. Но мигом уразумел, что все зовы тут напрасны, вытянул вперед руки, на ощупь устремился в темноту, в неизвестность, и — наткнулся на мертвое тело. Оно, как мешок с цементом, повалилось ему на руки.
Он зажег спичку, и в свете мигающего огонька на него невидящим взором уставились глаза Ганса Хеллера — два распахнутых смертью окна в пустоту.

То был первый удар из темноты, первый натиск Непостижимого. «Удар, разрыв сердца», — констатировал окружной врач, вызванный из города на предмет обследования трупа Ганса Хеллера. В так называемой мертвецкой — сарайчике, пристроенном к церкви, — его красное лицо в. студенческих шрамах добрых пятнадцать минут склонялось над ничего уже не стоящим, обнаженным, обездушенным и холодным телом, что лежало перед ним, похожее на восковую фигуру из паноптикума. Он не обнаружил на нем ничего подозрительного, ни единой царапины даже, не говоря уж о следах избиения или признаках какой-то болезни, а также ничего, указывающего на отравление. Ничего! Посему, заключив свои выводы латинской фразой, он без околичностей — так оно подходило к любому случаю и выглядело солиднее, чем вопросительный знак, — объявил причиной смерти «разрыв сердца, удар». Разрубил этим ударом гордиев узел.
В жандармской караульне он написал свое заключение. И тем самым (правда, не для нас, но для него и для местных властей) с делом было покончено. На вопрос старого Хеллера (который в полном отчаянии при всем этом присутствовал), неужто же такое возможно, врач пожал плечами и ответил:
— Как видите, возможно.
Потом он сел в свою машину (на него, разинув рот, глядели детишки и женщины), натянул перчатки из свиной кожи, дал как следует газу — и поехал домой (торопясь к обеду), а нас оставил наедине с загадкой, которую он будто бы разгадал, на борту одинокого судна, везущего в трюме покойника, что, как известно, ничего доброго не предвещает. Некоторое время над холмами еще трепетало осиное жужжание мотора, странно близкое, хотя машина быстро удалялась, едва ли не жуткое в воскресной тишине, что внезапно стала слышной.
В это самое время начался дождь, который мокрой паутиной оплетал нас до конца года. Такого мерзкого дождя мы еще не видели: непрестанная, маленькая, жалкая капель, она окутывала леса серой пеленой и постепенно, точно губку, промачивала землю. Но дождь не помешал людям отдать последний долг Гансу Хеллеру. Начнем с того, что старухи, с самого рассвета осадившие мертвецкую, наконец-то ворвались в нее, чтобы у смертного одра пролить крокодиловы слезы, а дождь между тем рыдал на церковной крыше и пел душещипательную отходную в водосточной трубе. Позднее, уже около полудня, когда они постепенно стали расходиться (как-никак надо приниматься за стряпню), туда явился и Карл Малетта. Странно, что он — пришлый здесь человек — выказал интерес к случившейся беде. Несколько женщин, еще остававшихся там и обсуждавших событие (разумеется, шепотом, ибо покой мертвеца для них священен), итак, несколько женщин видели, как он вошел, и прервали свой разговор; разинув рты, они уставились на него, видно, так им было удобнее наблюдать, что он станет делать.
Сначала — рассказывали они впоследствии — он снял шляпу. Затем подошел к покойнику и приподнял газету, закрывавшую его лицо. То было снятие покрова, тогда его испугавшее, станция на начатом им пути во тьму. Остекленевшие глаза Ганса Хеллера уставились на него, два голубиных яичка, синеватых и бесстыдно обнаженных (они и впрямь остались широко раскрытыми, что, конечно же, было свинством): никто — ни врач, ни жандарм, ни, наконец, старик Хеллер или матрос не закрыли их, хотя на это понадобилось бы одно движение руки. Теперь эту попытку предпринял Малетта, ибо глаза покойного, устремленные на него, конечно же, напомнили ему сверлящий взгляд фотографий. Покуда старухи из угла напряженно и недоверчиво наблюдали за ним, а дождь выбивал по шиферной крыше траурный марш, он силился опустить веки бедняги. Тщетно! Они уже не поддавались. Наступило трупное окоченение. Неумолимо продолжали смотреть на него эти глаза, эти голубиные яички. Веки поднимались снова и снова (дурные бутоны, раскрывшиеся не ко времени), обнажая белый ужас смерти.
Ему оставалось только снова закрыть газетой (это оказался «Церковный листок») сие неприглядное зрелище.
Вечером — то есть когда стало смеркаться — в ресторации за своим постоянным столиком сошлись пятеро мужчин: бургомистр Франц Цопф; торговец мелочными товарами Франц Цоттер; булочник Хакль, социалист; Алоиз Хабергейер, наш егерь, и Иоганн Айстрах, мастер лесопильного завода (старый, уже слегка трясущийся человечек с беспомощным блуждающим взглядом, он словно бы прятался в круге, очерченном окладистой бородой егеря). Они, как и каждое воскресенье, пришли один за другим. Топали ногами в подворотне, чтобы стряхнуть грязь с обуви, потом входили в зал, ставили в угол мокрые зонтики и усаживались за свой стол. Один лесоруб, внимательно к ним приглядывавшийся, сидел в другом конце зала и, успешно справившись с двумя литрами молодого вина (что, видимо, и сообщило ему ту поразительную ясность мысли, которая иной раз посещает нас во хмелю), описал нам следующую сцену.
Сначала они говорили о погоде, и тут их мнения сошлись, то есть все признали, что она плохая. Затем, продолжил свой рассказ лесоруб, внезапно все умолкли (словно дождь размочил им мозги) и глубоко вздохнули, казалось, они ждут чьей-то реплики.
Франц Биндер, который их обслуживал, как всегда, старательно и серьезно, наливая им пиво, наконец эту реплику подал. Не выходя из-за стойки и по обыкновению состроив ничего не выражающую мину, он сказал:
— Выпил пять раз по полкружки и семь рюмок водки, а через час приказал долго жить.
— Да, — заметил Цоттер, — чего только на свете не случается. И такой здоровяк! Кто бы мог подумать!
— Нынешним молодым людям грош цена, — сказал Цопф. — Ядра в них нет, то-то и оно!
Хакль сбоку вызывающе посмотрел на него. И спросил:
— Как так нет ядра? Что ты хочешь этим сказать?
— То, что сказал, — буркнул Франц Цопф. — Или ты полагаешь, что ядро — мотоциклетка?
Все переглянулись.
Хакль:
— Не знаю, о чем ты говоришь. Водка есть водка, а ядро? Что это за штука?
Напряженная пауза, потом Хабергейер (осклабившись и зажав трубку в зубах):
— Припала охота политиканствовать! Вот тебе и ядро.
— Разумеется, — согласился Хакль. — А что же еще?
Бургомистр надулся как индюк.
— Полно врать-то! — озлился он. — Кто здесь говорил о политике? Уж не я ли? Так вот: ядро — это ядро. Оно либо есть у человека, либо его нет. Или — или! Понятно? Но эти молокососы, чем они занимаются? Разве у них еще имеются идеалы или что-нибудь в этом роде? Тарахтят наперегонки своими мотоциклами — вот и все! Но идеалы! Их и след простыл!
— Так-то оно так, — согласился Хакль. — Но скажи на милость, при чем тут идеалы?
— Очень даже при чем, дорогой мой! Очень! У кого нет ядра, тот в такие дела и влипает.
Но Хакль не унимался.
— В какие дела?
— В эти самые, — назидательно проговорил Цопф. — Неужто вы верите в «разрыв сердца»? — Он откинулся на спинку стула, затянулся сигарой и, таинственно ухмыляясь, стал смотреть то на одного, то на другого. — Тут чем-то пахнет, — сказал он, — это каждому ясно.
Долгое молчание. Потом голос егеря:
— Ерунда! Он просто перепил. — Егерь, как всегда, изображал из себя самого умного. Тем не менее известную нервозность ему скрыть не удавалось.
—. Он был, — сказал Цоттер, понизив голос, — вместе с парикмахершей…
— Ну и что с того?
— Нет, я просто вспомнил и сказал. И, — он еще больше понизил голос, — он поругался с Караморой. А Карамора, это мы все знаем…
— …Негодяй, — подтвердил Цопф.
— Ну и что? — поинтересовался Хакль. — Дальше-то что?
Но Франц Цоттер ничего больше не прибавил. Он многозначительно смотрел на пекаря и хранил красноречивое молчание.
Хакль (уже с явной досадой):
— Я считаю, ежели окружной врач сказал, что его хватил удар, значит, так оно и есть.
Франц Цопф сидел опустив голову и вертел в пальцах свою зажигалку.
— Мне бы только одно хотелось узнать, — медленно проговорил он, — что ему там понадобилось, у печи для обжига кирпича?
Они переглянулись. Тишина стала потрескивать. В свете неоновых трубок (последнее достижение Франца Биндера) они сами походили на мертвецов, на собрание утопленников.
— Наверное, надеялся что-то разнюхать, — пробормотал Хабергейер.
Мастер лесопильного завода поперхнулся, казалось, он собрался что-то сказать, но проглотил слова, и только его кадык задвигался.
— Эти молокососы чего только не выдумают, — бормотал Цопф. — Возьмем хоть прошлый год, какую они штуку отмочили: организовали, видите ли, гангстерскую банду на американский манер. Поначалу таскались всей компанией в кино в Плеши, а потом — ну, да вы сами знаете, потом сгорела рига.
— А жандарму, — вмешался Хакль, — пришлось держать язык за зубами, потому что тут был замешан сынок нашего бургомистра.
— Возьми свои слова обратно! — зарычал Цопф. Он так хватил кулаком по столу, что пивные кружки запрыгали.
— Это же был «результат самовозгорания», — пояснил Франц Цоттер. — Сено само по себе загорелось.
Хакль:
— По мне, пусть так! Хватит язык чесать! Когда-нибудь вся деревня сгорит — в «результате самовозгорания» конечно. Потому что мы все такие честные люди!
Но тут уже годами собиравшаяся гроза разразилась над пекарем: он-де главный поджигатель в Тиши, он возмущает народ своей болтовней, всех друг на друга натравливает, наверно по заданию своей партии. Лесоруб, о котором они как-то позабыли, давно уже так не наслаждался.
Тут в зал, поначалу никем не замеченный, вошел помощник лесничего Штраус. Он стряхнул воду со шляпы, выпил, не отходя от стойки, кружку пива и прислушался к спору.
— О чем речь? — спросил он наконец. — Поджог какой-нибудь, что ли?
— Они о Хеллере говорят, — пробурчал Франц Биндер.
— Да-да, — начал помощник лесничего так громко, что все должны были это слышать и но возможности понять. (Пустую кружку он поставил на стойку и вытер пивную пену, оставшуюся на губах.) — Да-да! Ганзель Хеллер! Ездил как дьявол! Парень был что надо! Жаль его! А ригу тогда совсем не он поджег. У нас только один имеется, кто мог это сделать, — Штраус подошел к столу, а так как под плащом с капюшоном кулаки его были прижаты к бедрам, то казалось, что он выпрастывает из-под плаща крылья, гигантские крылья летучей мыши. Он сказал: — Да, только один. Я видел, что он там ошивался. Имени его я называть не стану. Догадывайтесь сами, о ком я говорю.
Бургомистр вытаращился на него. Остальные потупились. Крестовый поход на пекаря как будто и не начинался.
— Неужто вы не догадываетесь? — спросил Штраус. — Подумайте-ка хорошенько! Хеллер танцевал здесь. Потом он избил Карамору. Потом вышел, сел на свой мотоцикл и уехал здоровехонький, он даже пьян не был. Н-да, не прошло и часа, как он уже лежал мертвый в печи для обжига кирпича… И кто, спрашивается, его нашел?
С открытым ртом, с остекленелым взглядом ждал он ответа. Его светло-серые глаза и два золотых зуба блеснули.
Франц Цопф, Франц Цоттер и Франц Биндер (он подсел к ним со своей кружкой пива) подняли поникшие головы и обменялись взглядами. Ну, конечно же! Теперь они все знали. Нет, не только теперь, они знали всегда. Но эта история слишком глубоко засела в их мозгу и потому не доходила до сознания. Они невольно проглотили слюну и запили ее пивом: матрос! Вот оно, колумбово яйцо! Помощник лесничего Штраус, совершеннейший болван, без дальнейших околичностей взял да и выложил его на стол, к тому же с весьма гордым видом, ибо решил, что снес страусовое яйцо! Он сказал:
— Да! Я его и имел в виду. А больше всего наводит меня на подозрение то, что прошлой ночью, когда мы здесь танцевали, он стоял возле дома и хотел внушить мне — я его там застукал, — что любуется луной.
Угрожающий шепот. Только пекарь, казалось, опять засомневался. Он пожал плечами и пробормотал:
— Окружной врач сказал, что его хватил удар, а он, надо думать, лучше нас в этом разбирается.
Штраус (оскалив зубы):
— Удар! Удар! А что за удар! Такие удары случаются только возле хижины «гончара!
— Но он же лежал в печи для обжига кирпича, — возразил Франц Цоттер.
— Конечно! Потом! Чтобы все еще таинственнее выглядело!
Хакль (ударив ладонью по столу):
— Господи ты боже мой! Что вы все, с ума посходили или как? Не хотите же вы сказать, что кто-то его укокошил? — Он огляделся вокруг с таким видом, будто хотел всем надавать оплеух.
— Спокойно! — воскликнул Цопф. — Мы должны держаться вместе и соблюдать спокойствие. Дело так или иначе разъяснится. А нет, так нет…
Тут мастер лесопильного завода, тревожно прислушивавшийся к разговору — у него, видно, тоже было что сказать, только он всякий раз по какой-то непонятной причине упускал случай вставить слово, — открыл наконец свой кривой и беззубый рот и сказал неокрашенным голосом, напоминавшим звук тех жестяных полосок, что прикрепляют к огородным пугалам, дабы они, сталкиваясь, тренькали на ветру:
— Я-то понимаю, что его туда тянуло. Ему, видите ли, хотелось посмотреть.
Все вытаращились на него. Они знали, что старик малость одряхлел и иной раз порет чушь. Но сейчас он говорил таким странным голосом, что их это поневоле насторожило.
— И еще я понимаю, почему его хватил удар, — продолжал старик, — Он сделал паузу и невидящим взглядом долго смотрел на стол, потом перевел дыхание и совсем тихо, почти шепотом, добавил: — Мертвые голодны. Их надо подкормить.
Франц Цопф растерянно взглянул на Хабергейера, он знал, что тот друг старика.
— Что он хочет этим сказать? Эй ты, Хабергейер! Что он хочет этим сказать?
Егерь только пожал плечами и уставился в свою кружку. Тишина теперь была огромной, такой огромной, что слышно было, как дождь идет за окном, — такой огромной, что лесоруб вскочил, испуганный и протрезвевший, словно на него вылили ушат воды.
И в этой тишине они услышали слова старика:
— Парень, верно, что-то там увидел… (Пауза.) Верно, чего-то до ужаса испугался. (Пауза.) Тогда еще… Господи! Он был тогда мальчиком, но…
— Да-да! — прервал его егерь. — В те трудные годы многие испортили себе сердце…
И так как лесоруб вдруг учуял запах падали, совсем не тот запах, который чуял бургомистр, и еще потому, что у него было хорошее зрение, да и место его являлось удобным наблюдательным пунктом, он сделал стойку, как охотничья собака, и обнаружил, что под столом Хабергейер своими сапожищами наступает на ногу старика.
Хабергейер сразу вскочил и сказал старику, который мгновенно умолк, как радио, выключенное в разгар передачи:
— Мне пора. Пошли вместе, а? Нам ведь по пути.
Старик поднялся в полной растерянности, пробурчал, что расплатится в следующий раз, и, прихрамывая, пошел перед своим другом, который сунул ему в руки зонтик и, паясничая, распахнул перед ним дверь в ночь, за это время ставшую непроглядной.
Необычна была эта ночь (сколько помнится). Она, во-первых, затопила нашу деревню, казалось, быстрее, чем все другие ноябрьские ночи, и, во-вторых, какая-то особенно темная, запуталась в дожде, как в нитях паутины. В-третьих же, наконец, в ее кромешном мраке словно бы притаилось все то, что не поддается контролю нашего разума, с чем нам тогда предстояло столкнуться, словом, все то, что мы ощущали не только в лесах, за стенами кирпичного завода и за заборами огородов (а ведь и это уже означало, что оно заполнило всю ночную ширь), но также в хлевах и конюшнях, в домах, в спиртных напитках, в супе и, если говорить честно, даже в нас самих. Да и вообще — началась кутерьма! Тени осаждали все дороги; тени, как черные кошки, вдруг выскочив из пожарного депо, из старого винного погреба, перебегали улицу! Или то были уплотнившиеся мысли? К смерти привыкли и в наших краях (во всяком случае, больше, чем к размышлениям, что, бог весть по какой причине, выяснилось за последние годы), но такой смерти в нашей деревне еще не видывали, и потому не только помощник лесничего и его сотрапезники в «Грозди», но и другие почтенные граждане ломали себе голову над нею (если они вообще умели ломать себе голову). И как сами эти люди, так и мысли их, возможно, и вправду были тенями, что прыгали на нас и, точно кошки, шныряли у нас между ног (а не то кролики, словом, целый выводок мелких домашних животных), так что мы даже боялись наступить на них. Чудаки, они делали чудаческие умозаключения. К примеру, Фердинанд Циттер. Он уже годами предрекает светопреставление, подстригая нам бороды, и пугает нас вещами, в которых мы ровно ничего не смыслим, — к примеру, «Откровением святого Иоанна»! Он уже видел (по его утверждению) «апокалиптических всадников», и притом в натуральную величину (то есть размером с грозовую тучу), на золотом фоне вечернего неба (которое я так люблю). Но мудрецы, коих он постоянно цитировал, всякий раз (как он говорил) клятвенно его заверяли, что, будучи одним из богоизбранных, он благополучно все это переживет. Циттер добавлял:
— И это тоже знамение.
— Что именно? — спрашивали мы. — Что за знамение?
— Ну, история с Хеллером.
— Ах, вот оно что! Все может быть (мы неохотно спорили с ним, когда он нас брил).
Но среди нас был еще и Хабихт, вахмистр жандармерии (многоопытный старый лис), трезво смотревший на жизнь, которого не так-то просто было сбить с толку. Однако и Хабихт впоследствии признался, что не мог отделаться от злосчастной истории с Гансом Хеллером (а это, конечно же, что-то значило, ибо для него «дело Хеллера» было закончено).
Через три дня на кладбище, когда хоронили Ганса Хеллера и звон колоколов, наводя страх, плыл над деревней, Хабихт стоял несколько в стороне, прислонившись к старой, поросшей сорняками стенке, и через головы собравшихся (вернее, через мокрые зонтики, мокрые плечи и черные вуали, блестящие от дождя и от слез) смотрел в неведомую даль, где в чьей-то руке сходились нити, приведшие в движение марионеток. Он покачал головой, и вода потекла с козырька его фуражки: «Удар. Похоже, что так. Заключению окружного врача положено верить». Но это не было разгадкой. Ибо разгадка, как она ни была проста, в свою очередь задавала загадку, она ведь что-то предполагала — факт, тайну, которую покойный уносил с собой в могилу, теперь, когда комья земли с глухим стуком ударялись о гроб.
Пастор произнес обычную речь: господь призвал в свой дом юного Ганса Хеллера, и на небесах (здесь пастор не удержался и раза два чихнул) ему будет лучше, чем на грешной земле. Что ж, превосходно! Теперь можно и утешиться! Правда, сейчас небеса выглядели достаточно неприветливо, но покойник — говорили себе люди — этого уже не чувствовал, наверно, он и сам стал составной частью погоды. Когда церемония была закончена и могильщику вручены щедрые чаевые, когда венки и ленты были рассмотрены, оценены по достоинству и высказаны взаимные соболезнования, скорбящие родственники и знакомые направились в ресторацию вкушать вполне заслуженный поминальный обед.
Но вахмистр Хабихт воздержался и не последовал за ними (хотя обед, конечно, предстоял хороший). Он не причислял себя к прочим жителям деревни, а благодаря своему мундиру чувствовал себя (или притворялся, что чувствует) человеком обособленным, обязанным сохранять известную дистанцию, изображать неподкупного стража закона. Он вернулся в караульню, в голые, почти не обставленные комнаты, повесил промокшую шинель поближе к печке, потом сел к столу, оперся локтями о покрытую клеенкой столешницу, от которой исходила приятная ему прохлада, и в этой обычной своей позе (делать-то ему, собственно, почти всегда было нечего) предался размышлениям.
Преступление? В это он не верил, никогда не верил. Но также не верил и в то, что все произошло с господнего соизволения.
Он выпятил бескровные губы, так что усики встали дыбом. Он чувствовал неодолимое желание доверительно поговорить с кем-нибудь о случившемся, только не со своим коллегой Шобером: этот, по его мнению, до таких разговоров еще не дозрел, но с кем же? Он задумался, прикинул так и эдак и, повинуясь внезапному наитию, открыл пишущую машинку, вложил лист бумаги и на один из последующих дней (кажется, на пятницу, четырнадцатого ноября) вызвал к себе матроса.
Матрос уже знал результаты следствия и решил, что это какая-то каверза. Он, правда, явился в назначенное время, но изрядно нагрузившись (что, спрашивается, еще хотят от него?).
Хабихт заметил, что матрос раздражен, и — признавая его право быть раздраженным — стал еще неприступнее, чем всегда. Он и сам не знал, о чем спрашивать этого человека, и, следовательно, чувствовал себя весьма неуверенно (ведь он намеревался только язык почесать, а теперь изволь делать вид, будто…), он состроил официальную физиономию, положил перед собой карандаш и бумагу и наконец начал допрос как положено.
— Имя?
— Иоганн Недруг.
— Как?
— Иоганн Недруг!
— Где родились?
— В Тиши, вы же знаете.
— Возраст?
— Сорок шесть лет.
— Профессия?
— Сейчас ничем не занимаюсь.
— Вы ведь делаете глиняную посуду и садовые фигурки?
— Да, для собственного удовольствия.
— Значит, не для заработка?
— Да.
— Позвольте узнать, с чего же вы живете?
— У меня есть пенсия.
— Вы были матросом, не так ли?
— Неверно. Я был штурманом — штурманом на морских судах.
Хабихт откинулся на стуле и с головы до пят оглядел сидевшего перед ним.
— Штурманом, значит. — Он это записал. — А здесь все утверждают, что вы были матросом, — Он встал и начал ходить по комнате как неприкаянный. Потом сказал: — Речь идет о Гансе Хеллере. Мне тут многое неясно. Вы тогда показали, что он стоял прислоненным к окну. И упал, только когда вы до него дотронулись.
— Да, — подтвердил матрос и добавил, что впредь, заметив что-либо подозрительное, он не станет разыгрывать из себя Шерлока Холмса, а живо отправится домой, ляжет в постель, да еще одеяло на голову натянет.
Это уж как ему угодно, ответил Хабихт, а сейчас в виде исключения не будет ли он так любезен показать, как стоял у окна Ганс Хеллер.
— Вот окно, а вот подоконник. Прошу!
Матрос не сдвинулся с места.
— И все? — спросил он. — А может, мне еще мертвым прикинуться? Честное слово, безобразие! Как мне известно, следствие доказало, что это не была насильственная смерть, а вы опять вызываете меня и требуете, чтобы я перед вами разыгрывал комедии!
Хабихт:
— Не волнуйтесь. Я знаю, что делаю!
По правде говоря, он понятия не имел, и, что еще гораздо хуже, матрос, видимо, это заметил и, не позволяя сбить себя с толку, продолжал:
— Я и не думаю волноваться! А говорю что следует. Я язык не держу за зубами, потому что чихать не собираюсь. Но ведь в нашей проклятой дыре люди как живут? Перешептываются, шипят, кого-то подозревают, на кого-то клевещут, сосед исподтишка наблюдает за соседом, крадется за ним — точь-в-точь собаки, когда они обнюхивают зады друг дружке. И все потому, что здесь тоска смертная. Фу ты черт!
Хабихт:
— Вы кончили?
Матрос:
— Так точно, кончил.
— Ну, тогда слушайте! — сказал Хабихт и остановился посреди комнаты. — Между прочим, вы не так уж неправы. — И, возвращаясь к делу: — Мне необходимо знать, в какой позе стоял у окна Ганс Хеллер? С человеком случился удар, допустим! Но с таким молодым парнем? И еще именно в печи для обжига кирпича? Ей-богу, тут что-то не так.
Матрос пожал плечами и заметил, что рассказывать ему, собственно говоря, нечего. Все выглядело вполне естественно. Хотя, конечно, он мало что смыслит в таких вещах. Играть в разбойников и жандармов он никогда не любил и детективных романов тоже не читает.
Хабихт:
— Не думаете ли вы, что, падая, он ухватился за подоконник?
Матрос:
— Нет. Я ведь уже сказал — все выглядело вполне естественно. Он, верно, рассматривал что-то там внутри.
— Или, — подхватил Хабихт (понизив голос), — с кем-то разговаривал через отверстие в стене.
Матрос опять пожал плечами.
— Тайное свидание! Вполне возможно! И разумеется, в самом идиотском месте, какое только можно сыскать. Очень похоже на этого дурака.
— Нет, — сказал Хабихт, — это была неожиданность. Ему, наверно, позвонили по телефону или что-нибудь в этом роде…
Он уже опять расхаживал взад и вперед, засунув руки в карманы штанов и склонив голову. Вдруг он остановился. Остановился под стенными часами, которые своим отчетливым тиканием отмечали в этой голой комнате нескончаемое течение времени. Остановился и поднял глаза горе. Стрелки показывали без пяти двенадцать. Снаружи доносился шум дождя. Он смотрел на часы, казалось, разучившись видеть, что они показывают.
— Нет, — заметил он, — все произошло неожиданно. — И начал рассказывать, ибо, во-первых, это не было служебной тайной, во-вторых, он, вероятно, думал: пусть люди знают, что он, Хабихт, не дремал. — Я нашел следы его машины и по этим следам заключил следующее: парень едет по шоссе в направлении Линденхофа, едет, насколько это удалось проверить, вполне нормально и согласно правилам уличного движения. Затем на развилке, пониже хижины гончара, откуда дорога идет к печи — слушайте внимательно, сейчас будет самое интересное, — точно на этом месте он тормозит как сумасшедший, теряет управление, машину заносит на левую сторону, и она проходит пять метров тормозного пути. Потом катится еще эдак метров двадцать (теперь уже, по-видимому, совсем медленно), причем постепенно переходит на правую сторону, делает отчетливо видную петлю влево, едет обратно по обочине и заворачивает к печи. Ну, что вы на это скажете?
— По-моему, здесь само собой напрашивается объяснение, — сказал матрос. — Какой-нибудь зверь, выскочив из лесу, перебежал дорогу в свете фар. Он не видел, какой именно, его разобрало любопытство, и он погнался за ним или же захотел с ним «сквитаться» за свой испуги преследовал его уже до самой печи.
Хабихт нахмурился.
— Вы же показали, что мотор был включен и что вы сами его выключили. В жизни не слыхал, чтобы человек слез с мотоцикла, оставив мотор работать, а уж если он охотится за зверем, то и подавно.
— Верно, — сказал матрос. — О моторе я и позабыл! — Он так напряженно думал, что лоб его пошел складками. Казалось, он стоя спит. — Нет, это был не зверь, — медленно проговорил он, — это… — И вдруг, вырываясь из тьмы, в которую постепенно погружался: — Парень чего-то боялся! Да-да, это так! А поскольку он боялся (почем я знаю чего!), то и старался быть особенно храбрым.
Хабихт взволновался.
— И вы думаете, что он был один?
— После того, что вы мне рассказали, я даже убежден в этом.
— Допустим, — сказал Хабихт, — допустим, что он был один. Он, значит, слез, прислонил мотоцикл к дубу, выключил фары, а мотор оставил работать…
— Может быть, тарахтение мотора было его единственной поддержкой…
— …Потом, освещенный луною, он пошел к развалинам, встал у одного из окон, и тут…
— Тут его настиг удар.
— Пусть так, — сказал Хабихт. — Пробел тем не менее остается! Причина смерти — удар. Это установлено, Но, — он понизил голос, — удар ведь тоже должен иметь свою причину.
Матрос:
— Ишь ты, сразу видно ученого человека! Неучу бы такое и в голову не пришло.
Хабихт, толком не зная, как понимать его слова, на всякий случай надменно кивнул и сказал:
— Хеллер подошел к окну, облокотился на подоконник, заглянул внутрь развалин, широко раскрыл глаза… И в этот момент — поймите меня правильно — что-то случилось… Что-то, от чего его сердце остановилось. Но что же именно?
В тишине, естественно наступившей вслед за его словами, в такой тишине, что опять стало отчетливо слышно тикание часов и тоскливое журчание дождя за окном, в стенах голой казенной комнаты — они оба это почувствовали (безотчетно, разумеется) — водворилось нечто темное, бесформенное, неуловимое и начало расти и оплетать их своими корнями, словно они оба уже были похоронены и лежали под землей.
— Да, — сказал матрос. — Да. Я понимаю. — Он опустил голову и посмотрел на сапоги Хабихта. Он знал, что умственные способности последнего не столь уж велики, но, видимо, они все же больше, чем положено вахмистру. Во всяком случае, Хабихту способностей хватает на то, чтобы осознать их границы, а это уже хорошо — по крайней мере от неприятностей избавляет. Итак, матрос некоторое время еще поразмышлял (часы на церкви как раз начали отбивать полдень) и. заметив, что ничего больше ему на ум не приходит, да и Хабихт ничего уже не ждет, бодро вскинув свою мыслящую голову, пояснил: — На этот вопрос ответа не существует. — И добавил: — Надо думать, мы кончили?
— Да, — сказал Хабихт, — вы можете идти. С этим делом покончено. — Он снова сел, уперся локтями в стол, лоб прикрыл ладонями и, слыша еще, как матрос спускается по лестнице, погрузился в бесплодные раздумья.
Нет! Ответа не было! Был «разрыв сердца», «удар», были разные предположения, но ответа не было. В темных лабиринтах кончалась любая мысль, мозговые извилины завязывались узлом. Сколько ни задерживай дыхание, сколько ни прислушивайся — ничего! Разве что известное неудобство, невидимая паутина, в которой мы запутывались. Мы старались стряхнуть ее с себя — матрос тоже! Ну какое ему дело, отчего окочурился этот парень! Плевать ему на всю деревню с ее тайнами, с ее таинственной возней. Но — и это самое странное — он казался себе своего рода рупором, в котором еще трепетал отзвук допроса. В этот рупор чей-то голос (может быть, его собственный) нашептывал и нашептывал загадку, которую, увы, нельзя разгадать. К тому же временами он испытывал неприятное чувство — хотя всячески ему противился, — что это дело и его как-то касается. Не потому, что он нашел тело Ганса Хеллера. (Это могла быть случайность, да он ей и не придавал значения.) Нет, это было связано с печью для обжига кирпича, равно как и с весом тела покойного, но прежде всего — с его глазами. На что он смотрел? Что сделало его тело тяжелым, как мешок с цементом? Последний взгляд в темноту? Матрос до крови кусал себе губы. Ему казалось, что этот последний взгляд, пристальность этих остекленелых глаз, которые ни одна добрая рука уже не могла закрыть и которые день и ночь преследовали его, были шифрованным письмом, может быть, Присланы ему тем безымянным Нечто, которого он ждал, которое, как навязчивый запах, подстерегало его на улице перед ресторацией, когда он хотел убедить себя, что просто любуется луной.
Он остановил свой гончарный круг и вытер руки (широкие костлявые руки, с пальцами до того квадратными на концах, что они казались обрубленными). С той странной ночи работа не доставляла ему радости, а так как никто его к ней не принуждал, то он и прерывал ее чаще, чем следовало. Подходил к окну, доставал кисет, набивал свою трубку, но забывал ее раскурить. С холодною трубкой в зубах он стоял недвижно, как собственный памятник, и глазел на дождь, который все еще крался по лесам и готовил из навозной жижи и глины грязевую ножную ванну для деревень и хуторов. То были минуты опасности. Он прислушивался, словно мог что-то услышать. Что-нибудь, кроме дождя! Что-нибудь громкое! Канонаду, например! Тщетно! Неподвижный и одинокий в тишине дома, стоявшего на отлете, он слышал лишь биение своего сердца, слышал вялое свое дыхание и загадочный шепот внутри себя, вовлекавший его в чужие тайны, в чужие беды: сеть из шепота, густая, как сон — из такой не вырвешься, — путаница слов и слогов, вечное взаимослияние, в котором ты сам растекаешься, страшась воссоединения с ним.
Это все одиночество, сказал он себе, однообразие, скука. Надо хоть собакой обзавестись или опять разок в город съездить.
Шесть одуряющих весен и зим, шесть лет, пустых, как покинутое осиное гнездо, ютился он здесь, занимаясь своим ремеслом. На гончарном круге (наследство, которое он частенько проклинал, но которым не мог поступиться), что так мешкотно кружился, он превращал (и то лишь для собственного удовольствия) эту глину, тусклую, с солено-кислым запахом, некогда бывшую морским дном, некогда поддерживавшую пучину, полную утонувших вещей, в кувшины для молока и виноградного сусла. Пусть люди пьют из них, прежде чем в дождь умереть от жажды подле раздувшегося вымени, обильного источника, дополна налитой бочки. Ибо крестьянский театр хоть и продолжал играть, хоть и стояли еще лесные кулисы и дождь еще щедро орошал землю, это было все же столетие лесорубов, столетие высыхания рек. Жизнь начала отход, пустыня — наступление; артерии несли песок к сердцу, песок смешивался с дыханием, с кровью. Матрос это чувствовал, он тоже засыхал, закарстовывался, как местность, где вырублены леса, у него тоже язык все сильней и сильней прилипал к гортани.
Случалось, он входил в сарай за домом, где были расставлены для просушки сосуды, и поднимал взор к стропилам, словно там ему являлось видение. Недвижно стоял он в сарае, только, что-то шепча, шевелились его узкие губы…
— Да, я понимаю тебя, отец, — шептал он. И затем, словно пробуждаясь от чар, водил рукой по враждебному воздуху.
— Да, я понимаю тебя, отец! Твоя жена умерла, дом был пуст, все вокруг одичало, серое небо нависло над тобой, и сам ты был полый — как горшки и кружки, которые ты изготовлял всю свою жизнь. Тогда ты отправился к лавочнику и сказал, что тебе нужна веревка.
— Вот эта подойдет? — спросил лавочник.
— Да, она выдержит, — сказал ты.
— А на что она тебе? — спросил лавочник.
— Надо кое-что повесить, — сказал ты. — Отрежь два метра, больше мне не потребуется.
Браво! Точно рассчитано! И прощального письма ты не написал! Не стал давать объяснений — твое личное дело, и точка. Но я понимаю тебя; я бы поступил точно так же, если б уж решился, если б знал, что ничего от меня не останется — только мешком свисающая оболочка, которую раскачивает сквозной ветер.
Когда в 1946 году, после тридцатилетних блужданий, он вернулся домой (не Одиссей и не блудный сын, воротившийся слишком поздно, а человек с пенсией и несколькими сундуками), родная гавань встретила его отчужденнее, чем какая-либо гавань на другой стороне земного шара. Правда, хижина гончара — его отчий дом — по-прежнему лепилась на склоне горы (да и окружающий ландшафт почти не изменился, только все в нем словно бы стало поменьше), но из трубы уже не поднимался дым, на окнах не стояли цветы — пустота. В саду у дверей вырос чертополох, и осенний ветер (который дул в тот день) играл — да, он играл с чертополохом и еще играл с одной из подгнивших ставен, стукая ее то об стену, то об оконную раму. Только этот стук и приветствовал матроса, вернувшегося на родину.
Мать — вероятно, уже не такая, как на выцветшей фотографии, которую он носил с собой, — еще во время войны ушла из этого великолепного мира. А семью месяцами позднее, весною, в год окончательного разгрома рейха, наложил на себя руки его отец, да-да, он повесился, а своему единственному сыну оставил дом (его хотела прикарманить община), а в доме — о господи боже ты мой! — в доме гончарный круг, чтобы сын крутил его всю жизнь, покуда не будет по горло сыт ею.
Когда порою матрос, не зная отдыха, точно зверь, точно одичавшая собака, бродил вверх-вниз по поросшим лесом холмам, продираясь сквозь трескучий хаос деревьев с дымящейся трубкой в зубах и, как бы между прочим, поглядывая, нет ли где подходящей глины (ведь своим наследством не надо пренебрегать), он думал, думал о жизни, видел, как килевой след в море забвения, прочерчивавший его путь, все больше и больше закругляется, принимает форму петли, манящей просунуть в нее шею. Земля (глина, которая чавкала под ногами), однажды поднявшаяся из океана, потом отшлифованная и продолбленная черными ливнями всемирного потопа, теперь затихшая хлябь, спавший после шторма прибой, хранила в своих развороченных недрах не только останки былых времен (чаши, раковины, иглистые плавники, окаменелости из потонувшего мира), нет, нет, не только — она дышала, эта земля, из бездонных своих глубин источала извечный запах солей и водорослей, аромат, что жил под камнями, таился в ложбинах, подымался над топкими лужами или, всосанный корнями, пульсировал в стволах, дабы вверху раскинуться над голыми сучьями, как донный трал, с которого еще стекает вода.
Матрос запутался в этом трале (море никогда не отдает своей добычи). Он вспоминал о годах плавания, о полузабытых портовых городах, о женщинах, чьи имена выветрились из его памяти, о проститутках, чьи лица теперь расплывались в тумане, о седобородом человеке, который однажды дал ему взаймы, о чернобородом, который умер от рака легких, о девушке, которую вытащили из воды без сознания, об утлой спасательной лодчонке, о дрейфующей мине, которую так и не удалось обезвредить, и, наконец, о множестве погибших людей. Или вспоминал о вечерах на борту, о Голубой песне (кто-то ему пропел ее, а он не удержал ее в памяти), об айсберге, что вдруг, словно глыба света, вынырнул из тьмы по правому борту, об утонувшем капитане, об уходящей из поля зрения акульей спине, о матросе, которому тогда ампутировали ногу, о большом масляном пятне на воде, о большом кровяном пятне на воде и об огромных, как горы, неумолчно рокочущих валах, которые, призрачно мерцая и фосфоресцируя, вырастали из ночной синевы: великая студеная беспощадность моря.
В ту пору его жизнь (жизнь, теперь протекавшая между пальцев) была в постоянной опасности. Временами он испытывал страх, ибо от неизмеримых глубин, от пастей хищных рыб его отделяли лишь доски корабля. Но — странное дело! — в этом страхе, в этом сознании неотступной опасности он чувствовал себя увереннее, спокойнее и надежнее, чем ныне «на пенсии», «дома», где он был чужаком, чем в этом безопасном, но таком безнадежном странствовании по ставшему глиной морю, что называлось родиной.
Иной раз в ветре матрос слышал голос, и тогда ему казалось, что он, нимало к тому не подготовленный (с лицом, поросшим щетиной недельной давности), стоит перед призовым судом.
— Штурман, — допрашивал голос, — почему ты посадил на мель свое судно?
Он:
— Не знаю. Наверно, мы шли неправильным курсом. Или карты врали? Или компас был не в порядке? Не знаю! А может быть, я нарочно сел на мель. Война. Жестокость. Трупы. Я устал. Я больше не хотел…
— А теперь ты доволен?
— Да.
— Счастлив?
— Нет.
— Значит, несчастлив?
— Тоже нет.
— А как же?
— Да никак.
— Так чего же ты еще ждешь? — спросил голос.
Он отошел от окна обратно в полумрак низенькой комнаты, а за его спиной, казалось, прошелестели крылья, словно чайка улетела прочь. Остались стены, мебель, осталась керосиновая лампа над столом, осталась пожелтевшая фотография его матери, великая тишина, и он преклонил перед нею колена, зарылся лицом в ее ватное тело. Да еще и сам он, сгорбившийся, поседелый, иной раз почти уже умерший, холодный, как мертвец. А там вон — гончарный круг, этот надежный наркоз; и сам гончар — тоже кусок глины, его медленно формовали и выдалбливали, покуда он не стал вместилищем пустоты.
Теперь он достал из кармана спички и наконец раскурил свою трубку. Маленький трескучий огонек осветил его лицо, еще раз вырвал это лицо из сумерек, в которых оно уже тонуло: квадратный подбородок, прямой нос, бледные, ввалившиеся щеки. Так, бывало, берег еще раз вынырнет вдали, чтобы уже навеки исчезнуть… Матрос сосал свою трубку. Зачем еще ждать и чего ждать? Лучше с головой укрыться одеялом! Спать! Не быть обязанным узнавать еще что-то! Только наслаждаться теплом, хоть оно и не согревает душу. Да и что еще могло случиться? Пора авантюр миновала. Однако ночью, среди мучительных снов, он несколько раз просыпался и снова слышал, как шепчется дождь за окном, и минутами ему казалось, что этот шепот предназначен для его ушей. А когда он утром вышел принести воды и посмотреть, как там погода, внизу, в долине, по ту сторону дороги (отсюда она просматривалась до самой Тиши), ему открылся скелет кирпичного завода, обломки, словно бы расшвыренные под горой, весть, которая только и ждет, чтобы ее прочитали.
Он любил эти развалины вопреки всей их неприглядности, чувствовал, что его тянет туда, как преступника к месту преступления, может быть, лишь потому, что пруд при заводе был его первым синим морем, и еще потому, что мальчиком он бродил там, внизу, изобретая невесть какие приключения. Завод уже тогда не работал, и здания, правда еще не разрушенные, находились в полном запустении. Козы, которых пасла четырнадцатилетняя девочка, объедали сорняки под его красными стенами. И однажды, в знойный полдень (но и это приключение уже стало ему чуждым, словно кто-то другой пережил его), пьяный от смертельного страха, пьяный от запахов глубины, на загорелом, жарком от солнца теле пастушки (он словно бы вел свое суденышко в открытое море) совершил он свое первое плавание в Несказанное.
Но не об этом он думал сейчас, на рассвете, пока шел за водой к колодцу, глядя, как — словно пролитая кровь — темнеют за дождевой пеленой стены кирпичного завода. Нет, не глаза первой возлюбленной — щелочки, полные слез, мерцающие и бледно-голубые, как дальние горизонты, — на него смотрели сейчас две черные дырки, два отверстия, два окна в руинах, до того пустые, что у человека перехватывало дыхание: глаза мертвого Ганса Хеллера.
Позднее он прочитал в крестьянском календаре, который иной раз покупал к рождеству у заезжего агента, на странице, посвященной ноябрю, под различными наставлениями для крестьян, такое изречение:
Ноябрь стучится у ворот,
Но ты укрыт от всех невзгод:
Промозглый ветер, холод, мрак.
Будь счастлив, коли есть очаг,
И береги свой теплый кров
От лиходеев и воров[1].
Когда в один из последующих дней (восемнадцатого или девятнадцатого) из туч несколько часов подряд лилась вода и внезапно поднявшийся ветер стал подсвистывать, как возница лошадям (тщетно: лошади больше мочиться не хотели), матрос ощутил потребность что-то сделать — хоть ноги поразмять, — а поскольку в нынешнем настроении ему ничего другого и в голову прийти не могло, решил пойти на кирпичный завод, чтобы уже при дневном свете хорошенько его осмотреть. В старом своем бушлате — он лучше всего себя чувствовал в нем, так как бушлат резко отделял его от всего окружающего, как бы поднимал его над серостью, в которой мы все растворялись, — он двинулся сквозь кусты вниз по склону, пересек блестевшее от слякоти шоссе и неторопливым шагом — куда ему было спешить? — приблизился к зловещему месту. Он отдавал себе отчет в бессмыслице этой затеи, ни минуты не тешил себя надеждой, что ему удастся там что-то обнаружить или что небеса ниспошлют ему внезапное наитие. Но сегодня, когда он шел, засунув руки в карманы и слегка раскачиваясь — как на прогулке, — ему вдруг показалось, что еще утром ему что-то встретится.
У дуба, где недавно стоял мотоцикл Ганса Хеллера, матрос на секунду остановился и глянул вверх. Закинув голову, он смотрел на ветви, что, тихонько скрипя, покачивались под летящими облаками. Ничего! И человеческого скелета, как в страшных сказках, не видно! Только возница-ветер сидел там, вверху, щелкал кнутом, гнал облака над землей и насвистывал старую ямщицкую песню. Матрос плюнул на ствол дуба и ухмыльнулся. Сегодня, раз уж ему предстояло разыгрывать из себя детектива, глупо было бы считать ветер только за ветер. Если облака — кони или хотя бы волы (смотря по скорости их движения), а здешний край — нескончаемая проезжая дорога, размокшая и вонючая от мочи небесного стада, то и в ветре можно… Но картина не дорисовывалась: возница на дереве остался без упряжки; кони у него, запряженные шестериком и восьмериком, понесли, и только бич свистел в пустоте да сучья поскрипывали, как рессорная коляска.
Матрос в задумчивости повел плечами, пошел дальше все тем же неторопливым шагом гуляющего и, несколько раз оглядевшись, не наблюдает ли кто-нибудь за ним исподтишка (здесь все время приходилось с этим считаться), вошел в красный лабиринт кирпичного завода.
Он сдвинул шапку на затылок. Вот я и здесь, подумалось ему, сейчас должно что-то произойти: какой-нибудь дух выйдет из стены или я найду подозрительную пуговицу от штанов! Но ничего подобного не случится — и это будет мне карой: с таким невером, как я, чудес не бывает.
Без особого воодушевления, но и не без интереса блуждал он под наполовину рухнувшими сводами, по переходам, заваленным мусором и щебенкой, где меж разрушенных стропил проглядывало небо, перелезал через кучи хлама, карабкался по балкам, шел через заросли крапивы, шел по высокой шелестевшей траве. Осколки стекла крошились и хрустели у него под ногами; он играл в футбол ржавыми консервными банками, как юный бродяга, или через окно (сам точно привидение) оглядывал местность. Тучи пытались побороть тусклый свет и, точно черными конскими хвостами, взмахивали потоками ливня над грядою холмов. Если бы он не внушал себе, что отправился сюда так, шутки ради, он сам себе показался бы смешным: словно он пустился в путь, чтобы в бедных и прозаических этих руинах найти заколдованный голубой цветок или «научиться страху»[2]. Вдобавок он испытал некоторое разочарование: кирпичный завод был вовсе не таким обширным, каким сохранился в его воспоминаниях. В ту пору, более тридцати лет назад, когда он лежал с девочкой и желудок у него еще не был испорчен, все здесь казалось ему куда больше и куда таинственнее.
Внезапно он почувствовал, что сыт по горло этим хождением по следам бесследно утраченного, этим изучением разрушительного воздействия времени. Через одну из дверей он вышел на волю, хотел было повернуть к дому, но «напоследок», как он сказал себе (повинуясь неодолимому влечению), решил обойти еще разок вокруг здания. Ветер (теперь это был просто ветер, влажный, мечущийся то туда, то сюда, захлебывающийся воздушный поток) ринулся ему навстречу и задул холод в рукава бушлата. В пустоте кричали пробужденные им голоса: печь для обжига кирпича посвистывала на окарине. Веселая музыка! Разрушение! Бренность! А за углом — длинный ряд окон! И из каждого несется: отплытие! Так вот и становишься стариком — на капитанском мостике, стараясь, чтобы тебя не снесло ураганом! Хотелось что-то крикнуть, но ветер кляпом затыкал тебе рот, поднимал волны в океане, поднимал волны в пруду при кирпичном заводе, заставлял хрустеть, как кости, сухой камыш, грозил сбить тебя с ног и задушить… А это здесь — да-да! — тот самый подоконник, о который опиралось бездыханное тело Ганса Хеллера — глазок в потайной ящик, в свиной хлев, заглядывать куда запрещено и смертельно опасно.
Матрос подошел ближе (все запретное притягивает), прислонился к окну, как это сделал Ганс Хеллер, и пошире открыл глаза.
Он заглянул в просторное помещение без крыши: это был квадрат, который обступали и отделяли своим однообразием от остального мира высокие разрушающиеся стены. И здесь валялся мусор, а местами буйно росла крапива. В углу, меж закопченных кирпичей, виднелись следы огня. Возможно, здесь ночевали цыгане и тайком жарили на огне свою воровскую добычу — кур или кроликов, одним ухом все время прислушиваясь к темноте, ибо в ней собачий визг ветра заглушал шаги жандармов. Здесь кто-то… (да ладно, вонь уже выветрилась, слава богу, время поработало).
Матрос рассматривал стену. На самом ее верху трепыхались белесые патлы (какой-то сорняк). Сорная трава всего дольше живет, подумал он. Только сорная трава и не сохнет. Ничего особенного в этом, конечно, не было, но с того места, где он стоял, казалось, будто люди, которых упрятали за эти стены, вздымают руки, шевелят истлевшими пальцами: осторожно, мы еще здесь!
В это мгновение (то была лишь доля секунды) морозное дыхание коснулось его. Ледяное нечто пробежало по его нервам, легонько пощипывая их, так что все волосы на теле встали дыбом, как иглы у ежа, на которого напали собаки. Так же вот стоял и Ганс Хеллер, так же смотрел на эту стену и так же махали ему руки, махали из тьмы; а потом…
Матрос круто обернулся. Почувствовал чей-то взгляд на своей спине. Сжав губы, он стал вслушиваться, приглядываться. В окружающем мире ничто не изменилось. Даже погода; вдали на горизонте шли ливни; по траве тревожно пробегали волны с белым отливом; покачивались ветви на дубе: все было как прежде, только кто-то стоял на шоссе.
Это был низкорослый невзрачный человечек, казалось, напряженно что-то высматривающий. Он стоял слегка нагнувшись, как бы готовый к прыжку, и опирался на зонтик. Плащ его развевался на ветру.
Ага! Вот и свидетель, подумал матрос. Теперь начнут говорить, что я ворую здесь кирпичи! (То, что уже говорят, будто он убил Ганса Хеллера, ему и в голову не пришло, хотя он неплохо разбирался в людях.) Он надел шапку как следует и пошел прямо на этого типа. Надо по крайней мере узнать, кто теперь будет о нем судачить. Он презрительно сплюнул (курильщики вечно плюются) и, не дойдя сотни шагов до шоссе, узнал стоявшего там человечка. Это был мастер лесопильного завода.
В выжидательной позе матрос остановился. (Не следует до всего дознаваться.) Достал кисет и набил свою трубку. Потом сделал тщетную попытку зажечь ее. Смывайся! — думал он. Смывайся! Я же даю тебе время. Он встал с подветренной стороны у дуба, в жалкой тени, которую тот отбрасывал. Неужто не видишь, старый дурень, что ветер задувает свечу жизни, неужто не видишь, что возница нагнулся и сбивает ее огонек? Господи, опять! Ужели тебе еще не наскучило?
Но он ошибался. Старик поджидал его, во всяком случае, не выказывал ни малейшего намерения уйти со своего поста. Тогда это сделал матрос.
«Не хочешь, не надо», — сказал он про себя.
Наконец-то ему удалось раскурить трубку, он двинулся с места и решительно зашагал к шоссе, ибо, во-первых, дождь, видно, опять хотел припустить, а во-вторых, не было у него ни малейшей причины избегать встречи со стариком.
А тот смотрел на него вылупив глаза, словно человек, что, прогуливаясь по пляжу, вдруг увидел, как водяной выходит из моря и прямиком направляется к нему.
— Там, — сказал старик, — там наверху недурно прогуливаться.
— Да, — ответил матрос. — Не хуже и не лучше, чем везде. Сейчас, кстати, хлынет дождь. — Он собрался идти дальше.
Но Айстрах потянул его за рукав.
— Вы, наверно, там что-то осматривали? — настороженно спросил он.
— Конечно. На свете многое подлежит осмотру — на наш век хватит.
Старик вытаращился на него, словно ничего не понимая. Потом достал носовой платок и высморкался, помедлив, поднял свой зонт и копчик его нацелил на развалины.
— Страшное это место. Я когда мимо прохожу, меня так и подмывает туда заглянуть.
Кончик зонта трепетал в воздухе, как бы вычерчивая таинственные знаки.
Матрос посмотрел вверх. Отсюда все это походило на незаживающую рану, стены — как прожженная ткань, поблекшая осенняя трава между ними — как гной.
Матрос спросил:
— Почему же страшное?.. Потому, что Хеллера там хватил удар? (Он искоса взглянул на старика.) Он бы и в другом месте его хватил.
Тот, как видно, старался побороть тревогу.
— Да что там Хеллер! — сказал он. — Я про развалины говорю! Их надо снести. Они весь наш край позорят.
Матрос:
— Ну, это когда еще будет. Нам с вами и не дождаться. Здесь ведь ни одну кучу мусора не убрали. Да еще дощечки на них повесили: «Охраняется государством».
Но Айстраха нелегко было рассмешить. Или он его не слушал? Старик двигал вставными челюстями, как будто раскусывая слова, злые слова, которые он не в силах был выговорить, не в силах и проглотить. Казалось, что под жидкой своей бороденкой он жует собственные иссохшие губы.
Вдруг он повернулся к матросу и уставился не него безумными мерцающими глазами.
— Вы ведь тоже, — пробормотал он, — вы ведь тоже не верите в духов?
Матрос смотрел на него сверху вниз, руки он засунул в карманы бушлата, голову слегка склонил набок, немного удивленно и насмешливо — так смотрят на ни к чему не пригодную вещь.
— Я еще ни одного не видел, — сказал он наконец. — Но что они вам являются и что иной раз бродят в Тиши, по-моему, вполне возможно.
Айстрах вздохнул.
— То-то и оно, — пробурчал он себе под нос. — Ничего толком не знаешь. А коли ты годами здесь околачиваешься и только и слышишь, как визжит пила, и все тебя тянет туда заглянуть, и все ты надеешься что-то увидеть, тут-то оно тебя и настигает. Вдруг вцепится в тебя и держит. Так и с вашим отцом было. Я точно знаю, отчего он повесился.
Матрос ощутил внезапный удар, он словно дотронулся до электрического ската. Он пристально поглядел в глаза старику, в рассеянном мерцающем свете которых как бы растворялось все окружающее.
И — вынув трубку изо рта:
— Что вы хотите этим сказать? — с угрозой в голосе спросил он. Рука его, державшая трубку, начала дрожать.
Старик вздернул плечи, пригнулся и сник.
— Ваш отец был хитрый человек — хитрее нас всех. И кто поручится, что он не был еще и предателем? — Он посмотрел на матроса и отвратительно усмехнулся. — Он не оставил никакой записки?
— Записки? Что вы имеете в виду?
— Не оставил вам прощального письма?
— Мне нет. Во всяком случае, я такового не обнаружил… Почему вы так странно спрашиваете меня?
Старик, казалось, вздохнул с облегчением. Грудь его под плащом вздымалась, как кузнечные мехи. Он сказал:
— Да просто так. Мы же с ним знавали друг друга. — Он сделал несколько шагов, словно намереваясь идти дальше. Но остановился и, стоя вполоборота, бросил подозрительный взгляд на матроса. — Так вы ничего не знаете?.. Не знаете, что там произошло?
— Н-нет! — ответил матрос и — после достаточно длительной паузы: — Так что же там произошло?
Старик взмахнул зонтиком.
— Ровно ничего. Разве я что-нибудь сказал? Просто я подумал, ведь вы же там были. И в конце концов, вы его сын. Ах ты, ветер какой поднялся… — Он взглянул на небо. Дрожь прошла по его телу. Вставные зубы громко застучали.
Матрос, не сводя с него глаз, спросил:
— Вам нехорошо?
Над хребтом Кабаньих гор вырастала туча, точь-в-точь черный конь.
— Мертвые, — залопотал Айстрах, — мертвые голодны.
Он смотрел на тучу — конь бил копытами вокруг себя.
Матрос:
— Вы сумасшедший.
— Я?
— Да, вы, а не я! И к тому же вы трусите! Сдается мне, здесь все трусят.
Старик рассвирепел.
— Что? — заорал он. — Трушу! Ваш отец! Он трусил! Да еще как! Но мы…
Конь вздыбился, черная грива его развевалась. Упали отдельные тяжелые капли дождя.
Матрос:
— Будьте добры оставить в покое моего отца! Вы сами не понимаете, что говорите.
Айстрах (ехидно):
— Конечно, я же старый дурак! Но погодите, вы меня еще вспомянете!
Матрос (глядя вверх):
— Раскройте-ка лучше зонт! (Он думал: мой отец… Печь для обжига кирпича… Боже милостивый! Что же там было? Ничего не хочу знать об этом.)
Внезапно Айстрах очутился вплотную возле него.
— Молодой Хеллер… — прошептал он, — молодой Хеллер все это знал и потому должен был умереть…
(Матрос продолжал смотреть вверх. Туча стала слоном и покатилась вниз с горы.)
— Что вы хотите этим сказать?..
— Разве вы ничего не заметили? Вы же сами его нашли!
— Это верно.
— Ну и?.. И вы ничего не заметили?
(Великий шум приближался.)
— Глаза!.. Вы не видели его глаз? Я приходил в мертвецкую. И долго смотрел на него: такие глаза могут быть только у человека, который увидел что-то невыносимо страшное…
Не дожидаясь, покуда он кончит, матрос перепрыгнул через кювет.
— Я пошел! — крикнул он старику. И проворно, как ласка, стал взбираться по склону; в этот миг на согнутую его спину обрушился ливень: видно, ошалевший возница изо всех сил нахлестывал слонов и коней. А внизу старикашка, словно идя ко дну, разевал рот, но тщетно… В шуме дождя его не было слышно. И вот уже удары бича смели его с дороги вместе с зонтиком, который вырвался у него из рук, едва он его раскрыл.
Что-то невыносимо страшное! Да, хоть никто и не знает, что именно. Только таким могло быть то, что увидел парень, прежде чем его сердце остановилось, как часы, по которым кто-то ударил. Оказаться во власти этого страшного — вот чего, верно, боялся Малетта с той самой минуты, когда он приподнял газету над покойником и увидел мерзостно остекленевшие глаза. Разумеется, и он не умел определить это Нечто, дать ему имя, выделить его из всего остального мира. Тем не менее (или именно поэтому) он знал, что оно много больше, чем переменчивое название, много больше, чем грозное звучание запечатлевшего его слова. Это Нечто было абсолютно. Казалось, еще никем не названное, оно, безусловно, существовало — сила, заключенная в опасном молчании тех, кто не нуждается в доказательстве своего бытия. Подобно неизмеримой иррациональной основе сущего, оно таилось за всем — холодное, мрачное, смертоносное, всегда готовое выйти из укрытия, из немоты безвременного небытия, ворваться в сегодняшний день, сорвать все преграды, прорваться, как прорывается безумие. Мрак его уже проглядывал сквозь трещины и щели, сквозь никем не замеченные люки, которые нельзя закрыть, как нельзя было закрыть веки Ганса Хеллера. Казалось, что наш мир, предметы, из коих он состоит, вдруг стали неплотными и ненадежными, проношенными до нитки, как старая ткань, что уже не прикрывает те места, которые должна была бы прикрыть.
Тем не менее наш мир (как космос, так и деревня с ее людьми и дворами, с ее сараями, хлевами, компостными кучами, с возами дров, с лошадиными яблоками на дорогах, с автобусным сообщением и, наконец, с проливным дождем) оставался все таким же: стены в нем не рушились, не разверзались могилы. Укрутник провернул два выгодных дела, Франц Биндер получил десять ящиков пива, в Линденхофе забили свинью, парни по-прежнему носились на своих мотоциклах (с головы до пят забрызганные грязью). И нынче, через год, когда мы все это сожрали, но переварить так и не сумели, минутами начало, казаться, что Малетта сам соскочил с колес, что он сам стал тем проношенным местом на ткани, что один он был той крохотной пробоиной в корабле, через которую начало по капле просачиваться «невыносимо страшное», чернота неведомого моря (по которому беспечно плывет корабль нашего бытия) с призрачными растениям;! и животными.
Но тогда никто еще ничего такого не думал, не думал, вероятно, и сам Малетта. Ибо если он и чувствовал себя одержимым, то роли, каковую ему предстояло играть, он, конечно, не знал, да и мы ничего особенного за ним не замечали.
А теперь, в конце этой главы (как бы для того, чтобы рассеять туман, сгустившийся над недавним прошлым), еще о небольшом, но радостном событии для тех из нас, кто умеет любить.
Двадцать девятого ноября, около четырех часов пополудни, Герта, зажигая свет в «отдельном кабинете», заметила, что одна из лампочек перегорела. Девушка, весьма рачительно — после смерти старой Биндерши — наблюдавшая за тем, чтобы в доме все шло как по маслу, решила немедленно устранить этот непорядок. Принесла новую лампочку, сняла туфли, повыше поддернула юбку, вскочила на один из столиков и всем телом подтянулась к темному осветительному прибору. В этой прелестной позе — приподнятую, как статуя на цоколе, — ее увидел Укрутник, сидевший в общем зале. Сидел он совершенно один. Ни хозяина, ни кельнерши там не было.
Он отложил в сторону журнал «Скототорговля», тихонько, словно его маслом смазали, поднялся с места и неслышно вошел в соседнее помещение.
Придвинулся поближе. Потом сделал еще два шага и в нерешительности остановился. Потом еще два. Жадными глазами окинул Герту — все округлости и все впадинки ее тела. Облизнул губы, почувствовал вкус собственной слюны и еще странный зуд под языком и легкую дрожь в коленях. Старая лампочка была уже вывинчена, Герта наклонилась за новой, лежавшей на столе. Ее юбка сзади взвилась, как занавес. Перед Укрутником мелькнули ее ляжки.
Он заморгал глазами, как от яркого света. Снова облизал губы. Ощутил вкус объятий. Вкус того, во что хочется вонзиться зубами. Почти уже вкус женщины.
Герта между тем взяла лампочку и опять потянулась к потолку. Она балансировала на цыпочках. Мускулы на ее ногах напряглись. В тени юбки это выглядело таинственно. Нельзя было точно определить, что там происходит. Казалось, ее жилистые подколенные впадинки строят рожи, весело смеются над подсматривающим Укрутником.
Он открыл рот — так легче было дышать. Собственный язык ощутил как чужеродное тело. Ничего не подозревавшая Герта ввинтила лампочку, отчего раздался омерзительный скрипучий звук. Руки ее продолжали двигаться эластично, по-кошачьи скользя вниз по туловищу. Ягодицы вздрагивали под юбчонкой, как круп кобылы.
Укрутник сжал губы и раза два проглотил слюну. Во рту у него пересохло. Язык был как полено. Он опять сглотнул и в полном отчаянии уставился на ее зад.
Бедра у Герты, правда, были широковаты, но зато талия стройная и гибкая; она высилась над бедрами — как шея над плечами — и изгибалась, как лебединая шея.
Лампочка вспыхнула. Герта ввинтила ее потуже. И при этом еще больше вытянулась. Мускулы на ее икрах вздулись, а пятки приподнялись так, что стали видны подошвы.
Тогда он снова открыл рот, но на сей раз уже чтобы привлечь к себе внимание. Он сказал (и его голос звучал хрипло и похотливо):
— Послушай, ну и икры у тебя! Красота, да и только!
Герта обернулась.
Ага! Укрутник.
Она (по-видимому) не удивилась, не была ни разочарована, ни обрадована.
— Верно, — сказала она, — есть в них что-то такое, хотя я считаю, могли бы быть похудее. — Затем она повернулась и протянула руку.
— Подойди, я за тебя ухвачусь!
С полной непринужденностью она стояла перед ним на столе, протягивая ему свою крепкую руку (руку с чуть влажной ладонью, что давно было известно и мило Укрутнику).
Он подошел. Приблизился медленно и скучливо, глубоко засунув руки в карманы. Разыгрывал из себя спокойного светского человека. А эта девица там наверху, мол, может и подождать. Он наступил на одну из ее туфель, стоявших на полу, поскользнулся и едва не преклонил колена перед Гертой (как жених). Посмотрел на ее ноги. Короткие сильные пальцы просвечивали сквозь чулок и мягко прижимались один к другому (как пирожки на противне). Потом он поднял глаза. И увидел ее лицо. Округлый полный подбородок, чувственный рот. Она улыбалась, показывая белые зубы. На ядреных ее щеках были ямочки. Глаза, устремленные на него, горели темным огнем. Что-то вдруг изменилось в ней.
— Ну, прыгай же! — сказал он и снова взглянул на нее. Он вынул руки из карманов и снизу вверх погладил ее икры, округлые и твердые.
Она сверху глянула на него и ни слова не сказала. Словно и не ждала ничего другого! С восторгом он чувствовал, как тоненькие волоски покалывают его сквозь чулок; потом его рука скользнула в подколенную впадинку, там было прелесть до чего уютно, потому что чулки образовывали мелкие складочки, и пошла выше, уже напрягшись, к верхнему краю шва. В тепле и впотьмах он внезапно ощутил ее бедра, бархатистую кожу, под которой билась жизнь, точно пойманный зверек, готовый вот-вот убежать. И вот он и вправду выскочил…
Герта схватила Укрутника за плечи и прыгнула прямо на него. Половицы прогнулись и задрожали. В зале зазвенели и запрыгали бокалы.
Укрутника шатнуло. Он и сам не понимал, как это случилось. Она едва не сбила его с ног! А теперь прильнула к нему, громко смеясь. Может быть, над его испуганным лицом? Или оттого, что юбка у нее задралась чуть не до пояса? Она хотела ее одернуть, Герта Биндер знала, как надо держать себя. Но тут Константин Укрутник схватил ее под мышки (а в этом месте терпели фиаско даже известнейшие аптекари и химики) и мужественным жестом опрокинул на стол.
— Э-э-э! — сказала она, отворачивая лицо. Ее полная белая шея, вибрировавшая от смеха, казалось, припухала, извиваясь, и манила его вонзиться в нее зубами, как вонзается волк.
Она еще несколько секунд защищалась — из соображений приличия, — но, поскольку он не отпускал ее, не отступался и дышал ей в ухо горячим своим дыханием, вдруг сделалась податливой, и тогда все произошло — они поцеловались.

С тех пор матрос перестал спать по ночам. Бодрствовать его заставляло нечто странное: он слышал голос. Этот голос обращался к нему. И все твердил одни и те же слова; собственно, они должны были ему прискучить, нагнать на него сон. Так нет же! Происходило как раз обратное: они возбуждали в нем омерзительное подозрение. Нередко он до рассвета лежал без сна и, содрогаясь, слушал нескончаемое бормотание. Когда же ему становилось невмочь, слезал с кровати, зажигал свет и раскуривал трубку. Иной раз это было очень приятно и действовало успокаивающе. К тому же и бормотание тогда прекращалось. Но стоило ему потушить лампу, лечь и, как всегда, закутаться в три шерстяных одеяла, голос начинал что-то монотонно бубнить — точь-в-точь зазывала на ярмарке, часами выкрикивающий свои шутки-прибаутки.
«Ваш папаша был хитрец, — утверждал голос, — и кто знает, пожалуй, еще и предатель».
«Заткнись!» — рычал матрос.
Но голос не так-то легко было сбить с панталыку, он продолжал вещать из стен, из темноты:
«Что ж он вам, и записки не оставил? Словечка не написал?»
«Заткнись и вообще убирайся ко всем чертям!»
«Выходит, вы ничего не знаете? Ни о чем понятия не имеете? Так-таки не знаете, что́ там произошло?»
«Не знаю и знать не желаю!»
Голос не умолкал.
«А молодой Хеллер? — говорил он, — Молодой Хеллер все знал. И потому должен был умереть».
«Ну и царство ему небесное. Только мне-то на что сдался этот балбес?»
В ярости он перевернулся на другой бок, а голос опять за свое:
«Ваш папаша был хитрец. И кто знает, пожалуй, еще и предатель…»
«Да, — простонал матрос. — Пожалуй».
И так ночь за ночью. У него уже голова гудела от этих ночей. Проклятый страх услышать что-то весьма неприят-ное, заставивший его тогда обратиться в бегство! Да так оно и было, так, а не иначе, бежал он не от дождя, а от Айстраха. Лучше бы уж он его дослушал! Грязное пятно на жилете предка — это, конечно, не слишком приятно, но и не до бесконечности неприятно; к тому же эту историю можно было бы расследовать. А неизвестность? Она-то как раз бесконечна. Однажды возникшее подозрение имеет способность расти, как спрут в охраняемой акватории моря. Вот он уже тянет щупальца к твоему кораблю из мрачной, синей, как ночь, глубины, хватает его, ощупывает ноздреватыми пальцами его борта, словно отыскивая слабое место, слабое место, что имеется у любого корабля и у любого человека.
Матроса знобило. Он вдруг ощутил мерзостное прикосновение снизу, легкий толчок, от которого вздрогнул, как корпус корабля, коснувшийся какого-то плавучего препятствия. И когда под утро (в окно уже просачивался слабый свет наступающего дня) он все же ненадолго заснул и стал потеть под шерстяными одеялами, сон время от времени запирал его в трюм, он слышал, как скрипят шпангоуты и трескается бортовая обшивка, слышал жуткий булькающий звук, с которым корабль начинает погружаться в пучину, покуда буйно хлынувшие воды ужаса вновь не прервали этого сновидения.
Под вечер, когда свет уже задыхался в ледяных потоках дождя, матрос отправился в Тиши, на могилу отца. Согласно обычаю, могила самоубийцы находилась за кладбищенской стеной, можно сказать, на свалке, где блеклой кучей громоздились засохшие цветы, ленты и ржавые остовы венков. Деревянный крест, который (из милости) все же был водружен здесь, высился над грудами мусора, как мачта затонувшего корабля, который, уходя — прощай! прощай! — в последний раз вынырнул из затягивающей его глубины.
Матрос благочестиво снял шапку, но тут же снова ее нахлобучил: дождевые капли барабанили по его голове, казалось, вырывая последние волосы. Он стоял под дождем, то ли хмурясь, то ли улыбаясь, видимо неспособный испытать подобающие случаю чувства.
«Ладно, как бы там ни было, — проговорил он наконец, — а тебе больше не приходится терпеть эту собачью погоду».
На обратном пути, промокший и продрогший, словно сам черт протащил его под килем, он вдруг ощутил неодолимое желание выпить. И следовательно, взял курс на «Гроздь». Приближаясь к заветной двери, он подумал: что и говорить, мужчине водка необходима!
В подворотне, где горела одна-единственная лампочка, тусклый свет которой едва просачивался в темноту, он увидел на дверях дощечку: «Пятница — выходной день».
Бормоча проклятия (мы не рискуем их здесь воспроизвести), он повернулся и вышел из ворот. На тротуаре стоял дождь и мочился на стены, как прохожий. Он, видно, знал, что в «Грозди» сегодня выходной, а следовательно, матрос выйдет обратно, и дожидался, хотел проводить его домой.
— Проваливай, мокрый чертяка! — сказал матрос.
И дождь притаился в нише какой-то стены, делая вид, что больше не обращает внимания на матроса.
— И то хлеб! — пробурчал тот.
Он, впрочем, имел лишь приблизительное представление о том, что хотел этим сказать. Вернее, он ровно ничего не хотел сказать, ибо в подобных обстоятельствах лучше всего было держать язык за зубами и не привлекать к себе внимания. Зашагав дальше, он заметил, что дождь вылез из своей ниши и на тысяче мягких ступней стал красться за ним. Настал миг великого просветления: матросу (слава тебе господи!) вспомнился завзятый выпивоха, сам варивший сливовицу той крепости, которая была ему по вкусу.
Этот человек (некогда деревенский кузнец) жил теперь припеваючи на хуторе, в семи километрах к северо-западу от Тиши и, следовательно, вместе со своими спиртными напитками находился довольно далеко в стороне. Прежде (то есть во время войны и в первые послевоенные годы) кузня, где он подковывал уцелевших лошадей, стояла на южном краю деревни. Матрос, направляясь в Тиши, всякий раз проходил мимо этой хибары (теперь на ее месте стоит бензоколонка), с симпатией и почтением посматривая на растрепанного, иной раз полуголого старика, вдруг появлявшегося в дверях. Однажды, когда матроса в пути застала гроза, он укрылся под навесом кузни и — как часто бывает в непогоду — неожиданно разговорился с кузнецом.
Молния! Удар грома! Матрос, ослепленный ярким светом — в животе у него на секунду что-то перевернулось от оглушительного удара, — вдруг заметил рядом с собой кузнеца, похожего на огромную серую обезьяну, которую шутки ради обрядили в какое-то тряпье.
Кузнец (он орал во всю мочь, потому что дождь барабанил по навесу так, словно опрокинулась телега со щебенкой):
— Вот так штука! Ударило где-то совсем рядом.
Матрос не сводил глаз с белесой стукотни, что занавесом свешивалась с края крыши. Потом раскурил трубку, погашенную было с испугу.
— Не велика беда, — сказал он. — Здешние жители все застрахованные.
— В провод ударило, — проорал кузнец.
— А его и вовсе не жалко! — отвечал матрос.
— Верно, — согласился кузнец. — Чушь собачья все, что они там говорят по телефону.
Они взглянули друг на друга. Взгляды их ощупью брели за белесым занавесом. Матрос ухмыльнулся, потом ухмыльнулся кузец: у них было одинаковое мировоззрение.
Кузнец продолжал разговор:
— Вы ведь матрос, верно? — сказал он. — Знаю, знаю, сын старика Недруга. Я хорошо его помню, вашего покойного папашу. (Меж тем дальний гром загрохотал, словно покатилась бочка, из которой выцедили все вино.) Плохие у него выдались последние годы. Для старого человека он слишком много был один. — И добавил: — Вам, черт подери, следовало бы раньше вернуться, тогда бы он, пожалуй, еще и сейчас был жив. Ну, да об этом мы еще поговорим. Я когда-нибудь поднимусь в хижину гончара.
Но обещание обещанием и осталось. Следующей осенью он продал свою кузню и перебрался на хутор, где у него давно уже был дом, в стороне от дороги, и добрая сотня сливовых деревьев. Там он начал варить сливовицу в неимоверных количествах, это было его страстью и к тому же приносило хороший доход. Ни жены, ни детей у него не было, только водка, и, надо сказать, отличная.
В мелочной лавке Франца Цоттера еще горел огонь. Окно, как покрасневший глаз, таращилось сквозь призрачную оболочку дождя. Матрос решительно вошел в лавку, он знал: тут всегда имеются горячительные напитки.
— Сливовицу, пожалуйста.
— Очень сожалею. Вся вышла.
— Тогда коньяк?
— Очень сожалею. Коньяка тоже нет.
— Виски?
— Этого у нас и не водится.
— Вот дьявольщина! Что ж у вас есть?
На полке красовались бутылки с жидкостью странной окраски. Название было какое-то дурацкое и, судя по виду, вкус как у зубного эликсира. С этикетки улыбался охотник.
С горя матрос купил одну из них и, когда снова очутился в своих четырех стенах и выставил за дверь дождь, по пятам его преследовавший, выпил за вечер ее всю до дна. Тщетно! Пьяный, он повалился на кровать, она начала вращаться вместе с ним, и мука возобновилась с прежней силой: хорошо знакомые и уже нестерпимые слова вплетались в муть хмельных сновидений, так же как вплетается потустороннее со злобным своим бормотом в муть горячечного бреда.
Итак, приподнявшись на кровати, он внезапно принял решение при первой возможности навестить кузнеца, не затем, чтобы отведать его сливовицы, и не затем, чтобы поговорить с ним о погоде, но затем, чтобы разузнать кое-что о человеке, повесившемся на потолочной балке в сарае.
Мы, остальные (по чести я обязан в этом признаться), отлично спали и в эти ночи; собственно говоря, мы спали не только по ночам, но все дни напролет, хотя и с открытыми глазами. Наверно, это омерзительная погода так действовала на нас, дождь, непрестанно напевавший нам колыбельную песнь. Да и вообще! Тогдашняя жизнь! В сырости, под покровом набухших туч да еще в вечной полутьме она напоминала (это утверждали люди и поумнее меня) жизнь животных на дне морском. И ко всему еще это происшествие! Некоторое время оно принуждало нас шевелить мозгами (тоже небольшое удовольствие!). Но вдруг не захотело больше поставлять материал для размышлений. Точка! Все! С тем, что конец Ганса Хеллера так и остался окутанным мраком неизвестности и что матроса ровнехонько ни в чем — я имею в виду это дело — нельзя было уличить, мы, конечно, примирились. Малетту мы все как-то выпустили из виду, во-первых, потому, что ни в чем его не подозревали, во-вторых, потому, что никому не приходило в голову связывать Комичного маленького фотографа с этой тайной. Поскольку все возможности были уже взвешены, сама история пережевана до тошноты, так обсуждена и обговорена, что от нее, к сожалению, ничего не осталось, то в сонливость нашей деревни снова закралась скука. По утрам у нас еще было что делать, ведь какая-никакая работа находится и зимой, но после обеда, когда вся кровь приливает к желудку, скука тащилась от дома к дому, мерзостно и тоскливо зевала под нашими окнами, заглядывала в них, словно дряхлая старуха — лицо бледное, дождевые космы свисают на плечи, — и, широко раскрывая свой беззубый, пакостный рот, казалось, хотела проглотить всю нашу деревню.
Похоже, что она и Малетте зевнула прямо в лицо в эти дождливые недели, когда все снова вошло в привычную колею. Иначе разве он сделал бы то, что сделал, разве взял бы у нашего учителя почитать книгу? (Как будто из книги можно что-то вычитать.) Теперь делать ему было почти что нечего, ведь наше любопытство давно улетучилось. Теперь ему надо было как-то убить время, нескончаемое пустое время, время, которое словно бы стоит на месте, а между тем постоянно и непрестанно движется вперед, да так, что за ним и не угонишься. Но может, мы ошибаемся? И совсем другие причины заставили Малетту вдруг взяться за чтение? Может, ему просто нужно было держать в руках какой-нибудь предмет, чтобы загородить им лицо? Как бы там ни было, а в пятницу пятого декабря, поздно вечером, он явился к учителю, жившему при школе, и попросил у него (да и у кого еще он мог бы попросить, мы-то ведь книг у себя не держим) что-нибудь почитать. Господин Лейтнер, как он позднее рассказывал нам, не очень-то обрадовался позднему посетителю и тем паче его просьбе: книга все-таки ценность. А Малетта, по его мнению, был из тех, что сажают на книги сальные пятна. Потому-то (объяснял учитель) он не пожелал доверить ему ни одной из своих собственных книг и полез по шаткой лестнице на чердак, хотя там и не было света, протиснулся в люк и принес оттуда старую книгу. Этой книги ему было не жалко.
Здесь надо предпослать следующее: наверху стоит ящик со старыми-престарыми истрепанными книгами. Уже десятилетиями стоит в дальнем углу, весь покрытый пылью и паутиной, и никто из нас не знает, каким образом он туда попал и кому принадлежит, вернее, принадлежал.
Учитель (у него даже желчь разлилась) сунул руку в ящик и наугад (дождь между тем непрестанно барабанил по крыше) вытащил какую-то барахляную книжонку (его собственные слова). В сенях у приставной лестницы стоял Малетта, ждал и не без напряжения, но все же довольно беспечно вглядывался в наполненную ночью дыру, угрожающе зиявшую над его головой. Он слышал, что учитель ворчит там наверху, тихо и обиженно, как пес, и тут же увидел его: слезая с чердака, он являлся взору Малетты постепенно. Сначала показались подбитые гвоздями подошвы его башмаков, затем две штанины, спина, а когда наконец он очутился внизу и с видом великомученика повернулся к фотографу, тот наконец увидел в руках учителя книгу, единственно для него извлеченную из мрака.
Она была черная. Черная, как дегтем вымазанная или обуглившаяся. Черная, как копченое мясо прямо из коптильни. От ее кожаного переплета тоже пахло копченым мясом. Можно было почувствовать голод, учуяв этот запах, и решить, что ослеп, взглянув на нее. Переплет черный, как ночь за окном, сулил не менее мрачное содержание.
— Библия? — спросил Малетта. Тихий ужас отразился на его лице.
Учитель раскрыл книгу, бросил беглый взгляд на страницы и покачал головой.
— Нет, не Библия, — отвечал он. — Какой-то научный труд. — И добавил (с уничтожающим взглядом): — Ну как? Интересно вам?
— А что это, собственно, такое? — спросил Малетта.
Учитель торжественно подошел к лампе, открыл книгу на титульном листе и прочитал:
Курьезные и полезные
ЗАМЕТКИ
о естественной истории и об истории искусств
составлено
КАНОЛЬДОМ
1728
— Почтенный возраст, черт возьми!
— Ага! — Вот все, что сказал Малетта. Потом взял» тот своеобразный печатный труд, от которого не ждал особого развлечения, и под пальто унес домой.
На следующее утро (то есть шестого декабря) непогода, казалось, немного улеглась. Небо все еще было затянуто тучами, но дождь шел лишь время от времени, да и то мелкий, почти неприметный. Все это, вместе с хмелем прошедшей ночи и надеждой выспаться, а также вновь обрести душевное равновесие, заставило матроса немедленно пуститься в дорогу, так что он и позавтракать не успел. Сунул кусок шпига и ломоть хлеба в свой вещевой мешок, надел бушлат, резиновые сапоги и в половине девятого наконец вышел из дому.
Но вот ведь чертовщина! Шагая по улице и намереваясь выйти на шоссе, что тянулось позади деревни, и уже по нему идти дальше (автобусы в этом направлении не ходили), матрос между школой и церковью наткнулся на пренеприятное скопление народа. Мы уже писали, что было шестое декабря и молодежь, главным образом «молодежь постарше», справляла день св. Николая. Иными словами, «слуги св. Николая», ряженые в козьи шкуры, с шумом высыпали на улицу, а сам святой с посохом, в митре и в старушечьей ночной рубашке, надетой поверх костюма, как-то сбоку шлепал за ними по навозной жиже, видимо, чтобы освятить и узаконить сие язычески-демоническое действо.
Матрос, сейчас видевший мир отнюдь не в розовом свете, пробирался сквозь толпу, а там, где ничего у него не получалось, локтями расчищал себе дорогу. Но в тот самый момент, когда ему представилась возможность вволю насладиться «чувством локтя», ненавистного ему более всего на свете, процессия вдруг остановилась, и улицу огласили дикие крики.
Матрос вытянул шею, стараясь что-нибудь разглядеть поверх людских голов. «Слуги св. Николая», в своих чертячьих масках, изловили несколько молодых девушек и пытались вымазать сажей их чистенькие физиономии. Другие задирали им юбки, разоблачая тайну вязаных штанов, и, хотя девушки с визгом защищались и кусали руки своих мучителей, культовыми взмахами лозы благословляли их прелестные ягодицы. Одна из «коз» в это время прыгала как безумная, овевая головы столпившихся своей льняной бородою, раздавала оплеухи дергающимся хвостом и, упоенная властью, воистину по-хамски толкала и пихала каждого, кто вовремя не посторонился.
И вдруг — происшествие: матрос, силившийся пробраться сквозь толпу, сам не зная каким образом, очутился в первом ряду зевак. А так как он, желая в свою очередь получить удовольствие, углубился в созерцание шерстяных девичьих штанов, то и не заметил, что «коза», взяв курс прямиком на него, явно изготовилась сбить его с ног. Обнаружил он это, когда она оказалась уже вплотную перед ним. Сдавленный толпою, он при всем желании не мог предотвратить столкновения, которое, несомненно, заставило бы его во весь рост растянуться в грязи (чудовище-то приближалось крупным галопом).
Матрос, конечно же, понимал шутки; никто бы не мог упрекнуть его в обратном, но до такого рода шуток был не охотник. Он напряг мускулы, сделал выпад и в миг, когда несуразная груда хулиганства ринулась на него, саданул ее кулаком в носовую часть. В результате парень, запрятанный в груди бутафорской козы (а это, конечно же, был Карамора со своей гармошкой), получил удар в живот, о котором у нас говорят еще сегодня.
«Коза» стала разваливаться на куски. Перед согнулся в коленях, зад вздыбился, жирафья шея, закачавшись, склонилась до самой земли; потом зад навалился на перед, и вся махина, изрыгая проклятия, рухнула, как туристская палатка.
— Держи его!
— Кого держать?
— Матроса!
— Где он?
Матрос скрылся, исчез за людской стеной, которая тоже пошатнулась и распалась на отдельных индивидуумов. Между тем оба парня выбрались из-под обломков чудища (Карамора, держась за живот), следом за ним второй, белый как мел (он исполнял роль задницы, и божий гнев пощадил его).
— Где этот мерзавец? — крикнул Карамора. — Где он? Я ему шею сверну!
Согнувшись в три погибели, он сплюнул желчью. Но люди, стоявшие вокруг, ржали. Поделом ему и обида, и боль, он ведь такой же прощелыга, как матрос, и то, что сегодня случилось с одним, завтра может случиться с другим.
После полудня солнце на несколько минут проглянуло сквозь облака. Оно бросило взгляд поверх курящегося хребта Кабаньей горы (приблизительно в трех километрах к северо-западу от Тиши) на группу старых покривившихся дубов, там, где шоссе подходит к мостику через ручей и где ответвляется топкая дорога к домику лесничего. Матрос сонно прищурился на его сияние, лившееся, словно расплавленное железо, из дыры с золотой каймой, что зияла в коже облаков над самой вершиной горы. Чтобы съесть наконец свой завтрак, он уселся на перила мостика, достал из вещевого мешка хлеб и сало, открыл перочинный нож и, глядя прищуренными глазами на льющийся жар небес, кусок за куском совал в свой размеренно жующий рот и проводил ножом по щеке, словно намереваясь ее прорезать. При этой оказии ему вдруг снова пришло на ум, как все еще крепко держит его жизнь на этой земле и как она была бы прекрасна, не будь люди такими чудилами. Да, сейчас он находился в том настроении, которое сам же называл «припадком философии», и было это следствием не только солнечного сияния, но и сала, сегодня что-то уж очень вкусного, однако прежде всего он испытывал озорную радость оттого, что развалил козу, а сам ушел целый и невредимый.
Но тут на лужайке возник помощник лесничего Штраус (на своих длинных, как ходули, ногах), словно из-под земли вырос и встал перед матросом.
— Гулять изволите? — коварно осведомился он.
— Конечно, — отвечал матрос, — конечно. А в чем дело?
— Я слышал в лесу два подозрительных выстрела.
— Скажи на милость! А зачем ты мне это говоришь?
— Браконьер, — отвечал Штраус, — где-то поблизости охотится браконьер. — Он придвинул к матросу свое уродливое птичье лицо (почти все занятое носом) и вызывающе на него посмотрел.
— Да, друг мой, — сказал матрос и закрыл нож, так как покончил с завтраком. — Все может быть. И для вас, егерей, это очень важно. Но для меня… (он пожал плечами). Меня это не касается. Я в ваших егерских делах ровно ничего не смыслю.
— У нас возникло вполне определенное подозрение, — сказал Штраус. — В лесу видели человека. И опознали его!
— Понимаю: этот человек — я. И у вас тут же возникло подозрение, но я-то что могу поделать?
— Делай что знаешь! — отвечал Штраус. — Я тебя предупредил. И если когда-нибудь я застану тебя в лесу — ты у меня хлебнешь горя!
Он спустился к ручью и заглянул под мост: хотел, наверно, посмотреть, не спрятано ли там ружье.
Матрос соскочил с перил и перегнулся через них, словно собираясь прыгнуть в воду вниз головой.
— Ты слишком-то не задавайся, балбес! — крикнул он вниз, — не то сам хлебнешь горя, да еще с места не сходя! Я сегодня уже кое с кем расправился!
Он перебросил вещевой мешок через плечо и продолжил свое ненадолго прерванное странствие. Солнце опять скрылось за тучами, вокруг стало темно и сыро, как прежде. Голые деревья стояли вдоль дороги, похожие на метлы (такие черт приносит в дом человека).
В обед — на часовне как раз пробил колокол — матрос, усталый и хмурый, добрался наконец до хутора. Леса по обе стороны шоссе отступили, и среди бурых полей и лугов он увидел поселок — крохотную деревушку, каких много в этих краях, давным-давно проросшую из земли и мало-помалу вновь в нее враставшую, которая и формой и цветом уже слилась с местным ландшафтом. Он спросил, где кузнец, тот, что «сливовицу гонит», и, когда люди его поняли (не сразу), ему указали дом.
Дом этот стоял в стороне среди сливовых деревьев, приземистый и спрятанный за их ветвями, как за колючей проволокой. Матрос продрался сквозь деревья и подошел к двери. Старый охотничий пес, лохматый и ужасно вонючий, кинулся ему под ноги; предосторожности ради матрос дал ему пинка (он и вообще-то собак недолюбливал), а так как дверь была заперта и он тщетно в нее барабанил, решил обойти вокруг дома.
За домом, в покосившемся сарайчике, что лепился на откосе, где, возможно, и варилось вожделенное зелье, он наконец обнаружил кузнеца. Тот, засучив рукава, занимался колкой дров. И даже не взглянул на вошедшего. Расколол буковое полено, стоявшее на плашке, и тогда только поднял голову, отшвырнул топор и протянул медленно приблизившемуся матросу огромную лапищу, поросшую седыми волосами.
— Какими судьбами?
— Фью, — отвечал тот, — припала охота постранствовать. Все думаешь, где-то лучше будет. Дома-то ведь… (он откашлялся и сплюнул в опилки, которыми был усыпан пол) — дома-то у человека и нет на этой пакостной земле.
Кузнец с любопытством на него поглядел.
— Вот оно что! — протянул он и ничего к этому не добавил. Только посмотрел матросу прямо в глаза. Затем (после небольшой паузы, когда глаза их прощупали друг друга) сказал: — Ты, пожалуй, прав! Пойдем! Поднесу спиртного!
В этот самый час — отзвуки колокола, пробившего полдень, еще звенели в оконных стеклах и желобах на крыше, хотя казалось, что наступает ночь, до того тяжело и низко нависли тучи, — в этот самый час Укрутник, приехавший накануне, вместе с Гертой Биндер поднялся на гору в лес, чтобы показать ей задешево продававшийся отдаленный участок. Мы не знаем, действительно ли он хотел заделаться владельцем этого кусочка леса. Возможно, впрочем, — он ведь и дровами спекулировал. Но мне кажется, куда вероятнее, что оба они предприняли эту прогулку, чтобы побыть вдвоем, без посторонних, ибо атмосфера, царившая тогда в этом мягком и влажном воздухе, бесспорно, способствовала пышному расцвету вегетации как в мужских, так и в женских железах, что и в наших краях называется любовью (следовательно, делом достаточно серьезным).
Одетые в соответствии с погодой, в высоких резиновых сапогах, они около половины двенадцатого вышли из «Грозди» и зашагали к лесу. Малетта, как раз направлявшийся в «Гроздь» за своей обычной порцией жратвы, стоя в нише, куда он поспешно ретировался, стал свидетелем их ухода из заведения. Объятый нестерпимой ненавистью, он смотрел вслед обоим и, заметив, что они не пошли дальше по улице, а через поле и луг направились к лесу, вдруг ощутил необоримое желание принять тайное участие в их прогулке. Итак, он плюнул на свой обед и последовал за ними на некотором расстоянии, хоронясь то в кустах, то за деревьями и не отдавая себе отчета, зачем и для чего он это делает.
Оба были словно созданы друг для друга, это он даже по их спинам видел. Пышущие избытком здоровья клетки, два надежных прекрасных сосуда, вдохновенно сформованные из костей, мускулов и пульсирующей крови, но — но мнению Малетты — ничем не наполненные (кроме гуляша, который они только что ели). Здесь, пожалуй, можно сказать, ядовито подумал Малетта, что созидающие силы напрасно хлопотали вокруг таинственного вакуума — вернее, содержания, до того ничтожного, что из любезности его, пожалуй, еще можно принять, но определить при всем желании нельзя.
— Чтоб вы сдохли оба! — шипел он сквозь зубы, при этом осторожно перескакивая через лужи, в отчаянии обходя топкие места и коровий навоз и все время считаясь с возможностью утонуть в трясине.
Но Герта и Укрутник такого удовольствия ему не доставили. Куда там! Они чувствовали себя преотлично. Шли быстро, шли с явным удовольствием и по глинистой колее, и по твердым глыбам вспаханной земли, и по пружинящей, хлюпающей почве заболоченного луга, опьяненные, шли в сумеречный час сознания, в хмельную полудрему тех первых дней, когда небо и земля, свет и мрак еще не были отделены друг от друга. Дойдя до леса, они нырнули в заросли. Все мешающее теперь оставалось позади, деревня, например, с ее сотней глаз и наблюдательными постами — окнами. Тесно обнявшись, они сполна наслаждались радостным ритмом, мягкой весомостью совместных шагов, мощной и все же податливой игрою мускулов, первобытно-тяжким током крови.
Метрах в двухстах от своего преследователя они свернули на заброшенную низинную дорогу; изборожденная колесами и копытами, она вилась меж роняющих капли лесных колоннад. Они ничего не говорили, только теснее прижимались друг к другу, сквозь одежду сливали воедино свое тепло и жизнь, даже запахи своих тел. Все стало дыханием, все чувством. Как животные среди холодных гнилостных запахов осенней прели, чуяли они живую человеческую кожу, живую плоть среди серой пустоты осеннего леса. Временами они останавливались, обнимали друг друга и срастались в неизъяснимых поцелуях. Ноги их утопали в грязи, мягко погружались в вязкую почву, оставляя глубокие впадинки, тотчас же заполнявшиеся водой. На эти впадинки только и оставалось смотреть Малетте, когда деревья или кустарник скрывали от него влюбленную пару — мощные отпечатки мужских сапог и рядом значительно меньшие — женских, темные рты в трясине, рты, в которых журчал голос, говорящий о любви — или о темном зарождении ненависти.
Один раз Герта отстала.
— Иди вперед и не оглядывайся! — крикнула она Укрутнику.
Она подождала, покуда расстояние показалось ей приличествующим случаю, затем подняла юбку и присела в колдобине.
Малетта, тяжело дыша, вжался в ствол дерева. В данную минуту он ее не видел, но успел подойти так близко, что ему казалось, будто до него доносится звук ее естественного отправления. Он напряженно вслушивался. Нет, ничего! Только кровь неистово стучит в висках. Он прислонился лбом к дереву, ощутил влажность его коры. Волнение, им завладевшее, и постыдность ситуации удвоили его ненависть. Он скрежетал зубами. Готов был втоптать ее в землю. Наконец, дрожа всем телом, вышел из своего укрытия. От страха, что его заметят, он весь вспотел. Приблизившись к тому месту, он увидел черную макушку, торчащую над дорогой. В это мгновение дочь трактирщика вскочила и, заливаясь неудержимым хохотом, бросилась догонять своего возлюбленного.
Малетта лежал на земле. Он пал, как солдат. И был уже мертвецом, которому место под землей. Он чувствовал недобрый гнилостный запах глины и кусал травинки, горькие, точно желчь. Уж не заметила ли она его? И не к нему Ли относился ее смех? Несколько секунд, показавшихся ему вечностью, он недвижно лежал на животе, мечтая лишь об одном: умереть, слиться с этой невозмутимой глубью, Тлетворным запахом которой полнились его ноздри.
Потом он встал и огляделся вокруг. Лес был пуст, как выгоревшее здание. Только сумеречный свет притаился меж стволов да ужасы грядущей зимы, безутешность. Он отер пот со лба. И при этом выпачкался глиной, налипшей на пальцы. Достал из кармана платок, чтобы почиститься, но и платок был весь в глине, глина даже в брючный карман набилась! Везде, везде эта белесая мерзость! Он стал похож на кабана, вывалявшегося в луже. Весь заляпанный грязью. Так началась его первая смерть.
В те же послеполуденные часы на охотничьей вышке, устроенной на одной из прогалин Кабаньей горы, сидел Алоиз Хабергейер, как худенькую подругу, держа на коленях карабин. Страстно желая испытать радость удачливого охотника, он не сводил глаз с замершей в неподвижности лесной опушки, где медленно спускающиеся сумерки стирали очертания предметов. В последнее время (возможно, после смерти Ганса Хеллера) он стал несколько более внимательным, легкое потрескивание сучка, даже еле слышный шорох заставляли его вздрагивать и подносить к глазам бинокль. Это вечное напряжение, эта постоянная готовность к прыжку независимо от охоты и звероловства были следствием затаенной тревоги. В лесу, оставаясь один на один со своими мыслями, он не слишком походил на того беззаботного и неустрашимого охотника в кожаной куртке и болотных сапогах, на которого мы с уважением поглядывали, когда он по вечерам сидел за своим постоянным столиком. Прищурившись, он наблюдал за опушкой (ни дичь, ни страстные трели не мешали его наблюдению). Стволы переднего ряда деревьев отливали светлой серизной — да что там! — не отливали, а светились, но сразу же за ними начинался ужас ночи, начиналась великая Неизвестность. Меж светящихся стволов жила тьма и жило то, что притаилось в ней, может быть прошлое, внезапно обернувшееся настоящим, ибо там, за стволами, все, видимо, протекало наоборот.
Конечно же, он себя убаюкивал. Построил домик, стены велел покрыть клеевой краской веселых тонов штирийского национального костюма и отлакировать. В садике, который он всячески лелеял, рядом с миниатюрными замками и красными группами мухоморов стояли смеющиеся гномы в колпачках с кисточкой, что выглядело просто восхитительно. И тем не менее! Дома тоже не все шло как должно (хотя брак у него был счастливый). Запах крови и мяса припасенной дичи заполнял дом от погреба до чердака. Конечно, они привыкли и почти его не замечали, но иногда ему чудилось, что за этим запахом кроется какой-то второй. Разумеется, не запах нужника — нужник находился далеко от дома. И не женщины, его жена была очень чистоплотна. Запах трубки? Возможно. И он до блеска тер ее, а мундштук из оленьего рога прочищал проволокой. Тщетно! То угрожающее, что он чуял в воздухе, все равно дразнило его обоняние. Оно жило в доме, как потайное гниение, как плесень, что переедает балки, ютилось в осенних лесах, где он был один (и где даже от его окладистой бороды ему не было проку), растворялось впотьмах за светящимися стволами буков, невидимо залегало в лесной чащобе — словно браконьер, надевший черную маску.
В этот самый день он сидел на охотничьей вышке недвижимый, казалось бы дремлющий, однако неусыпно следящий за сумерками, за туманами, что уже поднимались со всех сторон, как вдруг ему в ухо ударил чей-то смех, звонкий женский смех. Он поднес бинокль к глазам, стал высматривать смех на просеке и вскоре обнаружил тех двоих, другой стороны вышедших из лесу, «скототорговца и трактирщицу», как он их называл в разговорах с самим собой. Они шли по узкой охотничьей тропе, что пересекала нижний конец лесосеки. Правда, тропа была так узка, что им приходилось идти друг за дружкой, но они тем не менее держались за руки, как то и подобает влюбленным. Высокая сухая трава заглушала их шаги, можно было подумать, что они идут вброд по воде, доходящей им до бедер.
Хабергейер решил — этой парочке искать здесь нечего. А сейчас (черт бы их побрал!) они сошли с тропинки и устремились к пню, торчащему среди сорняков и подлеска, как-никак сиденье, да к тому же сухое.
Этого только не хватало! — злобно подумал он.
И правда! Оба уселись. Скототорговец — на пень, трактирщица же, которой после яростной рукопашной схватки пришлось уступить грубой мужской силе, — к нему на колени. Затем они срослись, растворились в сумерках, стали какой-то фантастической глыбой, единым бесформенным телом с четырьмя руками и ногами, сплетенными, точно корни могучих деревьев там, под землей.
Хабергейер опустил бинокль. Он знал, эта глыба все ему испортит. Сырой, тяжелый и неподвижный воздух нынешнего вечера, как губка, впитывал все запахи и долго не давал им подняться над землей, а это отпугивало лесную дичь. Он задумался: как быть? Прогнать этих двоих без скандала ему не удастся. Заткнуть им поры тоже нельзя. Собственно, ему оставалось только ждать, покуда они не насытятся.
— Да отваливайте уж наконец, сволочи! — злобно буркнул он. Схватил карабин, вскинул, презрев все законы и обычаи, и как бы шутя прицелился в парочку, ведь запахи похоти грозили выгнать из лесу животных. На горизонте показались головы обоих, благороднейшая часть тела, увы, запретной добычи, и в Хабергейере (он походил сейчас на бога-отца) вдруг ожили воспоминания; его сухой палец, как коготь хищной птицы, упрямо вцепился в курок. Он торопливо опустил ствол. Для охоты на людей сезон еще не наступил.
Но в этот самый миг тишайший, едва слышный, а кому-нибудь другому и вовсе не слышный шорох коснулся его барабанной перепонки. Лань? Кабан? Косуля? Жуткое чувство охватило его. Снова впившись глазами в бинокль, он навел его на опушку. Буки все еще светились светлой серизной, но тьма за стволами стала чернее; она струилась сквозь кости леса, как чернозем сквозь зубья граблей. И там, в этой черной земле, где прозябают семена и где прошлое становится будущим, Хабергейер обнаружил то, что было причиной жуткого чувства, его охватившего: бледное овальное Нечто, величиной не более тыквенного семечка, нечто, медленно вылезавшее из густой поросли, — искаженное и залитое потом лицо человека.
— Как быстро темнеет, — прошептала Герта.
(Ничего не подозревавшие, они находились на полпути между лицом во мраке и егерем на дереве.)
Она теснее прильнула к могучей груди Укрутника.
— Все сырее становится, — шепнул он, и его дыхание подуло ей в ухо.
Она тихонько застонала в его объятиях. Дрожь прошла у нее по спине. В этот момент Хабергейер решил, что для него это, пожалуй, многовато. Иными словами, уразумел, что пора сложить оружие. Но, желая достойно отступить, еще раз вскинул карабин, прицелился в чреватую дождем тучу, взял на мушку — притом вполне сознательно — небеса и выстрелом — бум-бум! — пробил лесную тишину.
Малетта дернулся, как смертельно раненный, и, покуда Герта и Укрутник обалдело высвобождались из объятий друг друга, а эхо, перекатываясь с горы на гору, пробуждало лесные голоса, гонимый ужасом, ринулся напролом через мелколесье, подобно затравленному зверю, и на склоне горы угодил прямо в объятия ночи, снизу поспешавшей ему навстречу.
Меж тем матрос, распростившись с кузнецом, собрался в обратный путь. Приятель пошел его провожать (поддерживая один другого, в дым пьяные, они добрались до границы усадьбы). У забора кузнец остановился и протянул ему свою лапищу.
— Слушай внимательно! — сказал он. — Ты можешь сократить себе дорогу! Пройдя ригу там, внизу, ты не сворачивай направо, а иди налево, полем. Внизу… (он показал на юго-восток, где лес тонул в клубящихся сумерках) — внизу тропинка, которая пересекает лес, пойдешь по ней напрямки, все время по прогалине под гору, дальше снова лесом, а когда кончится, справа, пониже, увидишь часовню; миновав ее, ты выйдешь к мосту, там начинается дорога к лесничеству, она-то и выведет тебя на шоссе.
— Порядок, — отвечал матрос. — Буду держать заданный курс.
Он еще раз обернулся, кивнул старику, зябко повел плечами, засунул руки в карманы и с видом отнюдь не вызывающим торопливо затрусил навстречу мраку, что, подобно водам, просочившимся из земли, уже затоплял ложбины и овраги. Пройдя мимо риги, он свернул налево, пошел вдоль колеи по вспаханному полю, натолкнулся на тропинку, о которой ему говорил кузнец, вступил на нее (едва видимую под толщей опавшей листвы) и нырнул в зияющую глубь осеннего леса.
Он вынул из кармана кисет, вынул трубку и закурил. Безмятежно посасывая ее, он шагал вперед, оставляя за собою в промозглом вечернем воздухе дымок и пар от дыхания. Зачем все это было? — спрашивал он себя. Спиртного ты, конечно, хлебнул, что верно, то верно! Но умнее, чем раньше, все равно не стал: эта старая обезьяна-кузнец не пожелал ничего сказать. Конечно, он что-то знает, но сказать не хочет. Наливает сливовицу и молчит. Только бормочет что-то непонятное насчет плодоводства, винокурни и пенсии по старости, которую ему не дали. А ты слушаешь, слушаешь да и опрокинешь стаканчик, скажешь «да-да» или «верно-верно», потом и вторым глотку промочишь. Время проходит, целый день проходит, а ты так и не узнаешь, что хотел узнать.
Вот наконец и прогалина перед ним. Она еще издали просвечивала меж стволов, а теперь открылась ему, поросшая колючим кустарником: остатки света слились на ней и образовали отстой, совсем как на снятом молоке в плоской миске.
Матрос свистнул. Положение становилось затрудни-тельным, Тропинка потерялась в мелколесье, он больше ее не видел. Травы и сорняки хлестали его по ногам, ползучие растения задерживали шаг. С кустов текло, словно их вытащили из воды, одежда его намокала, когда он задевал их. Надо всем, как мокрые простыни на веревке, трепетала пелена тумана, осыпая ветки серыми жемчужинами.
Он остановился в нерешительности. Упрекать себя ему, собственно, не в чем. Он мог только спросить старика, и он спросил, больше ничего нельзя было сделать. Матрос повернул назад, обошел прогалину и снова нырнул в лес, Ни следа дороги.
Он спросил кузнеца. (Без всякого стеснения.) Они сидели в красном углу, оконце крохотное, как мышиная нора, справа, оконце слева, а на дворе разлагающийся день с черными трупными пятнами, зато в комнате огонь в плите, отбрасывающий блики на стены. На столе водка в стаканах — бесцветная, как вода, она принимала цвет пламени.
— Известно ли вам, — все же спросил матрос, — почему мой отец лишил себя жизни? — Вперив глаза в лицо старика, он дожидался ответа.
Но кузнец только покачал головой (волосатой обезьяньей головой). Откуда ему знать? Он понятия не имеет, Заглянуть Недругу в душу трудненько было. Он лишнего слова никогда не проронил, сам все решал.
— А известно ли вам, — продолжал расспрашивать матрос, — что там случилось в печи для обжига кирпича?
Тут кузнец отпил водки, потом понурил свою обезьянью голову, потом чуть приподнял могучие плечи.
— Тогда, — сказал он (выждав секунду-другую), — тогда много чего случилось. Лучше обо всем этом не говорить, потому что никто ничего определенного не знает.
Небо вдруг обрушилось между деревьев. Еще несколько шагов вниз. Лес кончился. Луга, расплываясь в сгущавшейся темноте, превратились в прикрытую дымкой долину.
Матрос, отдуваясь, застопорил шаг и осмотрелся вокруг. Раскурил погасшую трубку. Пониже, на краю свинцово-серого моря, которое вечер разлил здесь, блестел белый кубик, наверно часовня. Матрос усиленно засосал трубку.
Ну, теперь с этим покончено! — решил он. Молчание пусть молчанием и остается, а болтовня болтовней! Такая подозрительность в отношении собственного отца — подлость, и все тут.
Он решительно двинулся с места и взял курс на кубик. Ноги у него были как ватные, когда он спускался по склону. Правильно, это часовня. И она много больше, чем казалась издали. Стены ее, варварски побеленные известью, вдруг призрачно засветились, словно в строительный раствор подмешали фосфору, дабы часовня указывала дорогу запоздалому путнику. Но когда он уже стоял перед ней, она показалась ему довольно мрачной. Странное свечение! Оно прекращалось, стоило человеку подойти ближе. Без особого интереса матрос заглянул в часовню через решетчатую дверь. Ничего. Черная пасть (величиной с китовую), пасть, дыхание которой странным образом пахло тленом, ладаном, пылью и давно засохшими полевыми цветами.
Матрос вгляделся попристальнее (не из любопытства, не из благочестия, а просто так). Господа бога, как видно, дома не было. Куда же он подевался? Выехал? Эмигрировал? Переселился на Черный континент? Или на другую планету? Так или иначе, часовня производила нежилое впечатление. Только этот запах, хотя ни о чем и не напоминавший, все же затрагивал потайное местечко, устрашающе пустое местечко в сердце, время от времени сжимавшемся до боли.
Внезапно матрос, прижав лоб к прутьям решетки, крикнул:
— Но-но! Но! (Так возницы кричат лошадям.)
Из темной пустоты здания, из зияющей черной пасти, ему ответило эхо чужим, искаженным голосом, как в разветвленных подземных ходах. Или то был отзвук в его груди, в уголке, давно уже пустовавшем?
— Люди-то. они пустые, — сказал ему кузнец. — Как птичьи гнезда по осени. В них что хочешь можно вложить.
И тут же на него напала ночь. То есть она уже была здесь, может быть, спокон веку. Только что она пряталась в кустах, и в купах деревьев, и в канавах между полей и лишь оттуда начала медленно, медленно и коварно затоплять всю округу, словно замышляя что-то недоброе. Но матрос, рассеянный (и сейчас всецело углубленный в себя), попросту не обратил на это внимания и заметил вторжение ночи, лишь ударившись коленом о какую-то штуковину, валявшуюся на дороге. Он нагнулся и пощупал: что б это такое могло быть? Оказалось — поломанный плуг, уже весь покрытый ржавчиной, который кто-то (по злобе или из небрежения) бросил посреди дороги. Непристойно ругаясь, он перелез через него. Ему чудилось, что кто-то держит руку перед его глазами, маленькую руку, влажную и холодную, словно бы высунувшуюся из могилы, обугленно-черную липкую плоть, возможно отрытую на поле боя. Ощупью пошел он дальше, готовый встретиться с новыми препятствиями — вогнать себе в живот какую-нибудь торчащую палку или свалиться в оросительную канаву. Он ничего уже не различал впотьмах, видел только, что черные, угрожающе уплотнившиеся массы, сливаясь, становились еще бесформеннее, до неузнаваемости меняя окружающий пейзаж. Прекрасно! Просто очаровательно! Глаза, доставляющие человеку немало огорчений, сейчас и вправду можно было вырвать (согласно библейскому рецепту) и бросить в навозную кучу. Только осязание и обоняние помогали ему продвигаться вперед. Точно крот, роющийся под землей, прорывался матрос сквозь эту осеннюю ночь, обволакивавшую его, как жирная пахотная земля.
В воздухе пахло водой и размокшей глиной, пахло увядшей травой и гниющими растениями. Комья мокрой земли налипали на его сапоги, делая их еще тяжелее. И вдруг он вступил в трясину, в ил, с хлюпаньем уходивший из-под подошв. Стоило ему вытащить ногу, как дыра в иле смачно рыгала, словно пива опилась.
Он вынул зажигалку, сделал попытку посветить себе. Видны стали поникшие стебли, там и сям выглядывавшие из воды, на заросшей ряской поверхности которой неслышно расходились круги.
Он изменил курс, закрыл зажигалку. Слева до него донесся голос и запах воды, отдаленное бульканье — как из глотки, и дыхание с кисловатым привкусом, какое иной раз подымается из колодезного сруба. И в тот же момент в этом хаосе черноты и слякоти он нежданно-негаданно почуял другой запах, казалось, из темноты ему кто-то крикнул: «Хелло! Вот и я». То был запах сельской дороги, запах размягченного навоза и раздробленной щебенки, запах лошадиной мочи и колесной смазки, который царит на проселочных дорогах и хорошо знаком посвященным.
Матрос потащился на этот запах. Вплотную перед собой он вскоре увидел темноту, еще более черную, чем ночь; она набежала внезапно, как большой морской вал. Вскоре он заметил, что подымается вверх, стал хвататься за кусты на склоне, разводил замшелые ветки, с треском продирался сквозь заросли и наконец ощутил дорогу под ногами. Прямая и чуть более светлая, чем все, что ее окружало, она слева и справа вела в невидимое.
Матрос повернул налево. Знал: Тиши лежит в этом направлении. Он уже опять свободно ориентировался и мог идти напрямик. Но не успел он сделать и десяти шагов, как что-то заставило его остановиться, может быть нежданный звук, звук, стремительно вырвавшийся из тишины, но еще слишком слабый, чтобы проникнуть в сознание. Он затаил дыхание и прислушался, сам не зная зачем. Что-то предостерегало его: «Впереди не все благополучно». Где он сейчас находится? По его расчетам, неподалеку должен быть мост. Большие чернильные кляксы, надо думать, дубы, которые растут возле него. Стараясь не дышать, он прислушался. Но услышал только легкое потрескивание; видимо, то потрескивали деревья — звук вполне естественный и ничуть его не смутивший. Стараясь приглушать шаги, он пошел дальше. Но тут же снова остановился, словно кто-то схватил его за ноги. Крепкий запах дубовой коры щекотал его обоняние; засохшая листва на ветвях (она держится всю зиму) трепетала во мраке и что-то шептала, как шепчут губы. Неслышно ступая, он опять двинулся вперед и опять остановился. На этот раз ему показалось, что он и впрямь слышит шорох, но, конечно, не естественный шорох. Это был слабый, равномерный стук, как будто вдали кто-то стучал молотком по камню. Он ясно слышался, этот стук, потом замер и снова стал доноситься, то сильней, то слабей. Пугающий одинокий стук в ночной тишине.
Скользящими мелкими шагами хищного зверя матрос пробирался по обочине. Стук заворожил его, ибо найти ему объяснение было невозможно. Теперь он слышал его совсем отчетливо. Стучали, видимо, там, впереди, под дубами. Он уже близко подошел к ним и внезапно выбросил вперед руки, чтобы не налететь на что-то светлое, выросшее перед ним, и в ту же секунду обхватил какую-то ребристую колоду; то был первый столб перил, огораживавших мост. И сразу же услышал воду совсем близко под собою, услышал непрерывное бульканье, словно кто-то тонул под мостом. Змеиное мускулистое тело ручья невидимо извивалось внизу, и это его нежные, расплывающиеся в пену бока колотились о камни.
Матрос прислонился к перилам. Стук делался все назойливей. Он и вправду исходил оттуда, где росли дубы и где, по ту сторону ручья, дорога загибала к домику лесничего. Темнота там была до того плотной, словно потоки дегтя лились с неба на землю или словно кто-то распахнул гигантские ворота в еще более непроглядную ночь. Но в этом мраке матрос вдруг приметил огонек; крохотная красноватая искорка медленно двигалась взад и вперед, то сильнее светясь, то почти совсем угасая.
И тут его вдруг осенило (он почуял запах дыма): там стоит или сидит, возможно на поваленном дереве, какой-то человек, торопливо куря сигарету, как курят перед началом заседания, и от нетерпения — а может, и от скуки — постукивает по гальке тростью с железным наконечником, и гул стоит, как в каменоломне.
Но в тот момент, когда матрос все это сообразил, на дороге показался другой человек.
В темноте было слышно, как приближаются его шаги.
— Наконец-то! — проговорил голос, видимо принадлежавший тому, кто ожидал здесь. Искорка заплясала в воздухе и потухла, брошенная наземь. — Наконец-то, мне здесь даже страшновато стало.
— Все в порядке, — отвечал другой. — Нельзя, чтобы нас кто-нибудь подслушал.
Не отпуская перил, матрос крался по мосту. Ему казалось, что где-то он уже слышал эти два голоса, скрипучие голоса пожилых людей.
— Ты через мост прошел? — спросил первый.
— Нет. А зачем?
— Я так подумал.
— Слушай! — Это, видимо, был голос второго. — Нам необходимо потолковать о старике. Он опять треплется где ни попадя. Надо что-то делать, понимаешь? Иначе беды не миновать.
Матрос уже дошел до конца моста. (Мост имел метров шесть-семь в длину.) Слегка подавшись вперед, он стоял в темноте, правой рукой все еще держась за перила, и думал: черт бы их побрал! И надо же было тебе опять нарваться! Он так близко подошел к тем двоим, что слышал их дыхание.
— Тут одно только и можно сделать, — сказал первый.
— Вопрос в том, как это сделать, — отвечал другой.
Видно, оба задумались, потому что наступило довольно долгое молчание. Они дышали тяжело и неровно, как двое спящих в одной каморке.
— Слушай! — сказал наконец тот, кто пришел последним. — Слушай! По-моему, я недурно придумал!
Матрос отпустил перила и неосторожно шагнул вперед.
— Надо бы…
Тут он задел каблуком гальку, густо усыпавшую обочину. Галька тихонько заскрежетала, один камушек откатился в сторону и — все! Обоим словно кляп в рот засунули. Матрос, казалось, слышал, как воздух, остановившийся у них в легких, вот-вот разорвет их, и еще он почувствовал, что у обоих широко открыты рты.
Две-три секунды он постоял в нерешительности и зашагал дальше. Не слишком быстро и не слишком медленно, не слишком тяжело ступая и не слишком стараясь идти тихо. Он прошел мимо них, как любой другой, и ощутил их совсем рядом с собой, на краю дороги, где они недвижно стояли во мраке — недвижно, как два засохших дерева.
Произошло это в ночь с шестого на седьмое декабря, когда Караморе после изрядной попойки показалось, что он заметил что-то на дороге в Тиши.
В ту ночь — мы рано разошлись по домам и при свете лампы сидели за запертыми ставнями, — в ту ночь с ее вороньей чернотой земля и небо срослись, не оставив и лазейки для бегства. В домах у нас горели лампы (а у Франца Биндера так даже неоновые трубки над стойкой), здесь был свет, а там, за винной бочкой, была тень. Значит, свет и мрак были разделены. За окнами же ночь, казалось, сжала свои тени в гигантский кулак. В домах нам еще оставался выбор: мы могли из тьмы спасаться бегством в свет и из света в тьму; могли между светом и тьмою подняться по лестнице и лечь в постель. Но на улице у людей выбора не оставалось, там все дороги были замурованы, там темнота стала цементным раствором, замазавшим даже самую малую щелку. И в этой тьме, в этой ночи, в этом полном слиянии неба с землей Малетта ощупью пробирался через кусты и мелколесье Кабаньей горы, словно через бесконечные изгибы подземных ходов, которые неминуемо ведут вниз, к смерти.
После безумного бегства напролом через лес он очнулся в овраге, где кустарник, вдруг ставший и вовсе непроходимым, словно колючая проволока, преградил ему путь: подгибавшиеся ноги больше не держали его, он упал на спину и, раскинув руки, повис на пружинящих ветках и плетях вьющихся растений. В таком необычном положении (подобно бумажному змею, которого в клочья разорвал осенний ветер и швырнул на верхушки деревьев) он не отдавал себе отчета в том, сколько времени это длилось, и смотрел на скелет леса, поначалу еще светившегося в сумерках, но быстро вросшего в черное горелое мясо ночи, ночи на небе и на земле.
Тяжелые капли падали на него; холодный листок бука лег ему на лоб. Листва смерти да закроет меня, подумал он. И все-таки поднялся.
Однако (я уже говорил об этом выше) для того, кто носит в себе висельника, нет на этом свете обратного пути, даже идя к дому, он только глубже уйдет в лесной мрак. А так как падение перевернуло Малетту — о чем он не подозревал, — впотьмах он уже не мог разобрать, где там и где здесь, где правая, где левая сторона, и полез вверх по другому склону, убежденный, что это тот самый, с которого он скатился. Наверху же он не заметил, что ландшафт простирался перед ним, как зеркальное отражение: стояла ночь и ничего не было видно. Итак, уверенный, что идет к дому, он двинулся вперед в обратном направлении.
Но Герта с Укрутником тоже были еще в пути и, приближаясь к цели, вдруг почувствовали нечто вроде страха.
— Стой! — крикнул шедший впереди Укрутник. Сапоги его глубоко увязли в грязи. — Дальше не иди. Здесь утонуть можно. — Он слышал, как Герта шлепает по воде. Затем ощутил ее совсем близко, ощутил ее руку, схватившуюся за него, ощутил ее теплое, дарящее счастьем дыхание и волнующий резкий запах ее волос.
— Хотела бы я знать, — пробормотала она, — что это за кретин был там, наверху.
А он:
— Пусть поцелует меня в… кто бы он ни был! — Он схватил ее отнюдь не робкую руку, сделавшую ему немало добра (за что ее надо было еще больше любить, сильного маленького зверька, тепло скользнувшего в его ладонь).
— На нем был плащ с капюшоном, это я разглядела.
— Ну и что? Здесь все носят плащи, с капюшоном.
— Что верно, то верно, — согласилась Герта. Ее шатнуло. Прильнув к Укрутнику, она страстно его обняла, Лицо ее было неузнаваемо: все черное! Только дыхание, срывавшееся с ее губ, да волнующий запах ее кожи и волос разнился от запаха топкой дороги. И вдруг:
— Штраус, помощник лесничего, недавно говорил, что в наших краях появился браконьер. — И еще: — У тебя тоже такой плащ, правда? И шляпа с кисточкой из волос серны у тебя есть.
Меж тем Малетта пробирался сквозь кусты, и шляпы у него на голове больше не было. Его прекрасный головной убор пропал, остался висеть на ветке в овраге, где, осыпанный листьями, полный дождевой воды, изъеденный разными лесными тварями, и был найден в один из весенних дней, маленькая темная точка (memento mori!) среди чащобы, зазеленевшей в положенное время. Но он, Малетта… (следы холодного пота, лившегося с его лба, были еще видны на отсыревшей кожаной ленте)… он тоже был тогда всего лишь темной точкой — неопознанной темной точкой, ибо все было темно вокруг, — следовательно, точкой, окончательно затерявшейся, только воображаемой точкой в хаосе этой ночи. Тогда-то (как я полагаю) все и случилось: тогда он умер первой своей смертью; тогда Оно ожило в нем и впервые проявилось.
Я знаю: вряд ли возможно описать то, что произошло с ним, а объяснить уже и подавно. Речь здесь идет о «частичной смерти», о событии в высшей степени таинственном, которое мы, стремясь проникнуть в его суть, можем разве предположить, но отнюдь не доказать. Представьте себе Малетту, изнемогшего от усталости, от ненависти и отвращения, Малетту, заляпанного грязью, перепачканного глиной, которая остро пахла мочой проезжавших и проходивших здесь. Он силится пробраться через сухостой Кабаньей горы, ощупью, как слепой, бредет от дерева к дереву. Уже знает, что заблудился, уже знает, что ему придется ночевать в лесу, но страх перед такой ночевкой гонит его все дальше — от тьмы к тьме. Пот ручьями струится по его лицу. Волосы, в которых запутались сухие листья, мокрыми космами свисают на лоб. Мокрая холодная одежда липнет к телу. Он старается нащупать деревья, стволы у них холодные и словно наполненные водой. Шарит руками по земле. Листья! Сплошь прелые листья! И плесень! Горстка слизи, толика разложения, скользкая, воняющая мертвечиной, расплывается у него между пальцев. «Моя жизнь! — говорит он себе. — Вот что было моей жизнью! К черту все это свинство! Тьфу, мерзость!» И не подозревает, что его желание уже почти исполнилось, ибо жизнь, которую он, как ему кажется, еще чувствует в себе, разве что ледяным потом липнет к его коже. Бог весть при каком взрыве она разорвана на части, извергнута на отдаленнейшую периферию комплекса «Малетта» (пример децентрализованной силы) и, разорванная, изношенная, уже не способна удержать в целости этот мешок, набитый блохами.
Так вот оно и совершается: Малетта утрачивает часть своей жизни, часть своей силы и тем самым — своей материи, из-за того, что высвободилось в нем, из-за того, что и раньше в нем присутствовало, но лишь теперь, наделенное жизнью, принялось расти в образовавшемся вакууме.
Что-то изнутри ударило его в живот (как ребенок, впервые шевельнувшийся в материнской утробе). Может быть, это тот, другой, которого он носил в себе? Тот повешенный, которого он давно уже считал мертвым? Но теперь это набухало в нем, как чудовищный плод, грозя разорвать его тело. Или это было то ужасное, что набросилось на него у печи для обжига кирпича? То, что выглядывало из-за фотографий и рвалось из глаз Ганса Хеллера? И тут это начало его перерастать. Начало выступать из него. Вместе с потом лилось из всех его пор, щекотно соскакивало с ногтей, с кончиков волос, со всех сторон окружая его грозным нимбом, окутывая облаком вони: страшное Нечто, чернее ночи.
Тут он стал кричать, кричать от ужаса, как истерическая женщина, и лицом вниз бросился на землю. (Он вдруг как бы изрешетил завесу, отделявшую наш мир от потустороннего.)
А сейчас о приключении Караморы, о том, что дальше с ним произошло и о чем он до поры до времени помалкивал — то ли из благоговения перед необъяснимым, то ли боясь, как бы его не сочли сумасшедшим.
После фиаско, понесенного им в роли передней части козы, с животом, словно вывернутым наизнанку, он — вместе с несколькими приятелями и козьей задницей — кутил и бражничал в «Грозди» чуть ли не до полудня. Затем пошел домой обедать; после обеда спал часов эдак до четырех, а проснувшись, взял свою гармонь и под собственную музыку и пение отправился в Плеши, полный решимости продолжить попойку и утопить в вине свою обиду. Там у него тоже имелись «друзья и благодетели», как он выражался, люди, которые его поили за удовольствие ббзнаказанно над ним издеваться. С ними он провел конец этого дня и вечером в половине одиннадцатого покинул трактир в Плеши. Неустанно играя на гармони, как будто для того, чтобы не кончился этот праздник, провожаемый улюлюканьем других посетителей (остававшихся там до четверти первого), он вышел в ту самую ночь на дорогу к Тиши. Сначала, если можно так сказать, заботливо окруженный домами, он зашагал по темному шоссе в северо-восточном направлении. Несколько еще освещенных в этот час окон швыряли ему под ноги светлые дубинки, он же, окрыленный алкоголем и музыкой, спотыкаясь, перешагивал через них, словно через перекладины положенной на землю стремянки, перешагивал через узенькие, отсвечивавшие красным перекладины и через широкие бездонные отрезки мрака. Но потом и это кончилось. Потом даже последние дома остались позади и он перестал видеть что-либо, кроме ночи. В трех шагах от него с дороги поднялось ее тело, кромешный черный вал.
Карамора остановился (он человек не робкого десятка, но и не такой уж смельчак). Музыка замерла на жалобном звуке, задохшемся в ватной плоти мрака. После недолгого колебания, протрезвев от зрелища, которого, собственно-то, и не было, да от озноба, который напал на него, словно он вдруг остался голым, он медленно вступил в черноту, как в заднюю комнату своего хмельного угара, в укрытую от света половину бытия, где у каждого имеется второе, «потайное» лицо.
Он думал: с этим матросом я расправлюсь! Вгоню ему нож в брюхо! (У него имелся огромный перочинный нож — обидно резать им только хлеб да сало.) Или, продолжал он думать, размозжу ему башку молотком. Буду колотить по ней, покуда вместо головы у него на плечах останется только кровавый ком.
Он ясно все это себе представил. Нарисовал в воображении этот кровавый ком, из лица матроса сделал гуляш по испытанному и довольно безразборному рецепту трактирщиков: мясо и мозги — с добавлением перемолотых костей и обломков зубов. Когда гуляш был готов и приправлен луком (у Караморы все время была отрыжка луком), он добавил еще глаза, голубые моряцкие глаза, один сунул туда, другой сюда — куда вздумалось и где им вовсе и быть-то не полагалось. Еще добавил два крутых яйца, чтобы выглядело поаппетитнее (Франц Биндер называл это блюдо «цыганский гуляш»).
А потом, потом я его растопчу, думал он. Да! Да! В землю втопчу! (Он наступил на что-то мягкое, пружинящее под ногами, ему почудилось, что на труп, но это была кучка конского навоза.) Буду попирать его обеими ногами! (Лошадиные яблоки невидимо закувыркались по дороге, и вонь их распространилась в ночи.) Пока он не лопнет и не выскочит из штанов, как кровяная колбаса из своей оболочки!
Опьяненный этими видениями больше, чем вином, он тащился через мрак, как через ничто, и наконец добрался до Тиши, до огромного черного замка, которым нам служила Кабанья гора.
Там наверху живет эта сволочь! — подумал он. Небось спит сейчас в своей постели! И еще: я мигом его укокошу. Мне туда дойти десять минут — не больше.
Он глянул вверх. Но там все было черно. Гора и небо слились, превратившись в черно-серую требуху, которая выступала из ночи, словно из сточных каналов, и сальными комьями катилась вниз по склону.
Тут у него вдруг прошла жажда крови, напротив, ему стало казаться, что это его преследуют, что это он сам намеченная жертва, он схватился за гармонь, висевшую на ремне через плечо, и извлек из нее несколько звуков, чтобы разогнать страх.
Эта гармонь (ее потом отдали в сиротский приют) была странным инструментом, таких в наших краях никогда не делали. Восьмигранная, очень маленькая, она тем не менее растягивалась, можно сказать, до бесконечности.
Играя на ней, Карамора походил на танцовщика со змеей. Вернувшись с фронта, он обнаружил ее на дворе родительского дома. Гармонь в свое время принадлежала одному из иностранных рабочих, которые всю войну батрачили у здешних крестьян и которым, когда их впоследствии отсюда увезли, пришлось бросить на произвол судьбы свои скудные пожитки. У гармони был совсем особый лад, кой-кого заставлявший смеяться, лад, напоминавший плач ребенка в темноте, — совсем маленького, брошенного ребенка. Но в этот миг своей никчемной жизни, хотя порой и казавшейся ему достаточно забавной и неправдоподобной, Карамора был тем самым ребенком (давно уже покинутым людьми, а теперь еще и богом), гармонь же была его голосом, зарыдавшим во мраке.
Слева ему ответило эхо. И тотчас же другое — справа. Но больше — ни звука! У гармони перехватило дыхание. Ни звука! Черная бездна, в которую он погружался: беда, отчаяние, обвал, конец! А на другой стороне впотьмах поле под паром, кирпичный завод, невидимый в темноте (уставившийся в ночь пустыми глазницами), на секунду выдавший себя звуком, что с каким-то странным лаем отскочил от его стен, и больше ничего! Пустой звук, тут же сорвавшийся вниз головой, и зажужжавший в ответ телеграфный столб… Он стоял совсем близко, но видно его не было. Карамора вытянул руку — пустота!
Тогда он снова начал играть, и его игра снова огласила воздух и снова, искаженная, от чего-то отскочила (казалось, кирпичи сыпались друг на дружку), и ночь не желала светлеть, ибо луна оставалась за пеленой облаков, а может, она еще не взошла. Только телеграфный столб продолжал жужжать — хотя все еще было неясно, вправду ли он стоит так близко. Карамора внезапно почувствовал обострившимися нервами (вернее, шестым чувством отъявленного бездельника), как что-то, привлеченное жалостным сетованием гармони, на него надвинулось из темноты.
Что — он не видел. Да и не слышал. Только чувствовал; так заранее чувствуют, что давление воздуха начинает снижаться или что предстоит резкая перемена погоды. Он оцепенел и перестал играть. Раскинув руки, с недвижным змеиным телом поперек груди стоял он, чувствуя, как медленно подкрадывается к нему телесный сгусток темноты, косматое абсурдное чудище из сырости и ночи величиной с меделянского пса — узнать его можно было разве что по слабой дрожи в ногах, словно опасность доходила только до пояса, ибо — как уже было сказано — в этой тьме вообще ничего не было видно.
Итак, он шагнул в сторону, его словно столкнули с дороги, налетел, похолодев от ужаса, на телеграфный столб (действительно и реально существовавший), и, чувствуя, как что-то, смыкая тесный круг, трется об его ноги, он, не дыша и не двигаясь, стал как бы единым целым с деревянным столбом, в котором вибрировали ангельские голоса ветра, выпевая один безотрадный металлический звук, звук без начала и без конца.
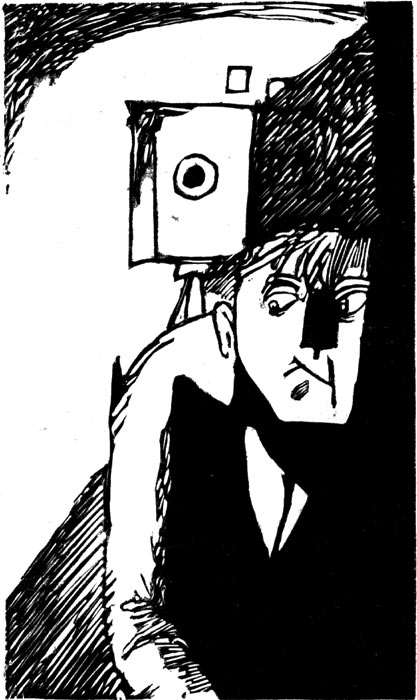
Внезапно настало рождество. Прислушиваясь к тому, что творится за окном, люди слышали шорох дождя. Выглянув на улицу, видели, как идет дождь. И думали: осень. День поминовения усопших. Дождь все свечи потушит, да и вообще, если дальше так пойдет… Потом возвращались в комнату, смотрели на отрывной календарь (состоявший теперь всего из нескольких листков) и не верили своим глазам, никак не могли взять в толк, что пришло рождество.
В такую погоду никто не хотел, да и не чувствовал себя обязанным принести из лесу деревцо. Елки в окрестностях деревни не росли, кругом были только луга и поля. Правда, на склонах горы начинался лес, но ели стояли лишь на самой вершине. Промокнешь до нитки, прежде чем до них доберешься, — путь на гору неблизкий. Пришлось довольствоваться покупкой свечей и сахарных крендельков (а также шоколадных ангелов и прочих безделок) да украшать серебристыми нитями — не дождевыми, а металлическими — старые вертепы, каждый год приносимые с чердака.
После обеда крестьянка со своими детьми — постный суп еще булькал у них в животах — влезла по лесенке, ведущей прямо в темную дыру, и, осторожно ступая, прошла в шерстяных носках по шаткому настилу. Из кучи пыльного хлама (прялок, например, которыми никто больше не пользуется, потому что на фабрике прядут куда быстрее) она извлекла ящик с раскрашенными фигурами — добрыми, старыми, бессмертными друзьями дома, вконец затвердевшими от долгого лежания в картонке. Покуда дети (в совокупности называемые «божье благословение») возились со Святым семейством и восточными мудрецами, сажали ангелов верхом на овец, пытались засунуть в рот пастухов, запрячь вола в ясли и кричали ему: «Господи! Да что же ты не везешь?», мать стояла неподвижно, как спящая — руки у нее были опущены и уголки рта тоже, — уставившись на почернелые балки чердака, где в сумерках запуталось далекое прошлое: паутина, опустелые осиные гнезда, там и сям засохшие летучие мыши и уже ставший прахом помет ласточек (которым вменялось в обязанность приносить счастье), как будто там, вверху, была мумифицирована жизнь. Она прислушивалась. Дождь часто-часто барабанил по крыше. Она опустила веки и потянула носом. Ее ресницы, два лунных серпа, отбрасывающих тень, породили вечер на щеках, текучий мрак, в котором побледнело ее лицо, словно дождь смыл с него краски. Внизу, в доме, пахло совсем по-другому, чем здесь, на чердаке. Там, внизу (она скользнула взглядом по своему мощно вздымавшемуся чреву), там внизу, меж толстых стен, где чувствуешь себя укрытой, как под сердцем, пахло постельными принадлежностями, бельем, мокрыми пеленками, грубыми башмаками с налипшим на них навозом да еще мясной подливой и жирным тестом, пахло молоком и пахло кровью. Но вверху, на чердаке, в этом черном шатре рождественской елки, в этом костре для сожжения еретиков, уже догоревшем и украшенном страшными остатками звериной жизни, только запах печной трубы, только запах пыли, не христианский, непривычный, родина, превращенная в пожарище. И к тому же еще весь этот хлам, к тому же этот полумрак (свет и тьма опять слились воедино), к тому же серая литания дождя и сквозной ветер, тихонько свистящий меж перекладин.
— Слышите? Младенец Христос! Он свистит. — Она приложила палец к губам и невольно затаила дыхание. Дети снизу вверх смотрели на нее, их большие испуганные глаза в сумерках походили на кучки куриного помета.
— Это младенец Х ристос нам что-нибудь насвистывает?
С пронзительным свистом ветер ворвался в щель. Дети могли бы посмотреть сквозь нее. Но они этого не сделали, а если бы и посмотрели, все равно бы ничего не увидели. Разве что Кабанью гору, которая дымилась под дождем, потягиваясь, словно громадный серый вол.
Итак, младенца Христа с его свитой — не того, что свистел, а другого, что лежал в яслях, как законсервированный розовый лягушонок с нимбом, опять обложили охапками сена и быстро снесли вниз, в комнату, где языки огня любовно облизывали плиту, а по стенам, дрожа, пробегали тени и блики.
Немного погодя наступила ночь. Начала расти в углах за шкафами. Но матрос обнаружил ее в сосуде, который снял с полки и собрался отнести в сарай для просушки. Он заглянул в горлышко сосуда и в нем увидел действительность — ночь. Он решил, что ночь — благороднейшее содержание для куска пустоты, по его мнению слишком красивого, чтобы наполнять его лживыми измышлениями, которыми иные люди силятся себя подбодрить. Он сохранит это вместилище, поставит куда-нибудь, ничем его не наполнит, время от времени будет на него смотреть. Пусть ночь найдет в нем приют и будет отмалчиваться, о чем бы он ее ни спрашивал.
Он локтем толкнул дверь и остановился на пороге. Жадно вдохнул сырой и холодный воздух. Глиняная ваза тяжело покоилась в его руках, в ней отдавалось громкое дыхание матроса. Он напрягал слух, хотел услышать тишину, ведь этой ночи полагалось быть не только святой, но и тихой. Он напрягал слух, но кругом была только темень и потоки дождя, блуждавшие по здешним краям, Грузовик прогрохотал по дороге, трактор и опять машина, Потом наступила пауза. Он слышал только шум дождя. Но то не была тишина, тишина, которая страшила его и которой он тем не менее жаждал. Неужто никто ее не слышит? Или она укрылась за дождем, за тихим бормотом дождя, как за занавесом? Он слушал ночь. Дождь шуршал в траве, шуршал возле дома, словно зверь, кружил вокруг него. Он, видно, прошел через леса, прошел с запада на восток, принес с собой запахи дальних стран, принес запах моря. Матрос вдохнул этот запах, казалось, он принял сигнал своей родины, лежащей по ту сторону всех горизонтов, по ту сторону возможностей и по ту сторону времени. Более того, он вдруг ощутил тоску по родине (как некогда тосковал по ней в море), ибо никто не чувствует себя среди людей столь чуждым и одиноким, как тот, что после долгих лет вернулся на родину и пытается внушить себе, что наконец-то он «дома». Конечно, другая «родина», море, продолжало существовать. Оно все еще покрывало почти две трети земной поверхности, и запахи его плавали в море воздуха над этим превратившимся в камень или глину морем. На вершинах гор кусты и деревья шептались под ветром, как белая пена на гребнях волн. И корабли по вечерам уходили в море, а на кораблях все так же работали матросы. Но куда они отправлялись, эти корабли? Разве кто-нибудь вел их? И не были ли они призраками? Кто определял их курс? Капитан давно был мертв, утонул в своей любимой воде (один за всех и за того, кого мятежники бросили за борт). Матрос потом был свидетелем на суде. Они лебедкой подняли старика на палубу, но он был уже мертв… Тогда-то и началось одиночество…
А дождь все шептал и шептал. Но теперь его шепот доносился издали, словно это уже был не дождь, а тишина, что-то шептавшая сквозь дыры в занавесе. А затем возникло лицо. Матрос увидел его за развевающимися вуалями. Лицо того человека с седой бородой, который в свое время дал ему в долг деньги. Оно одиноко глядело на него из рождественского дождя, не печально, не злобно, не укоризненно, но одиноко. Эти деньги спасли ему жизнь: он выкупился благодаря этим деньгам. Но так и не возвратил их, никак не мог сколотить нужную сумму, и это тяготило его и по сей день, ибо долг всегда остается долгом.
Он вышел на дождь и пересек луг. Капли хлестали его по лицу. Капли звонко падали в вазу, которую он протягивал к темному небу, он, нищий, не сумевший заплатить долг и тем не менее всегда протягивающий свою деревянную нищенскую чашу, ибо с годами его стала томить жажда, которую водкой уже не зальешь, стал жечь огонь, который не могут затушить ни моря, ни всемирный потоп (разве что млеко благочестия, но из какого вымени оно еще течет в наше время?). И странным образом эта жажда начала мучить его во время беспробудного пьянства, в разгар, так сказать, изобилия. Он и вопросы начал тогда задавать (собственно, всегда одни и те же), и то от одного, то от другого выслушивал ответы. Ведь эти люди воображали, что умеют утолять жажду. У них была Библия и было виски, были иконы и колоды карт; одни поднимали указательный палец, другие — бокал и толковали… но что-то в их толкованиях было не так. Однажды появился боцман, он признался, что не может ответить ни на один вопрос, все твердил «понятия не имею», бесстыдно выставляя напоказ свою глупость. Но вечером он спел песню, голубую, как морские дали, в которые они в ту пору постоянно направляли свое судно, и песня была как сама надежда, как отдаленная цель (более отдаленная, чем самая дальняя гавань на свете). Но, к сожалению, матрос позабыл эту песню.
Он вошел в тень сарая, в угрожающий треугольник из досок и балок, черной массой вздымавшийся в сумерках. Дверь была прикрыта. Когда он толкнул ее ногой, ржавые петли заскрипели. Внутри царила ночь и слышался шорох. Сарай был до краев полон густым мраком, как чрево затонувшего корабля — илом, и ржавый скрежет петель напоминал скрежет движущегося песка на дне моря. Матрос осторожно протянул руку к горшкам и кружкам, ища свободное место, и, наконец нащупав его (меж студеных глиняных тел), поставил вазу — пусть себе сохнет, чтобы потом состариться вместе с ним, ведь она такая же пустая, как он, и такая же бессмысленная. Нет, лучше он уже не будет спрашивать ни о курсе, ни о цели, ни о смысле всего плавания, ни о причинах того тайного страха, что преследовал его всю остальную н; изнь (больше не любимую им), бывшую лишь постепенно исчезающим, килевым следом в море забвения, следом, из которого уже свивала петлю его тоска. В темноте он все же смотрел вверх украдкой, словно боясь в путанице стропил именно сейчас, когда это не было пределом его желаний, услышать или прочитать ответ. Но ничего подобного не случилось. Сарай уклончиво погрузил в темноту свои стропильные фермы. Руны остались непрочитанными, а тихий отклик дерева на дождевую капель, казалось, стал внятной немотой матроса.
Он повернулся к двери, серым квадратом вырисовывавшейся в темноте, а когда вышел из сарая и дождь стал снова хлестать его по лицу, ему вдруг вспомнился человек (умерший от рака легких), чернобородый человек, а почему вспомнился, он и сам не знал. Матрос посмотрел на запад, вверх по склону горы, потому что оттуда дул ветер; конечно, то не была мелодия песни, а всего лишь шорох темных крыльев. Над покачивающимися ветвями леса, там наверху, мрачными косяками плыли тучи. Матрос проводил их взглядом до невидимого горизонта, потом опустил глаза (казалось, две чайки соскользнули на воду) и вдруг увидел печь для обжига кирпича, руины печи с ее страшной тайной.
Что сказал ему на днях кузнец, эта старая обезьяна?
«Тогда много чего случилось». А до того? «Вам надо было раньше вернуться. И он, может, жил бы еще и сегодня».
Господи боже ты мой! — думал матрос. — Как бы это я умудрился вернуться во время войны? И он подумал о петле, которую завязала для него жизнь, не исключено, что она, мягкая, как воловья оброть, уже обвила его шею. Позади него вздымался сарай и гудел на ветру. Немым было это гудение и зловещим, да и что за диво, ведь в сарае обитала смерть, смерть, что ничего не желает объяснять, там она висела наподобие паутины между балок, там повесился его отец. Но какое отношение имел к этому тот человек, оставалось загадкой, ему никто ничего не был должен, даже денег.
Матрос пошел обратно той же короткой дорогой, которой пришел (видно, по каждой дороге надо идти обратно; идешь обратно, а все равно не возвращаешься). Дом уставился на него черными окнами, казалось совсем переменившийся за то время, что он на него не смотрел. Но как-никак он стоял на месте, по-прежнему был домом, и надо было радоваться, что тебя ждет тепло комнаты.
А того человека матрос знавал так, мимолетно. У него была лавка в Лиссабоне, И он носил бороду, желая показать, что он еврей.
Этот человек сказал:
— Я жду своего спасителя.
А матрос:
— В таком случае, дорогой мой, вам долго придется ждать.
А еврей:
— Ну и что с того? Терпения у меня хватит.
А матрос:
— Наш спаситель уже родился.
Тот улыбнулся себе в бороду.
— В самом деле? — сказал он.
Матрос ответил:
— Так точно! Уже довольно давно. Затем его распяли и тому подобное. Поэтому — считается, — что мы спасены. Точнее я ничего не могу сказать, я в таких делах мало что смыслю.
Еврей улыбнулся.
— А мне еще придется подождать, — сказал он. — Это все-таки лучше, чем ничего уже не ждать.
Вскоре он умер от рака легких.
Матрос вошел в дом и запер за собой дверь. В комнате он сразу потянулся к лампе. Это была керосиновая лампа, висевшая над столом, ее абажур напоминал перевернутую миску.
Как-то раз он побывал в музее, по уже очень давно. Он рассматривал картины, рассматривал статуи, подолгу стоял перед тем или иным произведением искусства. Многие ему понравились. Но от них всех исходило какое-то беспокойство, от которого человеком постепенно овладевала смертельная усталость, он был уже по горло сыт красотой, хотя ровно ничего в ней не понимал. Но он все же забрел и в другие залы. Стены там были облицованы темным мрамором, а вдоль них в стеклянных ящиках стояли сосуды: горшки, кубки, чаши и тому подобное, одни, украшенные замысловатым орнаментом или фигурками, другие, ничем не украшенные, хранили бурый тон земли, из которой их сделали, но всем была придана такая точная, убедительная форма, что они казались ие созданными руками человека, а выросшими, как цветы.
Там бы он охотно присел, даже с удовольствием переночевал бы. Но почему-то в этих залах не было ни одной скамейки, и ему волей-неволей пришлось стоять.
В сосудах ничего не было. В сосудах была тишина. В сосудах царил безусловный покой, он исходил из их полых тел; верно, спокойны были и руки гончаров. И этот покой давал ответ на любой вопрос, какой только можно придумать.
Он снял с лампы стекло. Повыше вывинтил фитиль. Взял спичечпый коробок и достал спичку. Гончары жили четыре тысячи лет назад, и в их сосудах лежали зерна молчания. Эти сосуды и сейчас еще давали ответ на разные вопросы, хотя в те времена у людей не было повода задавать их.
Он зажег спичку. Маленький огонек потрескивал и дрожал. О божественный покой! Никому уже не найти его. Он царил теперь лишь по ту сторону жизни, по ту сторону смерти, по ту сторону труда и веры, недосягаемый ныне для рук гончаров, недосягаемый для их сердец. Никогда уже нельзя будет воссоздать его, претворить его в жизнь.
Он поднес спичку к фитилю и осторожно подвинтил его.
Свет возник во тьме и осветил руки матроса.
В этот дождливый промозглый сочельник Малетта тоже ждал своего спасителя. Так по крайней мере мне думается, ибо я уверен, что, несмотря ни на что, он был хорошим и верующим человеком.
Я вижу его перед собой. Под пристальными взглядами наших фото — в сумерках казалось, что это засада, — он сидел в своей мансарде на одном из двух стульев и изо всех сил старался быть благочестивым. Он весь скрючился, обороняясь от жестокого холода, что наступал на него из нетопленной печки, и сидел неподвижно, готовый услышать так называемую «благую весть».
Он вслушивался в себя. Да, он вслушивался в свой внутренний мир. Но в этом мире ничто еще не шевелилось. Только в животе у Малетты время от времени бурчало, и это была единственная весть, доносившаяся до его слуха.
Рождество! — думал он. Рождество! А катись ты!.. Он представил себе роскошные рождественские открытки (заснеженные деревеньки с церковкой, мирные довольные люди, а под картинкой золотыми буквами поучительное изречение). Но тщетно! Рождественское настроение упорно не приходило. Наверно потому, что он ждал его. Не приходила и мысль, как искусственно создать это настроение.
Временами он вставал, отдернув кружевную занавеску, выглядывал в окно. Ничего! Не видно ни бога, ни человеческого существа. Тиши словно вымерла. И казалась такою же пустой, как он сам. Впрочем, от этой деревни многого ждать не приходилось.
Тем не менее он стал снова смотреть в окно, жадным взглядом впивая уродливейший вид, который за ним открывался. Среди домов мелькали вуали и тени дождя, по-язычески безутешная брела тишина, серо-голубой единорог, что вырвался из мокрых лесов и далей, из сырости, смешавшей воедино землю и небо, вторгся в сферу людей (попрятавшихся в своих домах), в это праздничное царство мертвых, повернувшееся к улице запертыми дверями. На неподкованных копытах тумана, не оставлявших следов, он хлюпал по огромным лужам (они ничего уже не отражали), выдувая из ноздрей тучи и брызжущую воду, в которой постепенно утопал и задыхался день.
Малетта дышал на холодное окно, сладострастно прижимаясь лбом к стеклу. Он ощущал этот холод в мозгу, словно в черепе у него был северный полюс, сверкание льдов, которое, возможно, было богом, но не было вифлеемской звездой. Он дышал быстро и трудно. Задыхался, как ездовая собака, загнанная насмерть в арктических просторах (в пустыне, каковою был он сам). Но в нартах сидели Укрутник и Герта Биндер и с ними все разъевшиеся братья по трактирной стойке. При всем желании он не мог бы объяснить, зачем тащит за собой этих болванов. Его дыхание замутило стекло. Оно вдруг стало непрозрачным, как стакан с молоком. Или то была ночь, наступившая раньше времени, или все сгущающийся туман? Святая ночь! Арктическая монотонность! Бледное Нечто, но без снега! (Полозья скользили по деревенской слякоти, по размокшей вспаханной земле.) И возможно, за окном стоит Дед Мороз! На нем сапоги как у золотаря! В мешке у него яблоки конского навоза! Он подобрал их на дороге для «артистов». Но нет, Малетта его не видел!
У замутненного окна, словно ослепший, он замер перед этим бледным Нечто. Нарисовал единорога на стекле, ибо непостижимое как раз и нуждается в воспроизведении. Таков рок художника. Единорог превратился в козу, она осталась целой и невредимой после нападения. Кулак матроса ударил мимо. Более долговязая, чем когда-либо, стояла коза посреди деревни. Неприятно пораженный, он стер свое произведение и, сквозь теперь уже чистые стекла, увидел все ту же безрадостную картину — убогое захолустье с почернелыми от дождя крышами, прятавшееся за темными клубами тумана. Наискосок парикмахерские манекены Фердинанда Циттера с восковыми лицами пялились в пустоту холодными голубыми глазами. Непохожи были они на рождественских ангелов, и не ему предназначались их улыбки! Тоска, да и только!
Он задернул занавеску и обернулся. Мансарда зияла, как черная холодная пещера. Казалось, она находится в самых недрах земли (хотя находилась под коньком крыши). Он ощупью прошел к выключателю и зажег свет точно так же, как делал это всегда. Но на сей раз в миг, когда яркий свет вдруг озарил мансарду, ему почудилось в ней какое-то судорожное движение, словно он застал фотографии на стене за таинственным и неподобающим занятием.
Взгляд его недоверчиво пробежал по их рядам (как взгляд человека, охотящегося на паразитов). Тайное свидание? Заговор?.. Ничто не дрогнуло в лицах этой банды. Все они плоско и неподвижно прилипли к стене, и все опять выглядели вызывающе невинными, словно хотели сказать: «Ну? В чем дело? Мы «местное население». Только и всего».
Но назойливо мирная, животная невинность этих физиономий как раз и показалась Малетте подозрительной, обильно подкормила его ненависть. Скотина — дело другое, там все это естественно, все как полагается. Но если мужчины таращатся на тебя, как быки, а женщины — как коровы, значит, с ними что-то неладно.
Преступники! — подумал он. Шайка преступников! Воры, убийцы, замаскировавшиеся под высокогорное стадо! (Это, понятно, было болезненным преувеличением, и, уж конечно, он оказал им слишком много чести.) Или это я преступник? — размышлял Малетта. Преступник, потому что хотел бы их всех убить? Честное слово, не столько уж они мне причинили зла, разве что иной раз надо мной насмехались. Они ведь думают, что я художник!
В осколке зеркала над умывальником он долго рассматривал свое лицо, пухлое, бледное, невыразительное нечто, которое не импонировало даже ему самому. Оно вряд ли могло быть лицом преступника (так же, к примеру, как и лицом матроса), в лучшем случае лицом одной из бесчисленных жертв преступления, за каковое мы частенько склонны считать все мироздание. И все же, когда он порою смотрелся в зеркало, его охватывал безмерный ужас перед этим лицом, именно потому, что при всем желании (и при всей любви к себе) он не мог обнаружить в нем ничего значительного, разве что следы потерянного времени и старения, расплывчатые следы расплывчатой жизни, ни хулы, ни хвалы не заслужившей.
Он покачал головой.
— Я даже не матрос, — прошептал он. — А всего лишь неудачник, озлобленное ничтожество. Некто, зовущийся «Малетта». С ударением на втором слоге. Но люди упорно ставят его на первом. Словно я выходец из богемских лесов! Потому что знают — мне это обидно.
Так его дразнили еще в школе однокашники и учителя, (Учителя! Педагоги comme il faut! Он их ненавидел, как никого на свете.) Тогда, в четырнадцать лет (возраст приключенческих романов), он, надо думать, решил стать моряком, назваться новым именем, а старое позабыть. Но стал торговым агентом, потом солдатом. Много ездил по железным дорогам, а моря так никогда и не увидел, море он знал только по книгам и кинофильмам.
— Так все и осталось мечтой, — шептал он. — Ни одна моя мечта не осуществилась. Есть люди, которых никто не принимает всерьез, люди, к которым никто не испытывает уважения. Им позволяют жить, потому что они безопасны, позволяют жить, чтобы пользоваться ими во зло другим.
И вдруг он увидел ненависть на своем лице, ненависть, до поры до времени не проступавшую на нем, ненависть, которая раздула его, ненависть, на которой лицо Малетты подошло, словно тесто на дрожжах.
Не знаю уж, на что рассчитывал этот господин. Неужто полагал, что именно он нас интересует? И что в его честь украсят дома гирляндами и вышлют навстречу местных красоток? Если он так думал, то ошибся.
Малетта в ужасе отшатнулся от зеркала. Опять он стоял маленький и растерянный среди своих фотографий. На стене не было только Герты Биндер и Константина Укрутника; они еще ни гроша не дали ему заработать. А чтобы запечатлеть их пышную роскошность на киноленте, у него не хватало средств! Но ему очень хотелось владеть этими двумя. Он бы три раза на дню протыкал их булавкой.
Он стал шагать вдоль фотографий, как вдоль строя почетного караула. Франц Биндер: м-у-у! Франц Цоттер: м-у-у! Франц Цопф, бургомистр: м-у-у! Перед Хабергейером он наконец остановился. Единственный человек в этом коровнике! — подумал Малетта.
На фотографии был запечатлен бог-отец в натуральную величину, в правой руке он держал альпеншток, левая покоилась на карабине, висевшем на ремне через его плечо. Все в нем было божественно, кроме кривых и к тому же довольно коротких ног. На фотографии они были видны вполне отчетливо, так как на нем были короткие штаны и колени (худые, искривленные, узловатые, точно корни) оставались голыми. Один из своих подбитых гвоздями башмаков он поставил на убитого оленя, что выглядело особенно жестоко на фоне леса (не из папье-маше, а настоящего).
И вдруг Малетта, к вящему своему удивлению, обнаружил, что не человек, не его борода, а лес делали эту фотографию столь многозначительной: фон-то, собственно, и составлял всю картину.
Стоя как околдованный, он рассматривал на дурацкой фотографии лесную кулису около егеря, вышедшую недостаточно резко, так как объектив он нацеливал только на человека. Стволы первого ряда деревьев «приветливо» светились, ибо на них попадало солнце. (Солнце, нужное не только для фотографирования, по которое следовало бы носить в сердце, дабы оно не проливало света на что не надо.) Итак: стволы, как говорится, приветливо светились. Тогда стояло живительное летнее утро, олень же был убит еще накануне, и кровь в его пасти уже запеклась — но позади охотника и добычи нежданно, без всякого перехода возникла ночь, возник лесной мрак и то, что в нем притаилось.
Малетта всю жизнь любил мрак, мрак, исполненный гнилостных запахов и прохлады. В него можно было забиться, как в берлогу, можно было по мягкому мху улизнуть от своей человеческой жизни (шорох деревьев напоминает шум моря). В этом мраке кончалось существование. Ведь после той ночи, истекавшей сыростью и тьмою, ночи, проведенной под открытым небом, леса там, вдали, хранили ужас, который он тщетно старался позабыть. Но поскольку он понятия не имел, что это там такое было, ему и забывать было нечего (в сущности, ведь случилось только одно — его внезапно объял страх), и пока что не имелось ни малейшей возможности отделаться от того таинственного ужаса. Минутами он даже подозревал, что у его потерянной шляпы выросли ноги и что она теперь ночами шныряет по лесу.
Он опять уставился на фотографию. Мрак сочился меж стволов, как чернозем меж зубьев грабель, когда рыхлят огород. И в этой черной рыхлой земле он вдруг заметил белесое овальное Нечто, нисколько, разумеется, не напоминавшее шляпу, но тем не менее бывшее чем-то.
Вне себя он попятился. Разрез спиленного дерева? Возможно. Но ведь весь фон не имеет резкости, с таким же успехом это могло быть лицо в маске.
Он окинул безумным взглядом свою мансарду. Несколько капель дождя ударились об окно, сквозной ветер гудел в пустой печи; со всех четырех стен на него смотрели здешние жители.
— М-у-у!
— М-у-у!
— М-у-у!
Он схватил пальто, бросился вон из комнаты, надел его уже на лестнице, впотьмах нащупывая ногой ступеньки, сошел вниз (выключатель находился у входной двери) и наконец раскрыл ее. На него пахнуло ночью и сыростью.
В этот самый час вахмистр Хабихт сидел за письменным столом в жандармской караульне и при свете лампы читал какую-то бумагу. В ней речь шла о его «рождественском подарке» — приказе изловить сбежавшего преступника.
— Когда, где и как его разыщешь? — спрашивал он себя. — Завтра? В первый день рождества? Или в день святого Стефана? Да еще при такой погоде? Тут ведь и полицейский вместе с преступником в воде захлебнется.
Тюрьма находилась в двадцати пяти километрах от Тиши на юго-запад, у другого конца хребта, начинавшегося с Кабаньей горы. Здание тюрьмы стояло посреди низины, облака туманов проплывали там над полями, и нередко стаи ворон, вспугнутые проклятиями тюремщиков, с громким карканьем поднимались в воздух. Впрочем (вахмистр считал это обстоятельство благоприятным), низину эту, открытую всем четырем зимним ветрам, один из которых уж непременно дул, не имея сил разорвать клубы тумана, широким кольцом окружали замшелые леса — заграждение, конечно же, не благоприятствовавшее закону. Куда ни глянь — лес! Летом зеленый, теперь как ржавое железо. Беглец, если хотел (а он, надо думать, хотел), мог вплоть до Тиши идти лесной чащобой, у него не возникало надобности ни покидать свое укрытие, ни проходить вблизи от деревни или дороги. Закамуфлированный дождем, темнотой и ветвями деревьев, он мог (если не окончательно выбился из сил) в конце концов добраться до границы округа, так что даже собаки уединенных хуторов не учуяли бы его.
Бежал преступник восемнадцать часов назад. Восемнадцать часов он околачивался в округе, на свободе, которая предоставляла ему возможность умереть с голоду, замерзнуть, а не то и утонуть в грязи. Не исключено, что он уже притаился где-нибудь за кустами или забрался в стог сена неподалеку от леса, как отощавший волк, выслеживая, что происходит в деревне, подобно Ноеву ковчегу, нагруженной людьми и животными, теплыми комнатами, теплыми кроватями, теплыми кушаньями, в деревне, что плыла в безбрежности зимней ночи.
Пусть себе и дальше выслеживает! Этот волк никому не опасен. Какой-нибудь бродяга или бездельник, имеющий несколько приводов, «тунеядец, уклоняющийся от работы», который время от времени вынужден воровать. Ему тридцать семь лет, стояло в вышеупомянутом документе (отпечатанном на прескверной бумаге окружного полицейского управления), рост — метр семьдесят три, волосы с проседью, глаза голубые, лицо овальное, вставная челюсть.
Особые приметы! — подумал Хабихт. Куда какие особые! У всех людей овальные лица, голубых глаз, волос с проседью тоже хватает, да и тридцать семь лет — возраст не такой уж редкий.
Он поднял голову и посмотрел в окно, в черноту за мокрыми стеклами. Вот и найди там человека, о котором говорится в бумаге! Этого неописуемого! Это «овальное лицо». Затем он сложил бумагу и сунул ее меж страниц календаря. Поди-ка поищи туманное пятно в тумане, пугливую тень с голубыми глазами — маленькие цветочки незабудок в ночи и в сырости. Поищи-ка этого неслышного, затаившего дыхание лесного зверя! Он ведь жрет сырую картошку да кормовую свеклу и вряд ли позволит заглянуть себе в рот, проверить, как там насчет вставных челюстей, которыми можно стучать от холода. Он скорее договорится с ветром, чтобы тот валил тебя с ног, или глину попросит оказать ему любезность и стянуть с тебя болотные сапоги!
Правда, пока что это было единственной надеждой — он, вероятно, еще не сбросил форму того заведения, полосатое черно-белое тряпье, что издалека бросалось в глаза, покуда не выпал снег. Даже прячась за кустами и деревьями, он должен походить — так утешал себя вахмистр Хабихт — на сбежавшую зебру, которая трется о стволы, стараясь содрать с себя свой цирковой костюм.
Зебра, что и говорить, зверек невиданный в наших краях. Только в столице, в зоологическом саду, Хабихт много лет назад видел эту полосатую лошадку. Она так пришлась ему по душе, что он бы охотно прихватил ее с собой. Она и в здешних лесах доставила бы ему больше радости, чем все лесорубы, помощники лесничих и егеря, вместе взятые. И уж конечно, много больше, чем безликий человек — ведь единственным примечательным в нем была его тюремная одежда, — чем этот бездомный волк со вставными челюстями, лишь издали смахивавший на зебру, которого голод должен был неминуемо выгнать из его укрытия.
Но был еще и другой волк! Настоящий и с настоящими зубами! Хабергейер утверждал, что на опушке (на какой именно, он не сказал) видел его следы. Правда, такое утверждение сильно смахивало на охотничьи рассказы, даже для верующего эти слова звучали подозрительно, хотя их сотни раз произнес рот, утопающий в бороде бога-отца. И все же это могло быть правдой, так как крестьяне в Тиши однажды, пятьдесят лет назад, пережили страшный испуг; старики еще отлично это помнили.
Зима в тот год была суровая. Дома по самую крышу утопали в снегу. Снег шел все дни напролет, но к вечеру неизменно прояснялось, и ночи стояли ясные и морозные. Люди ели очень плотно, ведь холода пробуждают голод. Ели, чтобы поскорей юркнуть в постель, а сон уж не заставлял себя ждать. Сон этот был огромен, как гора, и бел, как снежный человек. Он ложился на них густо кружащимися хлопьями, как снег ложился на деревню; сон заметал их, как снег заметал все кругом. Итак, они спали (это они сами рассказывали), и вдруг — не очень давно это было — в их сне завыл волк. Волк вправду стоял у деревни и выл на луну.
Из серебряного заиндевевшего леса он вышел на голубоватый свет луны. Ночь была светлой от снега и звонкой от эха. Собаки лаяли и силились перегрызть цепи, потом начали скулить от страха и забились в свои конуры.
— И что же вы предприняли? — спросил он крестьян.
Они отвечали:
— Закрылись с головой перинами, больше ничего.
— А потом?
— А потом все кончилось — словно во сне привиделось.
Потом вдруг остались только луна да снег, и морозные узоры светились на стеклах, а за ними были синяя ночь и деревня, вмерзшая в лунный свет…
— Ну а утром?
— Одного теленка не досчитались.
Не досчитались теленка и на следующее утро. Кровавые следы вели в лес. И в полутьме терялись меж деревьев…
Вахмистр Хабихт встал, пригладил свои усики и зашагал взад и вперед по комнате. Наконец он остановился и поглядел в окно. Но волка не увидел.
На поиски волка отправились жандармы и егеря. По кровавому следу пошли в самую чащу. В путь они дви-нулись ранним утром (в вихре снежинок пробираясь ощупью, как слепые), а днем уже увязли по пояс в снегу — снег был чист, бел и не хранил никаких следов. Тогда они не стали больше искать и повернули назад. Волка из деревни Тиши они так и не убили.
И вдруг в черноватом зеркале окна Хабихт увидел на другом конце времени и пространства, в начале того, что мы зовем прошедшим, увидел, как волк с запавшими от голода боками скрылся в лесу.
Но это же полсотни лет назад! — подумал он. Полсотни лет назад что только не было возможно. Но нынче, после такой войны, при таком прогрессе (даже зубы все стали чистить!), под постоянной угрозой новых технических достижений, вспугнутый из любых кустов автомобильными фарами волк, пожалуй, задумается, прежде чем начать враждебные акции против обороноспособной коровьей деревни!
И тем не менее! Когда Хабихт изредка просыпался по ночам (в подштанниках уже не совсем полицейский) и его походную кровать обступала темнота и липла к окнам, он всякий раз, сам того не зная и не желая, напрягал слух — не слышно ли, как воет волк, осторожно крадучись по задам деревни.
Нет! Это воет ветер на крыше, он примчался из-за лесов, протащил потоки дождя над равниной, как попало перемешал черноту, точно красильщик, перемешивающий в корыте траурные платья. С водосточной трубы недавно сорвало кусок жести; он с грохотом раскачивался в тревожном воздухе. Хабихт слышал этот грохот, покуда не заснул, утомленный бесплодным прислушиванием. А вот волчьего воя он не услышал ни разу. Волк вел себя тихо, видно, некуда ему было спешить.
Между тем третий волк (волк, которого мы не опознали, а именно Малетта) стоял на южном конце деревни, за последним двором, и вслушивался в темноту.
Там, оно там! — думал Малетта. Там, где начинаются лесистые склоны, вдали за полями. Мы этого не видим, да сегодня еще и нельзя это видеть! Никто это не обнаружит — тайна останется моей тайной!
(Четыре проворные ножки, а может, и шесть, как у жуков, или все сто, спрятавшиеся под полями шляпы и за пучком волос серны, приподнятым, как хвост лошади, приготовившейся испражняться, — и вдруг галопом по мокрым кустам, густая шляпа, без головы, без мозга, под ней только спутанные волосы тьмы, растрепанные волосы — паутина и дождь: ее мерзостные темно-бурые следы пересекают лес; никто не станет их вынюхивать!)
Тут сердце у него замерло.
Боже мой! Неужто я схожу с ума? — в испуге подумал он и широко открыл глаза, хотя все равно ничего не мог увидеть. Он почувствовал, что глазные яблоки его обнажились, и ночь, словно черная бумага для затемнения окон — воспоминание военного времени, — налипла на них. Холодные капли дождя барабанили по его белкам (в этой темноте и белки были черными). Дождь, выскочив из мрака, набросился на него.
Из охотничьих угодий (участок № 12), из грозных лесов по ту и по эту его сторону (качавших ветвями впотьмах, отчего казалось, что это машут невидимые руки) вырвался он, этот дождь, вырвался плотными тучами, рассыпавшими водяную пыль, и теперь, тихонько шурша, моросил над полями, барабанил по увядшей ботве. Кто ты, старый незнакомец, ночью явившийся сюда? Кто ты? Зачем гонишь дождь впереди себя? А?
В высоких резиновых сапогах Малетта перешел дорогу, зашагал среди деревьев и, разбрызгивая вокруг себя лужи, ударился о стену какого-то дома.
Этого ему было предостаточно. Никаких вопросов более не существовало. Малетта втянул голову в воротник и пошел домой, повернувшись спиной ко всем ужасам. Но дождь не переставал безжалостно преследовать его, маршировал за ним следом, шлепал по грязи, точно колонна в походе. Маршевый шаг сквозь топи вечности! А дальше — домой? Но куда, собственно? Такая каморка не дом! Верно ведь? А дальше — в каком направлении идти? Деревня кажется поставленной на голову! Небо превратилось в широкий поток, дома, словно разбитый, подхваченный волнами флот, плавают перевернутые, крышами в воде (иными словами — килем вверх). Коньки крыш прочерчивают килевой след в глубине, в глубине, что находится вверху, и внизу, и повсюду. И Малетта, чувствуя, что его толкают в спину, истязают, насилуют, а потом еще мокрому и продрогшему дают пинка в зад, шатаясь от сильного ветра (он, казалось, едет верхом на буфере) и как бы сдерживая собою сотни напирающих, толкающихся тел, всю нечисть этой ночи, что, сопя от ярости, гналась за ним, — Малетта наискось пересек Тиши и добрался до своего так называемого «дома».
Он ввалился в сени. Похоже было, что сам господь бог плеснул чан воды в открытую дверь. У Зуппанов в кухне горел свет. Он пробивался через узенькую щелку и золотой, манящей полоской ложился у самых его ног. Малетта наступил на эту полоску сначала левой, потом правой ногой — так затаптывают уголек, упавший на пол. Но свет из кухни не дал себя растоптать. Он по-праздничному, по-рождественски широкой золотой лентой обвился вокруг стоптанных башмаков, до того набравшихся влаги, что в них чавкали пальцы.
Он прислушался. В кухне старики разговаривали друг с другом. Прислушался, но разобрать, о чем они говорят, не мог. С минуту постояв в нерешительности, он постучал и открыл дверь.
Безобразие, и все тут, сказала старуха. Потом повернулась и взглянула на него. Сущее безобразие. Вот и все, что ему удалось услышать. На этом их разговор оборвался.
Оба старика сидели за столом, за белым кухонным столом между побеленных неуютных стен, безобразно оголенных светом лампочки без абажура. Они вытаращились на Малетту, видно удивились, что он так вымок. Сначала они пристально взглянули на его лицо, потом на плащ и на башмаки, с которых стекала грязная вода. Окинув его с головы до пят оценивающим взглядом (заодно и образовавшуюся лужу), они опять уставились на его лицо, надеясь прочитать на нем хоть какое-то объяснение.
— Я хотел только пожелать вам счастливого рождества, — сказал Малетта.
Оба принужденно улыбнулись.
— Ах так! Ну, ясно.
— Нельзя ли мне поставить башмаки возле плиты? И посушить здесь пальто? — спросил он.
— Конечно, пожалуйста! Вон там натянута веревка, на нее можно повесить пальто. Где ж это вы так промокли?
— Где? — Он даже глаза выпучил. — Да ведь дождь льет как из ведра!
— Это верно, но что вы, спрашивается, забыли на улице? Или собрались фотографировать дождь?
Малетту стал трясти озноб, так что зуб на зуб не попадал.
— Рождественская прогулка! — стуча зубами, пробормотал он. — Рождественская прогулка! Я всегда ее совершаю. Вроде как Фауст свою пасхальную прогулку! — Малетта снял пальто. — Тут ему и встретился пудель. Знаете вы это? Знаете ли вообще, кто такой Гёте? — Вытянув руки, он держал намокшее пальто подальше от себя.
Старик искоса на него поглядел.
— Еще бы не знать, — сказал он. — Король поэтов.
А Малетта (он наконец повесил пальто на веревку):
— Верно. И главное его произведение — «Фауст». — Он растянул пальто пошире, чтобы разгладить образовавшиеся складки. — Вы его, конечно, никогда не читали, и я рад за Гёте, — сказал он. — Ах да! Надо, чтобы вы это знали. (Он окинул кухню подозрительным взглядом.) В пуделе, что встретился Фаусту, сидел черт. И как вы полагаете, что он сделал — я о Фаусте говорю? Он сказал: «Вот, значит, чем был пудель начинен».
— Пудель, — повторила старуха, — помнишь? Бог ты мой! Какие же они милые, эти пудели! И прежде до чего были в моде. А нынче редко-редко когда их встретишь.
Малетта сел на стул и стал стягивать башмаки. Он сказал:
— Существует еще и рождественская собака, слыхали вы о такой? Она маленькая, ну, скажем, величиной со шляпу. — Он сбросил размокшие башмаки (звук был такой, словно двое влюбленных обменялись страстным поцелуем). — Мерзкая, отвратительная собачонка! — В носках у него оказались огромные дыры. Он встал и медленно проговорил: — Зеленая! Она зеленая, эта собачонка! — И смерил чету Зуппанов выжидательным взглядом.
Старик расхохотался.
— Ага! Наверно, от елочных иголок!
— Она не жрет елочных иголок, — отвечал Малетта. — Она выедает мозг из черепов наших граждан. Куда мне поставить башмаки? — осведомился он.
— Вон туда, — несколько смущенная, ответила старуха. И указала на угол у плиты, где уже стояла пара чьих-то башмаков.
Малетта пошел, поставил свои рядом и сказал:
— Черт подери, точь-в-точь два танка!
— Это ботинки фрейлейн Якоби, — пояснила старуха. — Она, бедняга, вчера промокла до нитки. Они школьную экскурсию устраивали!
Он как зачарованный уставился на ботинки учительницы. Так называемые «гойзеры» были подбиты такими гвоздями, что страшно делалось, и вообще выглядели до ужаса грубыми, даже жестокими.
— Да, она вчера ходила на экскурсию! — разговорился старик. — Они на Большую Кабанью гору лазали!
— В такую погоду? Да они рехнулись, что ли? — воскликнул Малетта.
— На лыжах вздумали покататься. — Старик расхохотался.
(Чтобы это понять, надо сначала узнать следующее: господин Лейтнер слушал прогноз погоды по радио и в согласии с таковым высчитал, что на Кабаньей горе уже должен лежать снег, то есть не везде, а на ее выветрившейся вершине, которую нельзя было разглядеть снизу, ибо она тонула в облачном море. Итак, вся школа отправилась в путь, все стадо баранов с лыжами и палками, во главе печального шествия — господин Лейтнер и фрейлейн Якоби, он в качестве бараньего вожака неизменно впереди, — уже наверху раздался крик: «Ну ребята! Что я говорил? Вот вам и снег!» Дело в том, что между деревьев виднелось что-то белое, но белое оказалось всего-навсего обрывком облака. И из этого облака лилась вода.)
— Она вся насквозь промокла, — продолжал словоохотливый старик. — А вы себе только представьте, как же вымокли дети — они-то не так хорошо были одеты, и таких крепких башмаков у них тоже не было.
— Но она сказала, — вмешалась старуха, — что правильным мальчишкам и девчонкам это не повредит. Ребят надо укреплять. Это называется «закалка»!
Малетта не сводил глаз с башмаков. Они скалили гвозди, точно зубы, а между гвоздей налипла жеваная трава — как в коровьей пасти.
— Сегодня она домой уехала, — сказал старик.
— На праздники уехала, — пояснила старуха.
А Малетта:
— Что ж! Это мне рождественский подарок! Завтра можно будет дольше поспать. — Он еще раз бросил взгляд на свое пальто, потом кивнул старикам, и уже в дверях, полуобернувшись — одна половина его лица была еще на свету, другая уже впотьмах, — сказал: — Эти горные башмаки у плиты воняют так, что дурно становится.
В одних носках он медленно поднялся по лестнице. Тьма окружила его наподобие жирной массы, напоминавшей вонючую мазь, которой солдаты чистят свои сапоги. Он почувствовал тошноту. Весь дом — так ему по крайней мере казалось — вдруг пропах кожей и потными ногами, словно казарма, и этот запах оживил в нем воспоминания. Но вот лестница осталась позади, он уже брел ощупью по извилистому коридору, тянувшемуся под скосом крыши, гулкому от шума дождя. Старые стоптанные половицы со скрипом прогибались под его ногами. Похоже на скрип колес той телеги, на которой они увозили убитых. И вдруг перед ним опять возник висельник. Малетте чудилось, что он висит в нем, как гигантский язык в колоколе, в любой миг готовый зазвонить. На него точно столбняк нашел. Он остановился, в течение нескольких секунд не решаясь двинуться с места. Над его головой водяные розги секли крышу, казалось, они вдребезги разнесут всю черепицу. В тот день дождь тоже выбивал генеральный марш на прикрывавшем трупы брезенте, и тем, что лежали под ним, не было покоя, хотя этот барабанный бой их уже не касался; они шевелили ногами и руками и вздрагивали (как собаки, которым снится псовая охота); поневоле казалось, что они еще живы. Все это было давно, все это уже позабылось. Впотьмах он вытянул руку, стараясь нащупать свою дверь. Но от его движения висельника качнуло. Холодные, вяло болтающиеся ноги словно бы изнутри ударили его в живот. Он зашатался, как пьяный, стал раскачиваться из стороны в сторону — точь-в-точь колокол. Но дробь дождя поглощала любой другой звук: дробь выстрелов, например, отдававшихся в каменоломне… Внезапно в руке у него оказалась дверная ручка, пальцы обвились вокруг холодного металла, но, когда он нажал на нее и дверь со скрипом открылась, Малетта понял, что ошибся и это вовсе не его дверь.
Он хотел справа нащупать выключатель. Нет. Выключатель был слева. Он поколебался. Потом все же включил свет, на мгновение ослепивший его. Сначала он постоял на пороге, потом сделал два шага — вторгся на вражескую территорию. Воняло там, как в сапожной мастерской! Запах кожи, исходивший от этой учительницы, ненавистный запах ее башмаков засел у него в носу и доводил его до сумасшествия. Ему чудилось, что он обнюхивает ноги марширующей колонны! Вдыхает вонь солдатских сапог. И — он глазам своим не поверил — вдоль стены стояло по меньшей мере семь пар башмаков, семь пар солдатских ног фрейлейн Якоби стояли в молодцеватом строю, как на смотре, когда фюрер держит речь перед войсками.
Но он это видел своими глазами. Потом взглянул на кровать и перину, лежащую на ней. Перина была в розовом чехле. Потом — на лыжи и лыжные палки. Покрытые славой, они стояли в углу. Потом снова взглянул на башмаки и снова на кровать. Небрежно брошенная перина приобрела форму женского тела. Он покосился на лыжи и палки. На палках были острые железные наконечники. Покосился на кровать. С кровати на него уставился розовый зад. Он шагнул к палкам. Они уперлись в пол железными наконечниками. Слева он чувствовал героический взор зада. Чувствовал лишь одною стороной тела. Башмаки справа всем строем топтали его желчный пузырь.
Тогда он схватил одну из палок, занес ее над головой как копье, и ринулся к перине. Но в последнюю секунду опомнился. Поставил палку на место. Выключил свет, захлопнул за собою дверь и, совершенно обессиленный, потащился к себе в комнату.
На тумбочке около кровати лежала черная книга. Он еще не успел начать ее. Даже не раскрыл пи разу. Не заглянул в нее и в этот вечер.
Малетта разделся, залез под одеяло и потушил лампу. Он боялся, он был в отчаянии. В темноте комнаты он искал вифлеемскую звезду. Но все звезды стали черными. Он повернулся на бок, попробовал глубоко дышать. Но сон-избавитель не шел к нему. Он со стоном перевернулся на другой бок, но сон-избавитель не шел и не шел к нему. Тогда он лег на спину и вперил взгляд в потолок, невидимый во мраке. В водосточной трубе булькала вода, в водосточной трубе плакал чей-то голос, и он, как уже не раз бывало, остался один на один со своими мыслями, с теми мыслями, что все более и более тесной спиралью вились вокруг одной темной точки, вокруг мрачной световой точки, вокруг темнейшей точки темноты, вились наподобие насекомых, что по ночам слетаются к лампе, но загипнотизированные не светом, как те, а мраком, ядром мрака, до того черным, что оно слепило как свет.
Матрос ничего похожего не испытывал. Ни свет, ни тьма мира не ослепляли его. Он поужинал и погасил лампу. Теперь он сидел и по обыкновению курил трубку.
Он думал: у нас сегодня двадцать четвертое декабря, ни больше и ни меньше! Так думать он считал весьма разумным. Его рождественская звезда горела в плите и грела ему ноги. Она не указывала пути пастухам (ни христианину, ни язычнику), не указывала и моряку — наподобие маяка мигая на пустынном горизонте, — а значит, был вечер как вечер: свет и тени на потолке, за окном голос дождя, непонятно что выкрикивавший. Матрос изредка к нему прислушивался, но не стремился истолковать его зовы, расшифровать азбуку Морзе, получить «благую весть», она ведь могла оказаться печальной.
Но внезапно он подался вперед, ему вдруг почудились шаги со стороны леса.
Он затаил дыхание и прислушался.
Ничего — только дождь шумел за окном.
Ничего — только буковые поленья трещали в плите.
Ничего — только кровь стучала в висках.
С шагами все это ничего общего не имело.
Он опять откинулся на спинку стула, и тень его, сидевшая на стене в глубине комнаты — матрос втрое выше и шире его, — тоже откинулась и опустила голову.
Прошло время. Совсем немного времени. Огонь в плите высоко взметнулся и осел. Вспыхнул и погас. Матросу снова послышался шорох. Шорох как будто бы приближался к дому, делался все отчетливее: легкое похрустывание сухих веток, равномерное шуршание листьев, словно кто-то в темноте торопливо, но с опаской пробирается по лесу, тщетно стараясь ступать неслышно.
Итак, он встал и подошел к окну (к тому окну, что смотрело на лес). Его разобрало любопытство: что же такое там происходит? Неужто сегодня, в сочельник, да еще в такую непогоду какой-то человек или нечто человекоподобное таскается по лесу?
Он вытер рукавом стекло, уже замутившееся от его дыхания, и сделал попытку вглядеться в темноту, попытку вполне несостоятельную разумеется. Шорох, похожий на торопливые шаги, приближался. И вдруг стал ясно различимым, но это было уже не похрустывание и шуршание в лесу, а шорох на лужайке перед домом. Матрос напрасно напрягал зрение. Из окна ничего нельзя было увидеть. Стекла отражали огоньки догорающих в плите углей, отражали его собственную голову, он видел ее, видел огонь, а того, что было за этим, видеть не мог.
Он уже собрался открыть окно, под окном раздавались шаги, и это начинало его беспокоить: кому понадобилось бродить под его окном? Он уже положил руку на шпингалет, но тут (и это — черт возьми! — было также необъяснимо) раздался громкий стук в дверь.
Матрос вышел в сени и отпер дверь. Свет из комнаты упал в ее проем. Упал на человека, который стоял на дожде с широко открытым ртом и, казалось, кричал. Матрос понятия не имел, кто это такой. Но потом все же узнал его. Старик Айстрах, мастер лесопильного завода. Свет падал ему прямо в разинутый рот.
Он заговорил не сразу. Видно, очень был перепуган. Он стоял перед дверью, как утопающий, ловя воздух ртом; вода текла с него, словно его только что выловили из моря. В правой руке он держал какую-то штуку, которую и поднял к свету — показать матросу. Потухший фонарь — только и всего.
Старик наконец закрыл рот, проглотил слюну и снова открыл.
— Одолжи мне спичек, — пробормотал он, — фонарь погас, а мои отсырели.
Он поставил ногу на порог и вдруг протиснулся в дом, захлопнул за собою дверь, как будто за ним гнались, и даже засов задвинул.
Матрос поначалу ни слова не проронил. Пустил старика в комнату. Потом пристально на него посмотрел, взял с комода коробку спичек и подал ему.
Старик сунул ее в карман.
— Благодарствуйте, — сказал он (словно получив на чай). Сдвинул шляпу на затылок. Потер лоб ладонью, как только что проснувшийся человек, и нельзя было понять, отирает он капли дождя или пот. Он поставил фонарь на стол и при этом недоверчиво покосился на матроса.
— В самой чаще, — пробормотал он, — в самой чаще вдруг взял и погас. Надо же! — Секунду-другую он простоял без движения, словно бы вслушиваясь в ночь. Потом его оцепенелость прошла, лицо обмякло. Он бросил взгляд на свой фонарь, на матроса. Его губы непрестанно шевелились, хотя он ничего не говорил.
— Все заросло, — сказал он наконец. Но что означали эти слова, не объяснил.
Матрос, наблюдая за ним со стороны:
— Ну же! Вы хотели зажечь свой фонарь!
Айстрах:
— Верно! У вас найдутся спички?
Матрос:
— Да они же у вас в кармане!
Старик оторопел, сунул руку в карман и вытащил коробок. Покачав головой, он потянулся к фонарю.
Матрос наблюдал за ним. Он думал: спросить его или нет? И спросил совсем о другом: что он делал в лесу в такую пору?
Старик махнул рукой. И сказал:
— Ах, господи! Когда человек одинок, как я… — Он открыл фонарь и стал то выкручивать, то опускать фитиль.
Это был штормовой фонарь, который, собственно, не мог погаснуть. Старик все выкручивал и снова вкручивал фитиль. Матрос наблюдал за ним с возраставшей подозрительностью. Но тот с серьезной миной крутил фитиль вверх-вниз, вряд ли можно было объяснить, зачем он это делает. Вдруг он оставил свое странное занятие, зажег спичку, сунул ее в фонарь. Фонарь был в полной исправности и мигом зажегся. Как же. спрашивается, он мог потухнуть, будучи вполне исправным? Сейчас в нем горел светлый, спокойный огонек, бросавший рыжеватый отблеск на стол и стены.
— Вот видите, — сказал матрос. — Опять загорелся! — Сам же подумал: теперь бы надо спросить, не то — только я его и видел.
Но Айстрах не ушел. Похоже, что и не думал уходить. Он стоял, уставясь в пустоту, словно в ожидании какого-то сигнала. Его подсвеченное снизу лицо напоминало большое вслушивающееся ухо. Он не двигался, казалось, спал и одновременно прислушивался. Но слышен был только дождь.
Матросу стало не по себе. Чего ждет этот старый хрыч? Но так как прислушивание не менее заразительно, чем зевота, он и сам начал прислушиваться.
Ничего — дождь барабанит по крыше.
Ничего — дождь идет по лесу, идет в сочельник. На тысяче птичьих лапок идет по ковру опавшей листвы.
Матроса как толкнуло что-то:
— Ну, а теперь скажите, что случилось с моим отцом? Ведь вам известно, почему он наложил на себя руки!
Айстрах повернулся к нему; весь вид его говорил, что он не понял вопроса. Затем он медленно поднял свою исхудалую руку и приложил к губам указательный палец.
— Хватит играть в молчанку! — сказал матрос. — Говорите! И черту всю эту таинственность! — Он уже расстегнул воротник, чтобы ругаться дальше (расстегнул, чтобы он у него не «лопнул», как говорят в северной Германии). Но в этот миг что-то донеслось до его слуха. Он бросился к окну и распахнул его. Ночь, черная и мокрая, ворвалась в комнату.
— Кто там?
— Мы!
— Кто это мы?
В окне показались две промокшие шляпы: под одной — окладистая борода, под другой — красная рожа.
— Хабергейер и Пунц.
— Черт возьми! Что вы тут делаете?
— Ничего.
Оба бесстыже ухмыльнулись.
Матрос крикнул:
— A-а! Просто-напросто прогуливаетесь!.. Входите-ка! — добавил он. Закрыл окно, вышел в сени и отпер дверь.
Они вошли и состроили изумленные физиономии.
— В чем дело? Что-нибудь случилось? — поинтересовались непрошеные гости. Тут они заметили старика и как будто очень удивились: — Ах, вот оно что! Кого мы видим! — Они вплотную подошли к Айстраху и вылупились на него.
— Что ты здесь делаешь? — спросил Пунц.
— Ты же насквозь промок! — заметил Хабергейер.
Матрос встал между ними.
— Хватит валять дурака! — сказал он.
Хабергейер раздулся за своей бородой.
— Проклятие! Как ты разговариваешь со старшими?
На это матрос:
— А как прикажете разговаривать с людьми, которые ночью заглядывают в чужие окна? — Прищурив глаза, он смерил взглядом сначала одного, потом другого. — Вы, верно, за дурака меня считаете все трое, а? — Его глаза, как осколки стекла, блеснули из-под век.
Пунц обозлился.
— Мы шли мимо, — прорычал он. — Может, мимо твоей халупы запрещено проходить? Или здесь нельзя с горы спускаться?
— Нельзя, — отвечал матрос. — На то есть дорога.
— Мы с дороги сбились, — сказал Хабергейер.
Матрос махнул рукой.
— Вы мне зубы не заговаривайте! Когда здесь горит свет, нельзя сбиться с дороги. К тому же я видел, как вы совали носы в мое окно!
Хабергейер вдруг переменил тон.
— Слушай, — сказал он. — Ты совершенно прав. Мы заглядывали в окно. Дело в том (он засмеялся), что там, наверху, мы видели фонарь, и вдруг он исчез. Ну, нас, конечно, заинтересовало, кто там бродит, согласись, это ведь странновато. Мы и подумали: может, это ты. И заглянули в окно. Вот тебе и весь сказ.
Айстрах схватил свой фонарь. Теперь он покачивался у него в руке, отбрасывая красноватый отсвет на стену, — беспокойное блуждание, пляска светящихся пятен, и среди них гигантские тени четырех мужчин, качающиеся, как деревья при ураганном ветре.
Матрос пожал плечами.
— Ну что ж, — сказал он. — Все может быть, хоть я не верю ни одному вашему слову. — Он повернулся к столу, взял свою трубку и снова набил ее. Потом сказал: — А теперь желаю всем спокойной ночи! И забирайте с собой вашего друга! Он, кажется, немного не в себе, больно уж его дождь размочил.
Хабергейер прищурился.
— Страху, что ли, натерпелся наш старик?
Матрос насторожился.
— Возможно, — ответил он. — Я ничего об этом не знаю. — Он схватил со стола коробок спичек, неторопливо раскурил трубку и повернулся к ним. — Вас это удивляет? — спросил он. Его глаза опять стали двумя блестящими щелочками; они впились в замаскированную бородой морду егеря. Матрос сказал: — Он ведь всегда чего-нибудь боится. Ветра, туч… мертвецов, что ходят среди живых. Он и печи для обжига кирпича боится, по его мнению, в ней что-то нехорошее случилось.
Действие его слов сказалось незамедлительно. Оно было не так уж велико, но в высшей степени неожиданно. На какую-то долю секунды с лица Хабергейера как бы соскользнула борода, более того, его лицо, казалось, подобно маске, соскользнуло с другого лица.
— Ах так, — сказал он. — Я этого не знал! — Голос его вдруг охрип.
Матрос меж тем обернулся к Пунцу. (Тот был еще пунцовее, чем обычно!)
— И вы, видно, тоже сама невинность! — сказал он.
А тот (со своим гигантским орлиным носом):
— Чего старику бояться, гм? Здесь ему бояться нечего! Здесь все в полнейшем порядке.
Матрос:
— Приятно слышать.
Хабергейер старику!
— Эй ты, Айстрах! Ты чего-то боишься?
А тот:
— Нет! — И что есть силы затряс головой.
— Вот видишь, — сказал Хабергейер. — Ничего он не боится.
— Дождь, — пробормотал Айстрах. — Дождь!
— Пошли! — коротко сказал Пунц.
— А темень-то какая! — вздохнул Айстрах. Он сделал шаг вперед и взмахнул фонарем. Четыре тени на стенах задвигались: весь домишко стал покачиваться, как корабль, ночью плывущий по неспокойному морю. — Вы крались за мною! — прошептал он. — По всему лесу гнали меня!
— Идем! — сказал Пунц. — Твой фонарь ведь опять горит.
— Пошли! — И Хабергейер подтолкнул обоих к двери.
Матрос поглядел им вслед.
— Внизу будьте поосторожнее! — сказал он. — Там на дороге море разливанное, если споткнетесь — утонете! Жалко будет вас всех троих.
Он захлопнул за ними дверь, задвинул засов. Вернулся к своей плите. Рождественская звезда слегка потускнела, но все еще излучала тепло. Из поленьев, что создали и питали эту звезду, уже не прорастали языки пламени, поленья теперь только тлели и тихонько потрескивали, совсем как сухая листва на дубах. Матрос сел и задумчиво уставился на печной жар. Этот треск напомнил ему что-то, напомнил запах дубовой коры… И внезапно все предстало перед ним: дорога, уходящая в ночь, он стоит, опершись на перила моста; под мостом булькает вода и чей-то голос шепчет: «Слушай! Нам надо потолковать о старике. Он опять треплется, где ни попадя, необходимо что-то сделать».
А другой голос отвечает… Что, собственно, он отвечает? Матрос немного подумал — и вспомнил. Другой голос в темноте ответил:
— Сделать можно только одно.

А потом год подошел к концу, да и дождь внезапно прекратился. Утром в канун Нового года казалось, будто что-то новое стоит у дверей. Все, следовательно, поспешили открыть их — очень уж хотелось узнать, что там такое. Но за дверями ничего нового не было, только погода переменилась. Задул холодный восточный ветер, разорвал облачную пелену, и дыра в ней оказалась светло-зеленого цвета — как надежда. Все стали смотреть на эту дыру.
Оптимисты взволновались. Ветер они сочли за добрый знак, равно как и облака и дыру в них, какой бы цвет она ни принимала.
Они заранее припасли — из осторожности и потому что таков обычай — марципановых свинок, а сейчас вооружились гвоздями и молотком, чтобы прибить к притолоке ненаступивший, а следовательно, еще не обесчещенный год! Вот он и висел на двери. Вроде как отрывной календарь.
Они прочитали: «Правит этим невисокосным годом Марс; золотое число года — 16; эпакта XIV, солнечный круг 2».
Так. Теперь им это известно.
Они строили энергичные физиономии, заставляли играть мускулы. Пришла пора начать новую жизнь! К примеру, произвести на свет еще парочку детей или купить новую молотилку, а стоимость ее сэкономить на налоге, во всяком случае, повысить свой «жизненный уровень» (прогрессивная цель ведь всегда хороша). Год простирался перед ними, как поле, которое только их и ждет. Значит, надо «засучить рукава и взяться за дело» (как пишут в газетах); 365 дней и столько же возможностей! Их надо не проворонить, суметь использовать.
Другие, конечно, думали об этом по-другому. К примеру, Айстрах, мастер лесопильного завода, который первого января должен был выйти на пенсию, кстати сказать с большим опозданием. Он в это утро чувствовал себя так, словно он стоит на самом краю земли и кто-то мощным пинком в зад выдворяет его из ее великолепия. Но, пожалуй самое скверное было то, что ему пришлось водить по всем помещениям лесопильного завода какого-то парня и все ему показывать; парень явился сменить его, а пока что вел себя так, словно явился спасать страну.
Перед паровой машиной они остановились.
— Вот это — машина, — пояснил Айстрах. — С ней, голубчик мой, надо уметь обращаться! Она как женщина — с капризами.
— Она уже вконец устарела, — заметил парень.
— Все может быть, — отвечал Айстрах. — Но, видишь ли, такому старому дураку, как я, она еще и сейчас кажется вполне современной. — Он повернул рычаг, и машина заработала (она пыхтела и отдувалась, как бедняга человек, погнавшийся за прогрессивной целью).
Парень поморщился.
— Старая железяка! — Он старался перекричать шум.
Айстрах не разобрал слов, но по гримасе, которую состроил парень, догадался, что это хула. Погоди-ка, подумал он, я тебе сейчас покажу! Он повернул второй рычаг, и в соседнем зале начали неистовствовать пилы.
Тут произошло следующее: поскольку пилам нечего было пилить, иными словами, они ни на какое сопротивление не натыкались, машина вдруг как с ума спятила, стала всe быстрей и быстрей крутить свои валы и колеса, пришла в такое бешенство, что подшипники задымились, а ритмическое постукивание поршней перешло в такое неистовство, что деревянное здание угрожающе закачалось.
— Выключай! — проревел парень. Айстрах хохотал. Здание тряслось, и казалось, вот-вот развалится.
— Выключай! — еще громче заорал тот. Он мигом сообразил всю опасность положения и, заметив по лицу старика, что тот его не слышит, да, видимо, и не хочет слышать, оттолкнул его и сам повернул рычаг.
— Ты что, пьян? — накинулся он на старика. — Такой бы сейчас пожар устроил…
Помещение было полно дыма, пара, запаха раскаленного металла и кипящего масла.
— Ерунда! — презрительно проронил Айстрах. — С ней надо уметь обращаться, вот тебе и все!
А парень (еще презрительнее):
— Вот оно что! Это ты называешь «уметь обращаться»! — Он пощупал дымящийся стан и злобно кивнул. — Вот что, друг любезный, — продолжал парень, — сейчас тебе это сошло! — Он повернулся, с головы до пят оглядел старика и добавил: — Тебе давно пора в богадельню.
Бормоча какие-то таинственные проклятия, старик поплелся в чулан, где висела его роба. Отворил дверь, вытащил обшарпанные штаны и тужурку, насквозь пропахшие лесом (умерщвленным лесом, искромсанным лесом). Свернул их и для верности перевязал веревкой, так что сверток стал походить на большой ветчинный рулет.
Потом постоял, глядя прямо перед собой. В наступившей тишине он внезапно услышал, как течет и кружится воздух, как гулко проносится он над крышей, наполняя леса и долину тоскливыми шорохами. То была метла, которая подметала небо; то был ветер, угонявший пыль и золу; то было дыхание, задувавшее свечи и разгонявшее их легкий дымок. Странно, что сегодня он вдруг услышал ветер! Вернее, что сегодня осознал его. Ведь слышал-то он его постоянно. Ветер спокон веку сопутствует жизни, он слышен в пыхтении паровой машины и в пыхтении пилы, иной раз люди вслушиваются в ветер, ибо их мучит неясное чувство, будто они чего-то недослышали! Но тщетно! Пыхтение работы (пыхтение пилы, пыхтение собственных легких) всегда громче (и слава богу!), хоть это и жутковато, ибо весть, которую ветер несет тому или иному, не может быть доброй вестью.
Айстрах склонился над своим свертком, словно он сам был завернут в эти лохмотья, семидесятилетний детский трупик, с которым ему предстояло распрощаться. Он поднял его и сунул под мышку. Затем с ненавистью покосился на парня, который, нимало о нем не заботясь, расхаживал подле машины. Новый мастер! Да гори все огнем! — подумал старик. Гори огнем лесопильня, и пиломатериалы, и лес! Несколько минут назад, когда машина работала с перегревом, он видел и землю и небо в огне, и это был великий миг, несравнимый с пустой и долгой жизнью.
Когда он вышел на свежий воздух (было ясно, что здесь ему уже делать нечего), зловещий порыв ветра ринулся ему навстречу, видно захотел сбить с ног старика. Он надавал ему оплеух и сорвал шляпу с головы. Стараясь удержать ее, Айстрах одновременно поднял обе руки. Сверток выскользнул и свалился на землю, а шляпа в это время уже неслась вприпрыжку по другой стороне дороги, мимо ржавших лошадей и чертыхающихся возчиков, перелетая через сложенные штабелями бревна. На секунду она скрылась из глаз, он тщетно ее высматривал. И вдруг обнаружил чуть пониже запруды, на волнах ручейка, по которым она — корабликом, какой пускают дети, — неслась вдаль, к морю. Возчики на площади нагло расхохотались. Указывали кнутами: «Глянь-ка! Вон она плывет! А ну-ка, догони». Великолепная караковая кобыла, уютно жевавшая овес из торбы, подняла хвост и стала мочиться; ее дымящаяся вонючая струя разбрызгалась у самых ног Айстраха. С мужеством отчаяния он сунулся под этот дождь и вытащил из лужи свой сверток. Тут ураганный ветер забрался ему под пальто — оно раздулось, как парус, — схватил старика синими обмороженными пальцами и под звенящим небом, под ярко-синим стеклянным куполом, в котором застывшие деревья свистели, как семихвостые бичи, легким галопом пронес его все триста метров до дома.
Фрау Пихлер, его испытанная домоправительница, месившая тесто в кухне, слышала, что он ворвался в свою комнату так, словно его принесло по воздуху. Она вытерла руки фартуком и пошла взглянуть на него. Он лежал поперек кровати и скрежетал челюстями.
— Если вам угодно разыгрывать из себя сумасшедшего, — сказала фрау Пихлер, — то вы не получите клецок к обеду!
Она долгие годы знала его и знала, что, когда он сходил с ума, угрозы быстро приводили его в чувство.
Но на сей раз ее психотерапия успеха не имела. Старик продолжал скрежетать вставными челюстями, наверно потому, что иначе они бы защелкали. Многоопытная домоправительница сообразила, что сейчас ему не поможешь, и оставила его в покое — пусть перебесится. Но уже через несколько минут он явился к ней на кухню и стал жалобно просить дать ему мисочку муки.
— Черт возьми! — сказала она. — Вы уже сырую муку начали жрать? Что ж, приятного аппетита.
Она дала ему просимое, и он удалился в свою комнату, так и не объяснив ей, зачем ему понадобилась мука. Немного погодя она услышала, что он подымается на чердак. Что он забыл там, наверху, было для нее загадкой. Больше всего (так она рассказывала) ей хотелось пойти за ним, потому что на чердаке множество балок и между ними протянуты веревки, на которых не только вешают белье, но, бывает, вешаются и сами. На беду у нее как раз готовился обед, а обед — это ведь не менее важно, и кушанье, конечно, пригорело бы, отойди она от плиты. А потому она подавила в себе любопытство, осталась (с поварешкой в руке) на своем посту, и никто никогда не узнал — хотя вообразить себе это все же возможно, — что делал на чердаке старый склеротический дуралей.
Попробуйте представить себе следующее: картина, изображающая романтический ландшафт, какие иногда висят в гостиницах и на постоялых дворах. Глубокий дол, окруженный лесистыми горами, голубое небо, зеленая листва, бурые штабеля дров. В центре справа — лесопильня или что-то в этом роде, если судить по типическим признакам: дым, весело поднимающийся из трубы, собака, прыгающая у двери, и на переднем плане слева — маленький человек, он склонился над бревнами, что-то делает с ними… Вдруг все исчезает, кроме человека. Только человек остался на картине. Одиноко стоит он на белом или на раскрашенном фоне, беспомощно и бессмысленно склонившись над сплошной белизною: он обречен на нескончаемую зиму. И только сейчас мы видим, как плохо написал его художник.
Как уже говорилось, сначала он лежал поперек кровати, белой ее никак нельзя было назвать, и тем не менее она походила на ту призрачную безбрежность, в которой он внезапно увидел себя парящим. Лежал в полнейшей прострации, внезапно предоставленный самому себе, — тому плохо написанному человечку, что торчал в центре картины. Слышал, как шумит ветер в стропилах, слышал, как он проносится над лесами. Старик был отдан во власть ветра. Великий страх овладел им, суеверное чувство, что в пустоте, которая его окружала, на нескончаемой белой равнине, готовится коварное нападение. В яростных толчках ветра, сотрясавших дом, ему слышалось беспокойное дыхание мертвых. А поскольку на его совести много чего было, как на совести каждого, кто оглядывается на свою долгую жизнь (таинственные знаки и иероглифы, которые он и сам не умел прочитать), ему показалось необходимым что-то предпринять, дабы отвести от себя ярость собачьей своры. Надо накормить их, сказал он себе. Я засыплю им мукой пасти! Засыплю им глаза мукой, чтобы они меня не видели! Поэтому он и принес муку из кухни, подождал у себя в комнате, покуда запах кушанья не известил его, что уж теперь-то фрау Пихлер не сойдет со своего поста у плиты, а потом снес на чердак, торжественно, как несут жертву к алтарю.
Сквозь щели в непрочной дранковой крыше, сквозь щели между досками щипца проникали вздохи мертвецов, хрипение спущенной своры. Он стоял на сквозняке в сером призрачном потоке воздуха, сам как мертвый, и редкие серые волоски трепыхались на его черепе. Он высоко поднял миску и пробормотал заклинание. Восточный ветер пронесся над долиной, захлебнулся было в лесах Кабаньих гор, выскочив оттуда, ударился о крышу и проник на чердак. Здесь под стропилами он забился, как пойманная птица, стал со свистом носиться меж раскачавшихся бельевых веревок, разбросал по воздуху паутину. Он хлопал легкими крыльями, кружился в танце и, коснувшись протянутой ему миски, швырнул горсть муки прямо в лицо старику. Тот, убежденный, что засыпал песком глаза дьявола, сам вдруг почувствовал словно бы песок в глазах. Его зоркий взгляд затуманился под мучными вуалями. Наверно, уже поспокойнее он отставил миску (ее нашли на чердаке, руку нищего, протянутую к Немилосердию). Потом слез по лестнице вниз, опять прилег и впал в сон, уже подобный смерти. Он лежал, как лежит на лесной поляне поваленное дерево, и храпел, словно — наконец-то! — ему удалось уснуть сном праведника.
А ветер между тем все крепчал и крепчал. Иными словами — обернулся ураганом. Он доставал дым из труб, разрывал его на мелкие клочки, запускал их под бирюзовое небо, а качающиеся скелеты в лесах, покорные его воле, неистовствовали, как трещотки в страстную пятницу. Стремянку, приставленную к яблоне, он с треском швырнул на забор и вдруг ударил крылом по окну с такой силой, словно кто-то хватил по нему кулаком. Но леса сейчас уже были церквами, пустыми и гулкими, ибо улетел старый год, и крыша облаков улетела, и господь бог улетел, а он (ветер) носился по их нефам и колоннадам, сдувал сухие листья в кучу, вихрем перебрасывал их из угла в угол, творя шелестящие молитвы. К Герте Биндер (она как раз шла к парикмахеру) он сладострастно залез между ляжек, покачивавшихся при ходьбе. И немножко обогрелся: там было очень тепло (ляжки у Герты никогда не мерзли). Затем, словно разнося весть об этой приятной встрече, он устремился вдоль улицы к Кабаньей горе, со свистом и гиканьем пронесся по черным кустам и но заржавелой траве на склоне горы и вдруг распахнул дверь в хижину гончара.
Матрос даже не оглянулся, он был уверен, что это пришла Анни (дочь старого бобыля, у которого он покупал молоко, а иной раз и масло). Анни со своим кувшином должна была вот-вот явиться, так чего же оглядываться, она и сама знает, куда поставить молоко. Но так как этого не произошло и матрос только почувствовал ледяной холод, ворвавшийся в комнату, чтобы похозяйничать в ней, то он, готовый к любой неожиданности, поднял наконец голову от работы и убедился, что дверь распахнул ветер.
Он встал с укоризненным видом и закрыл ее.
— Ветер, — сказал матрос. — Гуртоправ! Старый бродяга!
Матрос подумал о девочке, пасшей коз, которую он когда-то очень любил — ей тоже было бы теперь уже немало лет, если б она еще жила на свете. Вдруг он громко расхохотался: ему вспомнилось, что однажды произошло с этим милым созданием в его объятиях. Тогда люди еще знали, откуда ветер дует. Теперь же — черт его подери! — все шло шиворот-навыворот. Теперь ветры налетали откуда-то из покоев ночи, из кишечника подземного царства, тайком, бесконтрольно. (Тут уж не стоило хмуриться и задерживать дыхание.) Они проникали в дом через трубу, врывались через накрепко закрытые окна и сами открывали двери, как большие меделянские псы. Входили в комнату и усаживались за стол вместе с хозяевами, принимали участие в их скудных трапезах, а когда бывало пиво, наклонялись и сдували пену с кружек.
Матрос рассердился. Правда, он опять сел за стол, но к работе уже не притронулся, все равно это был бы напрасный труд. Время старило людей, смерть отнимала у них жизнь, забвение обволакивало их, и хорошо еще, что это было так. Иначе бы все глиняные сосуды разбились, в остовах кораблей нерестились бы рыбы, а в голове бы кишели дождевые черви, как в старом цветочном горшке. И было бы так, словно ты и не жил на свете, и напрасной была бы всякая работа.
Он думал, как ни верти, а эта история с дверью предвещает гостей. Но кто же собрался меня навестить?.. Ясное дело — малютка Анни! А она в счет не идет. Уж не старый ли простофиля Айстрах?.. Как знать, может, его коптилка опять погасла. А может, это его хотят убить! (Что кого-то хотят убить, было весьма правдоподобно, но матроса это больше не трогало, каждый должен когда-нибудь умереть, и чем раньше это случится, тем лучше для бедняги: ему по крайней мере уже не надо будет бояться смерти.)
И вдруг появилась малютка Анни, внезапно предстала перед ним с кувшином в руках, маленький ангел с большим белым светильником, пастуший ангел, сладостно пахнущий коровником.
— Поставь молоко возле плиты, — сказал матрос.
Анни сделала книксен и поставила молоко возле плиты.
Матрос смотрел на нее.
— А теперь иди-ка сюда!
Ему казалось почему-то, что за последние дни она переменилась, что-то с ней такое произошло, сокрушившее преграду между ним и окружающим его миром. В больших черных башмаках, подбитых гвоздями, она сделала несколько неуклюжих шагов и вступила в широкую солнечную лужу, причем несравненно осторожнее, чем вступила бы в навозную жижу на родительском дворе.
— Ну, скоро ты? — не слишком любезно сказал матрос. Он терпеть не мог эти застенчивые ужимки. Или она боялась забрызгать светом чулки, переходя через солнечную лужу?
Опустив голову и потупив глаза, она наконец приблизилась. Нелегко было в эту минуту угадать ее возраст, лет двенадцать, пожалуй, никак не больше.
— Немного поближе, прошу вас!
Она послушно сделала еще два шага. Золотисто-коричневые косы свисали ей на грудь, обрамляя тихое и серьезное детское личико.
Матрос внимательно смотрел на нее. И спросил:
— Что с тобой случилось? Почему ты молчишь? Или у тебя язык отнялся? Может, ты меня боишься?
Она ни слова не ответила. Закусила губу и покосилась на дверь.
А он:
— Ты не спеши! Сначала я хочу узнать, почему ты ходишь по комнате так, словно боишься, что я тебя съем?
Но она и на это ничего не ответила. Испуганная, вся сжавшись, она стояла у него между колен и так скрутила кончик своего фартука, что он стал похож на кукиш.
Матрос сдвинул брови, состроил строгое лицо, что не так-то легко далось ему, и сказал:
— У тебя, видать, губы срослись! Ну что ж! Постарайся разомкнуть их, не то с голоду помрешь. — Но тут его вдруг осенила удачная мысль, он даже обрадовался. — Хочешь, я сделаю тебе окарину? — спросил матрос. — Хочется тебе ее иметь? Да? Или нет?
Не поднимая глаз, она утвердительно кивнула.
У матроса легче стало на душе.
— Идет! Ты ее получишь. А знаешь ты, что такое окарина?
Анни покачала головой и осклабилась.
— Ага! И все-таки хочешь ее иметь. Так ведь? Ну ладно, сейчас я тебе объясню! Окарина — это инструмент. Ты вдуваешь в нее свои плевки, и она начинает звучать. Окарина делается из обожженной глины. И звук ее отдает землей. Он чуть-чуть грустный, чуть-чуть одинокий. Потому, видишь ли, что земля наша не такая веселая, какой кажется поначалу. Когда ты внизу будешь проходить мимо печи для обжига кирпича, обрати внимание, как там внутри гуляет ветер и как это звучит, когда он выскакивает из окон. Вот так же приблизительно звучит и окарина.
Анни стояла перед ним и не шевелилась. Ноги ее были зажаты его коленями. Он немножко сдвинул их, чтобы ощутить тепло ее ног. Тогда она, точно в какой-то игре, положила ему на грудь руку (восковые пальчики, ногти с черной каемкой) и погладила пуговицы его куртки — словно дырочки инструмента.
Он сказал:
— Я знавал когда-то маленькую девочку. Все-таки, пожалуй, побольше тебя. И у нее тоже были две толстые косы. И глаза как мартовское небо. Так вот, у этой девочки была окарина. Когда ей приходилось пасти коз — весной, и летом, и осенью — и она оставалась одна с ветром и козьим мемеканьем, там, внизу, у кирпичного завода, в высокой траве (а ветер мешал травы, как ее мать мешала похлебку), она всякий раз дудела песенку, или гамму, или хоть отдельные звуки, их нелегко было отличить от ветра, да так, словно сама с собой говорила. Она это делала, чтобы время не тянулось слишком долго. В молодости-то время кажется очень долгим, а земля очень большой. До меня всегда доносились эти звуки. Я ведь уж и тогда жил здесь, наверху. А потом — потом я спустился вниз и поцеловал ее. Я, видишь ли, тоже был молод в ту пору… Ну, хватит, иди! — внезапно сказал он и отвел глаза. Он шлепнул ее пониже спины; она повернулась так круто, что взлетела ее юбчонка, полная запахов коровника, и, стуча башмаками, побежала к двери.
Опять я один, подумал он. А как светло сегодня. Зимнее солнце глубоко заглядывало в дом и рисовало яркие пятна на мебели, превращая обычно серую комнату в угрожающе пеструю ярмарку, которая сейчас — покуда ветер бушевал в лесу и стукал сучья друг о дружку — в полнейшем своем безлюдье, во всей своей неслышности (матрос себя в расчет не брал) выглядела так, как должна выглядеть ярмарка, если сверхъестественный страх вдруг разогнал бы всех торговцев. Зато теперь ему была видна во всех углах и уголках пыль умершего года, сети, сплетенные пауками, широкий след от работы гончара, неизгладимые следы жизни и воспаривший над ними голубовато-серый табачный дьш.
Матрос неподвижно сидел, зажав коленями ангела из воздуха и тоски. На полу перед ним темно-блестящая лужа — подтаивающая грязь с башмаков Анни. Он посмотрел на лужу. Потом поднял голову и увидел ярмарку. Всеми покинутая, она покоилась на свету. Солнечные блики слепили глаза. Все шарманки умолкли, только сквозной ветер еще пел в дудках и дымовые вуали опускались, как сети, медленно уходящие под воду, чтобы, подхваченные невидимым течением, всплыть на поверхность. Так, снова один, он сидел посреди комнаты, а за окном ветки бичевали светящееся небо.
После обеда в «Грозди», который он, как всегда, съел под наблюдением учителя, Малетта тоже направился к парикмахеру, ибо время течет, и, если даже ничего не случается и ничто не движется вперед, волосы растут, правда неслышно, но растут и растут.
Нечто новое все же случилось: Малетта подходил к парикмахерской в новой тирольской шляпе. Купил он ее, как мы полагаем, в Плеши; там в большом магазине торгуют такими шляпами. В чистом белье марки «Егерь», с по-военному коротко остриженными волосами и в новой тирольской шляпе на них, он, надо думать, надеялся к новому году перехитрить свою судьбу и себя самого. По сколько бы мы себя ни обманывали, судьба никогда но позволит нам ее перехитрить, напротив, она перехитряет нас, и именно тогда, когда мы воображаем себя хитрецами.
Ничего такого не произошло (в том-то все и коварство), что бросилось бы кому-нибудь в глаза; подобные истории свершаются неслышно, точь-в-точь так, как растут волосы. Сначала Малетта досадовал не больше, чем обычно. Он вошел в парикмахерский салон, снял пальто, повесил на крючок свою новую шляпу и сел в одно из трех кресел. Другой клиент как раз собирался уходить. То был наш Пунц Винцент. Крепкие слова, произнесенные им напоследок, звучали как концовка проповеди, которую Фердинанд Циттер, в виду наступающего дня, прочитал несколько часов назад не слишком-то избранной публике.
— Так! — сказал он. — Точка! Понимаешь, коли все, так уж все, раз конец, так уж конец. Нет тебя больше, и точка! — Он застегнул куртку. Голова его была красна, как факел. — Тут уж не явятся тебе ни всадник, ни скоты, а разве что могильщик, чтобы спихнуть тебя в могилу. — Он нахлобучил на факел засаленную шляпенку, так что пламя слегка поуменьшилось, но зато его глаза, затененные провисшими полями, зажглись ядовитым огнем. — И хорошо, что точка, — добавил он (кукла из витрины, которую внесли в салон, чтобы приклеить ей новые волосы, стояла рядом и улыбалась ему). — Хорошо, что конец! Ей-богу, не жалко!
Я не знаю, впрямь ли синяя синильная кислота. Мне никогда не приходилось иметь с ней дело. Но если она синяя (что в конце концов вполне возможно), то это синева глаз Пунца Винцента.
Он смерил куклу уничтожающим взглядом (она продолжала улыбаться, хотя череп у нее был голый) и вышел на мороз, на мертвенный свет, причем так хлопнул дверью, что стекла задребезжали.
Малетта откинулся в кресле; неприятное ощущение возникло у него в животе: обед словно бы поднимался кверху (вернее, блюдо, называвшееся «Марш гренадеров»).
— Постригите меня, — сказал он. И сделал попытку рыгнуть, поскольку Фердинанд Циттер стоял сейчас в сторонке, а умеючи можно рыгнуть и совсем тихо. Но тут из задней комнаты заведения, предоставленной дамам, до него донесся хорошо знакомый голос, снова все взбудораживший у него в животе. Голос сказал:
— Вчера ночью приехал Константин.
(Этим Константином мог быть только Укрутник.)
— Он всю неделю здесь пробудет, — добавил голос.
Раздался голос парикмахерши:
— Здорово!
Малетте наконец удалось рыгнуть. Он проделал это так, что Фердинанд Циттер ничего не заметил. И сказал:
— Прошу вас, покороче! Особенни на затылке и над ушами. Люди уже смеются над моей прической.
И опять тот же голос:
— Знаешь, что он сказал? На пасху мы с ним поедем в итальянское путешествие. И еще сказал, что покупает вторую машину. Шикарную такую, американскую, знаешь!
Голос парикмахерши:
— Здорово!
Фердинанд Циттер захлопал ножницами и заметил:
— Вести из потустороннего мира! Там, видно, бог знает что готовится. Души умерших недовольны нами.
Но Малетта предоставил ему лишь одно ухо, другое было оккупировано голосом, который продолжал звенеть весело, как колокольчик на горном пастбище.
Сейчас голос говорил о предстоящей сегодня встрече Нового года; от восторга он взлетал до самой высокой ноты, переходил в пронзительный хохот, переплескивался в звонкую колоратуру, в тирольские трели.
— Но люди тупы, — говорил Фердинанд Циттер, — Они ничего не хотят замечать, не хотят видеть предзнаменований. Они отрицают бога, отрицают душу, отрицают потусторонний мир. Зарывают голову в песок и чувствуют себя в безопасности.
— А когда пробьет двенадцать, — звенел голос, — Константин выключит свет. Вывинтит пробки. И весь дом погрузится в темноту. Представляешь, что тут начнется!
Голос парикмахерши:
— Здорово!
Фонтан пронзительного смеха взметнулся вверх, так что задребезжали стаканы на этажерке и чувствительные нервы под кожей головы; заодно призывно зазвенели и бритвы, уже лежавшие наготове.
Взбешенный Малетта впился глазами в зеркало, наблюдая за происходившей с ним переменой. Боже милостивый! Чем короче делались волосы, чем резче делались черты его лица, тем оно становилось крупнее, необъятнее. Словно мясо под желтой кожей начало бродить, как творог. Словно это лицо вот-вот перейдет в другое состояние, растекшись, примет новые формы. И тут у Фердинанда Циттера наконец вырвалось то, что всякий раз наново у него вырывалось, что было давно знакомо Малетте и имело бороду в десять раз длиннее холеной окладистой бороды Алоиза Хабергейера.
— Я видел «апокалиптических всадников»! Перед заходом солнца. Огромные! Они походили на большие тучи. И галопом мчались по небу к болотам.
— А теперь явится зверь из бездны! — сказал Малетта.
— Куда там, — ответил Фердинанд Циттер, — он уже здесь. Двурогий зверь среди нас.
Голос парикмахерши:
— Здорово!
— Я из породы овец, — продолжал он. — Мне нечего бояться зверя. Как вам известно, я гуманитарий. И делаю все, что в моих силах, — предостерегаю людей.
Наконец со стрижкой покончено, волосы Малетты в порядке. Теперь он и вправду выглядел как преступник, обритый правосудием.
Он рассматривал себя в зеркале.
— Гм, — больше Малетта ничего не сказал.
В этот момент Герта Биндер собралась уходить.
— Получите, господин шеф! — крикнула Ирма.
Малетта не обернулся.
Он слышал звон мелкой монеты, слышал «спасибо» Фердинанда Циттера; он не спускал глаз с зеркала и не смел обернуться. Но Герта, видимо, все же узнала его, несмотря на произведенную над ним операцию, даже сзади узнала, ибо, когда она прогалопировала за его спиной, как один из коней этих подозрительных всадников (но без всадника и без апокалипсиса), лишь на какую-то долю секунды мелькнув в зеркале, так караковая кобыла появляется в окне и тут же скрывается из глаз (а возница в отчаянии стегает ее за то, что она понесла дребезжащую телегу с молочными бидонами, заодно и его самого), итак, Герта, видимо, узнала Малетту и по достоинству оценила его прическу, во всяком случае она заливисто заржала, заржала, как вырвавшаяся на волю кобылица, и, продолжая ржать, выскочила из салона.
Вне себя он вскочил, схватил свою новую шляпу, пальто, бросил парикмахеру несколько монет, тот крикнул: «Подождите, господин Малетта! Это же слишком много!» — но Малетта уже был за дверью; на трепещущем воздухе, на резком свете стоял между ярко-желтыми световыми дубинками и темно-синими тенями, успев еще разглядеть в вихре пыли, как Герта — юбка ее забилась меж буйно двигающихся ляжек — скрылась за углом.
— Гнусная баба! — проскрежетал он.
Но тут вихрь пыли окутал его, забил ему рот песком.
— Гнусная баба! — Песчинки хрустели у него на зубах. Он плюнул, и слюна попала ему на галстук в синих и желтых полосах, как этот день.
А затем началась головная боль! Как бунчук, выросла вдруг в мозгу. Как позвоночный столб, стояла в его по-прусски остриженном затылке, звеня и звякая при каждом движении.
Он перешел через улицу и укрылся в доме. Соломинки и обрывки бумаги, плясавшие на улице, вслед за ним прыгнули через порог и, шурша, остановились перед кухонной дверью. Он постучал.
— Как там у вас? Все в порядке пока что?
Изнутри послышалось:
— Гм? (Звук из глубин древности.)
— Хорошо! Я слышал, все в порядке. (Наконец-то он обрел уверенность.)
Чтобы удобнее было надеть пальто, он сначала нахлобучил шляпу. При этом заметил, что она ему велика, но, лишь подымаясь по лестнице, с трудом влез в рукава пальто, шляпа в это время покачивалась на его отогнувшихся ушах.
Надо подложить бумагу! — подумал он. И еще надо принять порошок от головной боли. У него появилось благое намерение прилечь, в пальто и в шляпе — так будет теплее. Но, войдя в мансарду еще при свете дня, он вдруг ощутил устремленные на него взгляды (да-да!) и потому остался стоять в дверях.
Засада! Фотографии уставились на него, как разбойники на свою жертву, когда уже окружили ее и по негромкому свисту из-за кустов всей толпой выходят на большую дорогу.
Это уже новость! Перегиб какой-то! Нарушение границ, спокон веку положенных неодушевленным предметам! Дабы и впредь они ее постоянно нарушали.
Борясь со страхом, он было ретировался в прихожую, но, не зная, куда деваться (головная боль звенела у него в затылке), в конце концов постучал к фрейлейн Якоби.
— Да! В чем дело?
— Это я! Разрешите войти?
— Пожалуйста!
Он робко приоткрыл дверь. Фрейлейн Якоби сидела на скамеечке у печки и смотрела на интервента двумя голубыми огоньками. На добродетельно сдвинутых коленях у нее лежала раскрытая книга (колени как пушечные ядра), ноги в шерстяных чулках, которым она придала военно-девственную позицию, были выдвинуты вперед, как два стража, отчего казались еще монолитнее.
— Простите за беспокойство, — пролепетал Малетта, — я просто подумал… надо мне посмотреть… — Он огляделся. Взгляд его прощупывал комнату, словно ища какую-нибудь лазейку или по меньшей мере тему для разговора, но башмаков больше не было, исчезло и лыжное снаряжение, приглаженная перина лежала на кровати и, уж конечно, не могла сойти за что-либо другое. Так что глаза Малетты волей-неволей уставились на ненавистные ноги «солдата на параде».
— Что вы имеете в виду? — колко спросила она.
— Посмотреть, как вам живется… и что вы делаете.
— Благодарю! Живется мне всегда хорошо. А что я делаю?.. В данный момент читаю.
Малетта вытаращился на нее.
— Что ж, — сказал он. — Вы, значит, не простудились на экскурсии! — И добавил: — Но мне кажется, я вам помешал. Если так, то, пожалуйста, скажите мне.
Она закрыла книгу и принужденно улыбнулась.
— Ни чуточки! Читать ведь я могу в любое время. — Она сложила руки на коленях и воздела к нему пустоту своего лица. — Почему вы, собственно, думаете, что я простужена? — Она с беззастенчивым любопытством смотрела на него.
А он:
— Ах, господи! Я это только предположил. Потому что вы так промокли на днях.
Она громко рассмеялась.
— Верно! Во время нашей лыжной прогулки! Господин Лейтнер вообразил…
— Я знаю, — прервал ее Малетта, — Он мне рассказывал.
— Несмотря ни на что, нам было весело, — продолжала она, — мы смеялись до упаду.
— Естественно! — отвечал Малетта. — И вполне понятно. Половина школы теперь слегла.
Эти слова, видимо, рассердили ее.
— Ах, вы все уже успели пронюхать, — ядовито заметила она. Потом вызывающе: — Для меня это непостижимо. Я в жизни никогда не болела.
Малетта тихонько заскрежетал зубами. Казалось, кто-то в подбитых гвоздями сапогах ступает по каменному полу. Он сказал:
— Вы, видно, лихая особа. У вас это еще с тех пор осталось.
Наступила пауза. Порыв ветра с треском налетел на дом и задергал оконные рамы. Оба они смотрели друг на друга. Скрестили взгляды, как мечи, сталь против стали, неумолимость против неумолимости, даже глазам было больно. Убить! — думал Малетта. Он почувствовал, что дрожит, а по коленям учительницы определил, что и у нее поджилки трясутся.
— Вы совершенно правы, — проговорила она наконец. — И я рада, что это так. Я успела научиться тому, что нужно (она откинула прядь со лба) подчиняться, и приказывать, и маршировать в любую погоду.
Напряжение Малетты разрядилось в ухмылке.
— У вас удивительные ноги, — сказал он. — Они стоят как часовые перед казармой. Сразу видно, что маршировать они умеют.
В настоящий момент фрейлейн Якоби не знала, как поставить ноги. Она покраснела до корней волос, отчего показалась еще более светлой блондинкой, чем была на самом деле.
— Я своими ногами довольна, — сказала она. — Они у меня в полном порядке. — И, повинуясь внезапному наитию, вытянула их — пусть поглядит хорошенько.
— Ну конечно, — воскликнул Малетта. — В том-то и беда! У вас все «в полном порядке». Вы «отличный парень»! Рост что надо, и лицо красивое. Эталон «боевой девы»! И вы, видать, этим гордитесь! Я вот спрашиваю себя: что же еще должно произойти, чтобы ваши «вера и красота» пришли в беспорядок?
Она широко открыла глаза. Большие, почти не затененные глаза, при виде которых во рту появлялось ощущение, словно ты раскусываешь абрикосовое ядрышко.
— Не знаю, о чем вы говорите, — холодно сказала она. — Вы ставите мне в вину то, что я здорова? И что у меня есть убеждения? Видимо, так! Потому что у вас их нет и потому, что вы больны.
У Малетты передернулось лицо. Головная боль внезапно вспыхнула в глазницах, перекинулась на затылок и уже пронзительно кричала в каждом корешке волос. «Штурм! Штурм! Штурм!» — горланило небо. «Хайль! Хайль! Хайль!» — орала боль. Он сказал:
— Ваших убеждений у меня больше нет. В нужный момент их умертвили в газовой камере.
Фрейлейн Якоби надменно улыбнулась.
— Вероятно, в сорок пятом, — заметила она.
— Нет, — отвечал Малетта. — Значительно раньше. Вы тогда еще не состояли в Союзе немецких девушек.
Он сердито отвернулся и пошел к окну, которое с жестокой яростью заливало солнце. Липа (или клен? — усомнился Малетта) махала ветками в воздухе.
— Существуют душевные болезни, — медленно проговорил он, — которые можно излечить только выстрелом в затылок. Говорят, что сейчас слишком много стреляют. Напротив! Слишком мало! — Он обернулся.
Она все еще сидела на своей скамеечке. Книга все еще лежала у нее на коленях, здоровенные ноги она вытянула, но корпус держала до того прямо, что казалось, корсетница укрепила его китовым усом. Так она сидела, храбро смотря на него. Глаза у нее были потрясающе голубые.
— Я с вами согласна, — сказала она. — Остается только решить, что есть болезнь и что здоровье.
— Совершенно верно, но кто возьмется решить этот вопрос?
— Никто, — отвечала она. — Его решит борьба.
Он стоял теперь вплотную перед ее вытянутыми ногами, чувствуя, что стоит перед безумием.
— Вот видите, — сказал он, — мы отлично понимаем друг друга. Жаль только, что у нас отобрали оружие.
Она усмехнулась (ничуть не судорожно).
— В «Грозди» сегодня встреча Нового года. Не хотите ли потанцевать со мною? Мы же так хорошо друг друга понимаем. Это было бы шикарно!
А он:
— Вы танцуете в горных башмаках. Я этого не выдержу.
А она:
— С таким танцором, как вы, я и без них справлюсь.
Она жив о вытащила ногу из домашней туфли и, слегка покачивая округлыми бедрами — при этом она не потупилась, и улыбка на ее губах осталась все той же, — носком ноги ткнула Малетту в голень.
Это было уж слишком.
— Я вам подыщу мужчину! — сказал он. — Здесь до черта «старых бойцов». Можно подобрать подходящего!
И прежде чем она успела ему ответить, захлопнул за собой дверь; он еще услышал бранное слово, брошенное ему вслед, но разобрать его уже не мог. Он опрометью ринулся вниз по лестнице, уже окончательно не имея мужества войти в свою комнату (нет, честное слово, уж лучше гулять!), и снова выбежал на ветер. А тот продувал безымянную улицу, как продувают засорившуюся газовую трубу. Возможно, когда-то она называлась Церковной улицей, а затем, вероятно, Улицей штурмовиков. Теперь все уже устали от обременительных переименований или поумнели и не спешили давать новых названий улицам. Они и без названий вели к свалкам, на которые возлагались венки. Подгоняемый ветром и ветром же притормаживаемый (похоже было, что и ветер потерял направление), Малетта, пошатываясь, добрался до южного края деревни, пошел дальше и обнаружил, что его окружает национал-социалистский коричневый ландшафт. Деревья вдоль трассы стояли шпалерами и приветственно выбрасывали вверх руки; белыми шеренгами маршировали защитные тумбы; порывы ветра трещали в ветвях, как в знаменах ив штандартах. Малетта в такт топал своими башмаками, в такт отзвучавших солдатских песен, силясь идти в ногу с невидимой колонной. Он, казалось, и сейчас чувствовал ту точку в голени, куда фрейлейн Якоби ткнула его своей маршевой ногой. Кожа зудела под подтяжками, как будто сущность учительницы проникла ему в поры. Поле цвета ее чулка, выплевывая стаи ворон, тянулось к небу. Неуклюжие птицы трепыхались против ветра, не продвигаясь вперед; потом снова опускались и прилипали к бороздам, как грязь к икрам марширующих женщин. «Не хотите ли потанцевать со мной? Я успела научиться тому, что нужно: повиноваться, приказывать — и маршировать в любую погоду». Ха! Вихрь пыли кружился над дорогой. Малетта обеими руками придержал шляпу. Наглая плясунья, вся из грязи и воздуха, хохоча, оттесняла его к канаве. Оттуда на него пялился кем-то выброшенный и вмерзший в лед башмак. «С вами я и без них справлюсь!» О нет, фрейлейн, вы ошибаетесь! Ошибаетесь! Вечно-то вы ошибаетесь! Он двинулся навстречу порывистому ветру, шатаясь, побрел дальше. Вихри свистели у него в ушах. Неужто открыли огонь пулеметы? Что-то все опять стало смахивать на войну! Небо кричало, простреленное золотисто-желтой светлотой, снопами света, ложившимися почти горизонтально. Ураганный огонь света на куски разрубал местность, превращал ее в кучу развалин, а посреди нее лиловая, как разлагающееся мясо, лиловая, как последнее отчаяние, Кабанья гора со скелетами деревьев, с машущими, стучащими сигналами. Гора выкатила глыбу тени под ноги марширующим, а в тени брезжило убийство…
Хорошо замаскированный, Малетта всем телом вжался в равнодушие окружающей природы. Прикинулся спящим, но все же изредка мигал глазами. Он был стар, старше людской совести, время от времени обуздывавшей его, старше того лицемерия, что постоянно снабжало его фальшивыми бумагами, но он не устал, устала, пожалуй, только его совесть, и еще иногда уставало терпение, постоянно подвергавшееся тяжким испытаниям.
Вот и Кабанья гора, а слева печь для обжига кирпича. Малетта миновал вираж и остановился. Пот заливал его, несмотря на холод, но голова внезапно стала ясной — ясной, как этот разорванный вечер, ясной, как небо, сотрясаемое ветром, ясней, чем острый, как нож, воздух, что взблеснул на покинутых вершинах, точа свое сине-серое стальное лезвие о ребра горы, и с глухим гудом пронесся над долиной. Малетта думал: ну вот, я опять здесь! А что же дальше? Стоя на обочине, он ждал. Украдкой глянул на дом матроса, дом уставился на него пустыми глазницами окон. И «повешенный» шевелился под деревом, но сегодня это ничуть не затронуло Малетту. Он был переполнен этой холодной ясностью, этой абсолютной трезвостью, причинявшей ему боль куда более мучительную и нестерпимую, чем недавняя сверлящая голову мигрень.
Он думал: убийство! Сегодня я совершил бы его по-другому! Хладнокровно и не попав в себя. Ибо сегодня я знаю: мир наш — сплошные ловушки, и безразлично, существует он или нет. И потому все это бессмысленно. Кому в паноптикуме придет на ум кровная месть? Кто станет отнимать жизнь у восковых фигур? Нет, только одно можно сделать — напиться!
Он повернулся к печи для обжига кирпича в надежде, что оттуда на него снизойдет вдохновение, но крылышко стрекозы не задело его виска, паутина не легла на лицо, не скрестились тихонько вибрирующие нити в животе, даже в голени он больше не чувствовал зуда. Только гудели телеграфные провода, не принося ему вдохновения; день был опустошен этим ветром, как деревянный ангел, подвергшийся нападению термитов.
Напиться! — думал Малетта. Хоть раз да напиться!
(Обычно он жил тихо и скромно.)
Пойду в «Гроздь» и там напьюсь! И с этим решением Малетта начал марш-отход.
Между тем солнце покинуло небо, свет и тень вдруг слились воедино. Серая мучнистая пыль осыпала все вокруг, и ветер, изнемогши, забился в борозды парующего поля. По полю, от дуба, вздымавшего в пустоту два искривленных сука, протянулась «неприметная тропинка» до шоссе и дальше до склона горы. Теперь, когда вся трава пожухла, гора вдруг стала зеленой, как надежда, зеленой, как воображаемая «рождественская собака», на след которой не могут напасть ни жандармы, ни охотники.
А теперь о матросе. В это самое время (то есть в шестнадцать тридцать) он вышел из дому. Как и каждый вечер, направился к колодцу и подставил кувшин под трубу. Ничего он больше не ждал, ничего, кроме того, чтобы кувшин наполнился водою. Он стоял и прислушивался к звенящему звуку падения воды в глиняное горло. Во всем огромном мире ничего, кроме этого плеска! И матрос почувствовал себя одиноким, как никогда, отделенным от мира этим полумраком, посыпавшим мучнистой пылью все вокруг. Но когда кувшин наконец наполнился, и плеск воды напоминал уже птичье щебетание, и набежала белая пена, в этот миг вдруг пришло Нежданное. Матрос внезапно его почувствовал, учуял чужой пот и жаркое дыхание чужого страха.
Он повернулся и стал смотреть на опушку. Деревья вздымались, как руины, как колонны, более не несущие крышу. Последнее свечение вечера зеленело в их ветвях.
И тут он увидел зебру. Человек-зебра недвижно стоял меж передних стволов, уже наполовину стертый сумерками, и смотрел на него широко раскрытыми от страха глазами.
Матрос закусил губу, попристальнее вгляделся в луговую дорогу, глянул на шоссе — никого нет, ни одного свидетеля.
— Поди сюда! — сказал он. — Я тебе худа не сделаю!
Человек-зебра, видимо, колебался. Он отступил в путаницу леса, словно желая скрыться навеки, раз и навсегда, бесследно исчезнуть в чащобе. Но вдруг согнулся, поднял плечи, опустил голову, словно готовясь нанести удар, и неслышно, стараясь не оставлять следов — движения его были округлы и непостижимы, как у ласки, — выступил из темноты и двинулся вниз по склону прямо на матроса.
В этот миг потухли последние краски. Серый вал ночи, мало-помалу выраставший на востоке, рассыпавшись, затопил всю округу. На далеких вершинах, в далеких лесах, как змея, зашипел ночной ветер.
— Ну что ж! — сказал матрос. Он снял кувшин с желоба и пошел было к дому. Человек-зебра стоял поперек дороги, трепещущий сгусток мрака, и ничего у него не было, кроме этого животного взгляда, который, казалось, пронизывал весь мир своей печалью.
— Ты должен знать, какую игру затеял, — сказал матрос.
Человек-зебра тяжело дышал, как затравленный.
— Или не знаешь? — добавил он.
— Я голоден! — простонал человек-зебра. Это прозвучало, как полузадушенный рык, как рев, донесшийся из пустыни, где не ступала нога человека, первобытно, не по-людски.
— Ну, пойдем! — сказал матрос. Он прошел мимо него в дом, человек-зебра последовал за ним, волоча непослушные ноги.
Тут было тепло, был запах печки, запах надежной укрытости и темень, плотная, как земля.
Матрос поставил кувшин в сенях, ощупью пробрался в комнату, закрыл ставни да еще задвинул занавеси, после чего наконец зажег лампу и с любопытством поглядел на гостя.
Человек-зебра стоял возле двери, готовый в любую минуту обратиться в бегство. Роста он был среднего, сложения тщедушного и выглядел старше, чем мог быть на самом деле. Он дрожал всем телом, возможно от холода, возможно от страха, а может быть, оттого, что вконец изнемог. Полосатая одежда арестанта, затвердевшая от облепившей ее глины, болталась на нем и сухо потрескивала — как дубовая листва зимой.
— Неделю уже я одним голодом живу, — с трудом проговорил он. И посмотрел прямо в глаза матросу. Мертвенная бледность его лица под густой щетиной мерцала, как внутренняя сторона раковины.
— Да, — сказал матрос, — человек так скоро не умирает, некоторое время можно и одним голодом прожить — к сожалению. — Он снял бушлат и повесил его на крюк. — На всякий случай задвинем-ка засов на двери, — добавил он. Пошел в сени и прочно запер ее. — Великое дело — надежность, — сказал он при этом. Сквозной ветер пронесся сквозь щели, как вспугнутая крыса. Он взглянул на дверь, а потом на пришельца. — Жаль, — заметил он, — что ты мне не доверяешь. — Неприятное чувство щекотало его, как подымающаяся тошнота. Он взял кувшин и поставил его возле печки, — Ты боишься? — спросил матрос через плечо.
— Сам не знаю, — ответил другой. Он все еще трясся, и воздух в комнате, казалось, трясся вместе с ним, как недвижные лужи в болоте, когда мимо проезжает охота.
Матрос подошел к нему поближе.
— Бояться тебе нечего, — сказал он. — Ни за то ни за другое платить не надо. Снимай свои грязные башмаки и садись к плите! И не пялься так на меня. Умирающие косули действуют мне на нервы.
Гость медленно подошел, сел на стул, с трудом стащил с себя башмаки и вытянул босые ноги — поближе к огню.
Матрос смотрел на него, силясь подавить отвращение, которое, как кошачьи волосы, налипшие на нёбо, казалось, вот-вот выворотит ему все внутренности.
— Мы вместе поужинаем, — сказал он, — а потом я дам тебе носки, подштанники и старую куртку. — Он открыл шкаф и достал съестные припасы.
— Бог ты мой, — вырвалось у пришельца, — мне все кажется, что это во сне. Дом, плита, огонь, и я подле него… — Сам, точно угасший, он не сводил глаз с пламени, что впотьмах пробуждает мечты.
Матрос, не глядя на него:
— Тебе не только кажется, так оно и есть. Ты ведь уже умер. Или ты не веришь, что это так?
— Ни во что я больше не верю, — отвечал сидевший у огня, — ни во что. — Он растопырил пальцы на ногах, они мерцали под грязевым орнаментом, как увядшие лепестки.
Матрос в это время отрезал ломти хлеба и намазывал их маслом. Он сказал:
— Вот именно. Кто ни во что больше не верит, тот мертв. Разве я не прав? — Он повернулся к гостю, с ножом, как с саблей, в правой руке. — Как ты думаешь, почему я здесь с тобой вожусь? Из любви к ближнему?
— Не знаю, — простонал тот.
— Я тоже не знаю, — отвечал матрос. — Наверно, потому, что мне скучно. — Он покачал головой. — Нет, я до вас не охотник. По мне — пропадите вы все пропадом. Вот настолечко (он показал пальцами), вот настолечко нет у меня к вам сострадания. И пожалуйста, ничего мне не говори! Я знаю, в ваших безобразиях всегда виноват кто-то другой: судьба, звезды, господь бог… Вы — жертва. Но ты, — сказал он и ножом показал на него, — ты не из тех. Ты ведь уже умер, ты больше не человек. Вот видишь, и за это… (он усмехнулся) получишь куртку и сверх того хороший ужин: шпиг, копченое мясо, хлеб…
Гость ничего ему не отвечал. (Да и что было отвечать?) Молчаливый и недвижный как мертвец, он сидел у плиты, и только пальцы на его ногах шевелились, словно они ничего общего с ним не имели. Матрос нарезал копченое мясо и куски положил на тарелку. Потом налил молока в глиняный сосуд, на мгновение ему показалось, что его надо поставить на пол, как молоко для приблудившейся кошки. Он сказал:
— Мне молоко носит маленькая такая девочка. Ты не думай, что она проболтается. Ей и в голову не придет! Не знаю уж, дурочка она или просто забитая. Скоро она получит от меня окарину. Мне это важно. Может, когда-нибудь она вздумает подуть в нее и хоть таким образом с ее губ сорвутся какие-то звуки.
— Виноват в том, — заговорил человек-зебра (заговорил неожиданно, при этом, как загипнотизированный, невидящим взглядом уставясь вдаль)… виноват в том, что я здесь, запах прелых листьев. (Матрос встрепенулся.) Я знаю, вы этого понять не можете. Никто не может, но это так, виноват в моем несчастье запах прелых листьев. Видите ли, я это понял, потому что вдруг перестал понимать все остальное. Это носилось в воздухе, и я это вдыхал… годами, у меня нос был забит запахом прелых листьев. Этот запах для всех пропитывает воздух, но никто его не слышит. Вы, конечно, меня не понимаете. Потому, что вы еще человек. У людей мозг большой, а носы никуда не годятся. Вы никогда не сидели в тюрьме? Ну, ясно — нет. Простите за глупый вопрос. Я просто так спросил. Многие сидят в тюрьме и даже этого не замечают. В тюрьме не хуже, чем в любом другом месте. Но что я хотел сказать? Ах, да! Леса, дождь, земля… Когда ты так долго один, когда ты забился в чащу, как зверь, и нет для тебя больше дороги, которая ведет к людям, тогда, видите ли, вот что выходит: ты начинаешь думать, и вдруг тебе уясняются связи. История с этим запахом, к примеру. Мне совсем неплохо жилось в тюрьме. И окно там было чуть ли не под потолком, и решетка крепкая. Но запах листьев все равно проникал из лесу в мою камеру. А по ночам, когда все храпели, я слышал, как дождь поет за окном. Слышал, как он идет по холмам и по свекловичному полю. Воздух, веявший в окно, был влажный, как молодая женщина. Он насквозь пропах мокрой землей, небом, которому нет конца, облаками и ветром… — Человек-зебра тяжело и громко перевел дыхание. — Вот я и убежал, — закончил он.
— Садись есть, — сказал матрос. Сам он уже сидел, опершись локтями о столешницу, и все еще, точно саблю, держал в руках нож.
Человек-зебра поднялся, как на шарнирах, и затопал по комнате. Под его босыми ногами скрипели и прогибались половицы.
— Иду. — И он пошел, с каждым шагом все ближе пригибаясь к земле, казалось, это издыхающий зверь заползает в логово, а оно становится все уже и уже. Наконец он сел, прижал руки к телу, как бы стараясь стать еще тоньше, и больше уже не шевельнулся. От его одежды исходили подводные доисторические запахи леса, в то время как великая печаль, печаль всего сущего, лившаяся, словно дождь, из его опущенных глаз, затопляла стол. Он сказал:
— Убежал и скрылся в чащобе. И вечно этот запах в носу, как железное кольцо у дрессированного медведя. (Нельзя сказать, что он при этом смотрел на кушанья, скорее, казалось, что он их еще не видит.)
— Очень странно, — продолжал он, — ночь вся в дожде, но совсем не холодная. Или я был так возбужден, что не ощущал холода? Я бежал по вспаханной земле, а чувство у меня было такое, словно я нахожусь в гигантской материнской утробе, которая со всех сторон окружила меня своей влажностью, своим теплом и мраком. Когда я добрался до леса и пошел меж деревьев, когда я окунулся в дождливую чащу и гибкие ветви, коснувшись меня, как вода, сомкнулись надо мною, как вода над утопающим, я почувствовал, что я укрыт, принят, словно я был уже мертв: я перестал быть человеком.
— А потом?
— Потом настало другое, настала пора голода, а за нею безразличие леса и холод; а потом — ужас.
— Зима, — сказал матрос.
— Нет, ужас, — ответил человек-зебра. — Деревья! Одни только деревья!
За окном выл ветер. Ударился об угол дома. Видно, задул сильнее. В трубе он кричал человеческим голосом и вдруг так прижал северное окно, что оно затрещало.
Оба прислушались. Уже склонив головы над копченым мясом, они внезапно перестали есть и прислушались, словно их кто-то позвал. Потом взглянули друг на друга поверх стола и еды. Взгляды их соприкоснулись — так нечаянно сталкиваются руки, что-то нашаривавшие впотьмах: застывший взгляд моряка и темный смятенный взгляд животного. Соприкоснулись на две-три секунды, но этого отрезка времени, в котором ничего более не случилось, было достаточно матросу, чтобы осознать собственное несчастье, осознать, что и он попал в ловушку. В широко раскрытых глазах человека-зебры, устремленных на него, но уже обреченных смотреть в безбрежное и безвыходное, он прочитал тот же страх, что владел им.
— Давай есть, — сказал он. — Подохнуть с голоду мы еще успеем.
Итак, они принялись за еду. Одновременно склонились над столом. Стол стоял в хижине гончара, а хижина стояла на скате горы, укрытая наступившей ночью, ночью, которая завершала год. В этой же ночи утопала деревня; а посреди деревни находилась ресторация «Гроздь». Там были расставлены столы, большие и малые, а за столами сидели люди, хорошо освещенные неоновыми трубками — все знакомые люди.
К примеру, напротив стойки (а значит, за столом завсегдатаев) сидели: младший жандарм Шобер и вахмистр Хабихт, далее Алоиз Хабергейер и Пунц Винцент, а между ними, стиснутый с двух сторон, пенсионер Иоганн Айстрах. Сегодня праздновался его уход на пенсию. Он хоть и оставался в Тиши, в домике неподалеку от лесопильни, но это все же было прощание перед неверным, но немаловажным шагом в серое ничегонеделание.
Они усердно наливали ему водку. Они говорили: «На! Пей! Уход на пенсию положено обмывать!» Сегодня они необыкновенно ласково с ним обходились; голоса их охрипли от растроганности.
Старик покорно пил. Под морщинистой коричневой кожей его шеи, что торчала из воротничка, при каждом глотке вверх-вниз ходило адамово яблоко.
За столом у двери в кухню и в туалеты бражничал Карл Малетта (на сей раз не под надзором учителя, а один); перед ним стоял уже третий бокал красного вина. Он храбро погружался в дурманящий поток, который мало-помалу заполнял пустоту, причинявшую ему боль. О, какой прекрасный обычай пропивать пропащий год, вернее, сжигать себя самого в огне вина, чтобы потом восстать из пепла точно таким же, каким ты был. Он уставился на пятерых мужчин за столиком наискосок, справлявших чей-то уход на пенсию, прищуренными глазами рассматривал каждого в отдельности, и они смешались в его мозгу: один вдвигался в другого, потом они снова разделялись, на Хабергейере была фуражка жандарма, лицо Пунца прикрывала окладистая борода егеря, вахмистр нахлобучил на себя тирольскую шляпу, а на лице Шобера вдруг появился нос Пунца.
Только старик Айстрах, хоть он и сидел среди них, не участвовал в этой странной игре, был исключен из нее.
Он поднял свой стакан, который они опять наполнили до краев.
— Итак, — сказал он. — Ваше здоровье! — Он глотнул, и адамово яблоко пошло вверх, проглотил, и оно пошло вниз.
Меж тем вокруг сновали кожаные куртки, парни, которым невмоготу было ждать, когда они угробятся на своих мотоциклах и мотороллерах. Они входили и выходили, пили пиво у стойки, предоставляя своим машинам трещать и рычать на улице.
Франц Биндер возвышался над стойкой — круглая башня из жира и мякоти. Он сказал:
— А ну, Айстрах, посчитай-ка, сколько лет ты проработал мастером на лесопильне?
Старик сделал уклончивый жест: ей-богу, сейчас ему не до этого. Потом все-таки растопырил пальцы и стал считать, но со счетом так и не управился.
Рядом, в отдельном кабинете, были развешаны гирлянды из разноцветной бумаги. Сегодня там будет танцевать молодежь! И в нужный момент погаснут свечи.
Малетта закрыл глаза, так было лучше. Пурпурная ночь, пурпурная волна насквозь промочила его. Она разлилась по разветвлениям его жил, вонзила свои пурпурные корни в отмершие глубины его плоти — плоти, звавшейся Малетта. Он превратился в грузную безжизненную массу, он сидел на скамье, как нечто неодушевленное. Покуда пурпурная волна проникала ему под кожу, он дышал чисто автоматически. Потом опять открыл глаза и увидел часы, висевшие над столом завсегдатаев. На часах было двадцать восемь минут шестого, обе стрелки только что сдвинулись, слились воедино, и обе словно указывали своими перекрывающими друг друга остриями на одну точку, точку на голове Иоганна Айстраха.
Тут хлопнула дверь, и сильный запах лука наполнил заведение. Малетта скосил глаза. Возле стойки он увидел прелестную блондинку, нарядную и накрашенную, как фотомодель, она глубоко затягивалась сигаретой.
То была Эрна Эдер, наша кинозвезда.
— Куда ж это подевалась Герта? — прощебетала она.
Франц Биндер поднял толстый палец и указал на потолок.
— Наверху! Красоту наводит.
Наверху находилась и комната Константина Укрутника. Слышно было даже, как он там ходит в своих сапожищах: сапоги скототорговца царили в небе этого дома.
Малетта торопливо потянулся к бокалу и залпом его осушил. Потом со стуком поставил на стол.
— Господин Биндер! — крикнул он. — Прошу еще вина.
Тот буквально вынырнул из-за стойки и взял у Малетты бокал, чтобы вновь его наполнить.
— Что я вам говорил — красное у меня высший сорт!
Но фотограф не удостоил его ответа.
Снова закрыв глаза, он откинулся на спинку стула. До сих пор его хмель был красен, как вино. Сейчас он вдруг сделался синим; мгновенная «лиловая» боль — и он сделался синим, как лед. Шумы теперь гулко отдавались в ледяных стенах.
Разговор пятерых мужчин. Плеск вина, лившегося в стаканы, торопливое тикание стенных часов. И всего громче — шаги Константина Укрутника.
И вдруг перед ним широко открылась долина, похожая на долину Тиши, в ней ютилась деревня, тоже напоминавшая ту, что звалась Тиши (эта картина появилась на внутренней стороне века, освещенная так, как бывают освещены ледяные пещеры). Вокруг в беспорядке вздымались горы, разворошенные злобным ветром, горы цвета разлагающегося мяса, горы с по-зимнему стукотливым лесом, неправдоподобно резко вырисовывавшиеся на чреватом бедою небе, горы, о которые ветер ударялся, как о серую полосу стали.
В этой долине долго спало Нечто (Преступление? Зло? Малетта не знал, что именно), но однажды оно пробудилось и поразило странника. Оно росло в нем, как опухоль, кормясь его кровью. Потом переросло его и живым вышло из материнской утробы. Теперь оно залегло в лесах, из своего укрытия смотрело на деревню; притаилось там, невдалеке, напрягло мускулы, а лицо спрятало под маской из деревьев.
Малетта думал: какой-нибудь парень пойдет в лес, парень из этой банды. Он считает, что в лесу, в поле ему будет хорошо, и теперь — валяй, трави его! Хватай! Рви его на части!
Не шевелясь и все еще с закрытыми глазами, он сидел и вслушивался в себя. Крики до него доносились словно издалека, громкие крики, становясь все пронзительнее, летели вкруг деревни, перепархивали от леса к лесу, от холма к холму: «Трави его, волк! Затрави его до смерти, волк!»
Тут опять хлопнула дверь. Эрна Эдер вышла из зала. Ее «шпильки» застучали в подворотне, застучали в мозгу палача: далекие выстрелы! Эхо далеких выстрелов! Выстрелы, отдававшиеся в каменоломне! А затем шорох струящегося песка… Но к нему подошел Франц Биндер с четвертым бокалом вина.
Малетта с трудом открыл глаза. Слева за столом завсегдатаев сидели оба жандарма, справа, между Хабергейером и Пунцем Винцентом, — вышедший на пенсию Иоганн Айстрах, в ледяном свете неона еще более бледный, чем обычно, серый, как мертвец в ледяной пустыне, а над его головой висели часы, и стрелки их медленно продвигались вперед.
— Когда утром пускаешься в путь, — сказал человек-зебра (он и на этот раз заговорил первый) — утром, еще до восхода солнца, небо там, где оно касается земли, кровавая рана.
Ты прошел через ночь. Ты прошел через лес. Ощупью пробрался сквозь чащи сна, ты сам похоронил себя в этих чащах. Ты провалился в пропасть своих снов. Твоя щека прильнула ко мху, к прелой листве, запах сырой лесной почвы наполнил твои ноздри. Ты спал, как спят мертвецы, спал и не замерз.
Вот настает утро. В деревьях еще задержалась ночь. В камнях задержалась ночь. Ночь прикорнула в подлеске, в кустиках голубики и молча смотрит на тебя. Но наверху приближающийся день уже мерцает сквозь сучья, словно кровь сочится меж слипшихся, спутанных волос. День настал, рана открылась. Кровь из раны промочила волосы, что выросли за ночь.
Я часто спал так. И все время просыпался. И это всегда причиняло мне боль. Багровая рана жгла мое сердце… Он схватился за грудь. Его рука, худая и узкая, как у ребенка, от холода была красной, точно кровь, и среди холодов, среди мрака, среди зимы, казалось, росла прямо из его сердца, багровая, как пламя.
— Тогда я поднялся, — продолжал он, — поднялся и пошел дальше. Между двух деревьев я проснулся — передо мной простиралась земля с ее дорогами. Никогда я не мечтал о чем-нибудь другом: пробуждение, уход в странствие — ничего другого мне не надо. Каждый раз снова чувствовать эту боль и это ликование, когда земля и небо высвобождаются из объятий друг друга.
Нет, вы ошибаетесь. Это не пустые слова. Как бы мог я говорить пустые слова? Ведь я больше не человек. Я уже и не думаю. То, что вы слышите, только мое дыхание, биение моего сердца… Меня схватили и заперли. Вы знаете, что это такое? Заперли в четырех стенах! Я не убивал, я просил милостыню. Иной раз воровал, не отпираюсь. Я знал голод и жажду, как всякое живое существо. Явившись на свет, я уже хотел есть и пить. Но переливать из пустого в порожнее я не хотел. Нет! Уйти от всего! Вырваться из всего. Я говорил себе: лучше быть отверженным. Лучше быть зверем, чем колесом или другой составной частью этой машины. Земля и небо были словно разрезаны золотыми ножами. Разрез выглядел как путь к бегству. Он кровоточил и горел в моем сердце. Я шел по дорогам в неизвестность, все вперед и вперед, без возврата, и я воровал, не работал, а воровал! Обворовывал бравых воров, которые готовы были украсть дыхание из моего рта и жизнь из моих жил. Воров, что отравили землю и омрачили небо и построили стену между мной и далями!
Все время, что он говорил (или не говорил), слышно было только его бормотание, то, что он хотел сказать, вилось в воздухе вокруг него, бесспорно понятное, хотя и неразборчивое — все время матрос силился восстановить в памяти звуки, которые вдруг принесло из мглы годов и которые, видимо, требовали, чтобы он их вспомнил.
— Дали! — сказал он. — Ну конечно! Дали! Так я и в плавание уходил. Землю можно объехать раз-другой. Что можно, то можно. Но до горизонта все равно не доберешься.
— Свобода! — сказал человек-зебра. — Все дело в свободе. Я знаю, о ней много говорят и много пишут. Но я подразумеваю не ту, о которой пишут газеты и толкуют ораторы. С моей свободой она ничего общего не имеет.
— Прожить жизнь, — сказал матрос, — и даже пальцем не шевельнуть! Вот твоя свобода! Этого и я бы хотел! Это же сущий рай. Но покуда ты таскаешь свой труп по земле, труп, который хочет жрать и пить водку да еще мерзнет, когда наступают холода, твоя свобода, ей-богу же, представляется мне в черном свете.
— В черном свете! — повторил человек-зебра. — Это значит, что все черно для тебя! Как ночь, когда я сбежал. Как дождь, который лил на меня. Как запах прел(й листвы, что свел меня с ума. Черен был лес, в котором я укрылся. Черно тело, держащее меня в плену. Черна мать-земля. Черен сон. Да, черен. И смерть черна. Но, — добавил он, — утро — красное. И рана, что разверзается на небе, — красная. Красна и рана, расцветающая в сердце! Я знаю, что умру от этой раны и глубоко под землей стану черным, как древесный корень, но моя рана будет пылать и впредь, потому что вдали мерцает голубизной — свобода!
Теперь его песня так глубоко проникла в сознание матроса, что ему казалось, ее можно насвистывать. Один звук сорвался с его губ, сорвался второй — фальшиво! Мелодия этой песни была другая.
Ну а Малетта? Он осушил четвертый бокал красного вина. Часы на стене показывали без двадцати шесть. Слева большая, справа малая стрелка. Нет, они не сцепились… Малетта поднялся. Его шатнуло, и он схватился за стол. Под его каучуковыми подметками ходуном ходили половицы. Бокал опрокинулся, он поймал его. Не беда! Вино ведь выпито…
— Получите с меня! — излишне громко крикнул Малетта. Он ощутил неодолимый позыв к мочеиспусканию. И подумал: бог ты мой, я и вправду пьян! И еще: бог ты мой, я и этого не сдюжил!
Подошла кельнерша. Ее косые глаза сидели в орбитах шиворот-навыворот. Непонятно, как это могло быть! Но в Тиши, видно, все было возможно.
— Один литр красного — три восемьдесят, — сказала она. Пестрое платье болталось на ней как не вешалке.
Он достал кошелек, открыл его, вытаращился на мелочь, на кредитные билеты. О господи! Позыв к мочеиспусканию и мелочь! Взяв бокал со стола, она дожидалась.
— Три восемьдесят? — в смущении переспросил он.
— Три восемьдесят, — повторила она. Ее платье и вправду висело как на вешалке, но в данном случае — к счастью. Он сунул ей пятимарковую бумажку, она дала сдачи. Ее глаза разом смотрели во всех направлениях.
— Благодарю. — Она повернулась и ушла, оставив за собой отзвук безнадежности. Юбка ее завертелась колесом, потом скрылась из глаз. Слава богу! Юбка исчезла! Она ушла.
Малетта с усилием влез в пальто. Позыв стал нестерпимым. Но дверь в туалет была близко. Он шагнул, вытянул руку, взялся за щеколду. На прощание оглянулся. Пятеро мужчин все еще сидели за своим столом. Покачиваясь, как гребцы в лодке, они продолжали тот же малозанимательный разговор. Малетта открыл дверь, спотыкаясь, вышел из зала, прошел мимо кухни и двинулся в направлении неприятного запаха. Коридор загибал направо и терялся в темноте. Но Малетта был уже у цели. Вот и заветная надпись.
Малетта вошел и запер за собою дверь. Голая груша на потолке ослепила его. Ему давно был знаком сей уютный уголок: «00»! Все по последнему слову гигиены! Но теперь ведь существовали охотники, существовали солдаты, существовали союзы стрелков и союзы бывших воинов. Все эти люди отлично умели стрелять. Здесь же, как ни странно, меткость им изменяла. Малетта отпрянул от унитаза. Того, что здесь имеется спуск, они, по-видимому, тоже не знали. Или были слишком горды, чтобы взяться за его ручку. А может, хотели оставить свой опознавательный знак?
Он сразу же открыл окно (что за брезгливый народ эти чужаки!). Слава тебе господи, окно было большое, вернее, нормальной величины. Оно выходило на свекловичное иоле и на проселочную дорогу, что шла по задам деревни. Где-то лаяли собаки, где-то подальше трещал в ночи мотоцикл. За окном в лунном свете простиралось поле (тем временем успела взойти луна), а здесь вонь так и шйбала в нос. Ветер подул в окно и несколько рассеял ее; клочки газетной бумаги, валявшиеся на полу, закружились в танце и зашелестели.
Малетта с горечью смотрел прямо перед собой на стену. Ему казалось, что в животе у него не красное вино, а навозная жижа. Побеленная стена вся была испещрена коричневыми рисунками. Досыта не наглядишься на эти произведения искусства: нотные линии, начерченные всей пятерней, перекрещивались в разных направлениях! Кто-то, наверно, писал народную музыку, которая вызывает и смех и слезы, ибо — он не верил своим глазам — между строк на него лупились свастики, арийский солнечный знак (хотя и перевернутый), на него не пожалели коричневого цвета, цвета той партии. Как было знать Малетте, смеяться тут или плакать?
Чтобы во второй раз не проходить через зал, он вышел через черный ход. Пересек двор и хотел уже войти в подворотню, но внезапное открытие заставило его остановиться. Из темного угла до него донесся шепот. Говорили два голоса — парня и девушки. Он не разобрал, о чем они говорят (они говорили тихо и к тому же на диалекте), но по интонациям можно было заключить, что речь шла о любви, об отношениях между мужчиной и женщиной, уже достаточно далеко зашедших. Охваченный любопытством, он подошел поближе и сразу узнал голос Константина Укрутника. Тогда как голос девушки остался для него загадкой. Ясно было только одно — это не Герта.
Он тихонько крался вдоль стены и вдруг учуял запах сырого лука. Запах этот легкой вуалью повис в подворотне и шел, надо думать, из кухни. Малетта затаил дыхание и весь превратился в слух. Но в этот самый миг оба умолкли. Похоже было, что они обнимаются в темноте, шуршал шелк, поскрипывали сапоги; девушка, как кошка, удовлетворенно мурлыкала, но больше ничего не было слышно. Весь дрожа, Малетта вжался в стену. Кровь стучала у него в ушах. Теперь он учуял бриллиантин на волосах Укрутника и духи «Роза», странно смешавшиеся с запахом лука. Она сам чувствовал, что ухмыляется как кобольд. Вот она, великая любовь! — подумалось ему. Девушка опять произнесла несколько слов, он расслышал имя «Герта.»
И вдруг Укрутник (неожиданно громко, пробудив эхо в углах):
— Пусть катится куда подальше вместе со своей мясной лавкой!
А эхо в подворотне также громко: «На кой…»
Теперь девушка захихикала. О, это приглушенное хихиканье! Казалось, оно струйками стекает по коже, по волоскам на теле под голубым нейлоновым бельем, до самых чулок.
Собрав все свои силы, он вышел на улицу. Там его поджидали холод и свет, голубоватый, точно кусок льда. Луна была полной. Полной была и мера его терпения. Луна освещала кургузые дома. Обнаженные каштаны, садовыми ножницами превращенные в калек, отбрасывали тень на стены. Они вздымали руки, сжимали кулаки, яростно грозили пустынной улице. Колючий воздух расшевелил хмельной угар. Теперь Малетте необходимо было что-нибудь изничтожить! Он с разбегу бросился на деревянный забор. Забор пошатнулся, но устоял. Нет, не годится! Надо найти что-нибудь еще! Окно! Но лучше всего чью-нибудь башку! Он стал суетливо озираться в поисках камня. На тротуаре валялись только кусочки шлака. Они были слишком легки. Наконец в водосточной канаве он нашел, что искал. Поднял камень и взвесил на ладони. Что теперь? Малетта огляделся, прошел немного дальше, не зная, какую беду ему учинить. Улица лежала перед ним белая и окоченевшая. Деревья вздымались, словно обглоданные кости. Мир был мертв, мир был безжизнен. Даже убийство не смогло бы его пробудить!
Вдруг он остановился перед домом Зуппанов, одновременно почувствовав облегчение и разочарование. Камень он бросил обратно в канаву, лед раскололся, и брызнула вода. Потом он отпер дверь и, шатаясь, пошел вверх по лестнице. В комнате фрейлейн Якоби горел свет. Ему померещилось, будто золотые пряди вывешиваются из замочной скважины. Будто волосы учительницы высунулись наружу.
Он с размаху постучал в дверь.
— В чем дело? — грубо отозвалась она.
Но он уже ворвался в комнату и стоял перед ней с остекленелыми глазами, едва-едва удерживая равновесие.
Она с головы до пят смерила его презрительным взглядом.
— По-моему, вы пьяны! — сказала она.
Синева ее глаз загнала ему всю слюну под язык, как будто в рот попала дубильная кислота.
— Да, я пьян, — пролепетал он. — Могу я быть вам чем-нибудь полезен?
А она (исполненная ярости):
— Поскольку вы уже здесь, застегните мне молнию!
Она прихорошилась для встречи Нового года. Напялила розовое вечернее платье, гусыня! Длинная юбка закрывала ее ноги, сегодня они никого не будут раздражать, плечи же ее, розовые, как платье, и вдобавок в красных пятнах, словно она надраила их щеткой и щелочью, были обнажены.
— Где она? — пролепетал Малетта.
— Здесь, на боку! Я с ней уже минут пятнадцать бьюсь! — Она подняла обнаженную руку (сплошное великолепие) и стояла перед ним сияющей валькирией, готовившейся метнуть копье; густые белокурые волосы топорщились у нее под мышками.
Малетта чуть-чуть нагнулся и стал дергать замочек на молнии.
— Не защемите мне кожу, — сказала она.
А он:
— Не бойтесь! Я осторожно. — Он содрогнулся от отвращения: от нее пахло рекрутом (и это от только что вымывшейся девушки); то был своеобразно терпкий, почти мужской запах: непорочность, сила, пот и ядровое мыло…
— Мастодонт проклятый, — неслышно прошептал он. И тут же сказал вслух: — Вы немного потеете, фрейлейн Якоби.
— Да, ужасно, — ответила она. — И сама не знаю почему. Здесь же вовсе не жарко.
— Это следствие радостного возбуждения, — предположил он, — и к тому же праздничное платье вам узковато. Наверно, оно сохранилось у вас еще от первого бала, тогда ваши груди были не так развиты. — Грубым рывком он закрыл молнию и отпрянул, словно ожегшись.
Валькирия опустила копье и великолепную руку, захлопнула свою подмышку.
— Благодарю, — сказала она с улыбкой и вызывающе посмотрела на него двумя голубыми огоньками.
Он неподвижно стоял перед нею, ее взгляд отскочил от его лица. Он даже глазом не моргнул и ничего не сказал. Но, почувствовав ее пот на своих пальцах, содрогнулся от отвращения. Лотом, по-прежнему не шелохнувшись, со все еще оцепенелым взглядом, вдруг обнажил зубы, словно собирался укусить ее.
— Я ненавижу вас, — медленно проговорил он. И повторил: — Я ненавижу вас!
Улыбка на лице фрейлейн Якоби превратилась в лед, Губы вмерзли в лед улыбки.
— Я знаю, что вы меня ненавидите. И меня это не трогает. Уж не думаете ли вы, что я бы хотела быть любимой вами?
Он посмотрел на нее. Ничего не ответил и стоял все так же неподвижно.
Она пощупала молнию, проверила, что там у нее под мышкой, склонила голову набок и вздернула брови.
— Ну? — дерзко спросила она. И разразилась смехом.
Он прыгнул и схватил ее. И укусил — вдруг обезумев — в губы. Горло ее было еще полно смеха, рот раскрыт настежь, его зубы щелкнули, заскрипели, коснувшись ее зубов, вгрызлись в них. Она закричала. Ее крик защекотал его нёбо. Ее дыхание обдало его шею теплом парного молока. У себя во рту он ощутил ее слюну, поначалу отдававшую разве что зубной пастой. Затем добавился еще какой-то привкус. Привкус бархатистой изнанки фрейлейн Якоби. И тут уж кровь брызнула с ее губ… Ей удалось отпихнуть его.
— Вы с ума сошли! — Она едва дышала. В желобке между ее грудями гнев пылал омерзительным красным пятном. Она прижала ладонь к своим треснувшим губам и заметила, что они кровоточат.
— Мне даже не верится, — тихонько проговорила она, разглядывая выпачканные в крови пальцы.
Малетта был уже за дверью, в коридоре. Он сказал:
— Не сердитесь на меня! Сегодня же день святого Сильвестра. А под Новый год позволено целоваться, так ведь? Поверьте, это была шутка.
Это была шутка. Во всяком случае, так охарактеризовал свое поведение Малетта. И произошло все это, видимо, в восемнадцать пятнадцать, потому что в восемнадцать пять Малетта вернулся домой. Через полчаса, следовательно в восемнадцать сорок пять (перед самым началом веселья, в девятнадцать начиналось празднование), стало совсем невесело, напротив, очень печально — не для всех нас, о нет! Только для одного — но в тот вечер никто еще ничего не заметил, кроме тех, кому все было известно.
Малетта не имел к этому никакого отношения. Он был пьян; он торжествовал; ему можно было идти спать, что он и сделал. В дальнейших происшествиях этого вечера он уже не участвовал.
Она, учительница, смачивает полотенце, то и дело прикладывает его к прокушенным губам, дабы эти труженицы перестали кровоточить; они и перестают через две минуты. Потом она идет — в точном соответствии со своим намерением — в «Гроздь», где появляется вскоре после восемнадцати тридцати, и, надо сказать, в наилучшем настроении. Она тоже не будет иметь отношения к тому, что произойдет.
В «Грозди» шум и гам. Многие девушки и парни уже пришли. Да и музыканты на месте, но шум создают не они. Все время подходят новые гости. С визгом, с грохотом вваливаются в зал. Вот входит фрейлейн Ирма, парикмахерша, ее сопровождает не Ганс Хеллер, он ведь более не существует, а Герберт Хауер, не менее интересный мужчина, который так же, как и Ганс Хеллер, похлопывает свою даму по ягодицам. Помощник лесничего приветствует учительницу, его золотые зубы взблескивают: великолепная пара. Он говорит:
— Вы сама жизнь! А губы у вас сегодня как кораллы!
Пятеро мужчин (двое из жандармерии, трое из лесу) все еще сидят за своим столом. Они чествовали старика Айстраха (четверо — одного, а старик сам себя) и теперь, чтобы видеть его в правильном свете, усадили под неоновую трубку; так вот он и сидел в правильном свете перед стаканом водки и выглядел не лучше, чем обычно. Однако без четверти семь (вахмистр Хабихт указал именно это время, сегодня мы точно знаем, что в ту самую минуту события приняли серьезный оборот) старик вдруг поднялся с места.
Итак, он поднялся, заявил, что ему пора домой, и взял свой штормовой фонарь.
— Посиди еще! — сказал Хабергейер.
— Выпей еще стаканчик! — сказал Пунц.
Нот, с него хватит, он идет домой. Он устал, к тому же здесь становится слишком шумно.
А Хабергейер:
— Ну, иди себе, старина. Мы еще немножко посидим.
Айстрах кивает. Ладно! Он и сам дорогу найдет. Берет фонарь. Надевает свой зеленый плащ. Смотрит на одного, на другого и выходит. Часы на стене показывают без десяти семь.
Через пятнадцать минут происходит следующее: мужчины за столом завсегдатаев — теперь их четверо (двое из жандармерии и двое из лесу) — начали играть в тарок, поскольку говорить им было уже не о чем, как вдруг Пунц Винцент, весь скрючившись, швыряет на стол свои карты и хватается за живот.
— В чем дело? — спрашивает Хабергейер сквозь бороду.
Пунц кряхтит, вращает глазами, держится за брюхо.
— Живот болит! — стонет он. — Ох как болит! Черт бы все подрал! — Он вскакивает и мчится вон из зала.
А в зале оживление достигло апогея. Он еще успевает это заметить. Перед уборной стоят влюбленные парочки и затрудняют ему дальнейшее продвижение… Неужто же не нашли другого места? Или этот запах поощряет их душевную жизнь? Или они считают, что любовь «конфузна» и эта обстановка для нее самая подходящая?.. Ну да как бы там ни было, Пунц растолкал их, проложил себе путь на манер лесоруба и — одним прыжком достиг двери сортира. Увы, она не поддалась: занято!
Он дергает ручку, чертыхается. Барабанит кулаками. Девушки захихикали, парни загоготали. Их это очень забавляло, они посоветовали:
— Ты сходи-ка на навозную кучу!
А он (возмущенно):
— Убирайтесь к черту! Сами на нее садитесь!
Наконец после промедления, каковое нельзя недооценивать, дверь открылась, и из отхожего места, оглаживая юбку, выплыла кинозвезда Эрна Эдер. Пунцу, который в ярости уже вбежал туда и запер дверь, она бросила через плечо:
— Могли бы и подождать немножко!
Это было в девятнадцать часов десять минут.
Чуть позднее (около четверти восьмого) матрос вышел из дому — посмотреть на луну. Он раскурил трубку и стоял под серебряными от мороза яблонями, как большая черная печь, окутанная дымом и паром от дыхания.
Ветер, видимо, окончательно улегся спать, окоченелые ветки не шелохнулись. Похрустывала заиндевевшая трава и сорняки. Густой наземный туман прикрыл долину. Исчез мир и дорога там, внизу. Как будто ты уже на том свете и воспарил над облаками. Как будто, кроме тебя, здесь есть только мороз, свет и тишина.
В доме спал арестант. Он попросил позволения переночевать. Пусть его ночует, несчастный чудак, жалко чго ли? Пусть поспит у плиты и хоть раз в тепле и с полным желудком увидит сны о дальних далях, о свободе.
Тут взошла луна. Глянула сквозь ветви яблони. Глянула прямо в лицо матросу, глянула ему в глаза.
Так близка была Голубая песня! Она уже коснулась его губ, как свежая вода. Но опять ускользнула в забвение! Словно песню вспугнула попытка матроса ее насвистывать.
Между тем мужчины за столом завсегдатаев стали втроем играть в тарок, отчего мало что изменилось (в тарой могут играть двое, трое и четверо), но Хабергейер на сей раз играл плохо. Он проигрывал, чего обычно с ним не случалось. Карты у него были хорошие и тем не менее он проигрывал. Прошло пять минут. Прошло десять минут. Рядом гремел духовой оркестр. Подошвы танцующих шлифовали пол. Веселье слетало с развевающихся юбок и, обернувшись запахом, уносилось в открытую дверь. Десять минут прошло, пятнадцать минут, а когда прошло двадцать и помощник жандарма Шобер выиграл, чего с ним еще никогда не бывало, Хабергейер положил свои карты, откинулся на стуле и сказал:
— Он, по-моему, провалился в унитаз. Пойду взгляну, что там происходит. — Хабергейер решительно встал и сказал Хабихту:
— Может, пойдешь со мной, жандарм? Нос я тебе, уж так и быть, заткну.
А этот (смеясь):
— Да отстань ты! Чего мне там делать?
А Хабергейер:
— Я просто подумал…
А Хабихт:
— В этом деле я ему не помощник.
— Я пойду, — решил Шобер. Он был падок до сенсаций — даже до самых малых сенсаций — и посему вышел вместе с Хабергейером.
В коридоре они наткнулись на скопление народа. Не менее дюжины посетителей осаждали дверь в туалет, в воздухе пахло мятежом.
— Придется ломать дверь, — как раз говорил какой-то парень. — Видно, он там уснул.
А какая-то женщина:
— Может, его удар хватил. Мужчины столько пьют…
Хабергейер затесался в толпу, впрочем почтительно расступившуюся перед его бородой.
— Расходитесь! — повелительно крикнул он. — Идите во двор, там имеется второй туалет. — И изо всей силы постучал в дверь. — Пунц! Алло! Что ты там копаешься? Может, тебе дурно? — Он приложил ухо к двери, потому что в зале и в кухне стоял отчаянный шум. — Что? — орал он. — Что? Говори громче. Ну же! Тут ничего не слышно.
Все столпившиеся (кто из любопытства, кто в силу горькой необходимости) прислушивались затаив дыхание и с интересом смотрели на короля охотников, который, приложив ухо к двери, кажется, что-то наконец разобрал. Он говорил:
— Ага! Сильная боль! — В кухне гремели тарелки. А он говорил: — Слушай! Мы тебя дожидаемся! — Теперь в кухне загрохотали ножи и вилки, казалось, там пустили в ход ударные инструменты.
Наступила пауза. Даже оркестр неожиданно умолк. Воцарилась полная тишина, только сквозной ветер свистел в щелях.
Помощник жандарма нагнулся, прислушиваясь. Ему почудился легкий шорох, шуршание бумаги и затем тихий стон.
— Да поворачивайся поживей, — кричал Хабергейер, — здесь уж целая толпа ротозеев скопилась.
В этот момент все началось сначала: грохоча, заиграл духовой оркестр, в кухне опять загремели фаянсовой посудой, и кельнерша пронзительным голосом стала ругаться на весь дом.
— Итак, — опять крикнул Хабергейер, — мы тебя дожидаемся. Да ладно уж! Я просто хотел узнать, что с тобой стряслось. — Он выпрямился. Под окладистой бородой на его лице ничего нельзя было прочитать. — Сейчас он будет готов. — сказал Хабергейер. — Сейчас выйдет.
В это время (то есть за пять минут до половины восьмого) матрос все еще стоял на откосе. Он пребывал в задумчивости, а задумчивость делает неприметным течение времени. К тому же человек, когда он напряженно думает, не замечает холода. Он думал о малютке Анни (почему бы и не о ней?); всегда хорошо думать о чем-либо приятном. И еще думал о Голубой песне, которая снова ускользнула от него. И еще об окарине, которую ему вряд ли удастся смастерить. Оставалось одно — купить ее. Дорого такая штука стоить не может.
Он взглянул вверх — на серебряную дольку луны, что повисла в ветвях яблони; взглянул вниз — на туман, морем разлившийся над долиной и медленно ползущий вверх но склону. Он ничего не слышал. И ничего не видел. Наверно, и нечего было слышать, а видеть он и не мог, потому что туман теперь клочьями ваты лежал над долиной.
Потом часы в деревне пробили половину восьмого, это он услышал, тотчас же почувствовал холод и пошел спать. Запер за собою двери. Ключ предосторожности ради сунул в карман. Быстрым взглядом окинул комнату и увидел человека-зебру, лежащего у плиты в отсветах угасающих углей, темного и неподвижного, как корень под землей.
Но когда часы пробили половину восьмого (а как всем нам известно, половина — это два удара), Пунц Винцент вдруг вырос у стола завсегдатаев. Он щелкнул каблуками и выбросил вверх руку.
Да-да, выбросил вверх руку. И щелкнул каблуками. Хабергейер искоса посмотрел на него.
— Ты что, спятил? — спросил он, укрывшись за своей бородой.
— Хайль! — выкрикнул Пунц. — Хайль! — Его лицо с громадным орлиным носом уже не было пунцовым, не было даже красноватым. Нет, оно было серое, как цемент.
— Спятишь, когда так живот болит, — сказал Хабихт.
— Еще бы, — согласился Хабергейер. И обратился к своему другу: — Сядь! Тебе надо подкрепиться.
А теперь что?.. Теперь мы заставим часы немного поотстать. Возьмем за кончик минутную стрелку и вернем ее на половину пройденного пути, то есть на целых тридцать минут назад. Вот уже опять семь. Часы хрипят, готовясь к первому удару. В этот момент начинаются танцы, в этот момент наш отчет заводит нас в густой туман.
В этот момент (вот все, что мы знаем точно, остальное мы можем лишь предполагать) Иоганн Айстрах, возвращаясь домой, доходит до южного края деревни. Без четверти семь он вышел из «Грозди», спустя пятнадцать минут, иными словами в семь, его еще раз видели на южном краю деревни там, где уже кончалась видимость, ибо дальше стояла стена тумана и начиналась великая Неизвестность.
Часы только что начали бить. Пробили первый, потом второй удар, когда Франц Цоттер — он возвращался из Линденхофа, — выступив из белого ничто, внезапно возник на фоне освещенной луной деревни, от стен которой, казалось, отскакивали звук и свет, и нежданно-негаданно увидел старика со штормовым фонарем в руках.
— Кто идет? — спросил Франц Цоттер.
(Часы между тем продолжали бить.)
— A-а! Старина Айстрах! Привет! С Новым годом тебя!
Но старик прошел мимо; он волочил ноги, как смертельно уставший человек, и бессмысленно освещал своим фонарем лунную ночь.
— Айстраха больше нет, — сказал он.
(Тут часы пробили в последний, седьмой раз.)
Цоттер сердито обернулся и посмотрел ему вслед. Тот шагнул два раза, и его еще можно было видеть, потом шагнул в третий, и его уже не стало видно. Растворился! Словно никогда его и не было, только туман колыхался над дорогой, как жидкое серебро.
А бог? Может, он стоял там впереди, в тумане? Стоял неподвижно, как дерево в аллее, весь покрытый инеем и почти не отличимый от других деревьев? Видимость была плохая. Если вытянуть руку, то и ее не увидишь. Хотя темнее, пожалуй, не стало. Туман стелился почти над самой землей, он был пронизан светом и казался сплошной светящейся массой, свечением ниоткуда и отовсюду, изредка где-то вверху виднелась луна, монета молочного оттенка, которая становилась то светлей, то темней.
Айстрах был набожным человеком. Почти каждое воскресенье он ходил к обедне. Он верил в бога и в бессмертие человеческой души тоже. При этом он рисовал себе достаточно определенную картину: бог изрядно смахивал на Хабергейера и, как тот, прятался за окладистой бородой. И он был благодушен! Неизменно благодушен! Мир, им сотворенный, забавлял его.
Тем не менее (или именно поэтому) Айстрах — во всяком случае так нам думается — в последние годы жил в тени постоянного страха. Был ли то вполне оправданный страх от мысли, что бог мог выглядеть и по-другому, а не то иметь второй лик на оборотной стороне, сокрытый, еще никем не виданный лик. Что мы знаем о страхе Айстраха? Мы можем только надеяться, что в этот момент он не был так мучителен. В тумане, под шапкой-невидимкой тумана, старик, быть может, даже считал себя в безопасности.
Дорога была ему знакома. Он мог бы идти по ней с завязанными глазами: мимо печи для обжига кирпича до Плеши, а дальше взять направо и спуститься в долину. Там ведь, чуть-чуть не доходя до дома лесничего, прикорнула лесопильня и возле нее — домики рабочих. Но сегодня вдруг оказалось, что это иная дорога. Иная не потому, что в желудке Айстраха была водка. Сейчас эта дорога вела вон из жизни, была дорогой в царство льда и туманов. Предметы выскакивали из темноты и снова прятались. Бледными очертаниями возникали на секунду-другую, нелогично, бессвязно, без всякого отстояния, неожиданные, тревожащие, абсолютно чуждые и неуловимые.
Старик раскачивал свой фонарь. Его свет окрашивал в светло-красное нижние слои тумана. Но вверху туман тек синеватым серебром, и серебряная монета луны плыла в туманной дымке. Орел или решка? Каков лик господа? Может быть, он — невидимая нам сторона луны? И как бы ни упала монета, ее обратная сторона? Изнанка всех лиц и всех личин? Таимая, как болезнь, как срам? Спрятанная за спиной, как смертоносное оружие? Или оружие спрятано в спине жертвы? И его всю жизнь таскаешь за собой в этом рюкзаке?
Шаги старика гулко отдавались на замерзшей дороге. Им вторило эхо — казалось, что кто-то идет с ним в ногу. Эхо шагало справа, там, где гора. Да и туман был там намного темнее, чем слева. Ветви, блестящие от инея, растопыривали пальцы. Сверкнула замерзшая лужа… И тут послышался голос бога. Послышался слева, в Невидимом, где притаилась печь для обжига кирпича. Голос позвал его, как в рупор.
— Айстрах!
— Здесь!
— Иди сюда, Айстрах!
— Есть!
Сойдя с дороги, он пошел вниз по склону, проковылял через парующее поле, проковылял через туман, через белую колеблющуюся массу тумана, навстречу голосу, его позвавшему.
И вдруг выросла перед ним тень бога, она воздевала грозные руки вверх, к лунному свету.
— Ага! — сказал Айстрах. — Вот как ты выглядишь!
Страха он не чувствовал, он узнал дуб.
Он дотронулся до растрескавшегося ствола, белого от инея. Промерзшая кора липла к пальцам. Голос опять выговорил его имя (теперь, видимо, непосредственно за его спиной).
Сначала он не обернулся. Ибо и вправду чувствовал близость бога. Мороз пробежал по его спине, и он на мгновение помедлил.
Потом он, верно, все же обернулся. (На это указывало положение его тела.) Он еще услышал свист (так мы предполагаем). Еще увидел, как сталь взблеснула в лунном свете… А потом — потом он уже ничего не видел. И ничего не слышал. А около пяти его стал засыпать снег.

То был второй удар, и на сей раз он был убийством. Установил это вахмистр Хабихт, установил помощник жандарма Шобер, установили и чиновники окружной жандармерии. Оповещенные Хабихтом, они прибыли еще засветло, четверо серых мужчин на серой машине, один из них инспектор, специалист по убийствам. И одновременно с ними в Тиши пришел мороз, суровый старый генерал, он стучал костями под ледяными эполетами и скрежетал зубами под седой окладистой бородой. Чиновники прежде других констатировали его появление: когда они после полуторачасового переезда вылезли наконец из машины и мужественно зашагали в высоких сапогах, то ног своих более не чувствовали. В жандармской караульне все четверо, потирая руки, встали у печки и выслушали доклад вахмистра, не слишком часто перебивая его вопросами.
В соседнем помещении дожидался возчик, нашедший убитого. Это был старый, весь заросший волосами человек в заношенной меховой шубейке. Он неподвижно сидел на стуле, сложив на коленях свои лапищи. Казалось, он о чем-то размышляет, но это только казалось. Его одолевало желание выбраться отсюда. Убийство! Мертвое тело! Кое-какое удовольствие из такого случая, пожалуй, можно извлечь. Но сидеть в этом казенном помещении не двигаясь, потому что двигаться здесь страшновато, — благодарю покорно! Хотя его и пригласили в качестве свидетеля, он чувствовал себя обвиняемым — убийцей. Он думал: вот тебе и Новый год! Недурно начинается. И еще думал о доме, о стаканчике водки и горячем супе, а также о своей супруге, опершейся массивным постаментом о край стола, правда уже не такой прелестной, как прежде, но все же вполне пригодной, чтобы скрасить вечерние часы его жизни. Он высморкался в кулак и вытер ладонь о ножку стула, подумал: пусть жандармам останется! А потом: как-никак бравые парни! Сквозь дверь, притворенную, но недостаточно плотно, он слышал, как говорит и говорит вахмистр Хабихт. Но что именно, разобрать не мог, впрочем, ему на это было наплевать с высокого дерева. Больше, чем знал он сам, Хабихт знать не мог (что, спрашивается, вообще знают эти жандармы?). Потому, наверно, конца его разговору и не было. Хоть бы лошади и кнут были здесь, все-таки развлечение. Мать честная! Лошади! Стоят теперь внизу на улице и пробивают желтые дырки в снегу — это их развлечение. Хорошо бы, думал он, здесь пощелкать кнутом! То-то бы вытаращилась вся эта братва! Он был большим мастером в этом искусстве, мог прощелкать кнутом целую мелодию. В углу он заметил плевательницу. Эта плевательница произвела на него немалое впечатление. Здорово они устраиваются в таких учреждениях, и все за счет налогоплательщиков! А впрочем, смертоубийство, конечно же, не мелочь! Он стал раздумывать: можно ли в этот сосуд плюнуть свидетелю, главному свидетелю, так сказать (да вот смех-то!), потому что без него… А он ведь знавал старика: возил, случалось, бревна для лесопильни. Но кто его убил, этого и он не знал. И на всякий случай решил соблюсти осторожность: лучше уж он проглотит слюну! Нос-то он прочистил (чего тебе, спрашивается, еще надо?), а сплюнуть можно и попозже, подходящее местечко всегда найдется. Итак, он проглотил мокроту, поднял лапищу и вынул из кармана часы: «Господи спаси и помилуй! Уже половина десятого!» Возчик покачал седой головой.
А из соседнего помещения все еще доносился разговор. Изо рта вахмистра Хабихта все еще падали слова, не вовсе неслышные, но падали также монотонно, как хлопья с неба. Мало-помалу это навевало сон; слова повисали на веках, ибо если само по себе слово и не имеет веса, то некоторые из слов очень даже весомы. Еще слава богу, что Хабихт был простужен и прерывал иногда свою речь на секунду-другую, чтобы выкашлять то, что не мог выговорить. В этот момент все четверо чиновников взглядывали на него, точно пробудившись от краткого сна. Они с трудом поднимали веки (опустившиеся под бременем слов), смотрели на белый четырехугольник окна, мимо которого малоприятный северо-восточный ветер гнал тучи неистово кружащихся хлопьев, и, видимо, помаленьку приходили в себя. Вот о чем он еще хотел бы упомянуть, сказал Хабихт, потому что это кажется ему особенно примечательным: у печи для обжига кирпича, то есть почти рядом с нею, в свое время было обнаружено тело Ганса Хеллера. Кроме того, мотоцикл этого парня — он скоро поступит в продажу — стоял тогда прислоненным к пресловутому дубу, и по его, Хабихта, мнению, это обстоятельство нельзя недоучитывать. Однако инспектор, слишком трезвый, а пожалуй, и слишком прыткий, чтобы уследить за чужой и довольно путаной мыслью, заявил, что никакой связи он здесь не усматривает, ведь то была дорожная авария.
Тут вахмистр Хабихт умолк. Ни малейшей охоты копаться в этих старых делах он не испытывал. Пожав плечами, он пошел к двери, открыл ее и позвал возчика.
Последний покорно вошел и с покорным видом стал посреди комнаты. Что ж, хуже, видно, не будет, да и вид у них не то чтобы непорядочный. Вид точь-в-точь как у лошадей, когда по утрам он с фонарем в руках входит в конюшню. Им почему-то понадобилось знать, как его зовут и когда он родился (словно это имело какое-то отношение к убийству).
Он сказал, а Хабихт немедленно записал. Жандармы вылупились на него. Но тут же отвернулись. Стали смотреть мимо, в пустоту.
— Ну, а теперь расскажи, как все было, — сказали они.
Он распрямил плечи, откашлялся.
— Ну вот, — начал он, — значит, какое дело!.. — Спозаранку он поехал в Плеши взять со станции несколько ящиков.
— В праздничный день? — осведомился один из чиновников, тот, что сидел впереди.
Ну конечно, это ведь приработок, а в будни у него время не выбирается.
— Я, когда на станцию ехал, старика не видел, потому что еще не развиднелось. Да вот кони — гнедые мои, они внизу стоят — что-то почуяли, заржали и ни с места…
Его прервали, и не слишком любезно: о конях пусть распространяется в трактире.
— Ладно, — сказал он, — я просто подумал, чего это они ржут, кони-то!
Он смотрит на жандармов. Его приводят в замешательство серебряные пуговицы на их мундирах. Своим холодным блеском они буравят ему глаза, как снежинки, что дорогой падали на него.
— Обратно я тронулся, — продолжал он, — когда уж посветлее было… — Сейчас пуговицы и впрямь стали снежинками, они сыплются и сыплются на него, а сумеречный свет комнаты (о синеватый спертый воздух, в котором произрастают сны!) как сумерки зимнего утра, и из них сквозь темно развевающиеся хвосты и гривы прямо на него катит длинная лента дороги.
Промерзшая дорога звенит, как металл. Колеса прыгают по выбоинам. Их стук отдается от тишины, как от стен, отскакивает от непроницаемых стен тишины. Его, возчика, растрясло от быстрой езды, вытрясло из сна и опять убаюкало; он прикорнул на передке телеги, подложил под себя кипу джута, а ноги у него болтаются на дышле. Его телега с грохотом несется среди тишины. Он сидит в футляре из грохота, словно уже оглох. Теперь но хватает еще ослепнуть, думает он, тогда все будет в порядке! На самом деле он, можно сказать, уже ослеп: тишины он не слышит, потому что она отбрасывает на него о шум, а минутами и ровно ничего не видит, потому что сумерки густеют, как ряска на воде, мутят, затягивают чистые воды ночи, а хлопья снега, кружась, сыплются на него, гасят окружающий мир перед сонными его глазами.
Он смотрит на серебряные пуговицы мундиров, моргает. Эти господа опять уставились на него. Их глаза можно запросто перепутать с пуговицами.
— Вдруг такая поднялась пурга, — объясняет он, — ничего не разглядишь.
С трудом подбирая слова, он описывает картину, что встает в его воспоминаниях.
Вот уже и Кабанья гора, она приближается и растет, черным валом подкатывает к дороге. Лошади, опустив морды, напрягаясь всем телом, трусят по крутому виражу. Здесь дорога и вовсе никуда не годится. Ящики прыгают на телеге. Он везет их Францу Цоттеру, деревенскому коммерсанту. А что в них, спрашивается? Ясное дело — продукты! Он прислушивается к стуку за своей спиной. Похоже, что дребезжат консервные банки. Отроги леса, несколько деревьев, растущих по склону (только на этом повороте, больше нигде), вклиниваются в ничейную землю и протягивают над дорогой свои паучьи лапы. Они всякий раз задевают крышу проезжающей здесь почтовой машины, следовательно, четыре раза ежедневно. Но возчик не такой гордый и не такой высокий, он может свободно проехать под ними на своей телеге. Вот он и проезжает под ними, проезжает мимо них, он ведь едет домой и везет продукты. Но в этот момент там, где виражи уже кончились и дорога перестала извиваться, а значит, на том же самом месте, что и раньше, лошади опять шарахаются. Они громко ржут и внезапно поворачивают налево, словно спасаясь бегством. Но слева склон Кабаньей горы, он-то и задержал их. Дрожа всем телом, кони останавливаются. Ругаясь, он спрыгивает с телеги и стегает их. А толку чуть — дышло встало поперек и не пускает телегу. А так как впереди полнейшая снежная неразбериха — да и сам-то он растерялся, — то решил посмотреть, что ж это такое испугало лошадей, не иначе как здесь что-то случилось. Он стряхивает снег с бровей и ресниц, оглядывается по сторонам. На дороге — ничего, в кювете — тоже ничего. Смотрит на восток, там в этот час уже обычно брезжит дневной свет, и видит какое-то призрачное мерцание, не то чтобы темное, но и не светлое. И вдруг он услышал тишину, отчетливо ее услышал. Стены уютного домика из шума уже не укрывают его. Беспомощный, стоит он среди беззвучия и на некотором расстоянии (за полосами вертикально падающего снега, который бичует его левую щеку) видит дуб, протягивающий иссохшие руки, и — меньше чем в трех шагах от него — загадочное Нечто на земле.
Инспектор смотрит на него и спрашивает:
— Вы дотрагивались до трупа?
А он:
— Я только голову ему чуть приподнял. Хотел посмотреть, кто такой.
— Вы не имели права это делать, — говорит инспектор.
— А я ее сразу из рук выпустил, — отвечает возчик. — Уж больно перепугался. Лица-то у него совсем не было.
Чиновники вместе с вахмистром Хабихтом выехали на место происшествия. Перед ветровым стеклом во всю ширь развертывался ландшафт, но стекло постепенно залепляло снегом; видел что-то еще только шофер — перед ним работал стеклоочиститель.
Он сказал:
— Надо было цепи захватить. Если пурга не прекратится, мы застрянем! — Сквозь маленький мутный полумесяц он смотрел на дорогу, на ней снежные хлопья выделывали мудреные пируэты.
Полицейский врач был уже на месте (его серый «фольксваген» стоял на обочине), не заставило себя ждать и любопытство в лице постоянных своих представителей — женщин, детей и пожилых мужчин. Они перешептывались, разбившись на небольшие группы, и не сводили глаз с дуба, возле которого помощник жандарма Шобер — еще более неприступный, чем всегда, — охранял что-то, уже не похожее на человека. И это Иоганн Айстрах? Этот обвисший бесформенный узел промерзшей одежи? Эта неприметная штуковина, засыпанная снегом, словно выброшенный на свалку хлам?
— Я ехал через Плеши, — сказал врач.
— Так разве ближе? — спросил инспектор.
— Пожалуй, нет, но дорога лучше. Я за четверть часа сюда добрался.
Они пошли вниз по склону и дальше через поле. Один из крестьян отпустил какую-то шутку, потом огляделся в чаянии поддержки и увидел только неподвижные лица. Охоту смеяться у нас начисто отшибло. В наших неповоротливых мозгах слово, к которому мы так привыкли в газетах, что уже вообще не воспринимали его, вдруг вновь приобрело и свое недоброе звучание, и подлинное свое значение. Мысленно мы вертели его так и эдак, внезапно уразумев, что оно не только слово. Четыре гласных и столько же согласных, слитые в одно из мрачнейших слов — убийство. Оно почему-то вызывает в памяти визг, с которым отворяются ворота сарая. Внутри его мигает лампа, за воротами ночь, а в сарае подрагивает скудный, маленький огонек, остатки керосина питают его, а на дворе тьма, и визжат петли на отворяющихся воротах. Огонек никнет, опять разгорается, чадит, на миг освещает что-то красное… Что ж это такое? Кто-то пролил малиновое варенье? Целая лужа образовалась на пороге… Но лампа, издав короткое, еле слышное «п-ш-ш», гаснет, и мы уже не видим этой лужи. Конечно, врач и жандармы не то думают, что мы. Им надлежит раскрыть подлое убийство, это работа, и начинается она с того, что они фотографируют мертвое тело так, как оно лежит. Да уж старику это и не снилось, снимают его со всех сторон. Фон по очереди составляем мы и дуб, а на одной из фотографий — они сверху снимали — крупным планом вышел сапог. Потом — раз-два, взяли — поднимают Айстраха, как мешок с тряпьем и костями, упавший с телеги старьевщика, и осторожно перевертывают его на спину. Багровая яма разверзается перед ними, багровая яма, изрыгающая багровый свет. Между вкривь и вкось вывисающими из орбит глазами, там, где уже не было ничего похожего на нос, из расколотого черепа перемешанный с травой и осколками костей блеклыми комьями вытекает мозг. Жандармы удовлетворенно кивают. Образцовая работа! Невероятной силы удар раскроил лобную кость, а дальше тяжелое, остро отточенное оружие проникло до мозжечка. Это им объяснил врач. Он сказал:
— До мозжечка! Иными словами, почти до затылочной кости! Ей-богу, это кажется невероятным.
При виде крови нас одолело любопытство, и мы подошли поближе. Но помощник жандарма Шобер отогнал нас.
— Вон отсюда! — заорал он. — Вход воспрещен.
Меж тем они раздели труп, и врач приступил к медицинскому осмотру.
— Борьбы, видимо, не было, — заявил он. — На теле убитого отсутствуют какие бы то ни было повреждения.
И вдруг неожиданность: предполагалось, что это убийство с целью ограбления. Но предположение оказалось неверным: в платье старика были обнаружены не только карманные часы, но и кошелек с недельной получкой, что как-никак составляло кругленькую сумму, каковой вряд ли бы пренебрег грабитель.
Чиновники переглянулись. Случай, как видно, был сложный, сложный на тот примитивный манер, что с первого взгляда представляется простым донельзя.
Инспектор, беседуя с врачом, спросил:
— Как вы считаете, в котором часу это было?
— Точно установить нам, пожалуй, не удастся, — отвечал тот. — Но часов одиннадцать-двенадцать с того времени уже прошло.
Это был так называемый «белый случай», белый, как чистые страницы в записной книжке, белый, как снег, что так прытко сыпался с неба и оставался лежать на охладевшем теле.
— Не думаю, чтобы у него был враг, — заметил Хабихт.
— Он со всеми был в приятельских отношениях, — подтвердил Шобер.
— Это небезопасно, — сказал инспектор, — значит, он никогда не знал, с кем имеет дело.
Они вместе обследовали место преступления (что уже однажды сделал Хабихт), но тотчас же поняли, сколь бессмысленно это занятие. Зима уже прикрыла глинистую наготу земли, уже надела на нее белые одежды призрака, сшитые из арктической материи, проколотой стебельками травы, зима торопилась спасти честь деревни, восстановить ее доброе имя, нахлобучить на убийцу шапку-невидимку, всех нас облачить в белые одежды призраков — и мир, как сладкое печенье, посыпать сахарной пудрой, словом, стереть следы преступления.
Снежинки, небесное воинство, слетали на землю. Заполняли все углубления почвы. «Ничего», — сказал Хабихт. «Ничего», — сказал Шобер. «К чертовой матери!» — сказал инспектор.
Они обрыскали весь кирпичный завод, прочесали камыши у пруда и теперь опять стояли под дубом и слышали, как ветер свистит в его ветвях.
— Кто живет там, наверху? — спросил инспектор. Он смотрел через голову Хабихта на склон горы.
— Бывший матрос, — ответил Хабихт. — Его звать Иоганн Недруг, он и вправду малый не очень-то дружелюбный.
На встревоженную толпу, на не слишком поспешавших жандармов, на людей, что плавали, как тмин в супе, на пустынной поверхности охолодавшей земли, — на все, что с призрачной беззвучностью немого фильма творилось среди снежных вихрей, двумя своими глазами-окнами косилась хижина гончара, притулившаяся на склоне горы.
И вдруг Хабихту почудилось, что разгадка непременно сыщется там, наверху, словно она — так явно, что никто ее и не заметил, — была уже в косом взгляде этих двух окошек.
Он сказал (и сейчас его устами вещал глас народа, как известно, являющийся и гласом божьим):
— Думается, господин инспектор, что этого человека там, наверху, надо хорошенько прощупать.
«Этот человек» уже знал, что возле дуба происходит нечто необычное. Он видел зернышки тмина и предположил, что одно из них — мертвое тело, а остальные — народ и жандармерия. Но чтобы окончательно в этом убедиться, он должен был выйти из дому, а это представлялось ему несколько рискованным, так как в комнате все еще спал его гость, и, пусть он был скорее зверь, чем человек, уйти, не простясь и захватив что-нибудь с собой, он тем не менее мог. Снова подойдя к окну (чтобы поглядеть на тмин и на снег), он увидел Хабихта и инспектора, идущих в гору и вдобавок направляющихся прямо к его двери. Он круто повернулся и достаточно неделикатно разбудил спящего.
— Avanti![3] — воскликнул он. — Враг вторгся на нашу территорию! (При этом он тряс его что было сил.) — Не говоря, в чем заключалась надвигающаяся опасность, он стащил сонного, не понимающего, где он и кто его будит, человека-зебру с его ложа и вышвырнул в сени. Потом приставил лестницу к люку, ведущему на чердак. — Полезай, живо! — приказал он. — Там сено! Заройся в него! Да смотри не чихай!
Арестант, весь дрожа, вскарабкался по лестнице, и, когда ноги его скрылись в темной дыре люка и с грохотом упала крышка, жандармы уже стучались в дверь. Но матрос не торопился (моряка не так-то просто испугать!). Сначала он убрал лестницу, ее ни в коем случае нельзя было оставить, потом прошел в комнату и скатал мешки и одеяла, на которых спал гость. Только когда все это было сделано по порядку и по возможности бесшумно, он вышел в сени, отпер дверь и угрюмо осведомился, в чем дело.
— Здесь жандармы, — поучительно заметил Хабихт.
Он и сам это видит, а дальше-то что?
— Дальше?
— Ну да, я вас спрашиваю, дальше-то что?
Одной рукой держась за косяк, другую положив на засов, он загородил им дверь — так корпус затонувшего корабля загораживает вход в гавань.
Первым заговорил инспектор.
— Вы ответите мне на ряд вопросов, сударь!
— Да? Неужели? Вы в этом уверены?
— Уверен! Совершенно уверен, милейший!
— Прошу! — сказал матрос. — Как вам будет угодно (он повернулся, освобождая путь блюстителям закона). А во избежание недоразумений запомните: «милейшим» вам пока что меня величать не стоит!..
Бросая взгляды то направо, то налево, не видно ли чьих-нибудь следов, инспектор и Хабихт прошли за ним в комнату. За его спиной они переглянулись, словно бы говоря: ну, каково ваше мнение? У комнаты был подозрительно невинный вид, и спина матроса выглядела, как положено выглядеть спине: непрозрачная, безучастная стенка, за которой можно переглядываться, сколько душе угодно.
— Вы гончар? — спросил инспектор.
Матрос ничего ему не ответил. Он пересек комнату под прикрытием своей широкой спины и встал у одного из окон. Потом повернулся, так сказать, лицевой стороною, но ничего от этого не переменилось, ибо он вырисовывался лишь как силуэт — черная-пречерная фигура на фоне ослепительного света за окном, который жег глаза не хуже серной кислоты, а лицо его было неразличимо.
— Итак? — спросил он. — Что вы хотите от меня узнать? — Голос его звучал глухо и неокрашенно, как у только что разбуженного человека.
«Голос у него был такой усталый, — рассказывал нам вахмистр Хабихт, — словно он уже готовился во всем признаться.»
Инспектор откашлялся. И впился взглядом в свою жертву, хотя свет из окна слепил его и жертва с головы до пят была черной.
— Вчера вы, стало быть, встречали Новый год, — начал он.
— Нет.
— Ах нет! Но почему же?
— А какого черта его встречать?
— Это зависит от точки зрения. Но, конечно же, вы провели вечер с друзьями.
— К сожалению, у меня нет друзей.
— Обстоятельство, вам не благоприятствующее.
— Что вы имеете в виду?
— Около половины восьмого вас видели на дороге.
— Ага! Так я и знал. Меня всегда видят, как только что-нибудь неладно.
— Вы стояли внизу, у печи для обжига кирпича.
— Ясно видимый впотьмах и в густом тумане.
Инспектор вышел из роли.
— Туман? — обернулся он к Хабихту.
— Так точно, — отвечал тот, — был туман. Здесь он часто выпадает.
Это надо было знать! Теперь свидетели растворились в тумане. Инспектор побагровел.
— Это все штучки! — И вдруг резко переменил тон: — Где вы находились вчера между девятнадцатью и двадцатью часами? Отвечайте!
— Здесь, у себя, если вы ничего не имеете против.
— А откуда вам известно, что был туман?
— Я сверху видел.
— Когда это было?
— Между семью и половиной восьмого. А если вы еще долго будете здесь вынюхивать — беды не миновать!
У инспектора перехватило дыхание, Хабихт сконфуженно закрыл рот ладонью, а инспектор, очухавшись, сказал:
— Ну погодите, мы еще с вами справимся!
— Не сомневаюсь, — отвечал матрос. — Полиция с кем только не справляется. Будь она хоть десять раз неправа. Так что пожалейте свой голос.
Инспектор изменил тактику. Он сказал:
— Возьмитесь же за ум, господин…
— Недруг! — сказал матрос. — Моя фамилия Недруг. А ваши штучки я терпеть не намерен.
— Итак, — сказал инспектор, — вчера вы весь вечер были дома. Можете вы это доказать? Нет. Но допустим, вы действительно были дома. Здесь у вас ведь довольно тихо. А дорога проходит недалеко. Если там кто-то зовет на помощь, вы должны это слышать у себя наверху.
Матрос наблюдал за ними, они оба это чувствовали.
— Послушайте, — сказал он. — В чем, собственно, дело? Вы, видать, для свинства подыскиваете свинью. Так вот, рев здесь всю ночь слышен. Ревут люди, что встречают Новый год. Я его не встречаю. Я курю свою трубку и ложусь спать. Но оказывается, я должен слышать, что они там ревут! И еще должен доказать, что я был дома, иначе явятся два свидетеля и покажут, что я и есть свинья. Весьма сожалею! У меня нет свидетелей, которые видят сквозь туман то, что им нужно. К несчастью, у меня нет даже собаки, которая облаяла бы нежеланных мне посетителей. Вы говорите, что я должен был бы слышать здесь, у себя, если на дороге кто-нибудь зовет на помощь. Неужто вы вправду думаете, что я в таком восторге от вас или считаю вас такими уж важными персонами, что день и ночь только и знаю, что прислушиваться, кто кого в Тиши отправляет на тот свет? Скажите мне, что случилось, а тогда посмотрим, смогу ли я быть вам чем-нибудь полезен. Но не пытайтесь пробовать на мне ваши штучки. Вы себя выставите в смешном свете, и только!
Инспектор осклабился, злобно и заносчиво.
— Так-так, простачком прикидываетесь? — Добавил: — Больше у меня к вам вопросов нет. — И, оборотясь к Хабихту: — Что ж, пошли!
Он повернулся, шагнул к двери, но на полпути вдруг остановился и стал смотреть на поленья возле плиты.
— Вы дрова сами колете? — спросил он.
Матрос отошел от окна и двинулся прямо на него. Он сказал:
— Да нет, я их покупаю уже наколотыми. А вам что, для дознания, может, дрова понадобились?
Инспектор зычно расхохотался. Боже упаси! Этого еще недоставало! А вот если бы он им одолжил топор, было бы отлично.
Матрос клюнул на эту удочку.
— Пожалуйста, мне не жалко, — сказал он.
А инспектор:
— У вас ведь их, наверно, несколько?
— Три, — ответил матрос.
— Мы выберем себе один, если позволите.
— Как угодно! Они у меня в сарае лежат. — И вдруг сообразил, куда они клонят, сообразил, что попался на удочку, и ощутил даже некоторое удивление — трюк этот был так безмерно глуп, что человек, полагающий, будто и глупость имеет свои границы, даже за трюк бы его не посчитал.
Сопровождаемый инспектором и Хабихтом, он вышел из дому.
— Его что, топором прикончили? — спросил он.
Инспектор искоса на него посмотрел.
— Кого?
— Ну, этого — там, возле дуба.
— Вам, значит, известно, что произошло?
— Я вижу, что там кто-то лежит на снегу.
— И вы не спустились вниз посмотреть на убитого?
— А зачем? Мне это неинтересно.
— Но откуда вы знаете, что убили мужчину?
Они все трое вдруг остановились.
А матрос:
— Почем мне знать, я просто так думаю. Женщин обычно убивают дома. — Он толкнул ногой дверь сарая. — Прошу, вон все мои топоры. Маленький, средний и боль… — Где же это большой? Его нигде не было видно.
— Ну, — сказал Хабихт, — куда ж этот стервец подевался?
А инспектор (злорадно):
— Ага!
Матрос растерянно озирается. Топор как в воду канул.
— Куда ж это я его дел, — говорит он. — Я уж давно им не пользовался. — И сколько он ни силился, не мог вспомнить, когда топор последний раз попадался ему на глаза. Он ходил взад и вперед между своих горшков, заглядывал в самые темные углы, и во рту у него вдруг пересохло, ибо он знал: если кто попал в эту машину — пиши пропало.
— Жаль! — сказал Хабихт. — Очень жаль! Нам как раз интересно было взглянуть на большой топор. Наверно, он пришелся бы точно по дырке во лбу убитого.
Матрос вскипел.
— Ищите его сами, если вы такие умные! С меня хватит этого балагана! И вообще… А, да вот же он.
Топор, пыльный, проржавевший и весь в паутине, стоял между двух бревен за ящиками и кипой древесных стружек. Хабихт опустился на колени и вытащил его.
— Да, этот бы точно подошел, — сказал инспектор. — Ваше счастье, что он в паутине. А теперь мы еще заглянем в дом, если позволите. Там и четвертый топор найдется.
Матрос, распетушившись, встал перед ним.
— Если я говорю, что у меня три топора, то четырех у меня нету! Вы хотите сделать обыск? Да? В таком случае предъявите ордер!
— Ордер?
— Ясно! А что же еще? Ордер из суда, из прокуратуры, из жандармерии! Или вы думаете, что я с луны свалился и вы можете делать со мной все, что вам вздумается?
— Не орите, господин…
— Буду орать! Я здесь на своем участке и могу орать, сколько моей душе угодно. А если вы не хотите слушать — убирайтесь подобру-поздорову! Довольно уж я говорил тихим голосом.
Инспектор наконец повернулся к двери и сказал!
— Мы еще побеседуем с вами! Идемте, Хабихт! — Он швырнул топор под ноги матросу и удалился.
Итак, на первый раз испуг миновал. Матрос, глядя им вслед, видел, как они мало-помалу растворялись в вихре снежных хлопьев, а следовательно, медленно возвращались туда, где в супе плавал тмин. Только тогда он вошел в дом и приставил лестницу к чердачному люку.
— Эй, парень! — крикнул он. — Слезай, они ушли, — И вдруг рассвирепел на того наверху, что, словно заряд динамита, лежал в сене, в то время как здесь полыхал огонь. Тот еще заставил матроса его упрашивать, но потом слез и, казалось, только сейчас проснулся.
— Жандармы? — Его вставная челюсть стучала, а сам он трясся, как телега на валунном поле.
— Понятное дело! — ответил матрос. — А кто же еще? Сегодня ночью внизу кого-то укокошили. Прошу тебя, смывайся-ка ты в свой лес. Они, конечно, опять сюда заявятся.
Арестант сделался бледнее, чем был, доказав тем самым, что бледное лицо еще нельзя считать бледным.
— Это конец! — сказал он. — Теперь они приведут ищеек.
Матрос вскипел.
— Конец! — прошипел он. — Чему конец? Твоей так называемой свободе! Верно? Иди ты знаешь куда с этой свободой!
— Псы! — сказал арестант. — Они затравят меня!
А матрос:
— Ты погляди, снегу-то сколько навалило!
Арестант в ответ:
— Они и под снегом сыщут мои следы.
А матрос:
— Если у тебя ноги так воняют… — Ворча что-то себе под нос, он убрал лестницу. — Если у тебя ноги так воняют, ходи на голове! Хоть раз в жизни она на что-нибудь сгодится. А теперь выметайся отсюда!
Арестант — руки у него висели как плети, а колени подгибались — помедлил между дверью в комнату и наружной дверью. Уже выброшенный из тепла, он еще не решался совершить прыжок в холод. То мистическое, что мерцало вкруг него (словно небо, отраженное в темной воде), даже «звериная шкура», все с него спало: нагой и отупевший, стоял он там перед взором зимы.
— Срок у тебя небольшой, — сказал матрос. — Воротись в тюрьму и отсиди свое! — Он сказал это уже не той фантастической зебре, что галопировала в лесах его мечтаний, ибо оттуда, сверху, больше уже не доносился стук ее копыт. Голубая песнь смолкла, он не слышал ее. С этими словами он открыл дверь. В нее глянули пустые глаза зимы. Матрос сказал: — От сарая иди вправо, там дорога не просматривается. — Зима таращилась за его плечами.
Арестант сделал несколько неуверенных шагов — прямо в вытаращенные снежные глаза. Глаза без радужной оболочки, без зрачка, как глаза гипсовой фигуры, как вывороченные глаза мертвеца… Ослепленный, он, пошатываясь, шел им навстречу.
Если бы кто-нибудь — Хабихт, к примеру, — подумал, что дело об убийстве в Тиши скоро разъяснится, можно было бы с уверенностью сказать, что он человек дельный, солидный, но, увы, не пророк. Три дня кряду пятнадцать человек жандармов топали по нашей местности, ибо они тотчас же размножились (мы понятия не имеем, как это произошло, однако в мгновение ока их стало пятнадцать), итак, три дня они утрамбовывали снег на дорогах, за что мы им и посейчас благодарны, так как снегопад ни на минуту не прекращался и снежный покров достигал уже полуметровой высоты. Три дня кряду вели они дознание, осматривали топоры то у одного, то у другого, главным образом у лесорубов и дровоколов — ведь у каждого топоров и колунов было множество. Но ни на одном из них — а почти все они приходились по размеру раны, и значит, могли сойти за орудие преступления — не было ни следов крови, ни следов мозга, ни хотя бы одного волоска с головы Айстраха.
А мир тем временем стал совсем белым, груз снега на крышах увеличивался и уже свисал с карнизов; жандармы то и дело жмурились, то и дело вытирали слезы, но плакали они, разумеется, не от растроганности и не затем, чтобы смягчить сердце преступника, а только потому, что белизна слепила им глаза; ведь белым был лик зимы, белым было место преступления, и белым-бело было в головах у жандармов, словно и туда засыпался снег. Куда ни глянь — белые клочья ваты, шагнешь раз-другой, и застрял, и уже тонешь в глубинах зимней спячки, как в перине, а протоколы дознания, словно стеганое одеяло, натягиваешь на голову. Допрошены были Хабергейер и Пунц, подумать только, лучшие, старейшие друзья жертвы преступления! А в результате: нескончаемая зевота, от которой скулы трещат. И во всех окнах белоснежный лик зимы, и в записных книжках сплошь белые страницы, а потом вдруг веки начинают гореть и на них проступают следы крови, ярко-красное полуночное солнце посреди мучительной зевоты. К матросу они более не возвращались, эти пятнадцать жандармов (тридцать высоких сапог!), но зато настигли Карамору и походя его арестовали. Топора у него, правда, не было, так же как и определенных занятий, зато была гармонь, что как-никак подозрительно. Однако его алиби было безупречно, этого они не могли не признать и вечером сидели в «Грозди», задумчиво уставившись в свои кружки, в то время как «бродяга, вольный человек», каким себя снова почувствовал Карамора, вместе с последним остатком надежды удалялся от них по снегу, призрачно светящемуся в темноте. Наконец они собрали в кучу всю нашу деревню, перевернули ее и перетрясли как положено. Но — вот незадача — из кучи не выпал ни убийца, ни его окровавленный топор. Когда же настал четвертый день — если не ошибаюсь, воскресенье, — а метель все не унималась, и груз снега на крышах становился все тяжелее, и тело убитого, которое нам наконец выдали жандармы, уже покоилось в церкви (похороны были назначены на понедельник, четырнадцать часов), эти господа вдруг прекратили следствие, уселись в свои машины и покатили домой. Нас же оставили во власти снега и убийцы.
То была новинка Нового года: знать, что среди нас живет неопознанный убийца и что едва ли не каждый из нас может этим убийцей оказаться. И — о гордость! — нас пропечатали в газете! В ней стояло название нашей коровьей деревни. Мы рвали газету друг у друга из рук (в «Грозди» или у парикмахера). Мы тыкали пальцем в эту строку, мы пробуравили пальцами бумагу, мы кричали: «Вон там, наверху! Гляди-ка, черным по белому! Убери свои лапы, ничего не видно!» В верхнем углу была помещена фотография нашего дуба и надпись жирным шрифтом: «Под этой старой липой мастеру лесопильного завода раскроили череп». Конечно, это большая честь, потому что (господи боже мой!) ну кто мы такие? Здесь же никогда ничего не случалось, здесь мы иностранных туристов даже в глаза не видели, у нас здесь вроде как чулан на скотном дворе, набитый всякой дрянью, в лучшем случае — сарай, полный дров в дальнем углу двора при маленькой гостинице, которой считается наша страна. Но конечно, следом пришло разочарование, увы, в следующем номере газеты — мы все так и бросились на него — о нас уже не было ни слова, мы опять были забыты. Между тем тот, кто пал жертвой, покоился в церкви, готовясь слиться с землею. Там он лежал удобно, мягко, лежал во господе; в этом смысле все было в полнейшем порядке. Но убийца жил среди нас, отнюдь не готовясь к тому, чтобы его схватили. Мы видели его в недостижимой дали, видели как маленькую черную точку, как мушиное пятнышко на белой вечности снегов, и тем не менее знали, что он среди нас, так близко, что мы всякий раз задеваем его плечом. Убийца выходил из подворотни, выходил со двора, захаживал в «Гроздь», садился в рейсовый автобус, тяжело ступая, шел по улице, пересекавшей деревню, и время от времени сплевывал в снег, а иной раз он удваивался, утраивался, удесятерялся даже. Случалось, мы видели целую армию убийц. Они выходили из всех дверей нашей деревни, чтобы прогуляться под защитой закона. Мы переглядывались, мы смотрели вслед друг другу; мы украдкой заглядывали друг другу в глаза и, к величайшему своему огорчению, обнаруживали, что, собственно, у каждого из нас — даже у бургомистра, — иными словами, у каждого, как бы хорошо он всем нам ни был известен, если смотреть па него искоса, было лицо убийцы.
Но со временем ко всему привыкаешь, даже к острой прелести жизни среди убийц. Метель, что метет помимо нашей воли, заметает кровавые следы, и вскоре мы опять чувствуем себя уютно. Правда, некоторое время спали мы как-то неважно, жидковатый был у нас сон, он походил на зимний скелет леса, на тот черный скелет, что держит нас в плену, но ни от чего не защищает. Мы сидели в клетке, на нас пялились белые глаза зимы, а мы разогревали вчерашний суп (иными словами, былой уют нашей жизни) и в суп, чтобы был повкуснее, клали все, что у нас имелось: несчастье, боль, отчаяние и даже светопреставление, которое нам опять предрекал Фердинанд Циттер. А на самом краю уюта, вернее, тихой гавани, где мы варили свой суп, старой гавани — сиречь нашего сердца, вдали от щекочущих нервы событий, так сказать, заранее растворившись в нестерпимом шуме, за нашим столом (на котором мы, если можно так выразиться, вскрывали очередные трупы), нас настигла весть еще об одной смерти, конечно же, прямого отношения к предыдущим событиям не имеющей.
То был маленький Бахлер. Он умер в воскресенье тринадцатого января, в день, когда нас здесь оставили с глазу на глаз с убийцей, умер от последствий лыжной прогулки, предусмотренной учебным планом, и погоды, таковым не предусмотренной, что и привело мальчика к конечной цели, весьма прискорбной для его родителей. Малетта одним из первых узнал об этом. Он, по обыкновению, обедал в «Грозди», когда врач, вызванный из города (разумеется, слишком поздно), после того как все уже свершилось, забежал туда подкрепиться, прежде чем сесть в свою машину.
Его спросили:
— Ну как дела?
Он отвечал:
— Я не чудодей. — И вынул сигарету из портсигара. — Ведь меня всегда зовут, когда мне уже делать нечего! — И (держа сигарету в зубах, так что она кивала у него изо рта) добавил: — Двухстороннее воспаление легких. — Тут он ее наконец зажег.
Учитель, господин Лейтнер, с отсутствующим видом сидел подле Малетты и усердно хлебал свой суп.
Следующий вопрос:
— Его жизнь в опасности?
Врач зажал сигарету двумя пальцами.
— Я же сказал: двухстороннее воспаление легких. — Он взял свой стакан, поднял — и добавил: — Я не чудодей, я только врач. Полчаса назад он скончался.
В этот момент господин Лейтнер поперхнулся и целый водопад супа низвергся на стол. Малетта, заранее считаясь с такой возможностью, отодвинулся и, поскольку мерзостное низвержение прекратилось, с одушевлением хлопал беднягу по спине.
— Я знаю, нельзя говорить о мертвом ничего дурного, ведь мертвый не может себя защитить. Но в данном, совершенно особом случае да будет мне позволено это сделать, ибо Карл Малетта (а речь идет именно о нем) никогда — даже при жизни — не умел себя защищать. Беззащитный, растерянный, стоял бы он, вздумай кто-нибудь схватить его (к примеру, жандармы). Но никто его не трогал, слишком он был для нас ничтожен, уж его-то нельзя было заподозрить в убийстве; итак, он был вправе радоваться своему «существованию», я сознательно пользуюсь этим словом, потому что нельзя было даже сказать, что он «влачит жизнь», он, никем не замечаемый, никем не согретый, тогда как на треть он был уже мертв, умер в чащах отчаяния, и (теперь я скажу то безобразное, чего никогда бы не сказал о другом покойнике) Малетта действительно радовался, конечно не своему существованию, не той случайности, что ошибочно называется «жизнью», а любой дурной новости, его не касавшейся.
Он говорил:
— Ну вот! Наконец что-то случилось! — Он даже имел счастье сказать это фрейлейн Якоби, так как вскоре после обеда, поднявшись в свою мансарду, лицом к лицу встретился с «верой и красотой».
Она остановилась и сверху вниз глядела на него (ибо стояла на несколько ступенек выше).
— С вами я больше разговаривать не желаю, — отрезала она. — Вы распутный человек.
— Но вы ведь уже разговариваете! — ответил Малетта, воззрившись на нее, как на башню.
В лыжном своем костюме она выглядела великолепно; обтягивающие синие брюки, несомненно, сохраняли тепло нижней части ее тела если уж не для отечества и народа, то по крайней мере для запоздалых весен.
— Стыдитесь, — продолжала она, — в вас нет ни малейшего уважения к женщине. А знаете ли вы, что в свое время сказал Бальдур фон Ширах? (Она отбросила прядь со лба, что, видимо, всегда делала, приводя себя в боевую готовность, и вскинула голову, как бы уже вступая в бой.) «Черт бы взял того парня, — сказал он, — который не уважает немецкую деву!» Восклицательный знак!
Малетта осклабился.
— Удивительно умное замечание!
— Умное или нет, но безусловно правильное. А сейчас не загораживайте мне дорогу. Мне надо спуститься к фрау Зуппан, внести квартирную плату.
Она решительно выставила вперед ногу, чтобы идти дальше, угрожающе занесла над Малеттой свой башмак сорокового размера, словно не только намеревалась растоптать его, но уже была готова это сделать.
А он только и ждал такого знака.
— Черт уже взял того паренька, — сказал он. — Не знаю, уважал он вас или нет. Может, только делал вид — ну да все равно, так или иначе, он мертв, и виноваты в этом вы и почтеннейший господин Лейтнер.
Это попало в точку! Кровь бросилась ей в голову. Глаза стали еще синее, кудряшки еще белокурой! Она стала красной от шеи до корней волос, красной, точно ей справа и слева надавали оплеух.
— Маленький Бахлер? — беззвучно прошептала она.
Малетта кивнул.
— Сегодня утром он умер. Врач на обратном пути заглянул в «Гроздь». Господин Лейтнер принял это к сведению.
Она хоть и стояла все на той же ступеньке, но словно бы куда-то опустилась.
— Он был слабый ребенок, — прошептала фрейлейн Якоби. Теперь она смотрела поверх Малетты в пустоту, в дальнюю даль, открывшуюся по ту сторону ее кругозора. И затем (еще тише, с по-прежнему отсутствующим взглядом): — Значит, бедняга уже сыграл в ящик. — И (сдавленным голосом): — Прошу вас, пропустите меня!
Малетта, почтительно посторонившийся, сегодня не ощутил (что немало его удивило) острых углов на ее обычно костлявом теле, когда, пробегая мимо, она задела его плечом. В восторге от этого открытия, он смотрел, как фрейлейн Якоби, утратив всю свою осанку, мчится по лестнице и, вместо того чтобы зайти к Зуппанам, неодетая, стремглав выскакивает на улицу.
В понедельник состоялись похороны Айстраха. За гробом шли все, кто не хотел, чтобы на него пало подозрение. Матросу-то было на это наплевать, он ведь — как ни верти — всегда был под подозрением. Но у него оказалось какое-то дело внизу, в Тиши, и странная его судьба устроила так, что в тот самый момент, когда он проходил мимо церкви, оттуда выползла печальная процессия. Матрос остановился на дороге, что шла вдоль стены, и заглянул через нее (стена была невысокая, даже шею особенно вытягивать не приходилось) на кладбище, как заглядывают в кастрюлю. Колбаса из людей медленно волочилась по снегу, по белому эмалированному дну кастрюли, затем кольцом обвилась вокруг разверстой могилы, вокруг этой черной дыры в белом дне. Процессия была длинная, по и достаточно жалкая, жалкая потому, что все мы знали, насколько бы по-другому она выглядела, умри старик естественной смертью. Хабергейер и Пунц несли гроб вместе с двумя лесорубами и, разумеется, шли впереди — впереди их скорбь была виднее. На упрямо несгибавшихся плечах, которым легко было держать старика «в весе мухи», плавно покачивая своего друга, они переправляли его в потусторонний мир, через подземную и надземную вырубку, на ту неслышную лесопилку, о которой говорят, что она работает медленно, но верно. Наст скрипел под их подошвами, кивали искусственные цветы на гробе, и матрос вдруг услышал голос из ночной тьмы: «Послушай, Айстрах, ты чего-то боишься?» И другой: «Пошли вместе!» Оба голоса до того сальные от ласковости, что у того, кто что-то заподозрил, все нутро переворачивалось.
Он прищурился, вытянул вперед подбородок, вперил взгляд в эту шушеру. Шушера опустила гроб на землю, и, когда пастор, энергично приступив к исполнению своих обязанностей, к нему приблизился и фрау Пихлер начала рыдать, они уже стояли, потупив взоры и молитвенно сложив руки, вокруг гроба. В целом картина была черно-белая: снег был бел, и белы были холмы, но люди и кресты были черные, черны были и ветви деревьев в небе и вороны, что сидели на них, изредка каркая, черной была яма, дожидавшаяся покойника. Но кто-то один вдруг поднял голову и уставился на стену; и этим первым поднявшим голову был егерь. Почти в то же самое время поднял голову и Пунц. Его лицо сразу стало кроваво-красным пятном посреди картины. Затем и другие подняли головы, все смотрели в одном направлении. Фрау Пихлер смолкла, и пастору пришлось прервать свою речь.
На верхушке побеленной стены, на краю кастрюли, в которой мы находились, нашему взору явились черная моряцкая шапка и голубые глаза матроса. Но это и все, что мы увидели, его плечи были скрыты от нас, и казалось, будто на стену, покрытую снегом, насажена отделенная от тела голова.
Картина, которая должна была изображать нашу печаль, эта трогательная картина с кроваво-красной кляксой посередине, нечаянно превратилась в загадочную картинку, а печаль — в своего рода маскировку. «Где убийца?» Правда, где же он? Висит вниз головой в черном переплетении ветвей? А ворона сидит поверх его глаз? Или он вертикально вжался в контуры ландшафта? Белый, как они? Недвижный, как они? Затаивший дыхание, как те, что почувствовали его близость? О нет, не так уж все выглядело сложно! Все мы в этот момент были уверены, что видим убийцу. Поскольку сами себя мы, конечно, видеть не могли, на загадочной картинке мы увидели убийцу. Его голова, которую ему даже и не отрубят (ведь смертная казнь отменена), вызывающе лежала на кладбищенской стене, как бы накрытая матросской шапкой. И вдруг мы узнаем, что эта голова сидит на шее, а шея — на широченных плечах и что этот тип стоит за стеной, готовый любого из нас спровадить на тот свет, и с бесстыдным спокойствием смотрит, как хоронят его жертву!
— Вон он стоит, — едва слышным шепотом проговорил Франц Цопф (бургомистр).
Все женщины хором:
— Иисус Христос, пресвятая дева!
Помощник лесничего Штраус заскрежетал зубами и сделал три шага по направлению к стене. Хабергейер, неизменно разумный и осмотрительный, тотчас же схватил его за куртку. Мягко, но решительно он потянул его назад (из снега, доходившего Штраусу до колен) и сказал:
— Не устраивай сцен! Это ни к чему не приведет и только собьет с толку следствие!
А Пунц (глухо, точно эхо в дальнем лесу):
— Не устраивай здесь сцен! Это ни к чему не приведет!
Между тем матрос заметил, что народ занял по отношению к нему угрожающую позицию, и, поскольку в государстве сила исходит от народа, а глас народа — глас божий и шутить с этим гласом, равно как и с этой силой, не приходится (тем паче человеку приезжему да еще недавно развалившему «козу»), он предпочел повернуть к дому — по мере возможности быстро, — так что, если смотреть сбоку, его голова побежала по стене, словно у нее выросли ноги.
— Смылся! — сказал Франц Цопф.
— Ну погоди у меня! — сказал помощник лесничего.
— Спокойно! — сказал пастор.
Гроб Айстраха наконец опустили в могилу.
Что ж, мы, как уже говорилось, привыкли к смерти, привыкли и к убийству. Люди умирают, тут ничего не поделаешь, а время от времени один убивает другого. Топор лесоруба — штука немудреная, да и череп тоже, когда же они приходят в соприкосновение, то, пожалуй, получается простейшая штука на свете. И все-таки присутствующие на похоронах поняли, что пора уже что-то предпринять, но поскольку сначала надо было решить, что именно, то все они отправились в ресторацию. Франц Биндер, в черной шляпе и черном галстуке, протиснулся вперед и поспешил встать за стойку, тогда как остальные, под светом неоновых трубок немедленно утратившие свой торжественный вид, расселись за тремя столами, мужчины за столом завсегдатаев и приставленным к нему столиком поменьше, женщины по левую руку от пивного бога Биндера, чтобы, как то свойственно прекрасному полу, зря времени не терять; на сей раз они даже не поговорили о погоде — куда там! — а, немедленно приступив к делу, затарахтели что было мочи, и сразу же у них нашлись нужные слова.
— Да-да! — начал старик Хеллер (отец Ганса Хеллера).
— Да-да! — сказал Франц Цопф, бургомистр.
— Что он такое говорит? — спросил один из соседних крестьян; он был туговат на ухо.
— Да-да! — во всю глотку прокричал, наклонившись к нему, Фердинанд Шмук.
«Да-да», разумеется, что-то значило, ибо произнесли два эти слова сидевшие за столом завсегдатаев: Франц Цопф, Алоиз Хабергейер и Пунц Винцент (за его спиной — посиневший к вечеру генерал мороз), рядом — старик Хеллер, Фердинанд Шмук, хуторянин, и Адольф Бибер, тоже хуторянин, трое самых дородных — в красном углу (под общей тяжестью их задов трещала скамейка, а над ними в муках корчился спаситель), спиною к стойке, как бы зажатый в тисках, — булочник Хакль, социалист, и Зепп Хинтерейнер, начальник пожарной охраны и столяр (у этих двоих всегда и на все находились возражения), справа от Франца Цопфа, на почетном месте, следовательно, не в тисках, и как раз напротив Алоиза Хабергейера — Франц Цоттер, от него разило эмментальским сыром, и на генерала мороза за окном он не обращал ни малейшего внимания. Слова завсегдатаев, сидевших за своим столом, были не менее весомы, чем зады, под которыми прогибалась скамейка, но дело тут было не в их звуковой окраске и еще того меньше — в их смысле, нет, просто нашлось место, куда им падать, — они падали в бездыханную тишину, а могли бы упасть под стол, как мелкие монеты, и закатиться в самый дальний и темный угол, если бы упомянутых господ можно было поймать на слове, но на таких словах никого не поймаешь.
— Будь я жандармом… — сказал Франц Цоттер.
— Ты бы всех нас засадил в каталажку, — сказал столяр.
— Я бы уж знал, кого туда засадить, — ответил Франц Цоттер, — только меня, к сожалению, не спрашивают.
За придвинутым столом поменьше сидели «легкие» (к ним подсел, из милости, и Укрутник), двое рабочих с лесопилки, помощник жандарма Шобер, напротив него — Зиберт, инвалид войны, опиравшийся, так сказать, на всю общину, а именно: спина к спине с Францем Цопфом, рядом же с ними, на подоконнике, точно в середине между двух столов, вроде как дирижер оркестра, помощник лесничего Штраус — слева первые, справа вторые скрипки.
Он что-то прошипел на ухо своему концертмейстеру, при этом оба его золотых зуба взблеснули в свете неона.
— Что это Хабихта не видно? — через плечо спросил Франц Цопф.
— Хорошо бы ему послушать, что здесь говорится.
— У него дела по горло, — сказал со своего места помощник жандарма Шобер. — Некогда ему по ресторациям ошиваться.
— Зато у тебя время есть, — сказал Штраус.
— Так-так! И чем же это он занят? — поинтересовался столяр.
— Здесь уж найдется, что́ делать! — заметил Шобер.
— Ничего, однако, не делается, — пробурчал Франц Цопф.
А Хабергейер (с трубкой в зубах):
— Недалеко мы ушли с нашей демократией!
Кельнерша явилась (словно ею из пушки выстрелили).
— Четыре кружки пива, три сливовицы, две водки!
А Пунц (с угрозой в голосе):
— Тут железная метла нужна! Смести вас всех в кучу да и повесить!
— Это ты меня вешать собрался? — набычившись, спросил столяр.
— Да он этого вовсе не говорил, — вмешался Франц Цоттер.
— Что он сказал? — поинтересовался один из хуторян.
— Что нас всех надо повесить! — выкрикнул Фердинанд Шмук.
Хабергейер вынул трубку изо рта и поднял ее мундштук, словно указательный палец.
— Тут речь идет о «коллективной вине», — проговорил он, — после войны мы немало о ней наслышались.
А кельнерша у соседнего столика:
— Три пива! Четвертушка красного для господина Зиберта!
У стойки дребезжание стаканов, на другом конце зала бормотание женщин, кажется, что мимо проходит процессия пилигримов.
Тут заговорил до этой минуты злобно молчавший булочник Хакль.
— Какая такая «коллективная вина»? А? — спросил он. — Сдается мне, ты все на свете перепутал.
Ответ последовал незамедлительно от Пунца Винцента. Навалившись на стол, он заорал:
— Трусы вы все! Понял? Не удивительно, что убийца ходит тут среди нас и в ус не дует.
— Трусы? — переспросил героический Зиберт и повернулся так, что его протез заскрипел.
— Кто ж о тебе говорит! — буркнул Франц Цопф.
— Всегда готов к бою! — выкрикнул инвалид войны и так стукнул деревянной ногой по полу, что на стойке зазвенели стаканы.
— Осторожнее! — сказал Укрутник. — Вы чуть не отдавили мне ногу.
Фрау Зиберт бросила на мужа озабоченный взгляд и сказала:
— У него на культе все какие-то пупыри появляются.
— А вы их коровьим навозом мажьте, — посоветовала Фрау Шмук.
— Фу, гадость, — фрау Хинтерейнер скорчила брезгливую мину.
— Поневоле напрашивается вопрос, — сказал помощник лесничего Штраус, — для чего вообще существует этот исполнительный орган? — Он покосился на Шобера, но тот сидел, опустив голову, и чего-то выжидал. — Вот теперь среди нас разгуливает убийца, — продолжал Штраус, — и смотрит, как опускают в могилу тело его жертвы. Каждый его знает. Каждый знает — это убийца. Ничего не знают только господа жандармы.
А Хакль (среди внезапно наступившей тишины, отчего это прозвучало особенно неприятно):
— Ах, вот что! Вам убийца уже известен? Вы уже знаете, кто он?
Глаза всех, как ножи, вонзились в него, потом (среди продолжающейся и тем не менее изменившейся тишины, ибо сейчас она уже звучит угрожающе) с другого конца зала послышался голос помощника жандарма Шобера:
— Да, они все больше нашего знают. Наверно, господь осеняет их знанием во сне. Мы обыскиваем всю округу, идем по любому, даже едва заметному следу, а эти — эти тем временем сидят в трактире, ни разу даже зада не оторвали от стула и докопались до того, о чем мы, жандармы, еще и понятия не имеем.
И вдруг — перерыв! Кельнерша приносит кофе для женщин. А для фрау Пихлер даже со сбитыми сливками. Она ведь так бедна и к тому же все время вытирает слезы, уж очень хорошо она относилась к своему старику. А в трех окнах — генерал мороз, весь день он был в белом мундире, как некогда рейхсмаршал Геринг, теперь его мундир стал черен, и вот черный, следовательно, невидимый генерал заглядывает в залу, отчего там спешат задернуть занавеси.
Задергивает их кельнерша, подав сначала кофе женщинам. При этом один из рабочих, помощник лесничего Штраус и Пунц Винцент чувствуют, до чего же у нее худые ляжки, так как она становится на колени возле них на скамейке (что на них никакого впечатления не производит), и невидимый генерал лишается возможности заглядывать в окно.
И тут же слышится голос Хабергейера. Он раскрывает рот, спрятанный в божеской бороде, и то, что из этого рта выходит, настолько разумно, что помощник лесничего Штраус сразу оказывается вне игры, а именно:
— Разумеется, это вздор. Нельзя взять да и объявить: вот этот убийца. Можно что-то почуять, это да! Можно пойти по следу, это да! И наблюдать за подозреваемым, это да, как с охотничьей вышки! Но, — он поднял вверх свою трубку, — но нельзя утверждать то, что ты никогда не сумеешь доказать! Сначала доказательства! В этом все дело!
— Что он говорит? — спросил хуторянин.
— Сначала доказательства! — выкрикнул Фердинанд Шмук. На зобе, вывесившемся у него из воротника, набухли жилы, казалось, они вот-вот лопнут.
— Доказательств не существует, — изрек Пунц Винцент. — Он ни самомалейшего следа не оставил, понятно? Все сделал умно и осторожно! Никогда нам его не изобличить.
— То-то и оно! — подтвердил Штраус. — Поэтому мы должны со своей стороны что-то предпринять. Нельзя же сидеть сложа руки и смотреть, как он совершает одно преступление за другим. Началось все с сарая, так ведь? Потом Хеллера нашли в печи для обжига кирпича! Потом мы слышали подозрительные выстрелы в лесу! Дальше — история с «козой»! Теперь — теперь пришел черед Айстраха! А то, что это убийство, скумекал даже господин Хабихт.
Еще раз сливовица! Еще раз водка! И еще сигареты и вино для Пунца Винцента!
— Не смей надираться! — прикрываясь своей бородой, шепнул ему Хабергейер.
А Пунц прорычал:
— Слушаюсь, господин группенлейтер!
Теперь еще три кофе на дамский столик и два раза сбитые сливки для фрау Бибер и фрау Цопф. Для фрау Хинтерейнер один раз «рефоско»! И содовой с малиновым сиропом для фрау Зиберт!
Фрау Зиберт (облизывая трагически опущенные губы в предвкушении малинового сиропа):
— Необходимо, чтобы восстановили смертную казнь!
Фрау Цопф (до ноздрей вымазавшись сбитыми сливками):
— Правильно! Никакой жалости к убийце!
А за столом вторых скрипок Укрутник:
— Обязательно надо снова ввести смертную казнь…
Но теперь тему подхватывают первые скрипки, и здание содрогается от мощных криков.
— А как дорого стоит такой убийца! — сокрушается фрау Хеллер. — Сколько всего нужно приговоренному к пожизненному заключению! До конца дней — даровая пища! Он же объест нас всех, если вовремя не околеет!
— Я бы его голыми руками задушила, — выкрикнула фрау Цоттер и воздела руки, похожие на кротовые лопатки. — Так нет же, сначала еще извольте его откармливать!
А фрау Бибер (от упоения сбитыми сливками уже не понимавшая, о чем идет речь) воскликнула:
— Свиней лучше всего откармливать молоком… — Тут последовало внезапное извержение словно бы в подтверждение этих слов: из горы жира и мяса (коей она была) грохнула титаническая отрыжка.
Хабергейер погладил бороду и сказал:
— Это надо изложить в высших инстанциях! — С некоторых пор он постоянно говорил о «высших инстанциях» и все время у него были какие-то дела в городе.
— Что он сказал? — переспросил хуторянин.
— Сказал, что опять введет смертную казнь!
Тут булочник позволил себе что-то заметить (через минуту никто уже не помнил, что именно), кажется назвал смертную казнь абсурдом — во всяком случае, все стали неистовствовать, как разъяренные быки.
— Сейчас приволоку шланг и окачу вас холодной водой! — прорычал столяр (он был начальником пожарной охраны, и ему ничего не стоило привести свою угрозу в исполнение).
А помощник лесничего Штраус:
— Мы что, сюда драться пришли или о деле говорить?
Франца Биндера все это не могло вывести из душевного равновесия. Бочки громоздились за его спиной, и, чем бы ни кончились эти дебаты, он знал, что сегодня хорошая прибыль ему обеспечена.
— Мы должны объединиться — пояснил Франц Цопф, — пора уже браться за дело. Я предлагаю в среду пойти к Хабихту и потребовать, чтобы он арестовал матроса.
Решено было проголосовать. Они подняли руки (с ястребиными когтями, с кротовыми лопаточками, бесформенные куски мяса, поделенные на пять частей) и постановили — во что бы то ни стало добиться ареста матроса… Тайное, глубоко личное решение приняла на следующее утро только хозяйская дочка Герта Биндер, ибо — говорила себе эта любящая душа — как бы ни сильны были его мускулы, как бы ни соответствовали они моим, если правильно то, что я учуяла носом (а я, ей-богу, учуяла), тогда… тогда, нет, не знаю я, что тогда.
Разумеется: снег запаха не имел — так уж водится (для запахов нужна определенная температура); и на дворе было бело, было черно и серо (серое, как известно, составляется из черного и белого), больше никаких красок не было, и тепла не было, а значит, не могло быть ни малейшего запаха. На оконных стеклах цвели ледяные растения — овощи, что созревают в потустороннем мире, но в домах было жарко натоплено. Запахи сидели у печек и грелись; они липли к людям и к скотине, умудряясь сохранить свою жизнь под теплой шкурой или под людской одеждой. И когда шестого января, около половины десятого, Герта, войдя в комнату своего дружка, повела носом — сначала просто по привычке, входя к нему, она всегда поводила своим недоступным никакой простуде носом — она сразу же почуяла запах.
А шестого января, как известно, крещение и белье на всех было свежее (цвет его, конечно, определяла мода), совсем как свежевыпавший снег, только значительно теплее. И Укрутник накануне вечером вел себя как обычно — обнял и поцеловал свою любушку еще в коридоре и пошел спать (да-да), устав от торговли скотом, впрочем, то была приятная усталость. Сейчас, утром, в половине десятого, он еще лежал под периной, и перина походила на заснеженные горы: с одной стороны большая Кабанья гора, с другой — малая, и нигде никаких следов: чехол-то был только из стирки. И все же! Глядя на этот заснеженный пейзаж, без единого следа, залитый ангельски белым светом, который снег за окном отбрасывал до самого потолка, Герта вдруг почувствовала страшное подозрение (даже не отдавая себе в том отчета), втянула его носом — сама, все еще точно снег, ничем, кроме свежести, не пахнущая (и уж в этой-то чистоте вполне отдавая себе отчет), да еще и с чистым сердцем, а следовательно, вроде как находясь на чистых и радостных высотах, — втянула это подозрение носом, как втягивают воздух при глубоком вдохе.
Итак, нос направил ее к кровати Укрутника. Перина, как мы уже говорили, никаких следов не хранила. Тем не менее нос наткнулся на этой территории, на этом белоснежном, еще не исписанном листе, на какой-то непахнущий запах, может быть уже дошедший до неба, но не до сознания Герты, он (нос), надо думать, уже знал все, поскольку не был приспособлен для долгих размышлений, тогда как сама Герта, еще ровно ничего не зная, ощутила только необъяснимый ужас.
Она села на край кровати (ее лыжные брюки так натянулись, что чуть не лопнули), бросилась на своего Константина и бурно поцеловала его в губы. Но ужас не проходил, напротив, делался еще больше, и вдруг она поняла: среди знакомых запахов, что обычно украшали ее пребывание здесь и заволакивали ее любовную жизнь (табачный дым, сапожная мазь и бриллиантин), в это смешение запахов, в котором она, становясь единым целым с мужчиной, всегда различала собственные свои ароматы, теперь вкралась чужая, ненавистная вонь, возбуждавшая ее ревность.
Она ничего не сказала, во всяком случае, об этом открытии. Спросила, как он спал, спросила, что ему снилось, и еще спросила, что у него нового. Она всегда проявляла интерес к его торговле. Потом тепло и мягко прижалась к нему грудями (самая приятная перина, какую только можно себе представить), низко склонив свое свежее, как утро, лицо над его щетиной (она даже украдкой обнюхала ее), болтая то о том, то о другом, к примеру как им провести время сегодня и завтра, но при этом все с большим страхом и отчаянием думала: о боже! Неужто это правда, или мне только мерещится? А когда он наконец поднялся и вышел из комнаты, чтобы сделать то, что положено делать (и желательно с утра пораньше, потому что глупо таскать это добро в себе), Герта, повинуясь слепому инстинкту, вскочила, едва за ним захлопнулась дверь, бросилась к умывальнику, где лежала эбонитовая расческа, и выдернула из нее (пальцами, дрожавшими, несмотря на свою толщину и розовость, не ожидаемый corpus delicti[4], не пучок белокурых волос, чтобы со злобой и отвращением обследовать их, а — ничего: расческа была дьявольски чиста, была чиста, как никогда раньше. Похоже, что ее сейчас только вычистили. Но чья рука это сделала и почему бы вдруг?
Теперь Герта ринулась обратно к кровати и сбросила с нее перину — на простыне тоже ничего подозрительного. Достала из-под кровати ночной горшок н опять ничего не обнаружила. Она кружилась вокруг своей оси точно волчок, все время ощущая, как эта ненавистная вонь проникает в нее, разъедая легкие, вызывая тошноту. Герта не знала, что делать, придется, видно, обыскать всю комнату, а времени до прихода Укрутника оставалось совсем мало и на такое мероприятие его бы, конечно, не хватило. Но вдруг она замерла и уставилась в пол: два пятна были на нем рядышком, два черных пятна, какие образуются, когда с башмаков понемногу стекает налипший снег. Она бросила испытующий взгляд на башмаки Укрутника. Они были больше и к тому же сухие. Присев на корточки, Герта пощупала пятна — еще мокроватые, а значит, возникшие совсем недавно. У него ключи от входной двери! — подумала она. К одиннадцати все в доме уже спали, а зимой в это время на улице тоже ни души, да и ночи сейчас длинные и темные.
Она встала, потянулась за его пиджаком — подмышками у нее от страха выступил пот — и только что собралась дрожащими пальцами вытащить бумажник (то была ее последняя надежда), как за дверью послышались его шаги, она отдернула руки, точно обжегшись, и прижала их к животу.
— Я читал, — сказал Укрутник, — что типографская краска — штука очень вредная. — Он запер за собой двери и шагнул к Герте, намереваясь ее поцеловать.
Но она строптиво увернулась и кулаками уперлась в его грудь.
— Убирайся! — сказала она. — От тебя воняет!
И приняла бесповоротное решение.
На следующий день, то есть в среду седьмого января, к вахмистру Хабихту отправилась делегация, состоящая из четверых наиболее видных жителей нашей деревни. Они тащились по снегу прямо из «Грозди»: Франц Цопф, Адольф Хинтерейнер и Фердинанд Шмук под пламенным водительством помощника лесничего Штрауса. Не слишком изворотливые и не больно-то красноречивые, они были безусловно согласны с этим водительством. Дойдя до жандармской караульни, они остановились, чтобы малость собраться с мыслями.
— Интересно, наверху он сейчас или нет? — задался вопросом начальник пожарной охраны. Да, Хабихт был наверху и, подойдя к окну, увидел их припорошенные снегом шляпы, на которых, словно экзотические деревья на снежных вершинах, колыхались пучки волос серны и барсука. Потом он перестал видеть как пришельцев, так и их шляпы, потому что все четверо вошли в дом. Теперь он только слышал, как стучат их тяжелые башмаки по крутой деревянной лестнице, и, уже предчувствуя то, что должно было воспоследовать, успел заготовить ответ. Итак, он уселся за свой письменный стол, откинулся на спинку кресла и скрестил руки.
Они постучали.
— Войдите!
Они вошли и вместе с ними генерал мороз, то есть снег, налипший на их подошвы и шляпы, которые они сняли медленно и неохотно.
— Сразу четверо, — сказал Хабихт. — Черт возьми, целых четверо! Вы, наверно, пришли сообщить мне, что поймали преступника. — И (сопровождая свои слова широким жестом): — Берите стулья и садитесь ко мне поближе.
Они принесли стулья. Сначала рассыпались по комнате на все четыре стороны, потом вернулись на ее середину, каждый с добытым стулом в руках, и полукругом расселись у письменного стола.
— Совершенно верно, — начал Франц Цопф, — в том-то все и дело. И поэтому нам хотелось бы с тобой поговорить. Мы, члены совета общины, считаем — пора уже что-то предпринять.
Хабихт не шевелясь смотрел на них. Франц Цопф взглядом призывал па помощь Штрауса. Фердинанд Ш. мук не сводил глаз со своей шляпы — с нее уже начал стаивать снег. Помощник лесничего вытянул шею и оскалился.
— Не сочти за обиду, Хабихт, — сказал он, — но мы, местные жители, не можем сидеть сложа руки и смотреть, как этот тип, подозреваемый в убийстве из-за угла, по-прежнему разгуливает среди нас.
Теперь уже Хабихт ледяным взглядом смотрел на помощника лесничего, при этом его губы и усики кривились в достаточно неприятной ухмылке. Он сказал:
— Так-так! Не можете сидеть сложа руки. И кто же этот «тип»?
Штраус:
— Я полагаю, ты сам знаешь, и не мне тебе говорить.
Хабихт (откинувшись в кресле и все еще ухмыляясь):
— А все же? Допустим, что я дурак и не знаю.
— Мы все, — заговорил начальник пожарной охраны, — прониклись вполне обоснованным подозрением, а вдобавок у нас такое чувство… да еще он ведь нездешний и вообще не такой, как мы… Словом, мы уверены, что старика Айстраха прикончил матрос, сын покойного Недруга.
А Штраус (снова принимая на себя водительство):
— Началось все с сарая! Потом Хеллера нашли в печи для обжига кирпича. Потом мы слышали подозрительные выстрелы в лесу. Да еще эта история с «козой». Потом убийство Айстраха. На похоронах (ты там, к сожалению, не присутствовал, потому что все это, как видно, тебя не затрагивает), на похоронах своей жертвы убийца-то и выдал себя. Вместо того чтобы смешаться с толпой пришедших отдать последний долг покойнику, он смотрел на все из-за кладбищенской стены. А когда его заметили и хотели задержать, вдруг как сквозь землю провалился!
— Так все и было, — пробормотал Фердинанд Шмук.
— Да, так все и было, — проворчал Франц Цопф.
А Штраус:
— Разве нужны еще доказательства? Разве в этой цепи недостает хоть одного звена?
Хабихт расхохотался, от смеха у него сделался приступ кашля, он весь скрючился и отхаркался в носовой платок.
А Цопф (начав издалека, он глубоко копнул прошлое):
— Да еще эта история с домом. Дело о наследстве оставалось спорным, дом, конечно же, достался бы общине. И вдруг, откуда ни возьмись, объявился этот матрос.
Хабихт посмотрел на свой носовой платок, потер его между большим и указательным пальцами. Затем покачал головой, но никто не понял, к чему это относилось.
— Нет, — произнес он (теперь вопрос разъяснился), — это же чушь собачья все, что вы говорите! Мы были у матроса, — добавил он. — Я и инспектор ходили наверх. Его мы первым допросили, да еще дом и сарай обыскали.
— А почему он не был арестован? — пробурчал Штраус.
— Ты лучше позаботься, чтобы другого не назначили окружным лесничим, — сказал Хабихт. И добавил: — По его поведению ясно было, что он никакого отношения к делу не имеет.
— Но людей, — сказал Цопф, — людей хочешь не хочешь слушать надо. Недаром говорят, что глас народа — глас божий. А люди требуют его ареста.
Хабихт вдруг поднялся.
— Весьма сожалею! Но ничем не могу быть полезен. Обратитесь в окружную жандармерию! Я не вправе вам в угоду арестовать человека. — А когда делегация уже расставила стулья по местам и нахлобучила шляпы, добавил: — Мы тут прибегли к одной уловке, он сразу же на нее клюнул и тем самым доказал свою полную непричастность.
Вот и все, что можно сказать о недюжинных стараниях завсегдатаев «Грозди» добиться ареста матроса, стараниях, которые были парализованы неизменно появляющимся в подобных случаях страхом перед властями. Но, пожалуй, еще больше стараний приложила в эти дни фрейлейн Якоби для того, чтобы вести себя побойчее и таким образом доказать, что совесть ее чиста. Тем временем похоронили и маленького Бахлера; прорыли в снегу черную дыру и в эту черную дыру опустили маленький гроб, в котором лежал маленький Бахлер. При этой церемонии, разумеется, присутствовала вся школа (иначе на что бы это было похоже?), господин Лейтнер воспользовался случаем и у открытой могилы произнес достаточно завуалированную речь от имени педагогического персонала — а значит, в известной мере и от имени государства. Все, конечно, были польщены и вдобавок захвачены его словами. Бахлер был героем, сказал господин Лейтнер, и отныне всегда будет примером для других школьников. Фрейлейн Якоби стояла рядом с учителем, и вид у нее был такой, словно она судорожно подавляла потребность в мочеиспускании, а в ее широко раскрытые глаза даже засыпался снег. И только когда она наконец взяла смешную маленькую лопатку, которую ей протянул старик Клейнерт (фрейлейн Якоби не сразу ее ухватила, что дало повод для разговоров, будто она хотела пожать руку могильщика), сведенные судорогой черты ее разгладились, словно несчастье уже осталось позади, веки медленно опустились, и зимний день утратил свою голубизну.
С тех пор она так топала по лестницам и половицам, что люди боялись, как бы доски не треснули под её тяжеленными ботинками, и так хлопала дверьми, что с них осыпалась побелка. Вдобавок она начала свистеть (а может, это было пение?), чего никогда раньше не делала. Она свистела (или напевала), когда не спала, не ела или не учила ребят. Свистела по утрам, спрыгивая с постели, свистела, делая зарядку, свистела, смывая пот после этих гимнастических упражнений — не свистела только за чисткой зубов, но, поставив щетку в стакан, тотчас же опять бралась за свое.
У Малетты, который был единственной ее публикой, зубы (он тоже чистил их от случая к случаю), казалось, сидели в верхней и нижней челюстях только для того, чтобы скрежетать от ярости. Она насвистывала песенки национал-социалистского движения (повешенный в Малетте настораживался), дверь же, заставленная шкафом, не заглушала звука, а усиливала его, точно мембрана. Малетта ворочался с боку на бок, скрежеща зубами, и кровать скрежетала под ним. От воинственных звуков все проволочки и нити в нем начинали дрожать, дрожали и пружины матраца, и нервы дрожали под кожей головы, дрожало также забрызганное зеркало над железным умывальником и кажущаяся такой длинной фигура с высунувшимся языком.
Ему не удавалось восстановить в памяти сумасшедшее чувство, которое владело им, когда те самые зубы, что сейчас скрежетали, он вонзил в те самые губы, что сейчас свистели. Нет, так мерзка она стала ему, что он даже не испытывал желания задушить ее, или свернуть ей шею, или, для начала, хоть забарабанить в дверь, ибо — так ему казалось в бесконечном его отчаянии — даже с перетянутым, более того, с перерезанным горлом, среди фонтаном брызжущей крови, она будет свистеть, закоснелая в своем злобном упорстве.
Ко всему этому (свисту, пению и хлопанью дверьми) прибавилась Эрна Эдер — единственное, чего ему еще не хватало, — пилюля столь же горькая, сколь и сладкая. Она пришла к нему фотографироваться и выразила желание быть запечатленной во всех позах, знакомых нам по иллюстрированным еженедельникам, каковые обязана принимать будущая кинозвезда.
Он сказал: «Да будет вам известно, фрейлейн, что это не так-то дешево стоит», ибо видел ее плохонькое, поношенное пальто, видел красную нейлоновую сумочку, в которой, видимо, не было ничего, кроме косметики, и знал, как далека она от дорог, ведущих к продюсерам, и прежде всего как далека от действительности, совращенная, сбитая с толку, заблудившаяся в чаще ребячливых мечтаний, знал, что путь через постели всевозможных аферистов приведет ее обратно в деревню, в каморку батрачки.
Она застенчиво попросила его сказать, сколько же это приблизительно будет стоить, и он преднамеренно назвал довольно солидную цену. Должна ли она заплатить всю сумму вперед? Нет, конечно, только задаток. Она притворилась, что не поняла его (а может, и вправду не поняла?). Поставила на стол свою сумочку, где она так и осталась стоять нераскрытой, потом скинула пальто (движением, которое подсмотрела у манекенщиц), освободилась грациозно и кокетливо от верхней своей оболочки — процесс, равносильный детонации вонючей химической бомбы, и в то время, как запах ее подмышек мощно вторгся в комнату, улыбнулась словно бы в ожидании аплодисментов.
— Будем сниматься в этом шикарном белье? — спросил Малетта и подумал: черт подери, я опять продешевил!
А она:
— Я бы хотела, чтобы вы меня сняли, как снимают Риту Хэйворт.
Разумеется, это была пытка, и Малетта так старался задержать дыхание, что весь посинел.
— Я никогда не забуду этих минут, — сказал он. — Вы же никогда не сможете оплатить то, чего мне это стоит.
Она стояла перед ним, бледная, худая, жалкая.
— Я же не сама плачу, — вызывающе ответила Эрна и, приняв другую позу, подняла руки, безволосые ее подмышки блестели, как сало.
А он (только этого ему еще не хватало):
— Пожалуйста, опустите руки, не то мне всю пленку прожжет, — и добавил: — Так-так! И кто же этот счастливый покровитель — видно, он знает толк в женских прелестях!
Она вертелась перед бесстрастным оком объектива; тело ее покрылось гусиной кожей.
Он продолжал:
— Наверно, какой-нибудь менеджер из Штатов, охотится у нас в Тиши за талантами, так ведь?
Она улыбнулась таинственно и многообещающе; ляжки ее отливали перламутром.
А Малетта:
— Уж ему-то я предъявлю счет в пятикратном размере. Ведь даже воздух здесь без вас будет иным воздухом.
Она покраснела и потупилась. А потом вновь сделала попытку поднять руки.
— Не хочу я больше смотреть на ваши подмышки, — крикнул Малетта. — Я хочу знать, и немедленно, кому я должен направить счет!
Он стащил с головы черный платок, который делал его похожим на монашку. Фрейлейн Эдер бросила на него испуганный взгляд. На несколько секунд выйдя из своей роли, она переминалась с ноги на ногу и сжимала колени (словно могла таким образом сохранить тайну, которую давно уже выдала), потом объяснила — отнюдь не сконфуженно, скорее с известной гордостью, — что фотографии оплатит господин Укрутник, значит, и счет надо послать ему.
Это открытие стоило смерти от удушья. Он снова накрыл голову платком.
А Эрна Эдер (опять уже в прельстительной позе и на этот раз действительно скрестив руки на затылке, что, по его расчету, больше никакого значения не имело):
— Чур, никому не рассказывать! Он сказал, что это должно остаться нашей сладостной тайной.
На следующий день, за обедом в «Грозди», Малетта услышал разговор, который вели двое мужчин за соседним столом, знакомые ему только по виду.
— Убийца, — сказал один из них, — может скрываться годами, если он хорошо знает местность. Под деревней прорыты подземные ходы, они идут от погреба к погребу…
— Подземные ходы? — спросил Малетта.
— Угу, — с полным ртом промычал учитель. Проглотив кусок, он поднял голову от тарелки и сказал: — В нашей деревне множество подземных ходов.
— В один дом он входит, а выходит уже из другого. Мы думаем, что он провалился в уборную, а он сидит в церкви под купелью…
— Верно, верно, — подтвердил второй. — Тут целая сеть подземных ходов. И многие ведут прямо в лес! Опять же он прекрасно может удрать, если знает местность.
Франц Биндер (не выходя из-за стойки):
— А что ему в лесу делать, этому убийце? Он небось сидит в погребе и ждет, когда придет его время.
— Первое поселение в наших краях, — пояснил учитель, — предположительно возникло в двенадцатом веке. Видимо, это была так называемая цитадель. О чем свидетельствуют и эти подземные ходы.
Первый (стукнув кулаком по столу):
— А его время придет, я тебе ручаюсь!
— Конечно, — поучительно заметил второй, — одно время настает, другое уходит, и у каждого свои приметы.
— Многие ходы уже замуровали, — пояснял Франц Биндер, — а в некоторых домах превратили в сточные ямы. Но в войну их частично обновили, оборудовали под бомбоубежища, да и всякое добро там прятали.
Первый: — Верно, верно, так все и было. Туда и туши незаконно забитых свиней сносили!
Второй: — Что правда, то правда. А нынче? Нынче убийцы засели там и выжидают.
— Я даже боюсь вниз спускаться, — вмешалась Герта, вошедшая с двумя тарелками. На тарелках красовались «костры» — булочки, залитые теплым молоком. Но не это слегка подслащенное и отдававшее ванилью блюдо (вид у него был такой, словно оно уже однажды побывало в желудке) могло кого-нибудь удивить. Удивительно было то, что сегодня гостей обслуживала хозяйская дочка; кельнерша Розль уехала в город к зубному врачу. Итак, вошла Герта с двумя тарелками. Она спросила:
— Кто заказывал «костер»? — И, поворачиваясь то туда, то сюда, со всех сторон продемонстрировала свою волнующую красоту.
Господин Лейтнер учтиво отозвался!
— Мы, фрейлейн Герта!
Но Малетта смотрел поверх «костра» и поверх фрейлейн Герты.
Она подошла и поставила тарелки перед обоими гостями, один из коих был учитель (извольте радоваться!), а другой фотограф (извольте радоваться!).
— Чему мы обязаны этой чести? — осведомился господин Лейтнер.
А она:
— Розль пришлось поехать к зубному врачу.
А учитель:
— Бедняжка! Неужели рвать зуб?
А Малетта:
— Вместе с волосами! — Он все еще смотрел поверх Герты и «костра», на одну какую-то точку стенной обшивки, где ничего нельзя было увидеть, кроме гладко покрашенной поверхности, не было там даже древесного узора, что иной раз образует лица, как бы выглядывающие из лесу.
Герта звонко рассмеялась (словно колокольчик залился на горном пастбище). Зубы ее блеснули. Он это заметил, так как молнии можно увидеть даже с закрытыми глазами. И вдруг ему вспомнилось: он бросился на землю, в сырую листву, в глину, и вслед за ослеплением пришла ночь — казалось, глаза его больше не видят, — и сумрачно-могильные запахи леса, а потом — легкое прикосновение к коротко остриженному (по-прусски) затылку, словно молодая кобылка галопом промчалась мимо, чувство, что отточенные ножи направлены на него, и чувство, что он преступник.
Франц Биндер между тем продолжал:
— У нас под домом тоже есть такие ходы. По одному еще и сейчас можно пройти в винный погреб; из другого мы во время перестройки сделали сточную яму.
И опять первый:
— Я-то знаю! Во время перестройки рабочие все время натыкались на своды.
А второй:
— Верно, верно! Я как сейчас помню. Это было году в десятом, а то и раньше.
— Они и скелет нашли в подземелье, — сказала Герта, — прикованный цепями к стене.
— Ерунда! — перебил ее Франц Биндер. — Это все сказки. Ничего они не нашли, кроме кучи свиных и говяжьих костей.
Только куча полуистлевших костей была там, под землей, какой-то резкий животный запах да череп неведомого зверя величиной с бычью голову, но другой формы, и в черепной коробке дыра, так что в нее можно было заглянуть, а внутри перекатывалось что-то тяжелое, и звук был такой, словно в стакане встряхивают игральные кости, — это оказалось сплющенным комочком свинца.
— Ружейная пуля, — пояснил Франц Биндер. — Череп перевернули и встряхивали, покуда она не выпала из дырки, плоская, как монета!
Герта, прислонясь к стойке, и сейчас еще благоговейно слушала эти старые небылицы, потом вдруг сделала неподражаемый пируэт на одной ноге и таким образом повернула к Малетте одну из ягодиц.
Сейчас он уже в упор смотрел на нее. Во рту у него был вкус железных опилок (хотя он только что ел «костер», имевший хоть и неважный, но совсем другой вкус).
Он думал: если бы ты могла заподозрить, что мне уже известно! И не чаял, что она давно напала на след и только потому стояла в этой позе (небрежно играя бедрами), чтобы вдруг прыгнуть, как кошка. Но Герта, видимо, почувствовала, что он смотрит на нее, и внезапно бросила на него взгляд через плечо. Ее глаза встретились с его глазами, застигли их, так сказать, in flagrante[5], и тем не менее испуг выразился именно в ее глазах, ибо в его взгляде она прочитала знание.
— Вы что-то хотели? — спросила она, покраснев.
А он:
— Н-нет. Разве что расплатиться.
Она медленно повернулась и подошла к столу, словно притянутая невидимой нитью.
Учитель поднял на нее глаза, улыбнулся и спросил:
— Ну-с, фрейлейн Герта, когда же мы с вами пойдем на лыжах?
— Когда снова зарядят дожди, — отвечала она. — Вы и фрейлейн Якоби считаете это самой подходящей погодой для лыжных прогулок.
У Малетты вся кровь прилила к сердцу. И в то время как она получала деньги и, послюнявив свои пальцы-колбаски с ярко наманикюренными ногтями, пересчитывала их, он сказал:
— Меня очень интересуют здешние подземные ходы, я бы хотел их посмотреть. Нельзя ли это как-нибудь устроить, фрейлейн Биндер? Меня всегда странным образом тянет туда, вниз.
Она снова взглянула на него и отвернулась. Они обменялись взглядами, почти враждебными, и поняли друг друга. Она еще посмотрела на деньги, которые держала в руке, и сказала:
— Конечно, можно. Идемте со мной! Мне как раз надо вниз, а одна я боюсь, с тех пор как здесь бродит убийца. — Она круто повернулась, взяла со стойки две пустые бутылки и быстро направилась к двери.
В это время на тротуаре, в том самом роковом месте, где непременно должно выясниться, кто из двоих прохожих сильнее, матрос с рюкзаком, в котором лежали его еженедельные покупки, столкнулся с худым и серым с головы до пят вахмистром Хабихтом.
— Потише! — сказал Хабихт.
— Потише! — сказал матрос.
Столкнулись они лбами, как два бычка. Но тут же остановились и выжидательно посмотрели друг на друга.
— Как дела? — спросил Хабихт.
— Благодарствую! Очень даже занятно расхаживать по свету убийцей.
— Вас считают убийцей? — удивился Хабихт.
— Разумеется, — отвечал матрос.
Хабихт засмеялся своим беззвучным смехом (смеха не слышно, а видно только, что все тело его сотрясается) и сказал:
— Ясное дело, если мы кого-нибудь не арестуем, меня здесь сожрут.
Снег своей абсолютной белизной все вокруг делал бестелесным. Под низко нависшим матовым стеклом небес воедино сливались день и ночь, объединяясь в прочном нейтралитете, так что не было больше ни света, ни тени, и деревня стояла как черный знак на белой странице, деревня напоминала хрупкую руну в записной книжке, нацарапанную детской рукой: опа ничего не откроет исследователю, не послужит отправной точкой для жандармов, а разве что унылой, хотя и подходящей территорией для тех, кто занимается зимним спортом.
— Кого-нибудь! — сказал матрос.
— Кого-нибудь, — повторил Хабихт. — Может, он будет назван в списке разыскиваемых лиц, а может, дурацкий случай отдаст его в наши руки. В нашей профессии не приходится скромничать — бери, что дают, а успеха надо ждать долго, да и вообще на успех рассчитывать не стоит.
— Это же просто великолепно! — сказал матрос. — Значит, доверимся дурацкому случаю. А я могу уже завтра ожидать ареста, если в списке разыскиваемых ничего подходящего не найдется.
Ослепленные белой абстракцией, оба зажмурили глаза. С крыши дома, что стоял за гигантским сугробом, скатилась лавина, а звук был такой, словно шлепнулась коровья лепешка, и этот мягкий шлепок вдруг сделал слышимой тишину.
А Хабихт (опять сотрясаясь от беззвучного смеха):
— Один уже есть у нас на примете.
— Кто-нибудь?
— Нет, вполне определенный человек! — отвечал Хабихт.
— Понятно! — сказал матрос. — На него показывают пальцами, и он уже обречен.
— Это загадочный волк со вставными челюстями, — ответил Хабихт, — и зебра к тому же, если еще не раздобыл другой одежды. Он с самого рождества бродит по округе… Да, кстати, вы уже слышали, что Хабергейер напал на след волка?
Невидимые следы волка окружали деревню; невидимые следы волка прочерчивали небо. Небо было диском из матового стекла, а снег был чист, бел, бесследен.
— Следы волка! — сказал матрос. — Да я в последнее время каждый день вижу их под своим окном. Отпечатки громадных башмаков, подбитых гвоздями. Кто-то из этих мерзавцев выслеживает меня.
Хабихт рассмеялся в третий раз, теперь его смех бьтл даже слышен. Казалось, где-то тявкает собачонка, но окончился он приступом кадпля.
— Я расставлю капканы, — сказал матрос, — или обнесу свой участок колючей проволокой. — Он оставил Хабих-та, который все еще кашлял, и, удаляясь, превратился в абстрактный знак на снегу.
— Вон туда, вниз, — сказала Герта Биндер.
— С вами — куда угодно! — ответил Малетта.
Она уже распахнула дверь и повернула выключатель на наружной стене. Малетта догнал ее и подошел совсем близко. Генерал мороз, ворвавшийся со двора, прижался к ее ягодицам, словно хотел погреться об них. Вихляя бедрами и вовсю стуча каблуками, с двумя двухлитровыми бутылками в руках, она почти бежала через гулкую подворотню, и Малетта припустился за нею.
Он спросил:
— Почему вы так бежите?
— Наверно, потому, что мне холодно, — сказала она.
— Не верю! Вы же сама теплота!
А она:
— Вот потому-то я и мерзну.
На винтовой лестнице, казалось неудержимо стремившейся вниз, на гладком наклоне каменных ступеней, они быстро оставили позади дневной свет и белый мундир генерала. Генерал остался стоять в открытых дверях и как бы в знак прощания, а может быть, желая удержать обоих протягивал к ним серую руку, становившуюся все более призрачной. Несколько секунд они еще чувствовали ее над собой (а может быть, ее отражение), как чувствуют покрытую пылью паутину, тьма же в это время шаг за шагом наступала на них. Наконец они дошли до поворота, и больше им уже не казалось, что их кто-то держит; тьма уже дошла им до бедер, потом до пояса, потом до шеи — тьма, не столько просветленная, сколько чуть подсвеченная красноватым светом тусклой лампочки, пахнущая каменной кладкой и гнилым деревом, теперь сомкнулась над ними.
Герта, путеводная (и очень проворная) звезда, первой оказалась внизу. Свет лампы пробежал по ее плечам, потом по ягодицам и по икрам, розоватые чулки мелькнули под подолом юбки, тень легла на напрягшиеся мускулы, и каблуки перестали стучать< — пол в погребе был земляной, вернее, глиняный. Вдоль стен, сложенных из кирпича и обтесанных каменных глыб, громоздились бочки и ящики разного размера, набитые пустыми бутылками, а пол, в который столетиями втаптывались всевозможные вина и прочая жижа, насквозь пропитанный жирами и соками дома, пружинил, точно вздутый живот.
— Великолепный погреб! — сказал Малетта. — Даже пол мягкий. И убийце ничего не стоит спрятать здесь свою жертву.
Замедлив шаг, Герта обернулась.
— Что вы хотите сказать? — спросила она хрипло и слишком громко. Она прижала к груди обе бутылки. Лицо ее бледно мерцало на фоне темной глубины.
— А то, что проще ничего и быть не может. Здесь очень легко закопать труп. Можно сказать, не сходя с места, разве нет? Вон и лом стоит у стенки, а вы, фрейлейн Герта, каждый день спускаетесь сюда за вином и бодро маршируете по могилам.
Она рассмеялась обычным своим смешком (эхо отскочило от тесных сводов), но сейчас не казалось, что это звенят колокольчики — слишком краток был отзвук, — скорее, что кусочек жести упал с небольшой высоты. Затем она как-то судорожно обнажила зубы, хотя смех иссяк у нее в глазах и в горле.
— Вы что, хотите меня испугать, господин Малетта? Но если я испугаюсь, я закричу!
— Я не собирался вас пугать, — ответил он. — Да мне бы это и не удалось, даже если бы я захотел. Если вы испугаетесь — заметьте это, — вы сами будете виноваты.
Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, зубы ее скрылись за сомкнувшимися губами.
— Ничего не понимаю, — сказала она, — такие речи, видно, не моего ума дело.
Малетта (он догнал ее и подошел так близко, что услышал резкий запах ее волос, а потом аромат теплой кожи и теплой шерсти, что исходил от ее пуловера) сказал:
— Бояться человек может только самого себя. Страх на него всегда нагоняет лишь собственная тень… — Вдруг (глядя в темную глубину погреба): — Ну, а где же тот ход, о котором рассказывал ваш папаша?
Она довольно невежливо, головой показала ему направление.
— Вон за тем углом. А чего там смотреть? — крикнула она ему вслед. — Черная дыра в стене, вот и все.
Малетта между тем прошел туда, где темнота была еще плотнее; он слышал, как Герта наполняет бутылки из бочки — сначала одну, йотом другую. Чувствовал прохладное дыхание земли и запах прорастающей картошки и наконец справа за углом увидел черную пасть, из которой вырывалось это дыхание. Он спросил:
— И отсюда можно пройти дальше? — Его голос звучал как чужой меж этих стен.
Далекий голос Герты (тоже как чужой) ответил:
— Если вам интересно, почему бы и нет?
Он не был уверен, что это ему интересно, вернулся назад, затылком все еще ощущая гнилостное дыхание, а сердцем — близкую беду, и спросил:
— Когда же я буду иметь честь фотографировать первую красавицу наших краев? — И вдруг оказался в капкане этих слов, которые произнес так, для приманки, и дыхания, что обдувало его затылок и будило предчувствие надвигающейся беды.
Герта, выпрямившись, смотрела на него. Вернее, ему казалось, что она на него смотрит. А смотрела ли она на самом деле и насколько благожелателен был ее взгляд, оставалось неясным. В свете лампы ее силуэт вырисовывался в конце лестницы, стройный и в то же время округлый, голова же была как черный спутанный клубок, и вся эта темнота, все это темное тело пахло теплой женской кожей и теплой шерстью пуловера.
— Откуда мне знать? — сказала она. — Я же понятия не имею, кто у нас первая красавица.
— Господин Укрутник еще не сообщил вам этого?
— Нет. Он, наверно, и сам не знает.
— Похоже, что так, — сказал Малетта. И присовокупил: — Я во что бы то ни стало хочу сфотографировать вас. И конечно, чтобы это был не обычный снимок; я хочу вас снять во весь рост и в купальном костюме.
Она хихикнула из темноты.
— Это будут снимки что надо! И обойдутся, верно, недешево. Да только с моими толстыми икрами!..
— То, что может себе позволить фрейлейн Эдер, вы можете и подавно, — отвечал Малетта.
На этот раз крючок глубоко засел в нёбе (чего Малетта, конечно, не видел из-за темноты), она сначала побледнела, потом залилась краской (надо думать, впотьмах и этого не было видно), и вдруг — из упомянутой темноты — злое шипение:
— Голодранка несчастная! Больно надо! Ее вы небось задаром снимали! Где она деньги возьмет!
— Нет, — сказал Малетта, — и не подумал. Черта с два! Но вы ведь знаете, она хочет стать киноактрисой, вот ей и нужно разослать всюду свои фотографии. К тому же она, как водится, нашла себе покровителя, богатого дружка, он, видно, все и оплачивает. Уж фотографии-то во всяком случае.
Герта ничего не ответила. Слова не проронила. Она неторопливо наклонилась, чтобы взять бутылки, потом (не разгибаясь и не подымая лица, изменившимся голосом):
— Вы знаете его?
А он:
— Я не хочу об этом говорить. Человек моей профессии должен хранить молчание, как исповедник.
А она:
— Если я к вам приду — вы мне скажете?
А он:
— Возможно. Возможно, я вконец ослабею… — Он чувствовал ее дыхание на своем лице потому, что она распрямилась и стояла теперь почти вплотную возле него.
— В фотографии я ровно ничего не смыслю, — сказала она. — Вы должны показать мне, как это делается.
— Я охотно научу вас, — ответил Малетта.
А она:
— Вы уверены, что вам это удастся? — Она шатнулась в его сторону, и он словно бы ненароком провел рукой по ее вздымающимся грудям.
Малетта ощутил грубую шерсть ее пуловера, ощутил две ягодки под шерстью, ощутил легкую дрожь, пробежавшую по ее телу, и отметил, что Герта от него не отпрянула.
— Надо идти наверх, — прошептала она. — А то они там невесть что подумают.
— Подумают, что нас здесь настиг убийца, — сказал Малетта. — Может, он спрятался вон там, в бочке, и ждет вас?
Он хлопнул ладонью по одной из бочек.
— Эй ты! Выходи-ка!
Она пронзительно вскрикнула и ринулась к лестнице.

Следы волка тянулись по низко нависшему небу. Следы волка петлею охватывали деревню. Может, так было спокон веков, но никто никогда их не видел. Правда, Хабергейер утверждал, что он-то видел их, но если он даже напал на какой-то след, то уж во всяком случае не на волчий.
Бесследно пробегали короткие дни, почти не сменяя ночную темь, почти не прерывая нашей зимней спячки. Скудный свет этим дням давало не небо, а снег, ибо снег был светлее неба. Снег засыпал Тиши, засыпал следы преступления. Беззвучно и коварно ложился он на крыши наших домов, медленно нагромождал горы у наших дверей, покрывал наши шляпы и наши сердца и пел нам — сталкивая в вечность одну за другой все деревни нашей страны, — пел дурманящим голосом колыбельную песню, а нам она слышалась в печных трубах, в гудении проводов.
Три тяжелых грузовика увязли в снегу, но вскоре их откопали. Много чего увязало тогда в снегу и кое-что все-таки откапывали: дорогу в школу, дорогу в церковь, дорогу в ресторацию (такие дороги ведь не бывают безлюдными), только не дорогу к разгадке мрачной тайны, не погребенную под снегом дорогу к дому убийцы.
Правда, из лесу следы вели вниз, к домику матроса, а потом опять в лес, но идти по этим следам вряд ли стоило: это явно не были следы человека-зебры. Тем не менее матрос думал о нем, ибо теперь был уверен, что этот полосатый (словно разрисованный) зверь бродит не только в чащах сна — в оледенелых зимних лесах, — но существует на самом деле, в чем он последнее время уже было усомнился.
Он часто вглядывался в следы. То были следы не человека-зебры, а жеребца-тяжеловоза; зебра, видимо, бесследно растворился в небе.
Матрос думал: он выброшен в лес там, наверху! Вытолкан на великий холод! Он думал: какие корни теперь питают его? Какие пещеры укрывают от холода? В последние дни он вспомнил, что тогда хотел снабдить его теплой одеждой. Но тут явились слуги государства и то, что всегда им сопутствует: страх и трусость.
Он думал: ты, обитающий в серебряных лесах и в серебряном небе снов! Грива, вольно развевающаяся под соленым дыханием моря! Зверь, что то близко, то где-то вдали галопирует по моим снам и шарахается от моего бодрствования! Вернись — бога ради, вернись — обратно в клетку во имя своего житейского благополучия, ибо знай: на тебя спустят собачью свору, она будет мчаться за тобой по пятам… Или, вдруг начинал думать он, сдохни поскорее! Да, бога ради, сдохни поскорее! Искорени последние свои следы на земле! Из черноты через розовость утренней зари перепрыгни в голубизну!
Но не было больше голубизны в наших краях. Небо оставалось затянутым тучами и бесцветным — кусок матового стекла, и лишь последние две капли из забытых его глубин, последние две капли, проклятые и отпавшие от лазурного океана, застыли в глазах фрейлейн Якоби.
Она все еще свистела, уже не так безостановочно, но не менее бесстыдно, или же пела своим гортанным голосом песни об эдельвейсе, диких розах и прочих цветочках. Малетта же больше не скрежетал зубами, Малетта прислушивался к шагам на лестнице и в пятницу, шестнадцатого, и вправду услышал те шаги, которых дожидался.
Кто-то решительно подымался к нему наверх, сильно топая, чтобы отряхнуть снег с обуви. Но то не были шаги фрейлейн Якоби — она свистела за стеной. Затем последовал стук в дверь — куда менее решительный, почти боязливый. Малетта и сам еще только пришел и снимал пальто; он крикнул «войдите!», дверь отворилась — и вошла Герта Биндер.
Под мышкой она держала пакет (похоже, платье, взятое от портнихи), на теплых ее сапогах виднелись следы генерала мороза (белый налет на черной сапожной мази), на опушке пальто — тоже его седина. Волосы, выбившиеся у нее из-под платка и жесткими завитками легшие на чистый лоб, были припудрены тонкой мерцающей снежной пыльцой, которую сметал с крыш арктический ветер.
Вот и она, объявила Герта, сейчас выяснится, есть ли и у нее шансы стать кинозвездой. Она протянула Малетте руку (как подарок), теплую, крепкую, довольно большую руку с чуть влажной ладонью.
— Эти шансы в наши дни имеет каждый, — заметил он, алчно пожимая ее руку. И при этом почувствовал воздействие электричества, которым был заряжен этот крепко сколоченный кусок жизни. Он повторил:
— Эти шансы в наши дни имеет каждый. А вы прямо-таки созданы для отечественной кинематографии.
— Мне бы хотелось играть роли вамп, — сказала она.
— В таком случае вам надо раздеться, — ответил Малетта.
Она расхохоталась. Ее смех запрыгал ему навстречу, словно на шее у нее разорвались бусы и посыпались на пол, подпрыгивая, как мелкие градинки.
— А что, мне все снимать? — не в меру задорно спросила она.
— Пока не станет опять неинтересно, — отвечал Малетта. Он отвернулся, стал задумчиво смотреть на печку и сказал: — Я сейчас затоплю.
Фрейлейн Якоби мигом умолкла, казалось, она прислушивается затаив дыхание. В коридоре закряхтели расшатанные половицы под парой войлочных туфель, полных ревматизма, дело в том, что наверх прокралась фрау Зуппан, она стояла не шевелясь, почти не дыша и страстно пыталась уяснить себе, кто же это пришел к Малетте.
Он отворил дверь и сказал:
— Вот и отлично! Вы, оказывается, уже здесь! Позвольте мне взять охапку дров истопить печь. За дрова я заплачу первого заодно с квартирной платой.
Фрау Зуппан (обиженно):
— Перестаньте чепуху городить! Берите сколько вам надо! — И она повернулась к нему спиной.
Малетта бросил взгляд в комнату.
— Одну минуточку! Я сейчас вернусь!
Торопливо сбегая по лестнице (за ним следом — войлочные туфли, полные ревматизма), он вдруг, к вящему своему удивлению, заметил, что у него дрожат колени и руки. Через черный ход он вышел на снежный свет (который внезапно и грозно ослепил его), взял в сарае несколько поленьев, потом выпрямился и, держа в руках пахнущие смолой и лесным покоем дрова, почувствовал, что ему надо бы удирать.
Он сказал себе: ну вот, вот она и пришла!
Он сказал себе: вот она и у тебя!
Он сказал себе: теперь ты можешь отомстить! Но за что. собственно? И что даст тебе эта месть?
Покуда он стоял с охапкой дров в руках, разрываемый ненавистью и леностью, его осенила дьявольская идея, быстро переросшая в замысел, и его стало корчить и сотрясать в приступе смеха, так что даже слезы полились из глаз.
Было это шестнадцатого днем, около половины второго, когда кровь после обеда отливает от головы к органам пищеварения. В тот же день, только тремя часами раньше, матрос отправился на поиски человека-зебры. Он положил в рюкзак продукты (хотя и подумал при этом: его уж, верно, нет в живых), засунул туда и теплую одежду (подумал: ведь он, верно, давно уже не мерзнет) и еще подумал: в любом случае я обязан его предостеречь, потому что я слышу тявканье собачьей своры, что почуяла беззащитную дичь в чащах сна. Но ведь ему, вероятно, уже нечего бояться! И матрос пустился в дорогу с рюкзаком за плечами, тяжести которого он не чувствовал. Он тщательно запер дверь своей хижины и долго разглядывал следы на снегу.
Вот уже несколько дней не было метели, хотя тучи были чреваты ею, а на снегу образовался наст, похожий на слежавшуюся стеклянную пыль. Паст неподатливо скрипел под ногами, и на нем виднелись все те же следы, новых к ним не прибавилось. Видно, сыщик работал где-то в другом месте. Или он отказался от этой напрасной затеи? Следы на снегу (в котором уже не увязали ноги) привели матроса в лес. Там, в лесу, он окончательно установил то, что всегда предполагал, а именно: следы круто сворачивали на север, они шли от деревни и в нее же возвращались. Итак, он оставил их справа — пусть себе сохраняются до весны, ему не жалко, — стал всего-навсего искателем кладов или водной жилы, но какое-то чувство (томление или мечта) вело его по крепкой, потрескивающей иод каблуками белизне, среди почти уже просветленных скелетов деревьев прямиком в гору. Некоторое время звуки еще доходили до его слуха: пыхтение лесопилки, лай собаки (звуки, присущие жизни, тогда как он шел по следам мертвеца). Но внезапно настала тишина, он не слышал ничего, кроме биения своего сердца, ничего, кроме дыхания, что белым облачком клубилось у него перед лицом, ничего, кроме потрескивания под ногами, — он остановился на мгновение, прислушался и, ничего больше не услышав, оглянулся — зима замкнулась за его спиной, точно большая дверь, обитая белым войлоком.
Это было три часа назад, приблизительно в половине одиннадцатого, а сейчас, в половине второго, Малетта стоял в сарае и хохотал.
Одно полено выскользнуло у него из рук и упало на снег. Он поднял его и вернулся в дом.
Герта между тем вынула из свертка и расправила перед Малеттой, когда он вошел, какую-то странную вещицу.
— Я хочу это надеть, — сказала она и хихикнула.
То был костюм из ярко-красного блестящего шелка, отделанный тесьмой и шнуровкой: малюсенький лиф без рукавов, пришитый к юбочке, до того короткой и пышной, что скрыть она могла, да и то не полностью, разве что срамные места.
— Я заказала его для масленичного карнавала, — объявила она.
— И в нем вы думаете обольстить меня? — осведомился Малетта.
— Значит, вы еще помните, для чего я пришла?
— Разумеется, я никогда ничего не забываю.
Малетта изобразил полнейшую незаинтересованность и, продолжая держать в руках дрова, повернулся к печке. Он сунул в ее ржавую пасть кусок газеты, положил два-три поленца потоньше, затем поднес зажженную спичку и стал ждать — наконец-то! Светло-серый дым вырвался из печки, устремился кверху и растекся по низкому потолку.
— Эдак вы меня и не разглядите, — сказала Герта.
— Она только сначала дымит, — пояснил Малетта.
И правда! Печь вдруг начала тарахтеть, как спятивший паровоз.
Малетта ликовал.
— Вот видите! — Потом повернулся к Герте: — Ну как? Начнем?
— Конечно, — отвечала она. — Но вам придется еще разок выйти.
— Понятно! Вам надо переодеться. — Он вышел в коридор и плотно закрыл за собою дверь.
Он слышал, как мясничиха подбежала к двери (тихо, насколько позволяли сапоги) и для охраны своего мяса и своей чести, а также чести своего мяса дважды повернула ключ в замке. Он подумал: надо отдать ей справедливость — воспитана она хорошо. Заперлась от меня в моей же собственной комнате! Тут он вспомнил, что в двери имелась щелка, узенькая трещина, через которую задувал~сквозной ветер, и, так как ему казалось просто необходимым оправдать недоверие Герты, приблизил глаз к ветряному отверстию, чтобы боязливо, как вор, заглянуть в собственную комнату.
Сначала он не увидел ничего, кроме кружевной занавески на окне, через которую просачивался сумеречный свет. Потом еще что-то, но всего лишь промельк — кусок материи, трепещущий, словно флаг на ветру. Затем он и вправду кое-что увидел. Что-то, закрывшее от него окно и занавеску: неправдоподобно розовую, мерцающую округлость, внезапно вынырнувшую из темноты на свет лампы. Его опять пробрала дрожь, и во рту у него пересохло.
Едва справляясь со своим голосом, он спросил:
— Скоро вы?
— Сейчас! — ответила ему из-за двери мясничиха.
В этот момент (надо сказать, весьма некстати) фрейлейн Якоби приоткрыла дверь своей комнаты, просунула голову в образовавшуюся щель — лицо ее выражало живейший интерес — и на секунду осветила сумрачный коридор двумя яркими голубыми огоньками и белокурыми кудряшками.
Матрос же, около двух с половиной часов назад, то есть вскоре после одиннадцати, добрался до вершины так называемой Малой Кабаньей горы, гораздо более плоской, чем Большая, которая и вправду напоминала кабанью спину, тогда как эта походила на спину быка, постепенно опадающую, потом поднимающуюся и снова склоняющуюся — к западу, к вечерним зорям (как спина усталого, изнывающего быка склоняется к водопойной колоде), и на этой вершине, то есть на снегу, здесь значительно более плотном, чем на склонах, охваченный тем чувством, что гонит вперед искателя кладов, со всех сторон окруженный непроницаемой тишиной, парами собственного дыхания и сопровождаемый разве что звуком своих же шагов (сухим потрескиванием и поскрипыванием снега под ногами), он шел и шел вперед между черными скелетами деревьев.
Бледный свет, словно бы пробившийся сквозь ледяные пласты, на юге, где в полуденный час солнце собиралось пройти сокрытым своим путем (и призрачно вздымались высвеченные ветви буков), прочертил неземной след на облачном покрове (словно кто-то поскреб небо ножом), так что там, наверху, над морозом, что сурово и горько прилипал к губам или клином с болью впивался в грудь, начало что-то мерцать и переливаться, как внутренность раковины.
Матрос думал: поздно же я спохватился! День клонится к вечеру, да и вообще поздно, наверно, он уже замерз!
И еще думал: замерз или умер с голоду, потому что они, как видно, его не изловили. Но если он еще жив и бродит по лесу (что, конечно же, маловероятно), если он все-таки жив, а значит, голодает, мерзнет и в отчаянии думает, что лучше было бы ему умереть, то я ведь все равно не сумею ему помочь или предостеречь его, я опоздал. Вот я без толку бреду по лесу, а через мгновение наступит ночь. И никуда от нее не денешься! И как это не пришло мне на ум вчера вечером или еще раньше? Я должен был выйти из дому на рассвете! Хотя, — снова подумал матрос, — его, конечно же, нет в живых. Он уже и похоронен. Под полуметровым покровом снега! Так на кой же ляд ему теплая одежда?
Так он шел и шел вперед (нельзя сказать, чтобы быстро, идти по снегу было нелегко) н выкурил уже несколько плотно набитых трубок, все время наблюдая сквозь молитвенно воздетые к небесами недвижные ветви и сквозь мудреное переплетение своих мечтаний за светлым следом на южной стороне неба.
И еще подумал: кого ему теперь бояться? Ни охотники, ни члены общества охраны животных ему уже не страшны. Полуметровый снежный покров надежно укрыл его. И под ним — он свободен!
Внезапно матрос остановился, ему почудилось, что где-то вдали звонит колокол.
Он посмотрел на часы.
— И правда, — удивился он. — Уже двенадцать!
Л после полудня в деревне — в мансарде дома Зуппанов — к двери подошла Герта Биндер, отперла ее (на сей раз она уже не кралась, скорей, чеканила шаг) и — прежде чем Малетта успел схватиться за ручку и распахнуть дверь — со сдавленным смехом отскочила в глубь комнаты так, чтобы сразу броситься ему в глаза, при этом она тотчас же приняла позу (по ее мнению, обворожительную), на удивление быстро сообразив, как это делается, как нужно встать и как склонить голову, чтобы самца довести до ярости, а мужчину сделать сговорчивым и покорным. Итак, она стояла и смотрела на него выжидательным и вызывающим взглядом.
— Прелестно! Просто очаровательно! — сказал Малетта. — Вы должны быть мне благодарны за то, что я позаботился, чтобы здесь было тепло. — Он взглянул на печку, убедился, что огонь в ней пылает, подбросил еще несколько поленьев и закрыл заслонку.
Затем он повернулся и стал смотреть на Герту холодным, оценивающим взглядом, хотя колени у него подгибались и во рту было сухо. Она стояла перед ним, склонив голову набок (как фрейлейн Якоби в предновогоднюю ночь). Блестящий шелковый лиф облегал ее тело, а юбочка розаном топорщилась на бедрах. Чулки она сняла или закатала в сапоги, во всяком случае, обнаженные ляжки и руки сияли непостижимой розовостью, особенно ляжки, одновременно выглядевшие напряженными и расслабленными. Под кожей видна была игра мускулов, дрожь пробегала от колен вверх к бедрам, и сила, которую ей приписывали потому, что в конце-то концов она происходила от колоды для рубки мяса, как бы концентрировалась в этих толстых ногах.
Малетта сказал:
— Сила через радость, радость через силу!
А она:
— Вы, кажется, смеетесь надо мной!
А он:
— Даже в мыслях не имел! Вы ведь нравитесь мне! Какие у вас мускулистые ноги! — Руками, трепыхавшимися, как испуганные куры, он принялся манипулировать со своей аппаратурой. Потом сказал:
— В вашу честь я возьму «лейку», а сам в вашу же честь сяду на пол. Прошу вас, станьте у двери, мне нужен темный фон. А ключ, пожалуй, поверните осторожности ради, не то фрау Зуппан еще ворвется сюда.
Он включил обе лампы и, держа в руках аппарат, в который вставил новую пленку, уселся на полу напротив Герты.
— Почему же снизу? — спросила оно.
— Из-за перспективы, — сухо пояснил он.
Она сверху вниз смерила его недоверчивым взглядом и сказала:
— Так ноги еще толще получатся.
А он:
— Я знаю, что делаю, можете не беспокоиться! Все совершенно точно рассчитано. Если снимать сверху вниз, ноги выйдут слишком короткими.
Видимо убежденная его деловым тоном больше, чем логикой, она скорчила «фотогеничную мину» и постаралась принять позу еще более грациозную.
— Нет, — сказал Малетта, — так не годится. Вы должны держаться свободнее! Не напрягайтесь! Сделайте упор на левую ногу, а правую слегка согните под углом.
— Так? — спросила Герта.
— Да, так хорошо. Коленку попрошу немного выше. Бог ты мой! Вы стоите, словно у вас свинец в сапогах! Оторвите пятки от пола! Теперь все в порядке!
Она стояла в крайне неудобном положении, не смея сделать ни вдоха, ни выдоха, а он возился у ее ног и наконец направил на нее грозный и блестящий глаз «лейки».
Потом сказал:
— Уберите руки! Вы же не знаете, что с ними делать. Они висят, как куски телятины у вас в лавке. Заложите-ка их лучше за голову.
Волна крови и жара прилила к ее лицу (от втянутого живота к корням волос), окрасила щеки в бордовый цвет и жирным блеском выступила из всех пор.
— Не понимаю, чего вы краснеете, — сказал Малетта. — Если у вас руки и грубоваты, это ровно ничего не значит. Напротив, другие бы выглядели как не ваши. Надо только следить, чтобы они не заняли весь снимок.
Волна залила ей глотку, блеском выступила в широко раскрытых глазах, потом медленно подкатила к сердцу, оставив в голове свистящую пустоту.
— Вы ведь не сердитесь на меня? — спросил Малетта.
А она (сдавленным голосом):
— Ах, конечно, нет!
Она подняла свои осмеянные, обиженные руки и спрятала их в путанице кудряшек на затылке.
Малетта ерзал по полу, взволнованный, потрясенный ею. Он сказал:
— Да у вас же девственные леса под мышками! Это произведет не слишком эстетическое впечатление.
А Герта (снова покраснев, но уж так, что, казалось, она сейчас лопнет):
— Меня это не беспокоит! Какой господь бог меня создал, такая я и есть. Брить под мышками я и не собираюсь, — Разозлившись, она переменила позу и теперь стояла перед ним, строптивая и самоуверенная: — Ну, щелкайте же наконец! Или у вас имеются еще претензии?
Малетта опустил свою «лейку» и осклабился.
— Очень сожалею, но это так!
— О господи, ну, что опять?
А он (с неистовым торжеством):
— У вас штаны из-под юбки выглядывают!
Она быстро осмотрела себя сверху вниз, словно обнюхала. Потом обдернула подол юбочки и спросила:
— А сейчас?
— Сейчас порядок, — сказал Малетта. — Но вот вы распрямились, и они опять видны.
Красная, разгоряченная, бормоча себе под нос проклятия, она, нимало его не стесняясь, подняла юбочку, подтянула штаны как можно выше да еще загнула обе штанины. Потом опять приняла прежнюю позу (под мышками, на лифе, влажно-черные полумесяцы).
— А сейчас? — Взгляд у нее был испытующий.
— Все то же самое, — усмехаясь сказал Малетта.
— Ох и дура же я! — буркнула Герта. — Зачем я надела эти толстые штаны! — Она опять подергала вздержку. И объявила: — Выше уже не идет.
— Лучше вам их снять, — посоветовал Малетта. Он поднялся и положил «лейку» на стол.
Герта в полной растерянности уставилась на него, он же подошел к окну и отдернул занавеску.
— Так что ж, снимать мне свои штаники или не надо?
А он:
— Господи, подумаешь какое дело!
— Только вы отвернитесь! — сказала она.
— Я и без того уже смотрю в окно.
Он поторопился стать к ней спиной. Отвращение душило его. Он думал: фу ты. черт! Зачем мне все это? Теперь я сделался «господином Укрутником»! Позор, унижение, что меня так волнует эта деревенщина! А она-то клюнула на мою удочку! Ишь как потеет! Он ощутил нестерпимый жар разгоревшейся печки, ощутил острый козий запах мясниковой дочки, которая — хоть и начав уже враждебные действия — все еще не отваживалась сделать решительный шаг. И сколько бы он этому ни противился, именно проклятый животный запах, распространяющийся так чертовски неприметно, что его слышишь, собственно, когда уже поздно (по сравнению с постоянной аурой фрейлейн Эдер, бывшей только плохим, но в остальном вполне безобидным воздухом), — именно этот запах, исходящий из лесов преисподней, где гнездятся черти, предосудительный запах, что соблазнил еще святого Антония, вызывал и в нем сладострастное чувство, доходившее до отвращения, отвращения к ней, к ее любовникам и к этому Укрутнику, которого каждый носит в себе, к вонючему скотному рынку, где все вперемешку, и к черному рогатому козлу, которого можно нарисовать на окне.
Он провел пальцем по затуманенному стеклу, но получился у него не козел — даже не ряженая коза, даже не единорог, не тог или иной Укрутник, а, скорей всего, висельник, затерявшийся между землею и небом, собственно, и не висящий на виселице, но все же лишенный почвы под ногами. Сквозь этого висельника видна была белая пустыня зимы, ведь там, за окном, стояла зима и на стеклах потрескивали узорчатые ледяные растения, а в комнате мясникова дочка наконец-то снимала штаны. И вдруг, сквозь висельника, он заметил вдали другого человека, у этого все как будто уже осталось позади, ничто больше его не затрагивало. Малетта знал его и любил, ибо человек, одиноко и уверенно шедший по снегу, был тем, кем сам он некогда мечтал стать.
А человек все шагал по снегу и неторопливо курил свою носогрейку; на нем был матросский бушлат, и водянистоголубые глаза его глядели в небо.
Он шел по бездорожью, но, очевидно, шел к какой-то цели, хотя в бескрайней пустыне зимы она и была неразличима. Он смотрел в небо, казалось, ориентируясь по облакам и по ветру. Цель его была по ту сторону осязаемых вещей, по ту сторону всех горизонтов, в такой дали, в такой безнадежной укрытости, что, собственно говоря, она становилась совсем близкой — последняя гавань, в которую можно зайти, практически не пройдя и мили, неизменная, как время и пространство, гавань, которой нельзя достигнуть, но которую нельзя и миновать.
Нет, это не матрос, подумал Малетта, в то время как видение стало меркнуть перед его глазами.
— Я сняла их, — раздался голос Герты за его спиной.
А он:
— Ну и отлично! Теперь можно приступать.
Матрос же курил свою трубку, и пока что ему это доставляло удовольствие, да и вперед он продвигался довольно быстро, хотя уже изрядно устал. Но он говорил себе: твоя цель близка, может быть именно потому, что она недостижима! Теперь он сунул трубку в карман, так как до дна докурил ее, потом остановился и осмотрелся кругом: уединенность была перед ним, зима была перед ним.
Он уже почти час как шел по мягко изогнутой седловине, поросшей редким леском, что соединяла Малую Кабанью гору с Большой и через которую дорога, начинавшаяся с севера, вела к домику егеря и дальше к лесопильне. Он пересек эту заснеженную дорогу и зашагал в западном направлении, охваченный все тем же томлением или мечтой, упорно стремясь к извечной цели своих мечтаний, цели, что стояла вплотную перед его взором, как пар от дыхания, столь же неуловимая и все-таки существующая. Снова лавируя между костяками деревьев, он стал подниматься к вершине теперь уже другой горы, доподлинного Кабана, чей вздыбленный хребет круто вонзался в небо, узкий хребет, весь утыканный щетинками (которыми Кабан царапает соски облачного стада, покуда из них не брызнут атмосферные осадки). С трудом пройдя полпути до вершины, ибо — как мы уже говорили — он изрядно утомился, матрос напал на след, правда не зебры, а зайца.
— Заяц, — равнодушно проговорил он, эти следы на него ни малейшего впечатления не произвели; он полез выше по хребту (было уже, наверно, половина второго), наконец добрался до вершины и решительно засунул свою трубку в рюкзак. Там он стоял, отдуваясь, и осматривался. Но свет в небе погас.
Ну вот! — думал он. — Дошел все-таки до самой вершины Большой Кабаньей горы. А зебра твоя уже за всеми горами и галопом мчится далеко-далеко, в ином мире. Небо больше не светилось меж ветвей, не мерцало перламутровыми переливами, и все вдруг опять стало сомнительным, даже тот полосатый зверь, словно он никогда его и не видел.
Матрос всматривался в даль меж деревьев. Здесь они росли реже, чем на склонах, и взгляд мог свободно блуждать в безысходной вечности. Они манили его прочь отсюда, в печальное сердце леса, в сердце студеного одиночества, где стволы, ветви, снег и небо растворялись в нежной лиловости, а тишина, бледный, бездыханный призрак, пряталась в торжественных колоннадах. И вдруг среди колонн (которые в силу непонятных законов делили снежное пространство) возник Айстрах, это не значит, что там стоял человек из плоти и крови, просто матрос нежданно-негаданно там его увидел — не зная, к чему бы это, к добру или к худу. Сам он стоял напротив старика (на приличествующем, как ему казалось, расстоянии, хотя и чувствовал, что неспособен точно определить это расстояние). А старик выглядел так же, как в последние годы своей жизни. И физиономия у него была такая же дурашливая, что, конечно, следовало счесть довольно естественным, ибо нам по долгому опыту известно, что человек уходит в вечность таким же, каким явился на землю, и этот переход вряд ли служит ему к украшению.
Матрос думал: неужто я карабкался сюда, чтобы встретить этого? Я искал зебру, а нашел вот кого! Уж не поджидал ли он меня здесь? Может, и он думает, что я его убийца? Ей-богу, не стоило давать себя укокошить, чтобы навек остаться таким дураком! Ему ведь надо было только не вставать из-за стола завсегдатаев, за которым он сидел рядом с Хабергейером.
Словно во сне или в полном самозабвении, смотрел он на то место между стволами, где сквозь туманное пятно видения мерцало лиловое сердце леса.
Он думал: или старик стоит там, чтобы наконец открыть мне тайну? Тайну моего отца, надо думать, бывшую и его тайной. Он взял ее с собой в могилу, потому что, как видно, это тайна еще и других людей, которым очень важно, чтобы она навеки тайной осталась.
Не смотреть туда! — думал он. Может, видение рассеется! Закрыть глаза! Или смотреть куда-нибудь еще! Честное слово, мне кажется, старик вот-вот заговорит, да и вообще очень уж это противное зрелище!
Итак, он отвернулся. Сказал себе: это снег. А это деревья! Потом все-таки глянул на то место: там был снег, там были деревья — и больше ничего не было.
— Ну и отлично! — сказал Малетта. — Теперь можно приступать. — Вконец обессиленный, он вернулся в комнату и спросил: — Ну, как вы себя чувствуете теперь?
— По правде говоря, странновато, — призналась Герта.
А он:
— Вы не должны об этом думать, а то вид у вас делается напряженный. — Он подошел к столу и взял аппарат. Руки его уже не трепыхались, как испуганные куры. Утихла и дрожь в коленях. Он вдруг стал спокойным и бесчувственным.
Герта заняла прежнее место. Прислонившись к двери, она уставилась на него.
— Мне кажется, вы чем-то недовольны, — сказала она. — Если хотите, я могу уйти.
Он поднял глаза, безразлично посмотрел на нее. (Его отчужденный взгляд заставил ее потупиться.) И тут же сказал:
— Как вам будет угодно! То, что я знаю, пусть при мне и останется.
— Может быть, это не так уж важно, — насторожившись, проговорила она.
А он:
— Почем я знаю, что вам важно. — Не сводя с нее глаз, он положил свою «лейку» и стал ждать.
Руками, скрытыми пышной юбочкой, мясничиха оперлась о дверь, а туловище слегка наклонила вперед. Чуть-чуть выдвинув левую ногу, она опустила долу глаза под густыми, отбрасывающими тень ресницами и носком вытянутой, как у балерины, ноги пыталась отколупнуть щепку, торчавшую из щербатой половицы.
— Скажите мне его имя, — прошептала она, отломив кусок щепки.
— Вы разорвете сапог, — сказал Малетта.
А она (по-прежнему шепотом):
— Оно начинается с «у»?
Малетта молча смотрел на ее вытянутую ногу с мощными мускулами.
Она сказала:
— Если оно начинается с «у», то я уже все знаю.
А он:
— Вы хотите сказать, молчание — знак согласия? Она внезапно выпрямилась. Посмотрела ему в глаза.
Лицо ее сейчас выглядело на много лет старше.
— Я спрашиваю так, из любопытства, а вообще-то мне это до лампочки. — Она откинула голову и выпятила грудь. — Я правильно стою?
Малетта схватил аппарат.
— Великолепно! Теперь еще попытайтесь улыбнуться.
…Там был снег, там были деревья — больше ничего не было, только на заднем плане лиловое сердце леса, смертельно уязвленное, как сердце мясничихи, впервые ощутившей в своей плоти колючку души. Герте казалось, что она голая сидит на снегу и его ледяное дыхание пронизывает ее насквозь.
Матрос же тем временем шел по позвоночнику Кабана, простершемуся почти под самым небом, под серым покровом облаков, в который ветви врастали, как корни, только более хрупкие. Шел вперед к своей безымянной цели, хотя уже не надеялся дойти до нее, но шел и шел, потому что, в конце концов, нельзя же было здесь остановиться и заночевать.
Наконец он добрался до прогалины, мерцавшей перед ним еще издалека. Но светлой она была не от неба, а от снега, что начал светиться в сумерках, словно рано угасший день, как усталый батрак, забился в свою снежную постель, чтобы замерзнуть в ней.
Здесь матрос опять наткнулся на следы, но на сей раз (видно, для разнообразия) на следы косули. Чего-то испугавшись, она пересекла прогалину огромными прыжками, проложив прямую как стрела борозду в белизне.
— Это косуля пробежала здесь, — пробормотал он, устало плетясь дальше. Он ведь не охотник, а моряк, ему наплевать на косулю с ее следами.
Пo ту сторону поляны его опять принял лес, предоставил в полное его распоряжение свои колоннады. Сквозь прямые ряды стволов виднелось темное и все более темневшее сердце леса. И вдруг его отец встал передним между деревьев, матросу это не показалось ни странным, ни страшным, потому что старик выглядел точно так же, как в давних его воспоминаниях.
Он стоял сгорбившись и глядя куда-то в сторону, как часто стоял, размышляя о великой загадке мироздания (или просто о своих глиняных кувшинах). Казалось, он смотрит вдаль, в темное и все более темневшее сердце леса, но в противоположном направлении, не из жизни в небытие, а из небытия в жизнь. Взгляд его был устремлен на что-то за спиной матроса, на что-то, терявшееся во мраке прошлого, в лесном мраке непоправимого, во мраке того, что уже произошло и позабылось или издавна было окутано тайной — в той черной пахотной земле, где прорастало семя будущего.
— Чего тебе надобно, отец? — спросил матрос и снова почувствовал себя мальчишкой. В тот же момент он заметил, что его голос неслышен. Но слуха отца он, видимо, коснулся, ибо тот вдруг повернулся к нему лицом (так, словно в лесной перспективе образовалась дыра и через нее стал виден задник сцены). Глаза его — точно глаза слепого — тщетно искали вопрошавшего, они беспомощно смотрели сквозь сына. И этот взгляд, обращенный вспять, еще трепетал между деревьев, словно легкое дрожание воздуха (в неясном, мутном свете сумерек), тогда как лицо и тело уже рассеялись, точно облачко пара перед лицом.
А Малетта опять уселся на пол и направил камеру на мясникову дочку. Он сказал:
— В наши дни тот, кто хочет добиться успеха, должен улыбаться! Всегда улыбаться — как президент США.
Герта же (лицо ее стало неподвижным и похожим на маску) немедленно продекламировала строку из душещипательного, а значит, дошедшего и до ее души произведения поэтического искусства:
— А что в душе творится, неведомо им…
Быть может, чтобы утишить сердечное волнение, а быть может, чтобы подразнить его и показать свой характер, она так задорно выпятила маленькие упругие груди, что они во всем своем великолепии четко обозначились под красным шелком, что выглядело чрезвычайно нахально.
— Правильно, никому не ведомо, — сказал Малетта. — Куда интереснее тело. С телом по крайней мере всегда найдешь что делать — так ведь? Это вам небось известно по собственному опыту. — Он навел объектив, щелчок — и фотография готова.
А Герта:
— Стойте! Я же еще ничего не сделала!
А он:
— Вот и хорошо! Как только вы что-нибудь делаете, получается ерунда.
Все шло по программе, которую Малетта, изнемогая от ненависти и вожделения, выработал внизу, в сарае, когда ходил за дровами. С ободряющими возгласами вроде «Великолепно! Отлично! Очаровательно! Вот это я понимаю, модель так модель!» он понуждал Герту непрерывно менять позы, не давая ей времени ни выразить протест, ни подумать о впечатлении, которое она производит, ни даже обдернуть юбочку. И таким образом не только заставлял все время быть в движении, не только вгонял ее в пот, но и все в большее смятение, в своего рода экстаз, дурман (что начинает кружить голову женщины, как только она переступит границу стыдливости), а точнее, в дурман унизительного освобождения, в хмельной водоворот, куда она кидается, чтобы утонуть в нем с тем же сладострастием, с каким она готова утонуть в любом водовороте, внезапно узнав, что скототорговец Укрутник не тот, за кого она его считала, а значит, не то все, что ее окружает, да и она сама уже не та; она словно бы голая сидит на снегу и думает: хорошо бы началось светопреставление. Дирижирует ее отчаянием злобный танцмейстер, он беспрестанно требует от нее новых мизансцен, то высокомерным голосом, ибо ищет прибежища в высокомерии, то голосом Малетты, который теперь гипнотизирует ее, а она в опьяняющем вихре кружится вокруг своей оси. Налево! Направо! И все вертится, вертится ее тело! Глубже и глубже уходит она в бесстыдство! Глубже уходит в бессознательность. Руки вниз, руки вверх! Она уже не стесняется неудержимо растущих полумесяцев под мышками! И вдруг не выдерживает.
— Вот тебе на! Вы только взгляните!
А Малетта:
— Не беда! Подретуширую.
— А теперь, может, так?
— Да, очень хорошо! — Щелчок.
— А сейчас?
— Не двигайтесь, прошу вас! — Опять щелчок.
И хотя то, что здесь происходило, было скорее глупо, чем непристойно, ей все же казалось, вернее, она сама себе казалась нечестивой, отверженной, но продолжала кружиться — Малетта у ее ног был как камень, который самоубийца вешает себе на шею, чтобы скорее пойти ко дну, — кружиться в вихре неистовой хореографии (навязанной ей как собственным озорством, так и маниакальным стремлением этого неудачника творить зло), бессознательно предлагая себя для снимков, которые и были вожделенной целью фотографа.
Он сказал:
— Повернитесь, пожалуйста, и лукаво посмотрите через плечо!
Она так и сделала, причем получилось это у нее очень мило.
А он:
— Восхитительно! Прошу вас, не двигайтесь! — Но тут же добавил: — Только подтяните немного сапоги! Они морщат, и это выглядит безобразно.
Она нагнулась и подтянула вверх голенища. Нагнулась, ничего не подозревая и ни о чем не думая, так как и думать, собственно, было нечего. Нагнулась со столь же чистой совестью, с какой человек нагибается в саду поднять упавшее яблоко, — тут-то он и нажал на спуск.
— Порядок, — сказал Малетта и перевел кадр; теперь у него имелся вожделенный документ.
Герта разогнулась, по-видимому, еще и сейчас ни о чем не догадываясь, и снова приняла ту же позу.
А тот, другой человек в нескольких километрах от Тиши, но все же видимый время от времени, когда он возникал за повешенным (через повешенного все было видно насквозь), по-прежнему стоял посреди мгновения и посреди деревьев, ряды которых устремлялись к нему (радиально, словно он был центром леса и все дороги в него впадали), стоял недвижно, как будто сам был деревом, и все же чувствуя, что падает — поваленный нестерпимым познанием, расколотый безымянным отчаянием, — стоял, чувствуя, что падает во всех направлениях, выпадает из себя в пустоту, лишенную как света, так и тени, которая наступала на него из всех этих прямых и открытых ходов между деревьями.
Что высматривал старик? Какую точку избрал его растерянный взгляд? Какую точку избрал в прошлом? Темную или кровавую?
Огромным усилием воли матрос собрался с духом и сделал несколько шагов, безмерно удивленный тем, что не чувствует под собою ног. Наверно, он долго простоял на месте, наверно, долго длилось это мгновение! Но вот между деревьев он увидел глаза Ганса Хеллера; их невидящий взгляд был повсюду и что-то подстерегал в сумеречном свете — первая запечатанная весть в его адрес, вскрытая смертью, — две дыры в ничто! И смотрели они в том же направлении. Через окно кирпичного завода! И взгляд их сосредоточивался на той же точке! Был прикован к тому же ржавому пятну.
И вдруг все стало ясно матросу. Там оно лежало в тайнике, прикрытом глиной, заросшем травой, и кровавый след незримо тянулся вокруг деревни; и волчий след незримо проходил по небу.
А перед Малеттой вдруг предстала смерть (может быть, дорога, сквозь жизнь ведущая в смерть), нескончаемый темный шланг, весь в трещинах, черный канал, который надо было перейти вброд, наклоняясь все ниже, руками и ногами нащупывая дорогу, с трудом продвигаясь сквозь какую-то гнусную кашу, сквозь нечистоты, что медленно, но верно засасывали его — казалось, он вот-вот задохнется, — а по ту сторону канала, в недосягаемой дали, маленький, словно миниатюра, портрет девушки, далекий, манящий огонек, несомый кем-то впереди, а кем, он различить не мог.
То, что произошло дальше, навек осталось для него загадкой и уже через несколько часов сделалось чем-то вроде воспоминания о кошмарном сне, путаном, нелепом и уже почти стершемся в памяти, словно этот сон только скользнул по сознанию. И все-таки вкус его еще много дней оставался на языке и на нёбе фотографа.
Наступила пауза (да, пауза, наверно, кончилась пленка). Герта вытерла пот и пощупала большие черные полумесяцы и еще подмазала губы и слегка начесала волосы. И она довела его до неистовства своим запахом, довела до неистовства своими мускулами, блестевшими в свете лампы, и он, в свою очередь взмокший от пота (хотя печка давно погасла) и чувствуя, что сейчас зарычит от вожделения и ненависти, вдобавок задыхаясь от усилий, которые делал над собой, приставил стол к двери, сказав, что теперь будет снимать ее сидящей на столе, затем потихоньку вдвинул пластинку в другой аппарат, который стоял на штативе, и незаметно приладил автоспуск. Герта, вполне согласная с его предложением, уже уселась на стол, а он, преследуемый мушиным жужжанием спуска, с небрежным видом приблизился к ней, неслышно просчитал до трех, внезапно схватил ее под колени, опрокинул на стол и, услышав, как щелкнул затвор, бросился на нее.
Скорчившись на полу от боли и испуская жалобные стоны, он пришел в сознание в ту минуту, когда Герта, уже в пальто поверх маскарадного костюма, быстро и яростно (словно она все еще дубасила его) завертывала в бумагу свое будничное платье. Затем не менее яростно она ринулась к двери (словно вдобавок ко всему еще втаптывала его в землю), рывком отодвинула стол, повернула ключ и — оставив на память о себе запах и все тот же мерзкий привкус, — подобная порыву ветра, бросилась вон из комнаты.
Он медленно, с трудом перекатился на спину и услышал, как внизу хлопнула входная дверь — больше ни звука. Потом тишина вступила в мансарду, а он — в черную канализационную сеть, ведущую в Ничто…
Но уже не миниатюрный портрет девушки, не манящие огоньки виднелись впереди. Там была гора, там был снег, там были деревья, и человек шел между ними по снегу. А вдали, на краю его бытия, которое, право же, не умещалось в его коже, не умещалось в стенах дома и в границах участка земли, ему принадлежавшего, — дальше даже, чем рана его матери, и дальше, чем гроб, который выроют из земли, — значит, уже по ту сторону всех мыслимых границ, там, где ты не узнаешь самого себя, находился второй человек, другой (или то был он — на развалинах, покинутых людьми, или тоже нет?), он лежал в комнате на полу и видел его по ту сторону комнаты, по ту сторону времени, на обратной стороне повешенного (через него все было видно), а значит, по ту сторону преступления и смерти, на другом конце длинного черного канала, по которому он, под взглядом двух ярких ламп и с шишкой на лбу, спешил к своей второй смерти.
Матрос же шел по горам, а вокруг, в долинах, росла ночь и затылок горы (последний световой аффект сумеречного часа), точно плавучий остров, колыхался меж медленно поднимающимися водами тьмы и медленно сходящими водами неба.
Он говорил себе: ну вот ты и позанялся спортом! Втащил свой рюкзак на эдакую высоту! А теперь снова тащишь его вниз! Это и называется спорт: в здоровом теле здоровый дух!
И тут он увидел следы. Черт возьми, опять следы! Они шли слева от него к дороге. Лес, видать, полон следов!
Он нагнулся (было уже темновато). Но и на этот раз не следы «зебры» и не те неразличимые следы из потустороннего мира, что опутывали местность. Скорее то были отпечатки подбитых гвоздями башмаков, похожие на отпечатки под окнами его домишка, размеренные и четкие, они вели навстречу ночи, что ползла вверх по северному склону.
Он свернул вправо и пошел по следам, не умея объяснить себе, зачел! он это делает. Возможно, их размеренная четкость внезапно пробудила в нем ненависть. Спускаясь в долину, он шел вдоль этих раздражающе регулярных дырок в снегу, ибо ненависть — клейкое вещество, пожалуй еще более прочное, нежели любовь: она склеивает однажды и навек. Следы тянулись все время по прямой, издали видные на призрачно фосфоресцирующей снежной глади. Казалось, они говорят: «Глянь-ка! Вот как я хожу! Вот как ставлю ногу на этот снег! А потом другую? Понял? И так все время: сначала одну, потом другую! Левую опустил, правую поднял! Потом правую опустил, левую поднял! Образцовая походка. Когда так ходишь, с тобой ничего не может случиться. И ты в конце концов добираешься до цели!»
И вдруг шагов эдак полсотни впереди второй след сомкнулся с первым, и этот второй, как, подойдя ближе, определил матрос, тоже оставляли башмаки, подбитые гвоздями. Следы спускались слева по откосу (под острым углом устремляясь к первым) и скрещивались с ними в той точке, где снег был весь истоптан. Но вряд ли здесь была драка. Оба, видимо, просто вели беседу, так как дальше они уже шли рядом и ни один не обгонял другого.
И матрос двинулся дальше по следам обоих приятелей, по отпечаткам, до того четким, что можно было пересчитать гвозди на подметках, — упорно шел вниз по откосу (если лицо его и стало красным, то только от гнева), ибо все эти белые, разверстые пасти, которые нараставшая ночь не в силах была заткнуть, казалось, орали ему: «Глянь-ка! Вот где мы шли! Вот она, эта дорога! Это наш жизненный путь, свидетельство нашей доброй славы! Все время прямиком по снегу! Под деревьями, в которых обитает бог! По лесу, полному разной дичи и великой радости! По лесу, полному строительного материала и дров! По чистоте простодушного снега (одну ногу опустил, другую поднял!). Ничего мы не таим и крепко шагаем по земле! Ты мог бы заглянуть в нас, но ты ничего не видишь! Ты можешь пересчитать гвозди на наших башмаках, но ничего не знаешь! Да и что тебе знать, а? Сам господь бог и святой Губерт свидетельствуют за нас! И еще лесничество и бургомистр! И господа из окружной жандармерии тоже наши свидетели».
Потом они круто свернули вправо и зашагали к прогалине. Матрос часто бродил по лесу и знал, что вид на нее открывается ниже, но и сейчас она уже мерцала голубоватым светом меж стволов, и казалось, что вверх плавно подымается второе небо, или то было лишь отражением неба в холодном, синеющем зеркале воздушного моря?
Смутно предчувствуя, что там его ждет новое открытие, он шел (все еще по следам) среди деревьев, которые здесь росли уже не так густо, к лесной опушке, и первое, на что он обратил внимание, был запах. И тут же заметил искорку, она то вспыхивала в темноте, то снова меркла. Ветер, дувший с севера, приносил в лес запах, в величавую зимнюю чистоту воздуха приносил запах, приметный издалека, — запах сигарет. Матросу он так и шибанул в нос, а вскоре он увидел и обоих приятелей.
Они стояли к нему боком, на самой опушке, молча глядя вниз на прогалину. И стояли совершенно неподвижно. Один из них, правда, курил сигарету. Похоже было, что оба уже взяли что-то на мушку и тихо подстерегают добычу в клубящейся тьме: ружья в горизонтальном положении на ремнях, стволы до поры до времени уставлены в пустоту. Оттого, что задний план был чуть более светел, оба они казались черными, черными и неподвижными, как деревья перед прогалиной. Матрос тотчас же узнал их профили, четко вырисовывавшиеся на фоне серо-синего воздушного моря. Он подходил сбоку, и они не сразу его заметили, но потом услышали шаги, круто повернулись и взяли ружья наизготовку.
А матрос:
— Эй-эй! Откуда такой пыл? Ей-богу, не по погоде!
А Хабергейер (смеясь):
— A-а, это ты! А мы уж подумали, что убийца идет. — Он первым опустил свое ружье, тогда как Пунц Винцент, с сигаретой в зубах, отчаянно моргая глазами, в которые попал дым, все еще держал свое наизготовке.
— Убийца, — сказал матрос, — еще явится. Придет и его черед! Можете не волноваться. — Он поглядел прямо в лицо Пунцу Винценту и поинтересовался: — Вы, оказывается, сигареты курите?
А тот (теперь держа ружье одной рукой — что было знаком доверия, — другой вынимая изо рта сигарету):
— Изредка! Когда волнуюсь.
А Хабергейер (весьма игриво):
— Сигареты — это сущая ерунда. Уж лучше мы останемся при наших трубках. Так ведь? Какой в них толк, в сигаретах-то?
— Верно, — сказал матрос. — Верно! И ему тоже лучше было бы оставаться при своей трубке.
— Она у меня всегда в кармане, — заверил Пунц Винцент.
— Теперь это уже не поможет, — сказал матрос. Он глянул на ржаво-красную лапищу Пунца, который мял между большим и указательным пальцами окурок сигареты. Матрос, достаточно уверенный, что дело его на мази, но, как непосвященный, был, во-первых, не расположен, а во-вторых, лишен какой бы то ни было возможности хоть что-нибудь предпринять. Он спросил:
— Вы что, на зайцев охотитесь или на косуль?
— Ни то и ни другое, — сказал Хабергейер. — Зайцев-то в январе еще разрешается стрелять, а на косуль охота уже запрещена. Нет… — он перешел на таинственный шепот, хотя то, что он говорил, было известно всем и каждому —… мы ищем преступника, который укрывается в лесу, очень важного преступника и беглого вдобавок!
— Наверняка можно сказать, — вмешался Пунц, — что он убил Айстраха. Вот на этого-то мерзавца, понимаешь, у нас ружья и заряжены пулями.
— Господи боже мой! — воскликнул Хабергейер. — Стараемся помочь по мере сил. К тому же старик был нашим другом.
— Да, — подтвердил Пунц Винцент, — другом и товарищем.
Матросу кровь бросилась в голову. Он сказал:
— Но говорят, что в лесу еще волк бродит, — И внезапно обернувшись к Хабергейеру: — Похоже, что вы напали на след волка.
— Верно, — сказал Хабергейер, — совершенно верно.
А матрос:
— Что это за волк? Он, как видно, давно уже выслеживает добычу в наших местах. В один прекрасный день он всех нас сожрет, — И (прищурив глаза и вплотную подойдя к егерю, который, казалось, поспешил спрятаться за своей бородой): — Всех сожрет. Мера ведь когда-нибудь переполнится!
Он отвернулся с неприятным чувством, что сейчас пуля угодит ому в спину (несчастный случай на охоте всегда возможен, а за них будет свидетельствовать сам святой Губерт). Но ничего подобного не произошло. Целый и невредимый, он спустился на прогалину и, только дойдя до ее края, услышал сверху глас божий:
— Эй ты! Что там у тебя в рюкзаке?
И из расщелины эхо:
— Рюкзаке…
— Тебе-то что за дело, дрянь эдакая? — крикнул он, задрав голову, и скрылся во тьме ночи и леса.
Через восемь дней (следовательно, в субботу, двадцать четвертого января) в Тиши взорвалась бомба. Эту бомбу бросил Малетта во вторник двадцатого, а детонация последовала лишь в субботу вечером. Кроме снимка, сделанного с помощью автоспуска, который он еще не проявил, так как намеревался пустить его в ход несколько позднее, он изготовил все фотографии Герты. И с большим удовлетворением отметил, что последний кадр вышел очень четко, так что и одного этого заряда взрывчатки, по существу, было бы достаточно. И тогда надписал два конверта, один: «Фрейлейн Биндер, Тиши, гостиница «Виноградная гроздь», на другом стоял адрес Укрутника, который он выпытал у Эрны Эдер; затем с веселым видом вложил четко отпечатанные фотографии кинозвезды (заодно со счетом на имя Укрутника) в конверт, адресованный фрейлейн Биндер, а ее фото (включая наиболее пикантное, которое он приличия ради сунул под самый низ) без счета и без какого-либо комментария — в конверт с адресом Укрутника. Оба конверта он во вторник после обеда отдал почтальону, возвращавшемуся с разноски писем; тот взял их, покачал головой и сказал:
— Одно-то ведь пойдет в Тиши.
— Неважно, — ответил Малетта. — На них же марки. Поэтому, будьте добры, сдайте их на почту!
И почтальон снес письма в Плеши (чтобы в субботу вернуться с одним из них в Тиши), а Малетта ждал, ждал, как преступник, в среду, в четверг, в пятницу и в субботу. В субботу вечером наконец произошел взрыв.
Укрутник прибыл (колеса обмотаны цепями) вскоре после восьми и остановил машину у «Грозди». Он выскочил из нее двумя ногами сразу, ринулся в подворотню, осмотрелся кругом и прорычал:
— Герта!
Эхо не успело отскочить от стен дома, с визгом отскочить от кафельных стен мясной лавки, как он уже ворвался в залу, где царило необычайное оживление, так как завтра, в воскресенье, должна была состояться охота облавой, и пивной бог Биндер, с лицом, блестящим от жира, за стойкой разливал водку (все из-за предстоящей облавы). Укрутник с вылезающими из орбит глазами, словно его душат, прохрипел (голосом тоже таким, словно его душат):
— Где она?
И ни слова больше. Ни «здравствуйте», ни разговора о местных новостях! Ни шуточек! А Франц Биндер только ткнул своим пальцем-сарделькой в потолок:
— Надо думать, наверху!
И взгляду его уже представилась спина скототорговца, похожая на отвесную скалу. Дверь с треском захлопывается, в прихожей его вряд ли замечает кто-нибудь из новых посетителей, все возбуждены — завтра облава. А лестница уже трещит под сапогами Укрутника, словно под огнем тяжелой артиллерии. Служанка пробегает через прихожую и, задрав голову, кричит: «Потише!», боясь, что лестница обрушится на нее. Но он ничего не слышит, он уже наверху, топает своими сапожищами по коридору и наконец, не постучав, распахивает дверь в комнату Герты: никого! Чистая девичья комнатка пуста. Нету свиньи в хлеву! Где же она? Он топает назад по коридору, к своей двери. Надо снять куртку, он весь взмок, с неменьшей силой распахивает собственную дверь и вваливается в комнату. А там стоит эта дрянь, пялится на него и кричит:
— Ах ты бродяга проклятый! Юбочник несчастный! Вот тебе, полюбуйся! — И швыряет ему в лицо пачку фотографий — сплошь вывихнутые руки и ляжки, — они порхают вкруг него, как стая птиц, заодно со счетом, который он даже просмотреть не успевает, так как на него уже нацелена рука Герты, а она, надо сказать, тяжеленька. Он, однако, успевает отвести ее, выхватывает из нагрудного кармана бумажник — и вот уже налицо другой corpus delicti, вторая пачка черт знает каких фотографий.
— А это что? Что это, отвечай! — Он хлопает пачкой по столу, как колодой карт.
А Герта (у нее даже губы побелели):
— Это я.
— Ага! — Он вытаскивает из пачки нижнюю фотографию, самую эффектную. — И это тоже ты? — Укрутник тычет под самый нос Герте. — На, нюхай! — орет он. — Нюхай, грязная скотина!
— О боже! — шепчет Герта. — Как же это случилось?
— Я тебя об этом и спрашиваю! — рычит он. — Лучшего доказательства не требуется. — И шлепает ее по губам злосчастной фотографией. — Барышня, нечего сказать, — кричит Укрутник. — Тьфу, черт! — Он плюет ей под ноги, уже облитые холодным потом от страха.
— А ты? — вдруг взвизгивает Герта. — Ты-то чем занимаешься?
— Ничем таким я не занимаюсь, — шипит он и, пыхтя от ярости, отворачивается.
Тут глаза ее полнятся слезами, и она с ревом бежит вон из комнаты.
Через несколько минут он уже стоит перед домом Зуппанов и кулаком, как кувалдой, молотит в дверь.
— Эй ты, художник — орет он. — Отпирай, художник! — И мощным ударом срывает дверь с петель.
Но Малетта лежал у себя в кровати и не шевелился. Зуппаны тоже уже легли спать и тоже не шевелились; и деревня недвижно лежала (в своей кровати из черной ночи и белого снега), не обращая внимания на весь этот переполох, ибо на завтра была назначена облава.

Тут поневоле схватишься за голову. Человека неопытного эти дебри повергают в отчаяние. Начинает казаться, что ты плутаешь по лесу, которого не видно из-за деревьев. Хочется вынуть собственный мозг и почесать его. Ты бредешь в белой тьме! Ощупью, как слепой, бредешь сквозь зиму, уткнувшись носом в пропитанный эфиром ватный тампон. И снег вьется над тобой! Навевает сны! Белое постельное белье, белые саваны! Правда, мы пьем кофе, черный, как навозная жижа на задворках, но стекает он в беспамятство толщиною в метр, так что и это тщетно! Время сливается воедино, точно в Арктике, чувства наши мало-помалу притупляются, и один-единственный день, одно-единственное потрясение уже играет яркими красками на этом черно-белом фоне, громким улюлюканьем разбивает тишину (которая что-то в себе таила); и происходит это в воскресенье, двадцать пятого января, когда состоялась большая охота облавой.
Эта охота, придуманная, а также инсценированная Хабихтом, должна была втереть очки власть предержащим, показать им, что у нас не сидят сложа руки, что делается все возможное, дабы искупить кровавое злодеяние в Тиши. Виной же тому, что все обернулось не так, как было задумано, явилось непомерное рвение охотников-любителей.
Итак, на охоту отправилось восемь егерей, пятнадцать жандармов и несколько собак и еще (наверно, в качестве собак более изощренных) едва ли не все мужчины из Плеши и Тиши, а также все девушки и молодые женщины, которые в это время не лежали в родах.
Все они прочитали зажигательное воззвание, сочиненное Хабихтом, им же отстуканное на пишущей машинке, им же приклеенное с помощью ракорда и собственной слюны на самых видных местах. И посему смазали жиром лыжные ботинки. Матрос уже знал, чем это пахнет, обо всем был осведомлен. Около лавки Франца Цоттера он встретил Хабихта, наклеивающего воззвание у входной двери, и хлопнул ладонью по листку бумаги.
— Это еще что за ерундистика? — спросил он.
— Мы собираемся прочесать лес, — сдержанно ответил Хабихт. — Людей у нас довольно и собак тоже.
А матрос:
— Понятно, надо же время проводить. Боюсь только, как бы убийца не стал его прочесывать вместе с вами.
Хабихт испуганно взглянул на матроса. Он всю эту затею уже обсудил с Хабергейером. Спрашивается зачем. Спрашивается, для чего ему это понадобилось. Неужто окладистая (как у бога) борода замутила присущую ему прозорливость? Неужто такой человек, как он, пятидесятилетний жандарм, дважды сменивший цвета своего мундира и всегда державший нос по ветру, нуждается в совете? Но он уже чувствовал, что почва ускользает у него из-под ног, тосковал по отчизне, словно блудный сын, и потому питал пристрастие к длинным бородам.
— Убийца! — повторил он и только головой покачал. Он знал, что убийца еще далек от него.
Все вокруг кричало: «Холодно! Холодно! Холодно!» Снег кричал и сон, иней на деревьях, черные руны ветвей на небе, черные руны птичьих лапок! Но план уже разработан, все готово. Завтра, в восемь утра, начнется охота наугад, охота на убийцу, охота на безликое чучело человека, который все еще прячется, хотя не ясно, почему подозрение в убийстве падает именно на него, а не на кого-нибудь еще. Беда в том, что, как бы созданный для роли убийцы, он предназначен изображать из себя зверя, которого травит свора людей и собак.
В ночь на воскресенье — мы провели ее почти без сна — не из-за скототорговца, а от охотничьего азарта — было нам послано знамение свыше о том, что с нами бог, и это знамение вселило в нас уверенность. Внезапно поднявшийся северо-восточный ветер разогнал тучи, и, когда в половине восьмого все начали собираться (как в Тиши, так и в Плеши), приветствовать друг друга и грозить кулаками в сторону Кабаньей горы, несмотря на мороз, от которого дыхание, казалось, замерзало в глотке, на прозрачном и синем, как фиалка, горизонте взошло, словно желая осветить то, что будет происходить, — и это при таком морозе, что череп раскалывался, — взошло солнце, ярко-красное, как пятно свежей крови.
В его сиянии, проникавшем сквозь церковные окна, господин патер, как и каждое утро, служил обедню, но на сей раз перед пустыми скамьями (что он с горестью обнаружил), ибо сегодня отсутствовали даже самые ретивые из прихожан, старухи, которые, зная о близкой смерти, предосторожности ради еще старались наладить свои отношения с господом богом. Некоторые из них стояли на улице, боясь пропустить волнующий отъезд охоты, другим (собак-то позабирали) пришлось оставаться и сторожить осиротелые дворы. Сердито ворча и скаля обломки зубов, они забирались (можно ведь и такое себе представить) в конуры, еще полные животного тепла, и облаивали проходивших мимо бродяг. Надо только надеяться, что таковые не проходили (в наши дни их почти не осталось); но допустим, что какой-то бродяжка все-таки прошел — то-то бы он удивился, бедняга! Дымовые флаги не реяли над трубами, запахи жаркого не подмешивались к ветру. Нет, плиты стояли холодные, и мясо было изжарено еще вчера. Завернутое в «Церковный листок» с жирными краями (дабы благословение снизошло и на пищу), оно лежало в охотничьих сумках рядом с бутылками сливовицы и термосом, полным горячего кофе, а ветер, что тихонько насвистывал свою песенку над снежными просторами и крутил маленькие смерчи блестящей пыли, не впитавший в себя добрых запахов деревни, был пустынным и ледяным, как космическое пространство.
Итак, изгнанный во вселенскую стужу и пустоту, которая царила не только в церкви и за ее стенами, но внезапно воцарилась и в нем самом, господин патер служил обедню. Голос патера, сколько почтенный старик ни старался его приглушить, устрашающе громко разносился по церкви, и тут же раздавался голос служки. Бог ты мой, почему он так орет, этот юнец? Разве это необходимо? — Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. — Казалось, за колоннами прячутся какие-то типы, его передразнивающие. Или блеет целое стадо нечистых… Потом он стоял в ризнице и через окно смотрел на площадь. Там толпились те, что были созданы по образу и подобию божьему, искаженные, неузнаваемые за толстым слоем льда! Он открыл окно, чтобы получше их разглядеть. Ага! Так он себе все и представлял!
Вахмистр Хабихт важно расхаживал по площади, разделяя людей на группы. Группы спортсменов, которые пойдут впереди на лыжах, и группы «дурней», которым надо будет стоять по колено в снегу. Каждой группе, состоящей из двадцати человек, был придан вожак из «посвященных» (егерь, лесоруб или жандарм) и собака в качестве следопыта. То же самое происходило и в Плеши, и там организовывались «быстрые», а также «медленные» группы, легко вооруженные и вооруженные до зубов. Каждая получала особое задание, ибо все было заранее организовано, координировано и нанесено на карту, и, если беглый еще не замерз, вся эта машина должна была действовать безотказно.
За Хабихтом горделиво вышагивал Хабергейер с бумагой и карандашом в руке. Карандашом он пересчитывал поголовье охотников и помечал отсутствующих, иными словами, составлял «черный список». Но список, слава богу, получился короткий, и большая часть листа осталась девственно чистой. Там числился Карамора, это уж само собой разумеется! Разумеется, булочник Хакль! Разумеется, матрос. Еще несколько хворых стариков. Если бы Малетту мы считали за целого человека, то и он, конечно, попал бы в список; дело в том, что на его отсутствие, которого сначала никто не заметил, наше внимание обратил учитель.
Стоя в переднем ряду с фрейлейн Якоби, он вытягивал шею, оглядывался, казалось, считал вместе с Хабергейером. Нос его поворачивался с юга на севе/), с востока на запад, и вдруг учитель выступил из ряда.
— Господин Хабергейер, — зычно выкрикнул он, — среди нас нет господина Малетты, фотографа!
Хабергейер с недоумением на него уставился, затем, правда, медленно, что-то, видимо, уразумел, но, вместо того чтобы дополнить список и поблагодарить учителя за его старания, уничтожающим движением руки словно бы зачеркнул и преступника и доносчика.
Между тем настало время двигаться в путь. Вахмистр Хабихт поднялся на несколько ступенек той лестницы, что с улицы вела к церковной двери, и заговорил на жаргоне преуспевшего фельдфебеля.
— Значит, внимание! — начал он.
Боевой клич гулко разнесся над площадью.
В то же самое мгновение его преподобие со стуком захлопнул окно.
Он долго смотрел на нас. Изучал выражение наших лиц. Он оценил серьезность наших намерений и наше усердие. В каждом из нас он оценил волю — послужить отчизне и справедливости, поэтому он и захлопнул окно, захлопнул с таким стуком.
Еще один отсутствовал. Едва ли не самый важный. Но его отсутствия даже учитель не заметил. «С нами бог!» Это речение запоминается? Или нет? Оно ведь было выгравировано на солдатских ремнях! Но с нами он никогда не был (видимо, ему не обязательно быть повсюду). Вот мы и привыкли хотя бы делать вид, что он здесь, что он марширует вместе с нами, невидимый камрад, чеканя шаг, проходит по нашим рядам, так что его присутствие (которым злоупотребляют для того, чтобы сделать священными средства, поскольку цель их таковыми не делает), разумеется, не может быть засвидетельствовано бургомистром, но зато не может быть и опровергнуто булочником. «С нами бог!» Над облачными горами небес он пристегивает лыжи и… вперед! Никто не подымает глаз: ведь он невидим! Никто не смотрит, вправду ли он с нами: все безусловно уверены в нем. Но в тот раз облачные горы рухнули, под ногами божественного лыжника растаяла лыжня — остался только воздух, прозрачный, как стекло, и синий, как фиалка, а посреди него солнце, всходившее в неземном сиянии. Матрос воскликнул «ага!», поутру открыв дверь своей хижины. До сих пор еще можно было верить в мертвого капитана, стоящего на облачном мостике, или (придерживаясь образов, привычных для нашего отечества) в беглого арестанта, забившегося в облачный стог. Но сейчас все вдруг изменилось, сейчас не было ничего, кроме воздуха там, наверху, ничего, кроме пронизанного светом эфира, ничего, кроме этого безбрежного синего моря, и ни сена, в которое зарылся арестант, ни шлюпок и парусов затонувшего судна, ни даже бутылки с вестью о гибели господа бога не несли эти безбрежные синие воды.
Матрос глянул на небо. Там, наверху, тебя уже нет, подумал он. И в других местах тоже нет, похоже, что тебя никогда и нигде не было!
Он вошел в комнату и затопил плиту. Морозы стоят суровые, подумал он. Не обойтись мне этими дровишками.
Около девяти пришла малютка Анни, закутанная, словно на северный полюс собралась. Матрос издалека увидел ее в окно, что выходило на север, на деревню. Опустив голову и высоко подняв плечи, она с трудом взбиралась по протоптанной в глубоком снегу тропинке, напоминавшей черно-синюю щель в склоне горы. Матрос вышел в сени и отпер двери. Ее шатало из стороны в сторону, когда она затопала, заскользила к дому, засыпанная снегом до подола жакетки, чулки и юбчонка опушены сверкающим и холодным белым мехом. В высоко поднятой руке она держала бидон, который со скрипом покачивался, а взболтанное молоко уже капало из-под крышки, уже текло (что тотчас же заметил матрос) по лицу девочки, по платку на ее голове, и если так дело обстояло всю дорогу, значит, большая часть его уже полетела к чертям.
Он сказал:
— Смотри, малышка! Ты же все молоко на себя вылила!
Она виновато подняла на него свои прекрасные, окруженные нежными тенями глаза (они засветились, как мартовское небо), и матрос прочитал в них великий и загадочный страх.
— Иди в дом, малышка!
Анни, согнувшись и поджав колени, проскользнула под его вытянутой рукой (он придерживал для нее распахнутую дверь), а матрос с озабоченным видом прошел за нею к плите, возле которой она поставила бидон, и, когда она снова выпрямилась, откинул у нее со лба платок, забрызганный молоком.
— Что с тобой? — спросил он. — Беда какая-нибудь приключилась?
Она уставилась в пол и что есть силы покачала головой.
А он:
— Ты же совсем не в себе! Я тебя не узнаю! И молоко расплескала! Что случилось?
Она все еще не решалась поднять глаза, словно сам черт стоял перед ней. Казалось, она пересчитывает его пуговицы, отчего матрос, вдруг устыдясь, постарался втянуть живот.
— Я быстро очень бежала, — пробормотала Анни.
А он:
— Вижу, что ты бежала. Но почему?
— Потому что ужасно боялась, — прошептала она. — Везде ходят люди с ружьями.
В этот час — среди синевы и золота, под неслышные залпы света — все охотники и загонщики как из «быстрых», так и из «медленных» групп были уже в пути. «Быстрые» группы, вышедшие одна за другой (из Тиши на дорогу к хуторам, из Плеши вдоль изгибов железнодорожного полотна), огибая с обеих сторон горы, направлялись к западу. Эти группы должны были — одни с севера, другие с юга — в точно предуказанных пунктах атаковать горы с флангов и проникнуть в самую чащу леса. Там, где начинались охотничьи угодья, им предстояло подняться по склонам, что взблескивали золотом под лучами солнца, и по склонам, что еще синели в тени. Взобравшись по ним, они должны были разделиться и прочесать окоченелый лес. (Сотню деревьев! Тысячу деревьев! Десять тысяч деревьев! И за каждым мог скрываться убийца!) А затем дойти до вершины и, соединившись с другими группами, устроить привал и отобедать на высшей точке горы, на высшей точке солнечного дня. Солнце будет светить сквозь ветви; солнце будет освещать жаркое, будет плясать и переливаться в бутылках сливовицы так, что женщины наденут солнечные очки. Засим, подкрепившись, согревшись и отдохнув, они вновь станут на лыжи (брюки на задах у мужчин натянутся, натянутся и брюки на задах у женщин); и если дичь еще не выслежена и не прикончена, то они снова углубятся в лес, разделятся на группы и семью линиями, которые растянутся до самой границы леса, будут следовать одна за другой, прочешут весь округ с востока на запад. Внизу же, окружив гору и лес, будут долгие часы стоять «медленные» группы, равномерно распределенные вдоль дороги на хутора, дороги на Плеши и на юге вдоль железной дороги. Ведь не исключено, что, ища спасения, он может ринуться вниз, этот убийца! Тот, которого они хотели вычесать из леса! Собаками выгнать его из укрытия, собаками гнать вверх-вниз по горам. Те, что стоят внизу, встретят его, у них ведь тоже есть оружие! Как вкопанные стоят они в снегу и ждут — непробиваемая цепь из калек и придурков.
Но все это было впереди; пока что, как уже сказано, группы были еще на подходе, и каждая из них в двадцати головах хранила приказы Хабихта. За ними медленно встающее солнце, перед ними на снегу двадцатиголовая тень, а они с севера и юга идут все время на запад вслед за своей тенью. С разной скоростью, но все воодушевленные единым боевым духом, жаждут добычи — синей, как тень, которую они отбрасывают. Группа Шобера, вышедшая первой, так как ей предстоял самый длинный путь, действовала сейчас вдоль дороги на хутора, километрах в четырех от Тиши. В нее входили только молодые и сильные люди, среди прочих Укрутник и Герта. Вахмистр Хабихт был в курсе их взаимоотношений и не пожелал лишить их удовольствия. Но какое удовольствие могли они получить после той размолвки, радость получали разве что другие, когда им мало-помалу уяснилось, что произошло. Скототорговец шел впереди отряда, сразу же за Шобером и рвущейся со сворки собакой мясника; дорогое ружье висело у него на спине, совсем как у жандармов, по диагонали. За ним шли другие, не возлюбленная, а другие парни и девушки, друг за дружкой или рядом друг с дружкой: парии с парнями, девушки с девушками, девушки с парнями. Мощно и размашисто шли они, нога к ноге, лыжа к лыже, втыкая в снег свои палки. Выглядело это так, словно они тащат за собой свои тени. Они почти не разговаривали, ибо толика разума, у них имевшаяся, ушла в работу ног и бедер. Долгое время слышалось только равномерное постукивание и шуршание лыж. Герта Биндер шла на небольшом расстоянии в арьергарде, перед ней — только штаны, похожие на лица, у которых подергивается то левый, то правый уголок рта. Слева от лыжников вздымались медленно раздвигающиеся Кабаньи горы — Большая Кабанья гора и Малая, на склоны которых еще ложилась тень. И чем дальше на запад, тем отчетливее вырисовывались их силуэты. И вскоре уже стало ясно, что на кабанов обе они были похожи, только если смотреть из Тиши, ибо вблизи большая гора, возможно, еще и напоминала кабана, но малая — в лучшем случае собаку; тот же, кто непременно хотел видеть в ней кабана, в большой должен был увидеть ящера. Гигантский вздыбленный затылок этого пресмыкающегося врезался в синеву, тогда как меньшее тело меньшего зверя, только вблизи казавшегося большим, к востоку извивалось все более и более уродливо.
— Отсюда пойдем вверх! — объявил помощник жандарма Шобер и синим своим подбородком указал на синеющий склон. Однако Укрутник, к которому эти слова относились, смотрел прямо перед собой и ничего ему не ответил. Через секунду-другую всех их поглотила тень горы, словно ледяная темно-синяя вода. Они уже четверть часа как сошли с шоссе перед мостом и дубом, пересекли узкую дорогу, идущую от домика егеря и, оставив ручей между собой и шоссе, заскользили по равнине, приближаясь к склону горы. Внезапно все остановились в его тени и, словно выполняя чей-то приказ, уставились вверх. Лес, как темная лавина, парил над ними — а в его глубинах затаилась тишина.
К мосту в это время, как и было запланировано, подошла вторая из «быстрых групп», ее возглавлял Хабергейер; она тоже оставила шоссе слева от себя. В ней — кроме бога и его телохранителей, которые справедливо считались лыжниками средней руки, — состояли одни только молодые и крепкие люди, к примеру господин Лейтнер и фрейлейн Якоби. Они заскользили с откоса на блестевшую поляну; их тени скрючились, а потом снова вытянулись. Справа от них недвижно стояла дубовая роща, и мост проглядывал сквозь стволы.
Дубы, словно окаменев в приступе судороги, тянулись к небу, а небо, пронзенное сучьями, было цвета стали. Ржавая листва на ветвях пылала огнем и трепетала, как барабанная дробь.
— Помнишь? — шепнул Пунц Винцент, бросив взгляд на дубы.
— Я вообще не слышал, как он подошел, этот парень, — пробормотал Хабергейер.
Сильный порыв ветра пронесся над поляной, взвихрив облака сверкающей пыли. Учительница почуяла хорошую лыжню и, всех обогнав, прорвалась вперед. Она откинула локон со лба, высоко подняла голову и открыла рот. Предоставив ветру трепать ее белокурые волосы, она запела.
— Браво! — сказал Хабергейер. — Вот это хорошо! Чистое сердце, веселая песня и… куш! — Он схватил за ошейник своего пса, который вдруг стал лаять и прыгать как бешеный.
Солнце плясало на загорбке горы, размахивая вокруг себя пламенеющими мечами. Вытягиваясь, оно вгоняло пламенеющий меч в небо, нагибаясь, набрасывало тень на все вокруг. И везде были голоса — на горе и в долине, голоса карабкались но склонам, и среди них — голос фрейлейн Якоби, грубоватый, глубокий, словно голос мужчины, а потом ничего, только смена света и тени, только эта утомляющая зрение смена, и ледяной ветер, несущий снежную пыль, и ее золотое блистанье, и равномерный шорох идущих охотников, легкое, словно машет крыльями ветряная мельница, постукивание лыж, и тихое, но отчетливо различимое шуршание, с которым они прорезают сверкающую целину.
Ручей неслышно и невидно струился подо льдом по темнеющему руслу. Повернув к охотникам, направлявшимся на запад, он стал все больше и больше теснить их к откосу горы. Сбоку, словно черная пасть, открылась долина и — а-а-а! — высунула белоснежный язык.
— Ну вот, сейчас начнем, — сказал Шобер. Он взглянул на свои часы и кивнул.
Было половина десятого, потом три четверти десятого, потом десять! Началось восхождение «быстрых» групп, а «медленные» тем временем маршировали по долинам, дабы заковать обе горы в железные цепи.
А в это время матрос:
— Ладно, я пойду с тобой! — Он достал из шкафа меховую куртку и еще добавил: — Ей-богу, стыдно, большая девочка, а вся дрожишь от страха.
Анни, сидя на высоком стуле — на нем так хорошо было болтать ногами (особенно в этих увесистых башмаках с гвоздями, которые так приятно царапали пол), — смотрела, как он, кряхтя и бранясь, влезал в куртку и нахлобучивал шапку. Девочка казалась вызолоченной ярко-желтым клином, который солнце забило в комнату и, конечно же, не догадывалась, что в эту минуту он думал: господи, иначе мне ее отсюда не выжить, эту девчушку! Синими-синими глазами (как мартовское безоблачное небо) смотрела она на него, продолжая болтать ногами. А он все думал: господи! Сейчас, видно, другому придется изображать убийцу (похоже, что меня они оставили в покое), но если эта маленькая дурочка просидит здесь ещо часок, не исключено, что она меня заставит разыграть из себя растлителя малолетних, право же, весьма и весьма неплохая роль! Он опустил уши своей ушанки, а ушанка-то (ко всем прочим бедам) была каракулевая, и в ней он смахивал (ко всем прочим бедам) на русского, то есть на того, каким себе наши люди представляют русского, и сказал:
— Надевай рукавички и пошли!
Анни, стуча башмаками — и все еще робея, — первой вышла из дома.
Матрос запер дверь и сунул ключ в карман. Потом сказал:
— Ну, иди, да не оглядывайся все время!
Топая вниз по склону, Анни сказала:
— Там внизу на кирпичном заводе тоже несколько человек собралось!
Он глянул по направлению ее вытянутой руки, что па секунду-другую неподвижно, словно рука огородного пугала, вырисовывалась на голубом фоне неба. Но солнце так било в глаза, что матрос при всем желании ничего не мог рассмотреть — ни ледяного дворца, в который превратились заснеженные развалины, ни вооруженных пехотинцев, прильнувших к окнам. Он сказал:
— Не обращай на них внимания! Они ничего тебе не сделают. Они и сидят-то там, чтобы тебя защитить! — И при этом подумал: черт возьми, до чего же скоро дело делается! Едва настал мир, как они уже играют в войну!
Несколькими минутами позднее, спустившись на шоссе, они увидали двух старых хрычей из этой бражки, сидевших в придорожной канаве с ружьями наперевес. Надвинув шляпы на лоб, словно это были каски, они нагнули головы и взяли ружья наизготовку.
— Стой! Кто идет? — заорал один из них, хотя, по всей вероятности, давно уже узнал обоих.
Матрос взял Анни за руку и, ни слова не ответив, прошел с нею мимо. На своей спине он чувствовал взгляды бывших фронтовиков и выстрелы из-под прикрытия шляп, несмертельные лишь потому, что они не обладали свойствами твердых тел.
— Это Хинтерлейтнер, — сказала Анни.
— Так, так! Приятнейший человек! А второй кто?
— Второй старик Клейнерт, — отвечала она.
— Могильщик?
— Да.
А деревня, покинутая — ибо цепь сторожевых постов проходила вне ее, по полям, — пустая, будто вымершая, истыканная трубами, в которых словно бы запечатали дым, простиралась слева и справа но обе стороны столь же длинной, сколь и бессмысленной улицы, хотя, разумеется, в строгом порядке — но чему, спрашивается, служил этот порядок? Кого он мог ввести в заблуждение там, где никого уже не было? Порядок ради порядка? Порядок, драпирующий пустоту. Тесно стоящие дома и все жо навеки разобщенные пялятся друг на друга через непроходимую пропасть улицы, дома с тщательно запертыми дверьми и воротами, с заботливо вымытыми окнами, но опять-таки спрашивается: для чего? А посреди деревни еще и церковь, увы, такая же бессмысленная, остроконечной своей башней вонзающаяся в пустоту, в бесстыдно разверзтую, бесстыдно издевающуюся синеву, что даже не предвещала налета вражеских бомбардировщиков.
Бедная ты девчушка! — думал матрос. Что ты будешь делать, если никого не станет там, наверху? Если башни будут вонзаться в пустоту, а улицы — вести в ничто? Боюсь, что тебе еще немало придется померзнуть в жизни!
Но Анни вдруг остановилась и задержала его. Рукавичкой она показала на какое-то окно.
— В чем дело? — растерянно спросил он. Это было окно парикмахерского салона.
— Какие красивые, нарядные дамы, — прошептала она.
Манекены улыбались застывшей улыбкой и вытягивали шеи над изгородью из ледяных цветов, что росли на нижнем крае стекла.
А матрос:
— Я знаю, ты тоже хочешь стать такой со временем. Потому повнимательнее приглядывайся к ним! — Его взгляд угрюмо уставился в стеклянные глаза манекенов. Да, они синие, подумал он. Синие, как небо над нами!
И тут же обнаружил свое отражение — русского комиссара, сквозь которого видны эти две манящие красотки с кудряшками, как у пуделя. А за ним такая же прозрачная, как и он сам, тоже приманка — ибо, оставленная богом и людьми, она окутывала траурным флером разве что манекенов Фердинанда Циттера, — деревня врастала в несуществующее больше небо, врастала в него своими заснеженными, ярко освещенными крышами, похожая на пеструю кучу развалин, врастала столь же безнадежно, сколь и настойчиво и теперь выглядывала из-за плеча этого человека. Исковерканная, искаженная, всеми отброшенная и. как в кошмаре, упорно к нему возвращающаяся, светлая, расплывчатая, словно детский рисунок, и тем не менее проникнутая мраком, смотрела на него из двух противоположных глубин, верить в которые ему повелевало коварство отчаяния, смотрела из глубины мрака вечной жизни и из глубины парикмахерского салона. И сам он перед ней. огромный, как тень, черный и тем не менее прозрачный, словно призрак, и фасад дома, разрушающийся на другой стороне улицы — или, правильней будет сказать, еще притворявшийся, что разрушается, — смеялся над ним (через холодное плечо русского) омерзительно и одноглазо, но все, видимо, понимая, а глаз его — маленькое окно с занавеской в мансарде, — как болезнь, заразил стеклянный глаз манекена; кукла эта, казалось, подмигивает наподобие продажной девки, хотя ресницы ее оставались неподвижными. Что-то, надо думать, углядел ее глаз, что-то таинственное и сокрытое, видимо, происходило здесь. И на небесной голубизне зрачка появилось пятно, серое, как катаракта.
Матрос круто обернулся (Анни тоже обернулась и стала смотреть на дом). В маленьком окошке мансарды, вверху, под щипцом, на которое он никогда и внимания не обращал, да и сегодня ничего заметить не предполагал, рядом с полураздвинутой занавеской (неузнаваемое за грязными стеклами и все же напоминающее о забытых сновидениях) появилось лицо какого-то мужчины, словно из забытой жизни глядевшего вниз, на матроса, оно скрылось, как только его заметили, за чуть всколыхнувшейся занавеской.
— Кто-то смотрел оттуда на нас! — сказала Анни.
Матрос уставился на окошко.
А потом (как будто в первый раз) прочитал давно ему знакомую вывеску:
«Фотография Малетта».
Между тем стрелка часов перешла за половину одиннадцатого, и группа Шобера (у всех ее участников были исключительно крепкие ноги), поднимавшаяся по северному склону, уже приближалась к вершине, с которой на них ливмя лились голубые осколки неба, разбитого золотистым светом. Все они смотрели вверх, подымали кверху потные лбы, уцелевшие под градом голубых и золотистых осколков: небо звенело от толчков и пощечин света, казалось, это катится лавина пестро окрашенных церковных окон, и вот уже солнце с его упрямо топорщившимся вихром, с высокой прической из переливчатых протуберанцев полыхает над теменем горы, брызгами разлетается в ветвях, затем, клокоча, проникает в погорелый дом (сквозь обугленные стропильные фермы) и, ударившись, разрывается с неслышными детонациями на все новые и новые, все более ослепительные пучки света, которые, вращаясь, как спицы в колесе, бьют в лицо парням и девушкам, поднимающимся в гору. Они (это было заранее предусмотрено) разделились на пары как попало: мужчина с ружьем впереди, за ним особа женского пола (с солнечными очками на носу), и оба, мужчина и женщина, идут вслед за своим дыханием — белыми облачками, ритмично растворяющимися в воздухе, и вот уже перед лыжниками вздымается крутой склон и поваленный светом лес — сотня деревьев! Тысяча деревьев! Десять тысяч деревьев! Но ни за одним не стоит убийца, нет, за каждым стволом, который они обходят, стоит солнце и смеется: «Хи-хи!» Парням и девушкам все это наконец наскучило, и они начинают играть в снежки.
— Здесь вам не детский сад! — взревел Шобер. Бац! И на его груди уже красуется снеговая орденская звезда.
Герта Биндер не принимает участия в этом побоище. Она едва ли не лучшая лыжница в деревне, во всем первая заводила, разумеется и в травле тоже, сегодня держится поодаль, как начинающая, держится вне этой лавины света, возможно, чтобы не подходить близко к возлюбленному, а возможно потому, что сегодня ей и впрямь все дается нелегко. Склонив голову, выдвинув вперед торс (словно в рюкзаке у нее полно осколков неба), она переставляла ноги, переставляла лыжи, увязая в моросящем дожде золотых искр, и, сквозь свисающие пряди жестких своих волос — даже не сквозь темные очки — одурманенная, ослепленная, смотрелась в снежное зеркало, которое солнце снизу подставляло ей, и так все шла и шла вперед, не обращая внимания на то, что творилось вокруг, окутанная собственным дыханием, ничуть не интересуясь ни убийцей, ни самой этой потехой. И вдруг прямо в затылок ей угодил ком снега. Прямо в открытое место между воротником и ухом угодил с такой силой, что навряд ли к этому можно было отнестись как к шутке. С приглушенным стоном она схватилась за простреленное место, и, стараясь вытряхнуть снег из-за воротника (отчего ей стало еще неприятнее), зажмурившись и с трудом сдерживая набегавшие на глаза слезы, силилась отыскать взглядом скотину кавалера, приславшего ей любовный привет.
Он, эта скотина, вернее, шалопай, торговавший скотиной (в остальном красивый сильный мужчина), с лицом, искаженным злобной ухмылкой, вышел из-за дерева. Он нагнулся за новым снежком (да-да!), руки его, выпроставшиеся из рукавов, как две красные лопаты, воткнулись в белизну и живо скатали новый здоровенный снаряд. Герта лишь мельком увидела его, а потом больше и пе видела, так как с отвращением отвернулась.
Потрясенная его устрашающе чужим лицом, злобной ухмылкой, пронзившей ей сердце, она, как будто ничего не случилось, продолжала нелегкое восхождение. Через секунду-другую в нее снова попал снежок, плотный и крепкий, как ледышка, и этот уже шлепнул ее прямо по уху. Она никак на него не реагировала, продолжая прокладывать лыжню, не почувствовала даже, что у нее разорвало ушную раковину. На самом же деле она готова была взвыть от боли, снег, как раскаленное железо, впился в слуховой проход, и на мгновение ей показалось, что ухо у нее раскалывается, а заодно и голова. И снова выстрел — на этот раз мимо, и еще один — прямое попадание в плечо, наконец, пятый, точно нацеленный в висок, — и ей кажется, что глаз вот-вот выскочит из орбиты.
Герта воткнула палки в снег, обернулась к стрелку:
— Эй ты, тварюга! — прорычала она. — Прекрати сейчас же!
И только теперь сквозь слезы, которые так и лились из глаз, сквозь радужную сеть крутившихся лучей, она заметила, что вокруг уже толпятся зрители, одни веселые, другие испуганные, некоторые с лицами, до того застывшими, что на них ничего нельзя прочитать, но и те, и другие, и третьи с жадным интересом следят за происходящим.
— Хочешь чего-нибудь? — спросил Укрутник и осклабился. — Если хочешь, скажи, не стесняйся! Сразу получишь! — Он стал мять и скатывать своими могучими лапами новый ком снега.
— В чем там дело? — заорал помощник жандарма Шобер. Он живо скатился вниз но откосу. — Вы что, все с ума посходили? — И взглянул на Герту, потом на Укрутника.
— Пусть он от меня отвяжется, эта сволочь! — жалобно простонала она.
— Что он тебе сделал? — осведомился Шобер.
Л Укрутник:
— Ничего я ей не сделал!
— Чего ты ревешь? — продолжал Шобер. — Он же ничего тебе не делает!
Несколько девушек хором:
— Не ерунди, Герта!
И несколько парней хором:
— Он ведь тебя не трогает!
Константин Укрутник замахнулся снежком, целясь в Герту, и сказал:
— Если не понимаешь шуток, так лучше отчаливай!
Она вздрогнула, рукой закрыла лицо и взвизгнула:
— Перестань, сволочь ты эдакая!
Занеся руку над головой, Укрутник ждал.
Солнце смеялось, и горы приветливо кивали.
— Хватит! — сказал Шобер. — Нам надо идти вперед.
Горы приветливо кивали, и солнце смеялось.
Укрутник ждал.
Герта опустила руку.
Показала язык своему возлюбленному.
Он влепил ей прямо в физиономию снежный ком. И заорал:
— Убирайся, грязнуха поганая! Убирайся в свою лавку и садись в витрину, пусть там тебя и фотографируют, вонючка эдакая!..
Последних его слов она уже не слышала, слышала только голос Шобера:
— Стой! Назад! Ты с ума спятила!
Другие тоже кричали, просили вернуться, ее, мол, за милую душу могут пристрелить в лесу, но Герта, чувствуя. как кровь, льющаяся у нее из носу и треснувших губ, горячими струями стекает по подбородку, мешаясь с тающим снегом и слезами, мчалась вперед. Почти слепая, почти оглохшая, ничего не сознавая от боли и ярости, мчалась между буков вниз по склону, подальше от места, где была так унижена.
— Вот мы и пришли! — сказал матрос. (Они остановились посреди деревни перед одним из дворов.) — А теперь, прошу вас, не бойтесь больше, барышня, иначе вам никогда не удастся стать манекеном в парикмахерской.
Он (это уже вошло у него в привычку) дал ей шлепка, который пришелся по толстой жакетке, и подождал, покуда она добежала до задней двери дома. Затем, оставшись наедине с собой среди пестрых безмолвных развалин деревни, снова вышел на улицу, полную только лишь слепящего солнца и с одного и с другого конца впадающую в вечность, на улицу, по которой он должен был идти обратно без лоцмана и без капитана (отчего ему было невесело и даже как-то страшновато). Матрос думал: если он утонул в волнах воздушного моря или повесился на небесной балке, как мой отец на чердачной, и башня вонзается в пустоту, а улица ведет в Ничто, то Анни еще долго придется мерзнуть (наверно, не понимая, что она мерзнет). Но я? Чего бояться мне, матросу? Тогда ведь уж на все будет наплевать! Расхрабрившись, он шагнул несколько раз, но тут же остановился, словно что-то увидев. Он думал: а что, если он давно иссох на ветру и за алтарем я найду только мумию, или его ужо сожрали акулы? Но кто же тогда постоянно встречается мне? Он обернулся, посмотрел назад, потом опять вперед. И подумал: допустим, что он повесился! Или же допустим, что его никогда не было, тогда в худшем случае я встречаюсь с самим собой! Он опять зашагал, при этом напряженно глядя вперед. Но улица была пуста. Конечно же, пуста! Если все покинули деревню, она и должна быть такой. И тем не менее что-то ее заполняло, более того, она казалась закупоренной, словно Ничто (так чудилось матросу), непостижимое и несказанное, совместно с тишиной и солнечным светом, отраженным снегом и стенами, светом, в котором скелеты каштановых деревьев напоминали обглоданные кости, телесно сгущалось между домами в какой-то ком. Ком, как пробка, затыкал улицу там, впереди, где справа высился сверкающий сугроб, и легкий, но острый как лезвие бриз сметал с крыш снежную пыль. В золотистых ее облаках пылал, вздымаясь кверху, этот фантом и ложился на черно-синие небесные балки; трудно было пройти, не застряв в таком странном сгустке. Требовалась изрядная доля тупости или мужество отчаяния, чтобы идти дальше посередине проезжей части, в полдень, по деревне, выглядевшей так, словно ее запечатали согласно решению суда, идти вперед по белому снегу, без надежды (но, странным образом, не без страха), идти по вершине жизни, а значит, среди пустоты, и ко всему еще в ярком свете убийственного солнца — а для кого, спрашивается, этот свет, если ничьи глаза уже не смотрят на мир, идти, только чтобы убедиться, до чего же безразлично, какого направления держаться, идти без вожатого, без защиты, наедине с собственной тенью, которая и пальцем не пошевельнет, если ты этого не сделаешь! А над тобою покинутые стропильные фермы неба, и из их синевы свешивается невидимая веревка.
Матрос шел вперед — с мужеством отчаяния — и добрался до первого поворота. Напряженно, как будто он вот-вот на что-то наткнется, заглянул за угол, закрывавший видимость, — ничего! Дорога была свободна — устрашающе свободна (в своей устрашающе дальней перспективе), но он с мужеством отчаяния двинулся дальше и подошел ко второму повороту.
На этот раз он помедлил, остановился даже. Понял: сейчас что-то изменится. Изменится за этим поворотом. Вот отчего он помедлил, остановился даже.
Ничто не шелохнулось. Солнце светило в проулок. Справа на стены ложилась темно-синяя тень, слева их заливал ослепительно розовый свет, и белые флаги снежной пыли реяли над крышами.
Он сделал шаг. Сделал второй. Теперь улица открылась ему до самого конца. Небо было синее, улица под ним — белая, а посреди улицы стоял человек. Он стоял на расстоянии, увеличившем волнение матроса, но не больше чем на пятьдесят метров впереди него, под висящим над улицей солнцем из меди — вывеской парикмахерского салона. Стоял, как бы случайно остановившись. И кажется, без определенных намерений. И уж конечно, ничего не дожидаясь. Разве только матроса.
На нем был плащ и тирольская шляпа. Лицо его, обращенное к приближающемуся матросу, напоминало плавленый сыр полным отсутствием выражения.
Он ждал. Потом губы его задвигались.
— Надо же, — сказал он, — человек!
Матрос остановился и с головы до ног оглядел его.
— Вас это удивляет?
Незнакомец до противности настойчиво разглядывал его из-под низких полей своей шляпы. И сказал:
— Разумеется, удивляет. Люди встречаются все реже.
Матрос покачал головой.
— Напротив! Их все больше становится.
— Людей? — переспросил незнакомец и выпялился на него.
— Конечно, людей! Кого же еще?
Лицо незнакомца расползлось в улыбке, словно червячок прополз по сыру. Он сказал:
— Ладно, будем называть людьми тех, что тут суетятся.
Матрос снова оглядел его с головы до ног.
— Ах, вот опо что! Вы себя к этой породе не причисляете?
— Так же, как и вы, — парировал тот, и червячок пошел извиваться по сыру.
Матрос нахмурил брови.
— Откуда вы это знаете? — спросил он.
— Вы же не участвуете в облаве, — ответил незнакомец. — Никакой роли не играете в сельском театре.
Матрос расхохотался.
— Мне иногда дают сыграть роль убийцы, — ответил он.
— Вы, вероятно, тот, кого здесь называют матросом?
— Да.
Настала пауза. Они вперились друг в друга (а над ними вихрилась снежная пыль). Казалось, мороз склеил их взгляды (мороз, от которого трещали небесные балки). Незнакомец вытащил руки из карманов (маленькие, бледные, по-девичьи податливые руки). Правую он протянул матросу. Сказал:
— Разрешите представиться! Карл Малетта.
Еще несколькими секундами раньше оба что-то услышали, какое-то шуршание над головами, нарастающий грозный шорох, конечно же производимый не только ветром. Поначалу они не обратили на него внимания, вернее, не подняли глаз, потому что в те секунды, когда он, медленно приближаясь, становился все громче, их взгляды вдруг неразрывно срастил тот смертный холод, с каким они друг на друга воззрились. Но едва дело дошло до рукопожатия, едва рука Малетты скрылась в руке матроса (для того чтобы тот ее потряс, как надеялся Малетта), темный шорох над ними стал до того грозен, что разорвал их взгляды, заставил откинуть головы назад и вперить глаза в головокружительную высь.
Среди снежной пыли, неуклонно летящей к югу, то ярко вырисовываясь на голубом фоне неба, то, словно тени, мелькая среди облаков, но так низко, что, казалось, можно было рукой достать, и точно над их головами кружили две огромные птицы.
— Два ворона! — прошептал Малетта, усиленно моргая глазами.
У матроса мороз пробежал по коже. Он сказал:
— Два ворона? Нет, это воро́ны. Во́роны здесь не водятся.
Черные птицы вились над ними, шумно хлопая могучими крыльями.
— Разве не все равно? — спросил Малетта. — Я хочу сказать, разве все не от одного и того же происходит? — Его рука, холодная и податливая, выскользнула из руки матроса и схватилась за шляпу, готовую упасть с головы. Он повторил: — Разве все не от одного и того же происходит? Да и вообще! Мне это кое-что напоминает!
Птицы все медленнее, все ниже описывали круги над ними.
— Что им надо? — спросил матрос.
— Они чуют добычу, — сказал Малетта.
Матрос захлопал в ладоши.
— Прочь отсюда, черные чудища! — рявкнул он.
Птицы не спешили повиноваться: какое право имел этот карлик там, внизу, приказывать им? Но наконец все же взмыли вверх (лишь два-три раза взмахнув мощными крыльями) и, поддерживаемые ледяным, синим, как сталь, потоком воздуха, в котором разбрызгивался ледяной накал солнца, а солнце из меди раскачивалось и дребезжало, полетели над крышами к Кабаньей горе.
— Это напомнило мне кое-что, — сказал Малетта (и его бледное лицо, казалось, стало еще бледнее). — Два ворона или две вороны, как вы говорите, недавно, когда я пошел погулять, привлекли мое внимание к повешенному, которого видят возле вашего дома.
Матрос ощутил тупой удар в сердце.
— Что видят возле моего дома? — спросил он.
— Повешенного. Разве вы не знаете?
— У хижины гончара?
— Ну да, конечно.
Они опять уставились друг на друга, и среди пустой, залитой ярким светом деревни, под раскачиваемыми ветром стропильными фермами неба обоих прошиб холодный пот.
И наконец Малетта:
— Я сейчас вам объясню. Если с определенного места смотреть на ваш дом, да еще обладать известной долей воображения, то колодец принимаешь за повешенного.
Матрос сдвинул шапку на затылок и потер себе лоб.
— Нет, я никогда этого не замечал!
— Если смотреть с дороги, — сказал Малетта, — то кажется, что на одной из яблонь кто-то висит.
В это мгновение дверь парикмахерской открылась и оттуда высунулась голова Фердинанда Циттера.
— Вы давно дожидаетесь, господа? — смущенно спросил он. — Сегодня мне в виде исключения пришлось закрыть салон.
Оба повернулись к Циттеру (его парикмахерская обычно бывала открыта в воскресенье утром) и взглянули на старика в очках, с седыми кудерьками, как на сошедшего с небес ангела.
— Не беспокойтесь! — сказал матрос.
— Мы случайно здесь остановились, — сказал Малетта.
— Ах вот что! В таком случае извините, что потревожил, — проговорил ангел. — Я думал, господа хотят войти, — Приветливо кивнув, он втянул голову обратно и закрыл на мгновение взблеснувшую в солнечных лучах стеклянную дверь. Слышно было, как он опять запер ее и задвинул оба засова.
— Старик, как видно, не в себе, — сказал Малетта. — Сегодня он предпочитает стричь волосы добрым духам. Не хочу вас больше задерживать, — внезапно добавил он и опять протянул руку матросу.
— Вы нисколько меня не задержали, — ответил тот. — Мои цветочные горшки могут и подождать.
— Мы, по-моему, уже встречались с вами, — сказал Малетта.
— Все может быть, — сказал матрос.
Он взял его руку, а чувство у него было такое, словно он дотронулся до снулой рыбины; ощущение мертвой, растрескавшейся кожи застряло в его мозолистой руке, спиной же он чувствовал взгляд Малетты, неотступно преследовавший его, когда он уже шел вниз по улице.
А теперь давайте вспомним о Герте Биндер, ее судьбу мы ведь принимаем ближе к сердцу хотя бы уж потому, что она молода, глупа, к тому же у нее белые зубы и приятный запах. После приблизительно двадцатиминутного бега (не по долине, а по краю горы) мускулы у нее ослабели и она в первый раз упала. Герта приподнялась с трудом и сняла лыжи, но встать на ноги так и не смогла. Нет, она осталась сидеть на снегу. Подтянула ноги к животу, потом обхватила колени руками, склонила голову и начала горько плакать. Солнце, уже близившееся к полудню, сквозь деревья светило ей в спину и вместо великолепной мясниковой дочки видело только темный, сотрясаемый отчаянными рыданиями клубок. Нет! Даже не так! Солнце ничего не видело. Слепое, раскаленное, оно совершало свой путь за черной решеткой леса, как часовой, шагающий вдоль колючей проволоки, а на белом циферблате снега (цифр на нем, разумеется, не было) тени деревьев, как стрелки часов, продвигались вперед и скользили по согнутой спине Герты. И каждая из этих устремляющихся к востоку теней была для нее рукою адского (а может, небесного) духа, которая (почему, было известно лишь богу да черту, ибо они-то уж понимали, во имя какого закона это делается) ложилась то на левое, то на правое ее плечо пусть доверительно, пусть понимающе, но отнюдь не по-отечески, иными словами, холод этого прикосновения пронизывал ее до костей. Она сносила его с тем же равнодушием, с которым позволяла слезам литься из глаз и крови — из носу. Но холод проникал и снизу, так как снег под Гертой начал таять, и, хотя брюки на ней были непромокаемые, то есть из материи, слывшей водоотталкивающей, так что снаружи никакая влага в них будто бы проникнуть не могла, сырость и холод ледяного гнезда, в котором она ютилась, все же были очень чувствительны.
Некоторое время она это терпела, но потом вдруг уже терпеть не смогла. Заметив, что все тело ее коченеет, а ноги делаются и вовсе бесчувственными, Герта испугалась, испугалась, что схватит омерзительную простуду, воспаление легких или что-то в этом роде, а то, не приведи бог, женскую болезнь. Итак, она перестала плакать, вскочила и к ужасу своему заметила, что от подошв до бедер промокла насквозь. Она тотчас же нагнулась за лыжами и, возясь с креплениями, почувствовала у себя на заду нечто вроде ледяного компресса, с которого вода капала на ляжки. Она попыталась убедить себя, что беда не велика и на ходу ей, конечно же, удастся согреться, но когда она хотела взяться за палки, все еще лежавшие так, как они упали, то (к новому своему ужасу) обнаружила, что они (палки) лежат крест-накрест. Рисуют черный крест на снегу, что, конечно, означает смерть.
Внезапная дурнота охватила Герту, она закрыла глаза, и где-то в животе у нее появилось ощущение, что горизонт покосился, а склон со всеми своими деревьями валится вниз. Она стояла нагнувшись (словно вниз головой), под веками у нее пурпуром светило солнце, а окружающий ландшафт клонился набок и уже на тридцать градусов дал крен над пустотой. Стоя с закрытыми глазами перед зияющей пропастью и все же ботинками чувствуя ее, она услышала ветер, который пронесся по лесу и заставил деревья стучать ветками. Сотню деревьев, тысячу деревьев! Десять тысяч деревьев! И за каждым теперь стоял убийца и смотрел на нее, тот, чье кодовое имя ни разу не появлялось в списках разыскиваемых лиц, великий убийца, которого никто никогда не схватит. В отчаянии она открыла глаза, и свет занес над нею золотые мечи. Она увидела крест. Увидела обе палки и двинулась на восток.
В это время матрос уже давно был дома и даже успел приготовить себе обед. Ой сидел в покинутом богом красном углу и ел — вроде как обед палача под виселицей, — неотступно думая о недавней встрече; осадок от нее примешивался к еде, а ведь он, прежде чем сесть за стол, тщательно вымыл руки, ему все казалось, что на них налипла грязь. Он разломил хлеб и взял мясо руками и сказал себе: они же только что вымыты, но то, что он ел, отдавало рыбой и сыром, хотя это было мясо и хлеб. И все думал, покуда солнце освещало стол (а Герта Биндер, плача, шла по лесу): видит бог, мне тоже знаком этот парень! Но откуда? Я еще ни разу его не встречал! Он взял ломоть хлеба и перочинным ножом разрезал мясо, думая: или я во сне его видел? Или у него есть двойник, которого я знаю? Он сорвал крышку с бутылки нива и жадно отпил из нее. Все вздор! — думал он. Наверно, он смахивает на какого-то киноактера!
Но с самого дальнего края своего существования, столь дальнего, что ни воспоминания, ни совесть до него не достигали, — существования, корнями уходящего в бездонную глубь, чтобы тем выше вознестись над ним и над вздыбленным морским простором, — глядели на него из глухого безвременья (сквозь зеленые воды, сквозь вуали водорослей) глаза Малетты с неподвижностью иллюминатора давно затонувшего корабля.
Он думал: господи ты боже мой! Ну что этот парень на меня пялится? Нe хочу я с ним иметь никакого дела! Рыба и сыр! Могу себе представить этот запашок!
Он отодвинул еду, она вдруг стала ему противна, схватил бутылку и одним глотком осушил ее. Затем поднялся и пошел в свою спаленку, чтобы отоспаться после всего, что было. Бросился на незастеленную постель, натянул на себя все одеяла, которые у него были, и — под внезапным воздействием пива — уже через несколько минут впал в забытье. Между тем (покуда он спал, не помня даже, жив ли он еще, и могучий храп вырывался из темной пещеры его рта) внизу, в деревне, происходило следующее: шар цвета злополучной нашей земли, по оси приблизительно метр семьдесят, видимо, выкатившись из леса, прокатился по полям. Так или иначе, но вдруг он оказался между домов. Старуха Зуппан, как раз выглянувшая в окно, что она время от времени проделывала каждое утро (наверно, какое-то шестое чувство подсказало ей, что за пустой улицей тоже следует приглядывать), итак, старуха Зуппан, увидев шар, который, подпрыгивая, катился по деревне, никак не смогла объяснить себе это чудо и рукавом протерла замутненное стекло.
Шар продвигался в тени домов (как мяч, ускакавший от играющих ребятишек). На повороте он на мгновение приостановился. Потом выкатился на свет.
Шар этот был человек.
Одежда на нем, вернее, какое-то тонкое, заношенное тряпье, насквозь мокрая и облепленная примерзшей глиной (от чего она приобрела цвет земли, и человек этот казался выходцем из могилы), на локтях и под коленями была еще перевязана веревками и раздулась, как баллон, наверно набитый сухими листьями, ибо при каждом его шаге она шуршала. А так как, стесненный этим маскарадным костюмом, бедняга едва передвигал ноги, то казалось, что он катится; а вообще-то он шел на своих двоих. Он прошел иод окнами и под взглядом старухи Зуппан вниз по улице и пересек церковную площадь. По-видимому, он что-то искал, ибо вертел головой туда и сюда. Из одной его штанины выпало несколько буковых листьев; они остались лежать на белой улице, точно яблоки после лошади. Сделав еще несколько нетвердых шагов, он, надо думать, увидел то, что искал: овальную выпуклую доску с изображением орла и надписью: «Жандармерия». Он взял курс на дом с доской, лицо его было обращено к солнцу, и он несколько раз как бы в нерешительности замедлял шаги, но потом вдруг его понесло к двери, бросило, словно кто-то ударил его в спину, через сугробы у края тротуара, и он на четвереньках вскарабкался по нескольким обледенелым ступенькам.
Дверь была закрыта. Дверь была на запоре. Он поднял руку и нажал кнопку звонка. Подождал немного, потом опять позвонил. В пустом здании гулко прозвенел звонок.
Не от звонка, конечно, но от какого-то другого сигнала в эту минуту проснулся матрос с навеянным сном предчувствием, что случилось (или случится) какое-то несчастье. Он пролежал в забытье около часа (это выяснилось при взгляде на часы), и за это время ему, среди прочего, пригрезилось, что Малетта повесил его на яблоне. Он чувствовал тупую боль в гортани, все еще чувствовал петлю на шее. И думал: если таков «лучший» мир, то я предпочитаю оставаться здесь, в Тиши.
Он поднялся и выглянул в окно. (Как всегда после дневного сна.) В окно спаленки, выходившее на восток, он ровно ничего не увидел.
Итак, зевая во весь рот, матрос прошел в жилую комнату. Выглянул в одно окно и тоже ничего не увидел; взглянул в другое и уже кое-что приметил.
Это был башмак, огромный башмак, он выглядывал — надо думать, надетый на чью-то вытянутую ногу — из-за угла сарая. За углом, у задней стены сарая, которую весь день освещало солнце, стояла примитивнейшая скамейка (спинкой ей служил все тот же сарай) — доска на четырех вбитых в землю столбиках, достаточно широкая для любого зада.
Ну, это уж слишком! — подумал матрос. Какой-то бродяга забрел сюда и уютно устроился на моей скамейке! А свои башмаки сунул мне прямо под нос!
Он живо надел свой бушлат и выскочил во двор. Этот тип у меня еще попляшет, думал матрос, решительно направляясь к скамейке.
Но за углом ему был уготован небольшой сюрприз: «этот тип» оказался молодой девушкой. Там сидела Герта Биндер, мясникова дочка.
Греясь на солнышке, она закрыла глаза и сделала вид, что его не замечает. А может, она спала? Или притворялась спящей? Или, еще того не легче, мертвой? Скрестив руки на вздымающейся груди, вытянув слегка расставленные ноги, она развалилась на скамейке так, словно этот дом и сад принадлежали не ему, а ей. Он смотрел на нее и думал: мила, ничего не скажешь! Но все равно она сидела здесь, и стерпеть этого он не мог.
Итак, матрос встал прямо перед ней.
— Послушайте-ка, фрейлейн, — сказал он, — что вы здесь делаете?
(И увидел, как его бледно-голубая тень упала на ее лицо, грудь и ноги.)
Она открыла глаза.
И явно удивилась. Или сделала вид, что удивляется? Она вытаращилась на него, а потом еще и рот открыла. Он увидел ее розовый язык, но ответа не услышал.
И повторил:
— Что вы здесь делаете?
— Я?
— Конечно, вы. Кто ж еще?
— Ничего не делаю, — сказала она и попыталась улыбнуться.
А он:
— Ага! Вы просто присели отдохнуть.
Она потянула носом, потому что он у нее был забит, и сказала:
— Я думала, вас нет дома, думала, что вы в лесу на охоте вместе со всеми. Иначе я бы здесь не сидела.
Матрос нахмурил брови. Посмотрел ей прямо в глаза.
— Я отродясь не держал собаки, — сказал он, — а теперь вижу, что придется мне обзавестись хорошим псом.
Она подтянула ноги, сохраняя, впрочем, прежнюю позу. И спросила:
— Разве уж так плохо, что я здесь сижу? Неужто вы боитесь, что я продавлю вашу скамейку?
Матрос засунул руки в карманы.
— Послушайте, вы, дерзкая особа! На моем участке вы ничего не потеряли. Поэтому идите-ка отсюда подобру-поздорову.
Она не шевелилась, только растерянно смотрела на него с застывшей улыбкой на губах, и в глазах ее, которые она не могла раскрыть пошире из-за припухших век, пробегали золотистые блики, словно две осы метались у нее между ресниц.
Матросу кровь бросилась в голову. Ему даже почудилось, что он пьян.
— Вы меня, кажется, не поняли? — И добавил: — Я же сказал, чтобы вы отсюда выметались.
Она посидела еще несколько секунд, потом вдруг вскочила. На скамье остался отпечаток ее зада — мокрое пятно в форме большого сердца.
Матрос с удивлением взглянул на пятно, потом на девушку. Она взяла лыжи и палки, прислоненные к стене сарая, а так как для этого ей пришлось повернуться к нему спиной, он заметил, что брюки у нее сзади мокрые и сама она дрожит всем телом.
— У вас зубы стучат, — сказал он.
— Подумаешь, какое диво! — отвечала Герта. — Я же насквозь мокрая. — Обернувшись, она увидела, что на его лице промелькнула в высшей степени непристойная ухмылка. — Но совсем не от того, что вы вообразили! Я упала и долго не могла подняться.
— В таком случае бегите скорее домой, — сказал он. — Не то вы еще обморозитесь!
— А вам какая забота?
— Я просто даю вам отеческий совет.
Она взглянула на него, стараясь подавить слезы, и строптиво сказала:
— Не пойду я домой! Что я буду делать там внизу одна как перст? Лучше я опять поднимусь в лес. А вас я заранее предупреждаю: с сегодняшнего дня в нашу лавку — ни ногой, я вас больше обслуживать не стану. И мой отец тоже.
Матрос покатился со смеху.
— Пойдемте-ка в дом, бедолага! — сказал он. — Мясо я велю себе присылать из Плеши. Поэтому идите в комнату и сушитесь!
Между тем шар все дожидался, а облава шла своим чередом. Охотники редкими рядами прочесывали лес, и солнце всюду поспевало за ними. Они поднимались на гору с разных сторон и к полудню были уже на самом верху. Здесь они сошлись, здесь обо всем договорились, здесь приветствовали друг друга и друг перед другом отчитывались. На вершине состоялся привал и состоялся обед. Они съели свое жаркое и осушили свои бутылки. С серьезными минами, продолжая жевать, все решительно обсудили, хотя все и так было ясно. Потом, перегруппировавшись, снова пустились в лес, теперь уже в противоположном направлении, с запада на восток, но и на этот раз вслед за своими тенями, ибо солнце уже склонилось к западу и освещало деревья с наветренной стороны (косо, под углом, так в ствол вонзают топор, и лучи его, как звук топора, гулко отдавались в лесу). Но и без солнца, без теней они шли бы тем же путем: невидимые тени, которые они отбрасывали, притаившийся в них дух убийства заманивал их все дальше, и, покуда они гнались за ним, не зная, за кем гонятся, они сами оказались загнанными в его охотничьих угодьях… А шар притулился на ступеньках (под доской с надписью: «Жандармерия») и терпеливо ждал (хотя и отчаянно замерз) конца своей свободы, приветливо кивающего ему из этого дома, из этого учреждения. Несколько стариков и ребятишек стояли вокруг и глазели на него. Но он, скатавшись в комок, точно еж, ни малейшего внимания на них не обращал.
— Да здесь почти ничего не изменилось, — сказала Герта.
— Разве вы когда-нибудь у меня были?
— Конечно! Когда ваш дом пустовал. В то время все ходили сюда смотреть.
Чувствуя странную слабость в ногах и странную пустоту в голове, она покорно вошла в дом вслед за матросом. На пороге отряхнула снег с ботинок, в сенях поставила лыжи у стены, затем — также вслед за ним — довольно неуклюже вошла в комнату. Там она стояла, руки в карманах брюк, и скорее с интересом, чем боязливо, смотрела, как он, сняв свой бушлат, неторопливо вешал его и шкаф. За это время она успела, с трудом разлепляя пеки, немного оглядеться.
— Тут настоящий проходной двор был, — сказала она, — покуда мы не узнали, что вы возвращаетесь.
Он сунул в плиту два толстых полена, и огонь загудел.
— Снимайте-ка свою одежонку, — сказал матрос, — и развесьте ее, пусть сохнет.
Он ушел в спаленку (Герта слышала, как он там возится и что-то бурчит себе под нос) и, вернувшись, бросил ей попону.
— Вот, завернитесь в это одеяльце!
Поймав попону, она держала ее на руке. Хотела было сказать: «Благодарю вас! Я раздеваться не собираюсь!» По матрос уже опять скрылся в спаленке и запер за собою дверь. Она слышала его тяжелые шаги, значит, он не подглядывал за нею в замочную скважину. Вся эта история. видно, нисколько его не взволновала! Похоже, что у него в жилах течет соленая вода или рыбий жир! Но попона пахла мужчиной. Не племенным жеребцом, не конюхом, а одиночеством: незнакомым мужчиной, жившим в уединении и по вечерам в одиночестве курившим свою трубку. Она бережно положила ее на стол и пальцами провела но кусачей шерсти. Затем села на стул возле плиты и принялась расшнуровывать ботинки… В злобе, которая едва не задушила ее, но и взбодрила в то же время, шла она по пологим склонам в Тиши, все время оставаясь под защитой леса. Один раз до нее сверху донеслись голоса, потом звон колокола из долины, возвещавший наступление полдня, и больше ничего, только студеный свист ветра да морозное потрескивание качающихся верхушек деревьев. И некая мысль выросла в ней, в ее шалой голове, под жесткими волосами, мысль, возникшая из хаоса, который Герта называла душой, а может быть, из глубоко охлажденной нижней части тела, и эта мысль мало-помалу переросла ее самое (подобно запаху, что распространяется вокруг тела), как бы со всех сторон на нее напала, всю ее окутала наподобие наркоза… Она сняла ботинки и услышала стук их падения, потом встала и дернула молнию на округлом бедре… Почти уже задохшись от злобы, запутавшись в паутине этой еще темной мысли, она вышла к оврагу, через который дорога вела к домику егеря. В результате необдуманной и поспешной попытки перемахнуть через овраг Герта второй раз упала. Это было ужасное падение; всеми четырьмя конечностями увязнув в глубоком снегу, она вдруг завыла, как зверь. Рука у нее болела, видно, она растянула сухожилие и вдобавок сильно зашибла колени. И опять она сидела в снегу, скорчившись от горя и боли, и тут-то недобрая мысль приняла наконец определенную форму и внезапно превратилась в отчетливый замысел.
Герта покосилась на дверь. Увидела: в ней торчит ключ. Она могла бы повернуть его, но не сделала этого… Сняв брюки, подняла их с полу и повесила (предварительно растянув пошире) на веревку у плиты… Деревья трещали и постукивали, потом опять стали постукивать лыжи; с планом, выношенным уже под стук собственного сердца, она шла дальше через лес… Матрос кашлял за дверью; но звук был глуховатый, наверно, в противоположном конце спаленки. Боже мой! Ну почему он не смотрит в замочную скважину? Боже мой, почему он так нелюбопытен? Она осмотрела свои разбитые колени; чулки были липкие от запекшейся крови. Герта вытянула руку и установила, что она болит не меньше, чем болела… Немного погодя на нее сверху залаяла собака, и тут же чей-то голос крикнул:
— Стой! Стой, говорят тебе! Стрелять буду!
Охваченная смертельным страхом, она наугад ринулась дальше по лесу. Но тут грохнул выстрел, так грохнул, словно взорвалась тишина и эхо через горы перекатилось в потусторонний мир. И тут она упала в третий раз… Сняв трико, она его тоже повесила сушиться над плитой и в одних носках принялась тихонько расхаживать взад и вперед, искоса поглядывая на дверь… Она долго боялась даже пошевелиться и, в третий раз сидя на снегу, решилась на ужасную, хотя и тайную месть. Она встала на ноги (сразу собравшись с духом), вымыла лицо снегом, через минуту-другую вышла на опушку и увидела хижину гончара… Завернувшись в попону от пояса до самых ступней, она села, по-прежнему не спуская глаз с двери, и крикнула:
— Можете войти, если хотите!
Матрос не очень-то торопился. Но все-таки вошел — и не с пустыми руками: принес бутылку коньяку.
— Я сейчас сделаю вам грог! — сказал он. Поставил бутылку на стол и налил воды в жестяную кружку. Увидев флаги, развевающиеся на веревке, слегка покачал головой и поставил воду на плиту.
Она исподтишка за ним наблюдала.
— Выходит, вас здесь совсем не знают! — сказала Герта.
— Потому что вы всегда смотрите на человека сзади, — пробормотал матрос. — Вы ведь все принимаете зад за лицо. — Он повернулся к ней и добродушно кивнул. — Да, да, фрейлейн Герта, увы, это так! Вот почему к вам и поворачиваются задом. — Он так и сделал (покуда она раздумывала, что ему ответить) и снова подбросил в плиту два полена. — Кроме того, мне наплевать, кем вы меня считаете. Я хочу только одного — покоя.
В наступившей тишине, еще более глубокой от потрескивания дров в плите, это слово еще долго звучало в воздухе как последний, угасающий вдали удар колокола.
Герта сидела не двигаясь и удивленно смотрела на него.
— Правда? — помолчав, спросила она. — Вы хотите только покоя? И больше ничего?
Склонившись над плитой, матрос ни слова ей не ответил. Голову он просунул между двумя ее штанинами, как сквозь щелку в занавесе. Вода запела в жестяной кружке, потом смолкла и забурлила. Он отодвинул ее на самый край и взял со стола бутылку коньяку.
Герта подалась вперед на стуле. Попросила:
— Только, пожалуйста, чтобы не очень крепко было.
А он (слышно стало, как струя полилась из горлышка бутылки):
— Половина наполовину. А сейчас я добавлю сахар. Вот так! — Он поставил перед ней кружку и, едва она протянула руку, сказал: — Осторожно, не обожгитесь!
А она:
— Ерунда! Мои лапы что хотите выдержат.
И она стала пить, пристально глядя на него через край жестяной кружки.
Матрос взял стул и уселся напротив нее. Ему приятно было смотреть, как она пьет маленькими, но жадными глотками. Лицо ее, до странности измученное и раскрасневшееся от тепла, сквозь пар горячего напитка выглядело так, словно ей справа и слева надавали пощечин.
Она отодвинула кружку и облизала губы; блестящая капля скатилась ей на подбородок.
— Если я когда-нибудь захвораю, вы придете за мной ухаживать, правда?
Он ничего ей не ответил, только смотрел на нее и думал: вот она уже надо мною шутки шутит!
Герта медленно допила грог, лицо ее было красно, как будто с него содрали кожу. Она откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди.
— Я, кажется, опьянела, — сказала она. И после небольшой напряженной паузы: — Почему вы так странно на меня смотрите?
Матрос вдруг почувствовал, что сердце его бьется сильнее, словно он бегом взбежал в гору, и собственный голос донесся до него откуда-то издалека:
— Я то же самое хотел спросить у вас! (Как будто какой-то иностранный турист произнес эти слова.)
Она склонила голову набок и вытянула губы дудочкой. Глаза ее затуманились, казалось, они вот-вот растают.
— Что вы хотите этим сказать, — чинно спросила Герта и вздернула брови.
А он (сдавленным голосом):
— Почему вы так на меня смотрите?
— Надо же мне куда-нибудь смотреть, — дерзко ответила она.
— Это верно. Но так?..
— Как «так»?
— Да вот так, как вы смотрите!
— Это что, не дозволено?
— Нет, почему же! Но опасно.
— Ах так! А для кого же опасно? Для меня? Или для вас?
— Ваши глаза как два багра, — сказал он.
— Что?
— Два багра.
— А что это такое?
— Железные крюки на длинных деревянных палках, такими сейчас пользуются плотовщики и рыболовы. А когда-то этими крюками зацепляли неприятельские корабли и потом шли на абордаж. Но багор можно использовать и как копье, на конце у него приделано железное острие.
— Так вот, значит, какие у меня глаза, — сказала Герта и звонко рассмеялась; смех поднимался из глубин ее тела, рассыпаясь переливчатыми брызгами, как струи фонтана.
Матрос сердито повернулся к плите и сказал:
— Ваша одежда уже просохла.
А она (в горле у нее все еще бил родник смеха):
— Вы так думаете? Я думаю по-другому.
Он встал, пощупал ее брюки и пожал плечами. Потом подошел к окну, посмотрел, что на дворе.
— Солнце, — сказал он, — эта потаскуха там, наверху, сегодня вообще не собирается уходить.
Внезапно он почувствовал, что Герта стоит за его спиной, и не знал, услышал он ее шаги или то был лишь ее запах. Он обернулся и сразу увидел ее глаза, устремленные на него, большие серьезные глаза.
Она спросила:
— Разве уже должно стемнеть?
А он:
— Это должно иметь конец. Я уже стар.
А она:
— Глупости! Ничуть вы не старый. Только не надо так морщить лоб!
Она вскинула свои тяжеловатые, но нельзя сказать чтобы некрасивые руки и с удивительной нежностью провела ими по его лицу и губам. От ее пальцев, пахнущих грубой кожей лыжных ботинок, исходила жизнь, полная тепла. В полузабытье он не противился ей, хотя знал, что не ему предназначалась эта ласка. Он смотрел в ее круглое, разгоряченное, еще детское лицо, в ее загадочные глаза. Но вот послышался какой-то звук, тихий, вялый всплеск, словно небольшая кучка снега соскользнула с крыши, и улыбка тронула губы девушки — попона упала с ее бедер и теперь лежала на полу.
Вскоре после того, как это случилось (а немного позднее и все дальнейшее), в лесу протрубили отбой охоте, ибо солнце уже склонялось к верхушкам деревьев, но протрубили не в охотничий рог, и не в пастуший, и не в почтовый, а просто рупором прикладывали руки ко рту, набирали побольше воздуха в легкие и кричали: «По-о-о дома-а-ам!» Этот клич, искаженный и повторенный многократным эхо, передавался из уст в уста, от горы к горе (казалось, вдруг взревело огромное стадо быков), все его услышали, и все ему повиновались.
А в деревне неподвижный, словно уснувший, дожидался шар. Тот, о котором мы не знаем, чего он, собственно, хочет, тот, которого мы не раз объявляли мертвым, подкатил его нам под ноги — приманку непритязательного земляного цвета, цвета насущного хлеба (который мы зарабатываем — а иногда и нет), для его рук совсем малюсенькую, не больше, чем шарик, что после обеда катают ил хлебных крошек. Он взял эту приманку, взвесил на ладони, никакого веса у нее не оказалось, и все же этот шарик весил больше, чем шар земной, и он, невидимый, знал, что однажды бросит его на чашу весов, но сегодня только разжал руку, и шарик покатился нам под ноги… Смотрите-ка! Что это там лежит? Что бы это могло быть? Похоже на круглый хлебец! А ну, попробуйте откусить!
Мы вернулись в деревню и увидали шар. Сначала мы усмотрели в нем новое техническое достижение. Потом убедились: шар был человеком. И мы вонзили в него зубы. Схватили его.
— Да вон он сидит! — заорал Франц Цопф.
— Клянусь богом, он! — заорал Шобер.
— Бейте его! — крикнул помощник лесничего Штраус.
— Лупите что есть силы! — крикнул Укрутник.
— Потише! — гаркнул Хабихт. — Всему свой черед! — Он пнул его ногой. — Вставай!
Волна мужчин набежала на шар, смыла его с крыльца, унесла в дом.
— Стой! — завопил Шобер. — Стой! Назад! Вход запрещен! — Но волна уже подхватила и его и едва не сшибла с ног, а шар стремительно понесся к лестнице — комета из взвихренной пыли, взвихренных листьев, — тогда как к Шоберу, судорожно вцепившемуся в перила, уже приближался девятый вал с гребнем из волос серны.
— Да вы ополоумели, что ли? — завизжал он. Глухо рокоча, вал вздыбился.
— Входить только функционерам! — решительно сказал Хабихт. Он стоял на верхней ступеньке. Перила скрипели, шатались, гнулись — и с раздирающим уши треском рухнули.
— Придется вам раскошелиться и за эту беду заплатить, — крикнул он. Шар, вокруг которого вихрилась осенняя листва, ему удалось загнать в комнату. Буря стала утихать, волны разгладились. Что-то тихонько бормоча. мы выкатились на улицу.
Там уже стояли все деревенские женщины и визжали:
— Схватили! Наконец-то его схватили!
— Подумаешь какое дело — схватили, — крикнул помощник лесничего Штраус. — Он с самого обеда сидел здесь на крыльце.
— Да как он сюда попал? — посыпались вопросы, — Здесь же было оцепление или что-то в этом роде! (Для нас и поныне остается загадкой, как он умудрился проникнуть в деревню.)
Но так или иначе, он был в нашей власти, и с него уже снимали допрос Хабихт и другие жандармы, а также те, что называли себя функционерами, то есть Хабергейер, Франц Цопф и начальник пожарной команды.
Последний вдруг вышел на крыльцо. Его обычно красная физиономия была белее снега. Сказал:
— Нет! Пусть кто-нибудь другой на это смотрит! Этот малый уперся и не желает сознаваться.
Он поднес палец к губам. Мы замолчали и прислушались. Глухие удары доносились из дому, словно там молотили зерно.
Франц Биндер тем временем уже был за стойкой и расставлял бутылки со спиртными напитками. Разумеется, он до смерти устал от стояния на посту, но предчувствовал, что торговля сегодня будет бойкая.
Не успел он откупорить первую бутылку, как до него донесся чей-то громкий голос. A-а, да это же голос Укрутника.
— Герта! — орал Укрутник. — Где ты? — И он со своим охотничьим ружьем ввалился в залу. — Где Герта? Куда она подевалась?
А Франц Биндер:
— Разве ее нет на улице? — Он уставился вслед стремглав ринувшемуся к двери Укрутнику.
Мы стояли на улице и не интересовались, стоит ли среди нас мясникова дочка: замерев, мы вслушивались, как на казенном гумне молотят зерно, посеянное господом богом.
Глухие удары. Глухая барабанная дробь. Матросу чудилось, что она доносится из земных недр, когда он, зарыв лицо в черные волосы, прижимался к тяжело дышавшему телу Герты. Удары в его груди и в груди этой девушки, без любви ему отдавшейся, удары по тонким стенам, словно заключенные перестукиваются в своих камерах; удары, кожа к коже, пора к поре, и все же непреодолимая бездна отчуждения — из-за общности судьбы, общности отчаяния, заключения в одной тюрьме, где слышен тот же подземный гул, но по-прежнему друг другу непонятные и ненавистные, друг друга раздражающие даже в эту минуту неистовства, в минуту гибели в безнадежной близости, в безнадежном слиянии и отобщении! Нет больше горизонта! Нет Голубой песни! Нет возврата к глазам первой возлюбленной: черная чаша волос, пахнущих козленком! Яма, в которую ты погружаешься, в которую тебя бросают, как нечистоты, и еще эти глухие удары из глубины, удары великого подземного сердца, удары, что разбивают тебя на куски, превращают в прах и снова смешивают с землей. Удары по черепу: муки и смерть! Удары, что сколачивают виселицу и гроб.
— Послушай, не будь дураком! — говорил Хабергейер. — Мы же знаем, что ты его укокошил. Скажи попросту: «Да, я его укокошил». Понятно? И мы перестанем тебя бить.
Арестант криво сидел на стуле — руки накрепко привязаны к спинке, — а они, функционеры и жандармы, толпились вокруг и его обрабатывали. Они смочили, потом скрутили полотенца. Хабергейер держал в руках собачью сворку, а бургомистр свой альпеншток, утыканный гвоздями всех сортов и размеров.
Он сказал:
— Хватит уж! Ты его убил. Сознавайся!
Жандармы взмахнули полотенцами. Они считали:
— Раз…
Арестант вздрогнул.
— Два…
Он втянул голову в плечи и весь сжался.
— Скоро ты? — спросил Франц Цопф и поднял палку.
— Начали! — рявкнул Хабергейер и поднял сворку.
Шобер скрутил и поднял свое полотенце, лицо у него было темно-красное, глаза белые.
— Три! — прорычал он.
И хрупкий барабан из костей и кожи загремел под градом ударов. Он уже не имел формы шара, он был похож на треснувшую во многих местах, погнутую ось; он скрючивался, скрючивал свою обнаженную спину, бледную, как телячья шкура на барабане. Резко выступили лопатки, каждое ребро и красные рубцы, так как каждый удар в клочья раздирал его кожу. И опять взвихрились ржавые осенние листья, покрывавшие пол.
— Будет! — сказал Хабергейер. — Дайте ему очухаться! Он больше не выдержит. — И положил свое полотенце на умывальник. Потом присел на корточки и заглянул арестанту в лицо, над которым реяли листья. — Ну, — сказал он, — как полагаешь, хватит с тебя?
Арестант ловил воздух широко открытым ртом. Язык у него вывалился на нижнюю губу, и густая слюна стекала по подбородку.
А Хабихт:
— Подумай! Ничего ведь худого с тобой не случится: смертная казнь отменена. Давай сознавайся! Отказаться от своих показаний ты всегда успеешь.
Арестант втянул язык и проглотил слюну.
— Я его не убивал, — пробормотал он.
— Где же ты был той ночью?
— Где-то в лесу. Точно сказать не могу.
Хабихт глянул вверх на Шобера. Тот подошел и взмахнул своей хлопушкой.
— Мы ведь знаем, точно знаем, что убил его ты.
— Нет! — крикнул несчастный. — Нет, эго был не я! — Полотенце, как белая птица, взвилось над ним.
Боль, казалось, рванула его к небу.
— Да! — прохрипел он. — Да! Сознаюсь!
Через несколько минут деревня уже знала обо всем. Пунц Винцент ввалился в «Гроздь». Глаза его на красном лице пылали синим огнем, он так хватил кулаком по столу, что все ходуном заходило.
— Водку сюда! — ревел он, — Водку! Ни дна вам ни покрышки! Он признался! Признался наконец! Понятно вам? — Пунц вытаращился так, словно хотел всех нас укокошить, влил в себя водку и был таков.
А мы повскакали с мест и за ним! Все зараз ринулись к двери. Толкотня! Давка! Люди спотыкаются о собственные горные башмаки! У выхода образовалась пробка, клубок, изрыгающий проклятия! И вдруг мы, точь-в-точь разорвавшаяся бомба, очутились на улице. А там уже собралась толпа, к ней с ликующими криками присоединялись другие жители деревни. «Сознался! Сознался! Нашли убийцу!» И все как один устремились к зданию жандармерии. Там (это уже было известно) со связанными руками сидел убийца. Изнутри доносился голос вахмистра Хабихта, говорившего по телефону. Его ругань была слышна даже на улице, так как он распахнул все окна.
— Зачем он окна-то раскрыл? — удивлялись мы.
— Потому что там очень уж потом воняет, — предположил кто-то.
— Верно, верно! При таком допросе как же иначе! И чего он орет как сумасшедший, этот Хабихт?
Хабихту позвонили из Плеши, что машина застряла по дороге в Тиши, машина, которая должна была отвезти арестанта, так называемый «зеленый генрих». Что же будет? Мы ждали в полном оцепенении.
— Здесь они его не оставят, — сказал кто-то из толпы. — У нас убийцу содержать не положено, его под конвоем повезут в Плеши.
И правда! Они уже спускались с лестницы.
— Идут! — завизжали женщины. — Сейчас выйдут! Вместе с убийцей! — Да, они ведут его. Гигантская невидимая лопата сгребла нас, словно кучу коровьего навоза, и отбросила к стенам и заборам — ни вздохнуть, ни охнуть! В дверях мы увидели конвой. И еще увидели нечто, уже непохожее на человека. А потом видели только шляпы охотников, фуражки и карабины жандармов. Они двигались по направлению к Плеши (в ритме неслышной маршевой музыки), а мы за ними — как месиво в сточной канаве, клокочущее, вспенивающееся пузырями, которые тут же лопаются. Старухи ковыляли, опираясь на палки. Зиберт шагал на своем протезе: клип-клап; остальное дурачье вспахивало ногами снег: один наступал на пятки другому; собаки взвыли, взвизгнули у нас под ногами, потому что мы едва не отдавили им лапы; дети хныкали, торопясь, мы невольно сталкивали их в сугробы. Но что-то было не так, что-то, видимо, изменилось вокруг нас или над нами, ведь сами-то мы оставались такими, как были. Поначалу мы никак не могли определить, что показалось нам иным, чем обычно. Правда, мы испытывали нелепое чувство, будто деревня, по которой мы шли, не наша деревня. Мы теснились за конвоем и сжимали кулаки, думая об убийце (его нам не было видно), кляли на чем свет стоит отмену смертной казни, ведь из-за этого нам до конца его дней придется кормить преступника. Потом мы как-то вдруг оказались на краю деревни, куда-то подевались дома, и мы один за другим стали понимать, что происходит, и один за другим смотреть на небо.
Первым поднял глаза Франц Цоттер. Он сказал:
— Вы только взгляните на небо!
А за ним старуха Зуппан воскликнула:
— Господи, спаси и помилуй! Вы только взгляните на небо!
Мы так и сделали, но смотрели на него лишь какую-то секунду, в давке нас все время толкали вперед, а так как мостовая обледенела, нам приходилось остерегаться, чтобы не упасть. Однако и этого краткого мгновения, этого мимолетного взгляда, на который мы отважились, было достаточно, чтобы все увидеть и больше уже не смотреть.
Солнце закатилось (когда, мы точно не знали, может быть, десять, а может быть, и пятнадцать минут назад); во всяком случае, когда мы подняли взоры, его уже не было и наступали сумерки. Ну что ж, в это время года так часто бывает. Мы на это и внимания не обратили. Поразил нас только темно-красный свет, что горел и мерцал там, вверху. Высокий, негустой слой облаков, похожий на сеть тончайших артерий — вероятно, еще до захода солнца, — появился на голубом небосводе. Покуда мы в неутоленной жажде охотничьего счастья гонялись за тенью, незримый паук заткал небо паутиной кровеносных сосудов. Сосуды эти полопались, стали кровоточить, и кровь багряным дождем хлынула на нас. Все было красно: улица, снег, горы — красно, как на бойне.
Что произошло потом, известно. Правда, не вполне точно. Впоследствии об этом много говорили, но всякий раз по-другому. К примеру, так: во главе процессии Хабихт и Шобер, затем еще два жандарма и между ними на подгибающихся ногах, шатаясь, но все же кое-как бредя вперед, убийца со связанными веревкой руками, конец которой держал один из жандармов (дело в том, что наручники, имевшиеся в местной жандармерии, ко всеобщему удивлению, никак не хотели защелкиваться), затем Хабергейер с ружьем и собакой, за ним Пунц Винцент в свою очередь при оружии, за ними бургомистр, начальник пожарной охраны, помощник лесничего, учитель и многие другие… Процессия дошла до Кабаньей горы, все еще волоча за собою хвост из собак и людей. Люди смотрели на небо, потом опять смотрели вперед; на стволах их ружей сверкали кроваво-красные отсветы… Внезапно у всех широко открылись глаза. У печи для обжига кирпича, где дорога огибает гору, в свете вечерней зари вдруг показалась машина, которая, подпрыгивая на ухабах, сердито ехала прямо на них. Они тотчас узнали в ней машину из окружной жандармерии, долгожданного «зеленого Генриха», за это время приведенного в полный порядок. Они стали жестами показывать водителю, чтобы тот остановился, издали очерчивали для него место на обочине, сами же вместе с убийцей отошли немного в сторону, очищая дорогу машине, уже останавливавшейся возле них. По в тот момент, когда они радостными возгласами приветствуют «зеленого Генриха» (в этом освещении он, впрочем, был уже не зеленый, а красный, как пожарная машина), убийца, чего они никак от него не ожидали, вдруг вырвался, и вот он уже мчится вверх по склону, вот он уже на тропинке, что ведет к хижине гончара и дальше в лес.
— Стой! Стой, стрелять будем!
Слышно щелканье нескольких затворов.
Двое из машины, с пистолетами в руках, тоже выскакивают на дорогу.
— Не стреляйте в него! — кричит Хабихт. — Только в воздух. — И поднимает ствол винтовки прицелившегося было Шобера. Но тут уже трещат выстрелы двух других жандармов. Огонь открывают и двое из машины, Хабергейер тоже выстрелил, а Пунц Винцент как сумасшедший мчится вверх по склону, Хабергейер спускает свою собаку: «Ату его!» Убийца, пригнувшись, карабкается все выше и выше, не иначе как черт придал ему силы, и они не знают, попала в него пуля или еще нет, видят только, что он бежит. Но собака уже настигает его, уже вот-вот схватит его за ноги, а снизу мчатся другие псы. Пунц становится на одно колено и вскидывает ружье.
— Не смей! — рычит Хабихт и спешит к нему по снегу. Но Пунц, как известно, глух на левое ухо (а левое-то как раз и повернуто к вахмистру). Пунц уже целится, уже стреляет. Собаки уже рвут несчастного, и он падает в красный снег.
Матрос услышал выстрел. (Несколько выстрелов он слышал еще раньше.) И взглянул на Герту; она как раз одевалась неторопливо, задумчиво и, видимо, ни малейшего внимания на выстрелы не обратила.
Он думал: господи ты боже мой! Надо бы мне помыться! Думал: господи ты боже мой! Надо же взглянуть, что там такое! Последний выстрел прозвучал совсем близко, словно у самого дома стреляли. Он думал: господи ты боже мой! Что там случилось? И вдруг почувствовал: страшные когти впились ему в глотку. Он взглянул на окна. Они пялились, как налившиеся кровью глаза. Матрос рванул дверь и вышел из дому.
О ты, явившийся из зимних, серебряных лесов сна! Грозные волны хлынули ему навстречу. Кровь! Он вступил в море крови (пройдя по снегу, который вдруг стал как пенка на клубничном варенье). Потоки крови изливались на все вокруг — из кровеносных сосудов, что, как руны, исчерчивали небо. Он побежал, втянув голову в плечи, словно сверху что-то низвергалось на него, и в то же мгновение увидел трех собак подле себя — собачье триединство; они рвали то, что лежало на снегу, а что, он распознал не сразу, лишь потом понял — это человек, ничком упавший на дорогу. Раскинув руки, лежал он — черный крест в пенке от клубничного варенья, а псы облаивали крест, терзали, отрывали от него клоки, пропитанные кровью. Матрос так пнул ногой одного, что тот с воем взлетел в красный воздух, затем другого, в ярости уже прыгнувшего на него (тогда как третий, злобно ворча, отполз в сторону). Потом он перевернул упавшего человека, глянул ему в лицо, узнал и в ту же секунду в ухе у него засвистело, что-то зажужжало над ним, и он ощутил боль в груди, такую страшную, такую отвратительную, словно сверху его проткнули куском железа, и вдруг взревел, как лев, не понимая, что это он ревет:
— Эй, капитан! Ты только посмотри, капитан! — И почувствовал, как железо закогтило его, закогтило и оторвало от земли…
Багор мнимо умершего торчал у него в сердце.

Ночь не заставила себя ждать. Одним прыжком выскочила она из засады на поле брани; свечение в высоте погасло, словно порыв ветра нарушил празднество, словно один-единственный краткий его порыв разом задул все свечи. И только на западе едва теплился последний свет, в котором обозначились горы и вершины деревьев — тусклая, грязно-алая полоска, словно мясник вытер руки об облака.
Матрос недвижно стоял на снегу, а напротив него, также недвижно, стояли другие, и между темной массой, в которую они слились, и темной одинокой фигурой матроса опять, как когда-то, лежал мертвец — черным крестом на снегу, а вокруг его истерзанного тощего тела сгущалась темнота.
И снова глухая барабанная дробь. Точно из непроглядных глубин земного шара. Из-под голубеющей брони снега и льда, что поскрипывает от усилившегося мороза. Матрос слышал — барабанная дробь приближается, нарастает в тяжелом торжественном ритме, и знал: она звучит только в нем самом, ибо он сам был этим барабаном, оглушительно грохотавшим во тьме. Он спросил:
— Ну, теперь вы довольны? — И подождал немного. Он слышал, что барабанная дробь все ближе, все сильнее звучит в нем.
— Ведь я же кричал, — сказал Хабихт. — И кричал достаточно громко. Скажете, нет? Я кричал: «Только в воздух!» И вот нате вам! Теперь он лежит здесь и уже не шелохнется.
А Хабергейер (невидимкой из черной массы) проговорил:
— Первый выстрел всегда только предупреждение. Я тоже выстрелил в воздух! Ясно?
Приезжие жандармы, столпившиеся вокруг Хабихта, заявили, что так оно и было. А прикончил его тот, красномордый, ну, тот, с носом. Где он там?
Хабихт круто повернулся к темной массе.
— Пунц! — крикнул он. — Эй, где ты там! Поди сюда! Уши у тебя дерьмом заложило, что ли?
Пунц Винцент выступил из толпы, почти незаметный на ее фоне.
— Я никаких криков не слыхал. Я же глухой на одно ухо!
Хабихт смотрел во тьму, на него.
— Что за вздор, — сказал он. — У тебя есть еще ухо на другой стороне башки. И я ведь к тебе подбежал, остолоп несчастный! — Пожимая плечами, он отвернулся и сказал: — Ладно! Что было, то было. Особых неприятностей тут ждать не приходится. Дело можно считать законченным.
А барабанная дробь все нарастала и гремела уже сквозь пены матроса. Он сказал:
— Не обольщайтесь! Дело еще далеко не закончено!
В отпет послышался возмущенный ропот.
— А ты-то чего суешь нос куда не надо? — спросил Пунц Винцент.
А Хабергейер:
— Он пнул ногой мою собаку!
А помощник лесничего Штраус:
— Ну, погоди! Мы и до тебя еще доберемся!
— Если у вас есть что сказать, — огрызнулся Хабихт, — так приходите завтра ко мне в жандармерию. Здесь, в темноте, на снегу, я с вами разговаривать не намерен.
Матрос поднял кулак и угрожающе помахал им в воздухе.
— Разговаривать вам не придется! — крикнул матрос. — Зато вы кое-что услышите! Завтра все будет еще темнее, чем сегодня!
Хабихт подошел к нему вплотную и спросил:
— Почему вы, собственно, так волнуетесь?
— Вам это известно не хуже, чем мне: «Некто, числящийся в списках разыскиваемых лиц». Ведь так это было?
— Да, — сказал Хабихт, — но вы же ничего не знаете. Он сознался в убийстве Айстраха.
— Что?
— Да-да, он сам пришел к нам и на допросе сознался в убийстве.
— И ничего… — выдохнул матрос, — ничего не сказал о том, где он спал в новогоднюю ночь?
— Он признал свою вину, — сказал Хабихт, — этого достаточно. О побочных обстоятельствах речи не было.
В этот миг барабанная дробь зазвучала уже так близко, что заглушила все остальное. Матрос, правда, видел, что Хабихт шевелит губами, и еще заметил, как тот поднял палец, словно объясняя что-то, но ничего уже не расслышал в этом грохоте; и вдруг — точно из морских глубин — поднялся огромный вал черного звона; клокочущий, бурливый (с могучим, серебром отливающим гребнем), вздымался он к небу, точно горный хребет: в ночи раздался траурный марш господень.
— Герта! Герта! Где ты? Г-е-е-ерт-а-а!
Затаив дыхание, Укрутник прислушался.
Ничего. Только эхо донеслось с опушки леса, а потом с дальнего склона — второе.
Он огляделся. Тяжело задышал. Ничего! Опустелый лес, отбрасывающий эхо. И деревья четко обозначились на снегу, так как за облаками прятался молодой месяц. Господи, да куда же она подевалась? Боже милостивый, ведь должна же она где-то быть? Он сложил руки рупором, но голос отказал ему. Укрутник вдруг понял, что звать ее уже поздно, что из своей дали она не услышит его. Он зачарованно смотрел вверх, на дубовую ветку, недвижно вонзившуюся в прозрачные облака. Точь-в-точь лапки птицы, подумал он. Птицы, что уже мертвой лежит на снегу. И вдруг в неумолимой дали ему привиделось беспощадно чужое лицо Герты, обращенное к небу, уже холодное, уже окоченелое, уже покрытое инеем. Белые губы примерзли к зубам; глаза неподвижно уставились на луну, но не видели ее (лунный свет играл в них, как в двух осколках стекла), уши вслушивались в ночь, но не слышали ничего, кроме великой тишины.
Насмерть перепуганный, Укрутник вернулся в Тиши. На лыжах подошел к «Грозди». В подворотне он столкнулся с самим собою, утроенным: справа, слева, из глубины арки наступали на него Укрутники в троекратном повторении эха, хотя он всего лишь отряхнул снег с лыжных ботинок да поставил у двери в погреб лыжи и палки — все как обычно.
Задыхаясь от страха — вдруг рухнет последняя надежда (надежда, что Герта уже вернулась домой), — он с грохотом ввалился в залу, где уже шел пир горой, словно там праздновали невесть какую победу, подскочил к трону пивного бога, да так, что кружки зазвенели, и дрожащими пальцами впился во влажно-холодное жестяное покрытие стойки.
— Герта вернулась?
А Биндер, с божественным спокойствием, с божественной неосведомленностью:
— Погоди-ка! Герта… Что-то она такое говорила… Или это вчера вечером?.. Не знаю.
Говорила! Господи помилуй! Что она говорила? Он уже топает по лестнице в темный коридор, из меркнущего света поднимается в полную темноту, будто ныряет вниз головой в черную воду. Наверху Укрутнику кажется, что кто-то шутки ради закрыл ему руками глаза. Ощупывая стены, идет он дальше, ищет — увы, напрасно! — золотую полоску в конце коридора, и к своему все возрастающему ужасу видит и тут же осознает, что коридор ведет в бесконечность, что из-под Гертиной двери не пробивается свет. Сердце уже колотится у него в горле. Укрутник несколько секунд стоит в нерешительности, потом берется за ручку и под скрип петель открывает дверь. Пусто! И даже запаха Герты уже не слышно! Только призрачный отсвет снега! Только ночь! Она обосновалась, поселилась здесь и смотрит на него с неприязнью за то, что он помешал ей. Но Укрутник все-таки зажигает свет и озирается. Теперь комната кажется еще более пустой; на одном из стульев висит шерстяное платье Герты и пялится на него утратившими всякий смысл подмышниками.
В этот момент полного его поражения Герта вернулась домой. Он узнал ее шаги на лестнице, в коридоре: они приближались как обычно. И тут в свете, падавшем из комнаты, появилась она сама.
Он бросился к ней, обнял ее и разрыдался, как дитя.
— Ты вернулась, — всхлипывал он, покрывая ее лицо поцелуями.
Она не оттолкнула его, только бессильно обвисла в его объятиях, мягкая, как снятое с костей жаркое, и позволила себя ласкать; голова ее при этом тряслась.
На следующий день (который пришел в арестантской одежде, поздно и, казалось, плохо выспавшись) в помещении жандармерии между Хабихтом и матросом произошел следующий разговор.
Хабихт (услав помощника жандарма Шобера):
— Так! Теперь мы одни. Ну, выкладывайте, чем вы там еще хотите меня угостить. — Он откинулся на спинку кресла — засел за письменным столом, как в окопе, — и устремил свои колючие глаза на матроса.
А тот:
— Будь моя воля, я бы многих угостил, да так, чтоб они и не встали — пулями. Но угощать пулями по собственному усмотрению позволено только вашему брату. И вы, черт бы вас подрал, этим пользуетесь!
Хабихт:
— Это все, что вы хотели мне сказать? Разумеется, мы стреляли. Само собой разумеется! Не я лично, а другие. Но в данном случае это было вполне законно.
Матрос:
— И все-таки вы не преминули обратить мое внимание на то, что стреляли по нему не вы, верно ведь? Но не в этом дело. Сначала мы с вами поговорим о жертве.
Хабихт:
— Мы?
А матрос:
— Да, мы! Ведь я же налогоплательщик и тем самым пособник! Я же оплачиваю полицию, которая тут палит почем зря, и жандармерию, которая мне постоянно докучает, но еще ни разу в жизни ни от чего меня не защитила.
Хабихт:
— Довольно! — Он наклонился и со всей силы хватил рукой по столу.
Матрос:
— Знаете что, пора вам с вашей рукой пойти в отпуск. Она это заслужила. А полотенце отдайте прачке.
Хабихт метнул на него злобный взгляд и заскрежетал зубами.
А матрос:
— «Функционеры» не умеют молчать. Начальник пожарной охраны рассказывал в «Грозди»… И сегодня уже вся округа об этом знает… Но человек, которого вы прикончили… Я знаю, он был бродягой и вором. Но воровал только потому, что бродяжничал, а вы бродягам есть не даете. Он был мелким воришкой. И в этом его ошибка. Крупные воры сидят в торговой палате. Они обдирают вас как липку, а вы этого не замечаете. Он украл только кролика, и вы это сразу заметили. Тут же схватили его и посадили за решетку. И надо же! Для него нашлась еда! Он вдруг стал достоин еды, хотя в качестве арестанта был так же бесполезен, как и в качестве бродяги. Но он, он вас надул. Наплевал на вас и удрал. Свобода была ему дороже вашей похлебки, он считал, что ради свободы стоит сдохнуть в лесу. А посему давайте поговорим о свободе. Может, вы знаете, что такое свобода? Я не знаю. А он, он, кажется, тоже уже не знал, иначе бы он к вам не явился. Он вдруг «взялся за ум» и принял единственно правильное решение. Но одного он, к сожалению, не знал: что вам срочно требуется убийца. А потом, потом он сознался в убийстве, которое совершил другой. А вот как он до этого дошел, в этом еще разберутся.
Хабихт вскочил с кресла.
— Нечего вам задаваться, господин Недруг… Мы действовали по уставу! Делали только то, что должны были делать. — Он обдергивает мундир, словно одергивая самого себя, потом подходит к окну — весь белый, с побелевшими губами — и смотрит в сумеречное, притаившееся утро. И: — Вы, может, думаете, что мне доставляет большое удовольствие служить жандармом в этой вонючей дыре? Думаете, я не знаю ничего лучшего, чем здесь отделять овец от козлищ? Мне пятьдесят три года. Я узнал и научился «любить» людей. Я отлично понимаю, что все мы — сброд, который строго придерживается правил игры, только чтобы иметь возможность существовать, не переставая быть сбродом. К черту! Если я вообще еще что-то делаю, то лишь в надежде получить наконец повышение! И прибавку к жалованью! И занять должность поприятнее. Вы предлагаете мне идти в отпуск с моей рукой? Извольте! С превеликим удовольствием! Я даже выйду на пенсию! (У меня до сих пор плечо ломит от фашистских приветствий.) Но сначала я должен получить прибавку! — Он начинает метаться взад-вперед по комнате. Говорит: — Мы допрашивали его с пристрастием, это верно. Но — боже милостивый! — разве невиновный сознается в убийстве?
Матрос недвижно сидит на своем стуле и смотрит на русскую шапку, лежащую у него на коленях. Он говорит:
— Вы знаете не хуже меня, что этот бедняга не был убийцей. — Он подымает глаза, потому что Хабихт все еще стоит перед ним, и в его глазах видит ужас, — Повторяет: — Вы знаете это не хуже меня. Иначе вы никогда бы не попытались спасти его от смерти.
Хабихт опять уже расхаживает взад и вперед.
— Ничего я не знаю, — говорит он. — Я должен держаться фактов. Он пришел. Сознался в убийстве, а потом хотел дать деру.
Матрос:
— И тут его пристрелили. Весьма разумно!
Хабихт:
— Верно! Но вам-то что за дело? Вы так себя ведете, словно этот парень был вам родным братом!
Матрос:
— Да. Он и был моим братом. Потому что его еще мучила тоска по дальним краям. — Он встает, нахлобучивает свою русскую шапку. Повторяет: — Его еще мучила тоска по дальним краям. Он еще стремился к тому, о чем мы все позабыли. Стремился возвыситься над собой и над жизнью.
Хабихт стоит теперь на другом конце комнаты. Не сводит с матроса прищуренных глаз и говорит:
— Ах так! Выходит, вы знали его! Тогда перед нами открываются совсем новые перспективы.
А матрос:
— Да, я знал его. Я долго беседовал с ним. И (руки в карманах, он подходит к Хабихту) сейчас скажу то, что обязан сказать о нем, а вы укусите себя в задницу, если можете, потому что перед вами и вправду откроются «новые перспективы»: ту ночь — я в любую минуту готов присягнуть, что это так, — ту ночь, когда совершилось убийство, он провел у меня.
Хабихт одним прыжком оказывается у своего стола.
— А вы понимаете, что я должен на вас заявить?
Матрос:
— Пожалуйста! Попытайтесь! Один только шаг, и на нас обрушится лавина.
— Какая еще лавина?
— Лавина, уже много лет нависавшая над деревней! Если она двинется вниз, вы конченый человек! Тогда всем станет ясно, что вы покрывали настоящих преступников!
Хабихт, согнувшись в три погибели, цепляется за стол.
— Ах вот что! Вы мне угрожаете! Забавно!
А матрос:
— Да. Угрожаю. Потому что мне нет надобности вас задабривать! — Он обходит Хабихта, бессильно опустившегося на свой стул. Говорит: — Н-да! Плохо вас ноги держат! Кабы не сапоги, ваши обмякшие кости рассыпались бы в разные стороны. Так что смотрите в оба, чтобы их с вас не стянули! — Он садится на прежнее место. — Я пришел смыть пятно с этого человека, с человека, который пренебрег возможностью предать меня. Но, увы, пришел слишком поздно. Вечером тридцать первого декабря, в половине пятого, он заявился ко мне и ушел от меня в день Нового года, уже после вас и этого дурака инспектора.
Хабихт, не шевелясь, сидит на своем стуле и шепчет:
— Да, но… мне-то что теперь делать?
— Вы должны схватить убийцу, — говорит матрос, — и тогда, по мне, можете стать хоть министром внутренних дел…
Разговор этот имел место около полудня, незадолго до обследования тела убитого, а ровно в полдень, когда зазвонил колокол и деревня лежала в снегу, как дымящаяся компостная куча, в доме Зуппанов кто-то нерешительно постучал к фрейлейн Якоби, которая только что вернулась из школы и не успела даже снять платка с головы.
— В чем дело, фрау Зуппан?
Дверь медленно отворилась. Но вместо старухи Зуппан вошел Карл Малетта.
На заношенную пижаму у него было наброшено пальто. Волосы растрепанные, лицо небритое. Он устремил на валькирию смущенный взгляд и сказал:
— Простите, ради бога, но я хотел попросить вас кое-что купить для меня. Я болен и не могу выйти из дому. С позавчерашнего вечера у меня маковой росинки во рту не было.
Она смотрела на него с отвращением. Хотелось бы ей знать, почему он явился именно к ней? Пошел бы лучше к Зуппанше. Она бы сейчас ему что-нибудь и состряпала.
А он:
— Она уже стряпала мне. Это было ужасно: кусок в горло не лез. Я все нарезал, подсушил и высыпал птицам на подоконник.
Фрейлейн Якоби взглянула на него и расхохоталась.
— Ладно, мерзкий вы тип! — сказала она. — Схожу уж, если старуха Зуппан вам не угодила. Давайте деньги!
Покуда она ходила за покупками, он в раздражении сидел на своей кровати и ждал. Ничего особенного с ним не было, он просто боялся выйти из дому и налететь на Укрутника. Но Укрутник — это еще куда ни шло. При некоторой осторожности его мести можно было избегнуть. Самое плохое, что он, Малетта, никак не мог стряхнуть с себя мясникову дочку. Зажав его толстыми ляжками, она скакала на нем — черт в женском обличье, скакала без седла и без стремян, гнала по кругу его мономании, с той милой манерой борцов (вольная борьба), которую еще могла кое-как выдержать лошадиная натура скототорговца, но уж никак не жалкий комок нервов — Малетта. Зловещие картины запечатлелись в нем; сам он был пленкой, на которой они выступили с необыкновенной ясностью, но были уже не снимками, а действительностью: Герта собственной персоной, со всеми своими мускулами и запахом, сейчас, в его горячечном воображении, была еще реальнее, чем тогда; ведь он однажды уже ощутил под собой ее тело и вслед за тем отведал ее кулаков. Он боролся с нею, боролся «вольным стилем», но она всякий раз клала его на обе лопатки, и всякий раз он оказывался на борцовском ковре, а Герта сидела на нем. Теперь он расплачивался за злобную выходку, которую себе позволил, и цена, пожалуй, соответствовала его злобе, но отнюдь не радостям, отсюда проистекшим. Он достал носовой платок и высморкался. Запах козленка все еще забивал ему ноздри. Да, а потом вот что еще случилось — встреча в воскресный день: матрос.
Сначала он увидел его стоящим с какой-то девочкой перед витриной парикмахерского салона. Спина матроса показалась ему броневой плитой, от которой отскакивали день, деревня и небо. Но похоже, что в этой бронированной спине у него были глаза, так как внезапно он обернулся. Малетта конфузливо отступил за занавеску, потом быстро оделся. Он думал: откуда я знаю этого человека? И, самое главное, почему я с первого взгляда в него влюбился? В широкую его спину и в быстрое его движение, когда он обернулся! Старуха Зуппан рассказывала ему, что убийцу застрелили при попытке к бегству, а матрос, который тоже, наверно, убийца, долго кричал на вахмистра Хабихта, это многие слышали. Малетта думал: ну, этот-то уж, конечно, знает, что делает. Не станет он кричать без причины. А если кричит, то уж добьется толку. И у этих сволочей посыплется со стен розовая штукатурка! Он встал и потащился к окну, словно ждал чьего-то знака. Да сбудется надежда, которую мне внушила твоя спина! Свали их всех своим криком!
В этот момент возвратилась фрейлейн Якоби. Вошла в комнату не постучав. Вынула из сетки все, что он просил ее купить. Потом достала кошелек из кармана, пересчитала деньги и положила сдачу на стол.
— Кажется, правильно. На чай я не возьму. Вы ведь так трогательно помогли мне одеться.
Малетта попытался изобразить на лице улыбку, что после некоторых усилий ему удалось.
— Я готов вам и раздеться помочь, — отозвался он. — Словом, я всегда к вашим услугам.
Она сверкнула на него голубыми глазами и откинула прядь со лба. Потом сказала:
— Хорошо! Ловлю вас на слове. Но не радуйтесь прежде времени. И (с искаженным от злости лицом): — Вы вчера отсутствовали на перекличке. Надо было сообщить, что вы заболели! Господин Хабергейер взял вас на заметку.
— Это егерь-то? — спросил Малегта. — С бородищей?
— Да, егерь, с длинной бородой.
— Ну и пусть его! У них, видно, хлопот полон рот! Скажите ему, пусть пропечатает меня в вечерней газете.
Она ушла в свою комнату, а Малетта подошел к фотографии Хабергейера и стал внимательно всматриваться в старый, утыканный гвоздями горный ботинок, который тот вонзил в тело убитого оленя. Надо сознаться, вид малопривлекательный! Несмотря на красоты леса и на охотничий трофей. Деловитость, истекающая жирной сапожной мазью! Этот башмак совершенно очевидно вонял. Зверь же был прекрасен и благороден даже в смерти. Пологий холм весь в опавшей листве, ветвистые рога: дерево, срубленное поздней осенью, последним криком пронзившее небо… О небо! Крылья, рапростертые над осенними лесами! О тьма лесов, разорванная, разреженная осенним ветром. Глаза Малетты скользнули вверх по егерю, выше серебряных пуговиц куртки, к самой бороде. Тщетно! Ошибочный путь! Мрак и густая борода. Гибель, мелькающая повсюду, как плесень в лесу! Покуда Малетта стоял так, ничего не видя в чащобе, его гибель была уже предрешена.
Да, конечно! Его гибель была предрешена, предрешена за чистым лбом Герты — и не только за ее лбом, ибо Герта, видимо, была лишь орудием, а пользовался им кто-то другой. Она помирилась с Укрутником и сладко, как никогда, проспала с ним ночь. Она чуть слышно шепнула ему:
— Ты прав: я действительно дрянь.
А он:
— Ах, брось! Это я со злости сказал, — Он уже знал об истории, разыгравшейся у фотографа, знал, что Малетта пытался изнасиловать Герту, и знал, как до этого дошло. Он сказал:
— Ну, этот у меня еще попляшет! Я из него котлету сделаю! Но сначала мне нужна отснятая пленка, поняла? И твое дело ее раздобыть!
О том, как это устроить, она размышляла днем, помогая на кухне, и среди стука тарелок, ножей и вилок ей мало-помалу уяснялись трудности предстоящего. Очень уж нелегко будет заговорить об этом с фотографом. Вдобавок она не верила, что он отдаст ей пленку, не предъявив своих требований. Но она была дочерью мясника, и дух, унаследованный от отца, в сочетании с женским инстинктом, подсказывал ей, что рубить кость надо именно здесь и что план мести выбран правильно. Возбужденная испытаниями последних часов, а также открытием, что ничего нет легче, как обвести вокруг пальца мужчину, одного соблазнить, другому наставить рога, к тому же приятно удивленная как тем, до чего же здорово чувствуешь себя после эдаких штучек, так и тем, что сознание греха только способствует самоуважению, теперь она храбро смотрела на свою отнюдь не легкую задачу. Многочисленные идеи бродили в ее мозгу. Правда, большинство их казались ей невыполнимыми. Зато о других следовало очень и очень поразмыслить. Накладывая гигантским половником отнюдь не гигантские порции, Герта взвешивала все предоставлявшиеся ей возможности и рисовала в воображении различные сценки. Но как ни далеко заходили ее мысли (многие из них, впрочем, тут же отвергались), от одной она никак не могла отделаться. На этой мысли упорно останавливался ее взбудораженный ум. Она вдруг представила себе Малетту, его серое, обрюзгшее лицо, представила в ситуации вполне определенной и звонко расхохоталась.
— Чего ты смеешься, — спросила ее Анна, кухарка.
— Да так, ерунда. Мне тут кое-что в голову пришло. — И вдруг: — Слушай, Анна, ты не помнишь, когда у нас старик Клейнерт сточные ямы выгребал?
В эту секунду перед нею возник матрос, говоривший: «Вы вместо лиц только зады видите!»
А старуха Анна (задумчиво):
— Погоди-ка! Сдается мне, это в августе было.
Между тем матрос сидел в своей комнате и, прищурившись, смотрел в окно. Он думал: вот, значит, я им объявил войну и теперь что-то должно случиться! Он считался с любыми возможностями, во всяком случае с каким-нибудь контрударом в самое ближайшее время, ибо одно ему было ясно: вахмистр Хабихт испробует все способы, чтобы заставить его молчать.
В окно он видел угол сарая, за ним гору и слева черные ветви дерева, резко вырисовывавшиеся на фоне сумрачно спокойного неба, в котором медленно пролетали две вороны. Волнение все еще трепетало в нем (как долгое время трепещет в нервах барабанная дробь), но в то же время он замечал, что мало-помалу успокаивается, и это уже само по себе снимало все неприятные ощущения. Конечно, он должен был заговорить о своих подозрениях, то есть намеком высказать то, в чем был уже окончательно убежден. Но стоило ли разевать рот раньше времени, тем самым заставляя преступников насторожиться? Они ведь почувствовали бы себя спокойнее, чем когда-либо, полагая, что дело прекращено. Они, пожалуй, сочли бы себя честными людьми и в один прекрасный день перестали бы осторожничать. И тогда? Что тогда? Тогда ты навеки останешься с носом! Потому, что все рассчитал неправильно! — думал он. — Если эти оба позабудут, кто они есть, они уже ничем не выдадут себя!
Он выглянул в окно. Сарай становился все чернее, а ветви растворились в небе. Тишина, плотная и непроницаемая, была полна неузнанных шорохов, которые настойчиво проникали в уши. Он думал: Нет! Напротив! Их необходимо напугать. Пусть догадываются о том, что мне все известно. Со страху, и только со страху они понаделают глупостей! Только потеряв уверенность в себе, они себя выдадут. Но, продолжал он размышлять, ты ведь и сам боишься, и в данную минуту у тебя для этого есть все основания. Хабихт договорится с Хабергейером, и убийцей опять окажешься ты! Он прислушался. Снег скрипит, словно кто-то идет по двору; вот скрип уже слышится за домом и сейчас же на крыше. Но это был всего-навсего мороз, серыми своими челюстями вгрызавшийся в снег.
Матрос замер, сидя на стуле; ждал, вслушивался. Время шло. Наступили сумерки, наступила ночь, но никто не пришел и ничего не случилось.
Если Хабихт так ведет себя, значит, у него и вправду рыло в пуху. Но радоваться было рановато, похоже, что самое худшее еще на подходе.
Он поднялся и подбросил несколько поленьев в огонь. Потом начал шагать из угла в угол. Не подумал даже о том, чтобы зажечь лампу: впотьмах он чувствовал себя безопаснее. Тяжело ступая, ходил он взад и вперед, глядя на тлеющий огонек своей трубки, а отсвет огня, вырывавшегося из щелей в плите, порхал по потолку, подобно красной птице. Внезапно он почувствовал, что капитан где-то совсем близко. Равномерными шагами ходил он там, наверху, по своему мостику — неподкупное эхо собственных его шагов. Или сам он всего лишь эхо? Матрос остановился, и шаги смолкли; опять пошел, и опять раздались шаги, и дом закачался, как корабль в ночи на захлестывающих его волнах.
Следующей ночью, тихой и тонувшей в странном полумраке, ибо почти полная луна пряталась за облачной пеленой, приблизительно в двадцать один час Пунц Винцент ушел из «Грозди». Он бражничал со Штраусом и Хабергейером, но, когда те стали призывать его к умеренности, обозлился и что было силы стукнул кулаком по столу. А потом вскочил, поднял руку для приветствия — и:
— Поцелуйте меня в господин ортсгруппенлейтер! — С этими словами он ретировался. Покачиваясь, словно тень, он брел по улице (все кругом было неверным и расплывчатым, как тени, а следовательно, и он), натыкался на стены, как мяч, от них отскакивал и наконец угодил в сугроб. Он ухватился за тень (потому что деревню вдруг перекосило), которая оказалась стволом каштана, отчего ему и удалось за нее ухватиться. В это время облака немного посветлели, а заснеженные крыши и белые стены церковной башни на другой стороне улицы засветились белесым светом заплесневелого сыра. Пунц смотрел на них круглыми от удивления глазами, потом отпустил тень дерева и перешел улицу. С трудом поднялся по церковным ступенькам и открыл боковую дверь на кладбище. Хотя могилы были мирно припорошены снегом, с миром и здесь, как видно, дело обстояло неважно. Памятники, перекосившиеся в беспорядке, словно подняв молчаливый мятеж, внезапно окаменели, а холмики могил угрожающе вздымались под снегом, как будто их приподняли изнутри. Пунц высморкал свой могучий нос и вытер пальцы о куртку. Поколебавшись секунду-другую, он запер за собой дверь и зашагал через хаос крестов и надгробий. Он шел, слегка нагнувшись, склонив голову, точно намереваясь пробить стены из замороженного воздуха; казалось, он сейчас упадет и перекувырнется. Ноги за ним поспешали все более стремительными шагами, так что он ворвался на кладбище как боевой снаряд, корпусом далеко подавшись вперед, в положении почти горизонтальном. Но потом они начали отставать, отставать все больше и больше, с каждым шагом глубже увязая в снегу, и вдруг встали как вкопанные и опрокинули Пунца. Стоя на четвереньках, он осмотрелся. Рядом с ним была могила Айстраха. и на белом холмике лежала шляпа, тульей вниз, как будто ее протягивал нищий. Пунц подполз поближе и убедился, что это его собственная шляпа. Торопливо, исподтишка, словно вор, схватил ее и надел на то место, где ей надлежало быть. Потом поднялся, выпрямился и, балансируя, сделал попытку встать навытяжку. Положив левую руку на несуществующую пряжку ремня, он выбросил вперед и вверх правую.
— Хайль!
И эхо от стены:
— Хайль!
И рука его вписывает недобрый знак в ужас, в ночь, которая, даже избавленная от нечисти и обезбоженная, не поступилась грозной своей тайной.
Он ведь был хорошим другом; хорошим другом был и старик. Но служба есть служба, водка есть водка, а человек… Что есть человек? Человек — это дерьмо.
А начнется война, думал он, значит, начнется война. Так точно! А жена? Жена ему давно осточертела и детишки тоже. Но в сумеречном свете вокруг таился страх, и он ощутил неодолимую потребность осквернить могилу, ибо человек, объятый страхом, храбрится по мере сил и бросает вызов ночи, смерти, даже черту. Он сказал:
— Все для торжества нашего дела! Понимаешь? — И стал расстегивать ширинку. Потом отлил воду, начертав ею победную руну на могиле.
В церкви горел огонек неугасимой лампады. Обернувшись, Пунц увидел мягкий красноватый блеск, мелькающий то в одном окне, то в другом, словно чье-то дыхание слегка раскачивало лампаду. Сначала он испугался. Ему почудилось, что дом божий обитаем, что там внутри кто-то сидит за работой и поддерживает маленький огонек. Правда, он смекнул, в чем тут дело; но остаток страха застрял у него где-то в костях, а так как он, решив почтить еще одного покойника и держа руку на ширинке, зашагал по галерее и мертвецкая стала на него надвигаться, то он, опять склонив голову, словно бы для удара, и видя, что черный ящик становится все больше и больше, вдруг стал трястись как овечий хвост. Наконец он добрался до мерзкого этого помещения; из глубины его донесся глухой звук, словно кто-то упал. Там лежало тело застреленного «при попытке к бегству», погребенное под плотной землей молчания, а единственная, смертельная пуля, вылетевшая из охотничьего ружья, чудом исчезла из его сердца. Что ж, хорошо! Теперь это все уже дело конченое. (А жандармы пусть жандармами и остаются). Но в остальном, к сожалению, далеко не все было кончено. Сколько дров еще надо было нарубить — уму непостижимо, и всякий раз приходилось возвращаться домой по той же дороге — дороге, которая до самой смерти останется неизменной: мимо печи для обжига кирпича.
Он прижался лбом к маленькому оконцу и вдруг до боли себя пожалел. Он показался себе куда более одиноким, чем мертвец, лежавший здесь «в ночи и тумане», в этом закутке, примыкавшем к задней стене церкви. Он охотно бы лег рядом с мертвым телом (там ведь наверняка стоит еще один катафалк). Неверными шагами он прошел за угол, дернул дверь — проклятье! — она не открывалась. Он сделал попытку еще раз помочиться и (ха-ха!) нацелился в замочную скважину. Тщетно! Источник замерз или иссяк, теперь оставалось только отправиться восвояси.
Но когда он повернулся, чтобы идти, что-то удержало его, схватило за рукав куртки и потянуло назад, словно хотело впихнуть в мертвецкую. Он закричал не своим голосом, рванулся, нежданно ощутил холодный ночной воздух в рукаве и увидел — из дверной рамы торчал железный крюк, похожий на согнутый палец, манивший его: иди, иди, иди! Лоскут от его куртки чернел на нем, как будто мертвец вывесил свой флаг.
На следующее утро, ровно в половине седьмого (значит, можно сказать, еще ночью), Малетта проснулся от тряски и разных звуков, вызванных гимнастическими упражнениями фрейлейн Якоби. Он мог бы давно к этому привыкнуть, потому что именно так начиналось каждое его утро, но тем не менее всякий раз злился, а злость подстрекала его жадно вслушиваться в то, что происходит за стеной. Она прыгала, отчего сотрясался пол и в такт дребезжала дверь, бросалась на пол (а казалось, что бомба попала в дом). О, если бы «отец гимнастики», Ян, знал, что она творит! Малетту форменным образом подкидывало на его ложе! Ко всему она еще насвистывала бодрые песенки, приходилось только удивляться, как у нее хватает дыхания. Затем следовало то, чего он всегда ждал и после чего сон уже ни на секунду к нему не возвращался: фрейлейн Якоби так мощно хлопала ляжкой о ляжку, словно сама себе аплодировала.
Он вскочил, набросил на плечи пальто, подбежал к ее двери и постучался.
— Минуточку! Я должна хоть что-нибудь надеть! — ответили ему. Она открыла ему в голубом фланелевом халате, для ее фигуры, пожалуй, несколько узковатом. Под ним явно ничего не было, только влажная кожа и раскрытые поры. Склонив голову набок, нахмурив брови, она недовольно пробурчала:
— В чем дело? Вы уже поднялись?
А он:
— Конечно! Всегда с вами, вы ведь меня будите! Не сегодня-завтра наш дом обрушится.
Она не извинилась, только рассмеялась. Сказала:
— С завтрашнего дня вы будете вместе со мной делать зарядку; вам это пойдет на пользу. Не то вы вконец прокиснете, уважаемый соотечественник! Вы же знаете: в здоровом теле — здоровый дух.
А Малетта:
— У меня к вам дело. Разрешите войти? — Она отошла в сторону, впустила его, и он сразу же заметил насмешку в ее глазах.
— Прошу! Я вся обратилась в слух. Но, пожалуйста, без канители, мне пора мыться. — Она закрыла дверь и загородила собою стул, на котором висело ее белье.
Малетта понуро стоял перед ней, взволнованно обдумывая, с чего бы начать. Он смотрел на ее босые ноги, на следы, оставленные мокрыми подошвами. И наконец выдавил из себя:
— Вы же знаете, что господин Лейтнер всегда обедает в «Грозди». Так вот, не будете ли вы так добры спросить, не бросилось ли ему последнее время в глаза что-нибудь пе совсем обычное в фрейлейн Герте или в этом парне, что торгует скотом. Я имею в виду что-нибудь относящееся ко мне. Вы сами понимаете, хотелось бы узнать, что там обо мне говорят…
Она скрестила руки на груди и холодно взглянула ему в лицо. Потом сказала:
— Гм, понимаю. Вы хотите узнать, надо ли вам чего-то опасаться.
Он поднял глаза и натолкнулся на ее взгляд.
— Совершенно верно! Вы угадали. Но, прошу вас, спросите об этом невзначай — в разговоре! Я убежден, что вам такой случай представится.
Она потирала ногу об ногу, так как, видимо, уже начала мерзнуть. Халат ее распахнулся ниже пояса, на свет божий показалась одна из ляжек.
— Это ведь Герта приходила к вам сниматься, — осклабясь произнесла она. — Так ведь? А мужчина, который в субботу вечером неистовствовал там внизу, — оскорбленный господин Укрутник.
— Вряд ли, — сказал Малетта. — Наверно, просто какой-то пьяный.
А она:
— Он чуть не вышиб входную дверь! Теперь только я начинаю понимать, почему вы боитесь высунуть нос из дому!
В молчании, наступившем вслед за этими словами, они настороженно смотрели друг на друга, причем глаза Малетты становились все чернее, а ее — все светлее.
— Но я и вправду болен, — проговорил он наконец.
А она:
— Ах, вот как! Нет, вы просто трус. Только и всего. Побрейтесь, умойтесь! А потом выходите во враждебный вам мир!
Когда они снова пристально взглянули друг на друга, Малетта неожиданно обнаружил нечто совсем новое, а именно: золотистый свет в синеве ее глаз, словно солнечный луч взблеснул в ледяной воде. В них было мужество. Мужество перед лицом гибели! А следовательно, свобода и утверждение жизни! Теплые искорки поднимались из холодных глубин: загадочная жестокая доброта!
Потрясенный, смотрел он в ее глаза. И вдруг:
— Скажите, а вы знаете этого матроса?
Она засмеялась.
— Неотесанного малого, что живет в хижине гончара? На днях он обратил в бегство меня вместе с моими учениками.
На лице Малетты промелькнула блаженная улыбка.
— Каким образом? — вне себя от любопытства спросил он. — Расскажите.
— Так вот… Мы хотели покататься на лыжах наверху, возле его хижины, а он вдруг выскочил и прогнал нас.
— Ну? — спросил Малетта. — И что же он вам сказал?
— Я уж сейчас не помню. Но с меня этого вполне хватило (свет в ее глазах вспыхнул), ведь учительница тоже всего-навсего слабая женщина.
Охваченный внезапным волнением, он подошел к ней так близко, что услышал кислый солдатский запах ее тела.
Он сказал:
— Ну и глаза у вас! С ума можно сойти, мерзкая вы баба! Совсем как у матроса!
А матрос все еще ждал, и ему было совсем не до цвета собственных глаз. Когда Малетта наконец вышел от учительницы (не повторив своей смехотворной просьбы), матрос ходил взад и вперед по комнате, время от времени выглядывая в окно; медленно наступающий день затуманивал свет ламп, и в домах царили какие-то мутные сумерки. Сняв халат, учительница, голая и белокурая, стояла перед умывальником, внимательно изучала себя в зеркале и решила, что в свои двадцать восемь лет она может быть собою довольна. Груди не обвисли, живот плоский, никто бы не сказал, что она уже родила однажды. Она налила в таз холодной воды, поставила пустой кувшин на место и, наклонившись, почувствовала свой собственный запах — вся она была как взмыленная лошадь. Но, когда фрейлейн Якоби, пофыркивая, опустила лицо в воду, ей вспомнились слова матроса: «И пусть волосы у вас золотые, как солнце, а глаза — синие, как море, и пусть вы сто раз учительница и командирша в школе, но с моей горы вы на лыжах кататься не будете! Понятно вам?»
Утро прошло, и ничего не случилось (матрос затопил плиту и сварил себе обед). Единственным заслуживающим упоминания событием было следующее: увезли труп арестанта. Вахмистр Хабихт и несколько мужчин в плащах с капюшонами погрузили большой продолговатый сверток — раз-два, взяли! — в машину (кругом толпились зеваки), и на том дело кончилось. А Малетта и вправду побрился, умылся, надел свежее белье, в обычное свое время вышел на улицу и тоже, как обычно, отправился в «Гроздь». Там все было как всегда. Никто не устроил ему темную в подворотне. В зале с высокомерно-дурацким видом восседал Франц Биндер, и кельнерша Розль была ничуть не дружелюбнее обычного. Учитель уже ушел (слава тебе, господи!), скомканная бумажная салфетка лежала на столе. И суп, который подали Малетте, был, как всегда, невкусный, но и не отравленный. Укрутника, видимо, не было в Тиши, во всяком случае он пока не появлялся. Не показывалась и фрейлейн Биндер, только из кухни доносился ее жизнерадостный смех. Всякий раз, когда кельнерша распахивала входную дверь и в залу врывался поток ледяного воздуха, пропахшего луком и отхожим местом, этот смех, резкий, глупый, бессмысленный, ножом вонзался в Малетту. И вдруг он увидел перед собой свою смерть, так близко, что даже ощутил ее черное, холодное дыхание, долетевшее до него из глубокой черной шахты, до того страшной, до того безысходно холодной и отвратительной, что в ней можно было только задохнуться и умереть.
Он подозвал кельнершу, расплатился, оставив недоеденным свой обед, надел пальто и вышел. Белая и прямая улица уходила вдаль.
Между тем пробило четверть второго. Матрос уже покончил с едой, а также с мытьем посуды. (Последнее всякий раз вызывало в нем желание покончить с собой.) В обманчивой тишине он закурил трубку, отчего отвращение к жизни несколько ослабло. И стоило ему понять, что глупо сидеть и ждать беды, как его неудержимо стало клонить ко сну. Но едва он поднялся, решив сейчас же лечь в постель, и положил трубку в пепельницу, неожиданно раздался короткий, слабый стук в дверь.
Он изумленно поднял голову и прислушался. Жандармы стучат совсем по-другому. Пожав плечами, матрос вышел в сени и отпер дверь. На пороге стоял улыбающийся Малетта.
Он улыбался (само собой разумеется!), но в его улыбке было отчаяние преследуемого человека, который во всех своих преследователях узнает самого себя и потому знает, что любая попытка к бегству обречена на провал.
— Я как раз проходил мимо, — сказал он, — и увидел ваш дом. Мне вдруг взбрело в голову зайти к вам. У вас найдется для меня немного времени?
Матрос видел его судорожную, отчаянную улыбку (так заставляет себя улыбаться нищий). Он сказал:
— Я знаю. Подобные идеи иногда возникают. Заходите. Вы мне не мешаете. — Он пропустил Малетту в комнату и сказал: — Здесь моя мастерская, поэтому везде глина!
— Все лучше, чем фотографии, — отвечал Малетта.
— Очень возможно! Раздевайтесь, прошу вас!
Малетта расстегнул пальто.
— До Нового года сплошь шли дожди, — сказал он, — а теперь вдруг этот собачий холод. Погода в последнее время совсем сумасшедшая.
Матрос подвинул ему стул.
— Я долгие годы был моряком, — сказал он, — и мне поневоле приходилось наблюдать за погодой. Могу вас утешить: она никогда не была нормальной.
Казалось, у Малетты на уме было еще что-то, что так и рвалось с языка, но он, видимо, справился с собой и сказал только:
— Ну да, вероятно, вы правы!
Они сидели друг против друга и подыскивали какую-нибудь тему для разговора, а тема, волнующая их обоих, казалось, повисла в воздухе, столь угрожающая, что никто из них не отваживался ее затронуть. И поскольку матрос очень мало смыслил в фотографии, Малетта столь же мало в гончарном деле, навигации и т. д. и оба они ничего не смыслили ни в земледелии, ни в скотоводстве, то — как и все зрелые мужчины, не знающие, о чем говорить, — заговорили о том, что касалось всех, то есть о недавнем трагическом событии.
Первым толкнул камень, лучше сказать, дал сорваться лавине (ибо все разговоры о таких событиях похожи на лавину) Малетта, который, как наживку, бросил замечание (по-стародевичьи потупив взгляд):
— Да, в воскресенье много чего случилось. — И следил из-под полуприкрытых век, клюнет ли на нее эта необычная рыбина.
А матрос, не очень-то склонный распространяться об этом, взглянул на него, словно ничего не понимая.
— Вы знаете, что я имею в виду? — спросил Малетта. — Или нет?
Матросу некуда было деваться, и он сказал:
— Конечно, знаю. Вы имеете в виду доблестное завершение облавы.
— Народный праздник, не так ли?
— Да, черт возьми, они устроили праздник! И я не смог его испортить этой банде!
Улыбка скользнула по губам Малетты.
— А у вас было такое намерение? — спросил он. — Неужто вы такой охотник портить людям удовольствие? Ведь вы так же «любите» людей, как и я.
Матрос удивленно и недоверчиво взглянул на него. ПоДумал: откуда я знаю этого малого? Он занимает какое-то место в моих воспоминаниях. Где-то я с ним уже встречался! Матрос взял трубку и выбил ее. Потом сказал:
— Я, мягко выражаясь, плевать хотел на людей. По мне, пусть занимаются чем угодно. Но на сей раз, на сей раз я бы с удовольствием им насолил. — А потом: — Если хотите, это даже мой долг, а кроме того, очень уж подходящий случай. Но черт прислал ко мне сестру милосердия, и она дала мне наркоз, чтобы я ничего не заметил. Я только-только в себя пришел, когда раздались выстрелы.
Малетта (с улыбкой):
— Но это же был убийца!
Матрос:
— Убийца? Не больше, чем вы или я.
— Но ведь он сознался, — сказал Малетта.
— Да, после того, как они его избили.
Они переглянулись.
— Очаровательные люди, не правда ли?
А матрос:
— Чего тут говорить, их ведь не изменишь.
Малетта:
— Но их надо любить. От нас этого требуют.
Матрос смотрел прямо перед собой.
— Да, я знаю. Но, спрашивается, как? По-моему, этот фокус не удастся уже и господу богу или разве что, если он закроет глаза.
И снова эта омерзительная улыбка. А потом:
— А что мы теперь знаем о господе боге? Разве мы понимаем, что богоугодно, а что нет?
Матрос попытался заглянуть в глаза Малетты, но как будто увяз в жидкой каше. Он подумал: одно я знаю точно, плавленый сыр вместо лица угоден богу так же мало, как и мне.
А Малетта:
— Возможно, в этом и заключается его божественный трюк!
— В чем же именно?
— В том, что можно от стыда закрыть глаза.
— Вы думаете? Ну, не знаю.
— Уверяю вас, это так, — сказал Малетта и ухмыльнулся. — Я и сам пробовал, только не получается. Поневоле то и дело открываешь глаза, — сказал он. — Сами понимаете, что особой любви к ближним я при этом не испытывал. Потому-то я несколько лет назад дал тягу и, как видите, докатился до этой коровьей деревни. Здесь мало людей (так я думал!), и если они к тебе не липнут, то еще жить можно. Но и эта надежда (последняя!) не оправдалась. Теперь я знаю: в деревне еще много хуже. В воскресенье я смотрел из окна своей мансарды — принимал парад. Мне казалось, что это захолустье затопил поток нечистот. Словно вдруг, разом переполнились все выгребные ямы. На фоне леса и неба, в обрамлении тишины это выглядело особенно прелестно. И я еще должен здесь что-то любить? Нет! К черту!
Матрос набил трубку и закурил. Он думал: проклятье! Не надо было впускать этого типа. Он сам как выгребная яма.
— Вы даже не можете себе представить, — сказал Малетта, — как я счастлив, что встретился с вами. Когда я увидел вас в воскресенье, я почувствовал себя… Ну, как бы вам объяснить? Я почувствовал себя военнопленным, что годами искал возможность побега и вдруг обнаружил в колючей проволоке лазейку, через которую он может выбраться на свободу.
Матрос поднял брови. Он думал: что такое? Верно ли я расслышал? Он хочет выбраться на свободу. Через меня? Выбраться из самого себя? Я должен стать той лазейкой, через которую он улизнет? А потом:
— Не надейтесь на меня понапрасну. Я всего только человек!
— Я знаю. И вы этим гордитесь?
— Нет, боже упаси! Иной раз я предпочел бы быть скотом. Иной раз мне стыдно, что я человек.
— Тот, кто еще чувствует себя частью человечества, — сказал Малетта, — либо исключительный тупица, либо попросту негодяй. Но я вижу кругом довольные морды, как у сытой скотины! В общем… Вы понимаете… Я ненавижу людей!
Матрос насторожился. Подумал: боже правый! Как же так? Ведь это мои собственные мысли! Я мог бы сказать точно то же самое.
Он искоса следил за Малеттой, а тот сидел у окна, как сгусток темноты, и в клубах дыма, мешавшегося с сумеречным светом, его лицо казалось туманным пятном. Он сказал:
— Я занялся фотографией. Не знаю, как я набрел на эту идею. Время тогда было дурацкое, вскоре после войны. И мужчины хотели смотреть на голых девушек, что в общем-то вполне понятно. Пожалуйста! Вот вам, к примеру, дочки дворника в костюмах Евы. Носите их на здоровье в своих бумажниках. Наслаждайтесь их прелестями! Это помогает забыть обугленные, изуродованные трупы! Потом о трупах забыли, на удивление скоро. Но, пожалуй, не из-за дворниковых дочек! Люди опять обрели мужество и захотели смотреть на собственные физиономии. Ладно! Извольте! Получайте ваши рожи! Убеждайтесь, какие вы симпатичные. Я тут ни при чем, все делает фотоаппарат. И они быстро убедились в своей симпатичности, так быстро, словно никогда в ней не сомневались. У меня было много, очень много работы. Да, работа была, но надежд не осталось. Итак, я стал порочным, правда, разлагал я лишь самого себя: я окружил себя этими фотографиями, этими харями, чтобы снова и снова их рассматривать. Вы можете как-нибудь на них взглянуть, если захотите. Я и в Тиши так же устроился. Я стал одержимым. Мне необходимы эти морды. Они питают мою ненависть — основное содержание моей жизни. Но вдруг в воскресный полдень я выглядываю из окна и вижу спину. Спину, от которой отскакивает вся эта мерзость. Спину, которая, кажется, говорит: поцелуйте меня в задницу! Вас удивляет, что я употребил подобное выражение, не так ли? Вы должны знать, что человек из хорошей семьи и к тому же довольно застенчивый после таких слов чувствует себя обновленным. Так что же я хотел сказать? Ах, да, верно! Ваша спина! Видите ли, от меня ничего не отскакивает. Все жизненные впечатления проникают в меня, скапливаются, нагромождаются, и мне иной раз кажется, что я от них задохнусь. В тропиках, в пятидесяти- или шестидесятиградусную жару, без пут воспитания, я бы, пожалуй, превратился в одержимого амоком человека с ножом в руках, но здесь, в этом мещанском гнезде…
Матрос уже не слушал его. Недвижно глядя в надвигающуюся темноту, он думал (Малетта без передышки продолжал свои излияния): неприятное ощущение растет наперегонки с темнотой. Думал: а моя спина? Вправду ли от нее все отскакивает? Да и зачем оборачиваться к ним спиной? Или ты думаешь, что сзади ты неуязвимее, чем спереди? Что делал ты все эти годы? Разве ты не убегал постоянно от чего-нибудь? Не потому ли ты поворачиваешься к ним спиной, что все еще надеешься убежать?
И вдруг:
— Убить!
Кто это оказал? Малетта? Мысли матроса застопорились, вернее, просто исчезли, их словно разметало взрывной волной. Не двигаясь, не дыша, он сидел и слушал, чувствуя в себе свистящую, сосущую пустоту, в которой еще звенел отзвук этого слова (так воздух дрожит после разрыва бомбы). И правда:
— Убить! — сказал Малетта. — Человек должен снова получить право убивать. Ибо если кто-то уже созрел, чтобы исчезнуть с лица земли, то лучше его подтолкнуть, чем не пускать.
Матрос ничего ему не ответил, у него вдруг пересохло во рту. Он думал: быть может, я убежал от самого себя, а теперь сижу лицом к лицу с собою.
— Мы заблуждаемся, — продолжал Малетта, — ибо сейчас у нас передышка. В настоящее время наша страна — тихий уголок. — А потом: — Вы когда-нибудь убивали людей?
— Нет. А почему вы спрашиваете?
— Просто так, мне хотелось знать.
— Нет, я еще никого не убивал, но иной раз был бы не прочь это сделать.
— На войне, — сказал Малетта, — человек должен убивать, хочет он того или нет.
А матрос:
— Слушайте! Ничего мы не «должны»! Даже жить мы не «должны»! С этого надо начать!
Малетта, казалось, слушал с напряжением и жадным любопытством. Он сказал:
— Но существует долг! Долг! И присяга!
— Такую присягу приносят, либо скрестив пальцы, либо вообще плюют на нее. Потому что долга, на который вы ссылаетесь, вовсе не существует! — А дальше: — Поскольку я не виноват, что появился на свет, не выбирал себе ни родителей, ни родины, и тем не менее должен нести ответственность за свои поступки, я не хочу быть чем-либо связанным.
Малетта сидел перед ним мрачный и неподвижный. Он сказал:
— А если бы вас заставили?
А матрос:
— Господи боже мой, почем же я знаю? Вероятно, я бы не позволил себя заставить.
— Однажды я стрелял, — сказал Малетта, — стрелял, потому что мне приказали. Я знал: этот приказ — преступление. И все-таки повиновался, и все-таки стрелял.
Матрос опустил веки, словно засыпая. Ничего не сказал. (Да и что он должен был на это сказать?) Но ему вдруг показалось, что у него отнялся язык и лежит во рту как сухая морская галета. И перед глазами матроса возникла картина: дом на склоне горы, перед ним колодец, несколько деревьев. И он при всем желании не мог бы объяснить, почему именно сейчас явилась ему эта картина.
— Только через несколько лет, — продолжал Малетта, — когда все уже было позади, когда люди снова стали нагуливать жир, я вспомнил об этом своем подвиге. И с тех пор я чувствую неодолимую потребность наверстать то, что тогда упустил, — повернуться и выстрелить в другую сторону, выстрелить в тех, кто в мирное время нагуливает жир.
У матроса перед глазами все еще стояла та картина, и только тут он понял, что это его собственное обиталище — вид с дороги на хижину гончара. В это мгновение он различил и повешенного.
— Первое время после войны, — сказал Малетта, — верилось, что человечество поумнеет. Чепуха! Оно ничего не поняло! Ничему не научилось! Мы идем вперед! Мы довершаем начатое. Не так ли?
Он рывком поднял руку и стремительно ее опустил — как топор.
Матрос услышал удар по столу, словно топор ударил в затылок человека.
А Малетта:
— Вы только посмотрите на этих людей! Они притворяются, что ничего не случилось! Чувствуют себя превосходно! Они едят, пьют, спят — дай бог каждому! Работают! Делают детей! А во время какой-то пьянки оказывается, что приговор уже вынесен. Ибо случай ясен. Неясным он кажется лишь потому, что мы притворяемся.
Но повешенный находился сейчас в окружении уютного пейзажа. (Или это была только его отторгнутая голова? Голова, отделенная от тела, которое лежало на земле, дергаясь, цепляясь за траву, как живое.) Посиневший язык вывесился из глотки; побелевшие глаза вылезли из орбит. И эти глаза, казалось, были устремлены в одну точку, далекую точку во мраке прошлого. Матрос видел, что они смотрят на него, но смотрят так, словно его здесь нет: глаза сквозь него недвижно смотрели в точку, которую в настоящее время никто уже видеть не желал.
— Мы с вами сейчас в тихом уголке, — сказал Малетта. — Но суд заседает везде одновременно, а следовательно, и здесь. И если приговор уже вынесен, придется нам привести его в исполнение. Ибо мы приведем его в исполнение над собой.
(Матрос видел все те же мертвые глаза.)
— Господь бог не станет марать себе руки…
(Матрос понял: то были глаза его отца.)
— Ибо теперь он знает: эксперимент не удался…
(У глаз больше не было взгляда, они были как два камня.)
— …а потому закрывает глаза и идет дальше.
(В этот миг глаза исчезли.)
Матрос заморгал и огляделся. Он думал» так! До поры до времени с меня довольно. Сейчас я выставлю этого малого на свежий воздух; ему он будет полезен. А я наконец-то пойду спать!
Он снова раскурил трубку, так как она, само собой разумеется, погасла. И в свете спички на секунду увидел лицо Малетты; казалось, оно сейчас треснет пополам. Матрос спросил:
— Вам все это так точно известно? — Он смотрел на спичку, догоравшую и догоревшую у него между пальцев. Потом несколько раз посильней затянулся и выпустил дым прямо в нос Малетте.
А тот:
— Отныне все средства у нас в руках. Бог не станет разыгрывать из себя морильщика клопов. Он знает: паразиты сами себя истребят. И в этом им пособят ученые. Ученые! Гигантские счетные машины! Им придан неправдоподобный разум, но что касается зрелости и мудрости — они недоросли. Они мир превратят в ад: забетонируют землю и отравят воздух! А нас сделают автоматами, механизированными, моторизованными термитами. И все это «на благо человечества»! Все это во имя «мира» и во имя бизнеса! Так разве не возникнет у нас желания помочь им? Разве снова не возникнет желания стрелять?
А матрос (про себя): что же такое делается? Неужто это я сам сижу напротив себя? Или человек уже научился читать мысли? Похоже, он ворует мои мысли и превращает в слова. Ворует мое отвращение, мои страхи, мое отчаяние? Все это он разжевывает в своем неаппетитном рту, а потом выплевывает мне в лицо, как вишневые косточки, и выходит, что я, таким образом, веду разговор с самим собой! И еще:
— Помилование может прийти и в последний миг.
А Малетта:
— Если мы вовремя не вымолили себе милости, тогда нет. А если завтра — поймите меня, — если завтра мир будет охвачен пламенем, если вода станет гореть, как бензин, если море и небо, превратившись в огонь, обрушатся на нас — тогда…
— Да, тогда, пожалуй, поздно будет молить о милости.
— Или это уже и есть помилование? — сказал Малетта. Он вскочил, как будто палач вдруг натянул веревку. И сказал: — Да, но теперь мне надо идти, а не то на меня еще нападет темнота. — Покуда матрос вставал с места, Малетта уже натянул свое пальто, так быстро, словно решился бежать. — Мне стало легче, — сказал он, — оттого, что я хоть раз поговорил с человеком одних со мною убеждений.
Матрос хотел помочь ему одеться, но его учтивость пропала втуне.
— Я ничьих мнений не оспариваю, — сказал он, — все равно, согласен я с ними или нет.
Малетта бросил беглый взгляд на кувшины и горшки.
— У них красивые формы! — довольно кисло проговорил он.
А матрос:
— Главное их преимущество в том, что они полые. В них что хочешь можно вложить.
Они вышли из дому. Воздух был прозрачен и безвкусен. Облачный покров, гладкий, темный и переливчатый, висел над четко обрисовывавшимся ландшафтом.
Матрос понюхал воздух. Он сказал:
— Обратите внимание! Погода меняется! — Потом пожал руку фотографу. — Итак, до роковой развязки!
Он смотрел ему вслед, пока тот, спотыкаясь, шел вниз по дороге, потом вернулся в дом. Он думал: если я и вправду одних с ним убеждений, то мне следует в корне перемениться!
Он помешал в плите, подбросил немного дров и прошел в свою спаленку. Но помедлил перед зеркалом над умывальником; его охватила какая-то неуверенность относительно своего отражения. Вдруг ему почудилось, что вместо него в зеркале мог запросто появиться Карл Малетта, что этот отверженный, проклятый человек всю жизнь сидел, притаившись за грязным стеклом. Но поскольку ему вдруг стало до ужаса ясно, что нельзя спастись от самого себя и от правды, и поскольку любопытство его было сильнее страха, он наконец все же открыл глаза. Ничего: темный ночной силуэт, в который можно вписать любое лицо, ибо уже совсем стемнело, а зеркало, и без того полуслепое, было к тому же покрыто пылью. Итак, он зажег спичку, и, высоко держа ее (ибо что толку ему от этой неопределенности), в свете крохотного огонька увидел свое прежнее, хорошо знакомое лицо.
Между тем Малетта уже подходил к деревне, но в своем удрученном состоянии этого даже не заметил. Опустив голову, засунув руки в карманы, он шел и размышлял. Он чувствовал себя обманутым, так как надеялся (себе в утешение) наткнуться на противоречие. Но тот — да и как бы могло быть иначе? — предоставил говорить ему. Возле первых дворов он пришел в себя. Осмотрелся, ночная темнота сгущалась. Снег уже переставал светиться, и чем он меньше светился, тем прозрачнее казался воздух. Отдаленнейшие кулисы (лесная опушка, горная цепь над крышами) вдруг устрашающе приблизились. Улица тоже сделалась короче и уже (внезапно открылся каждый ее изгиб), потому что все это более не имело перспективы, все, как в старинной шкатулке, вдвинулось одно в другое. Дома, мрачные и словно заплесневевшие под бременем снега, росли на глазах и сердито пододвигались к нему, грозные в этом кристально-прозрачном недвижном воздухе, пропитанном мерзким запахом сточных ям; дым торопливо и вертикально поднимался из труб, словно его всасывало какое-то невидимое устройство вверху. А шорохи? Тоже близкие, тоже совершенно отчетливые! Как будто улица была воронкой, из которой они шли! (Из хлевов и сараев доносилось топотанье скотины, звяканье цепей; где-то хлопнула дверь, где-то заскрипели половицы.) Лампы уже зажглись в домах, тени их обитателей скользили по занавескам, и — в прозрачном кристалле ночи — начал изнутри светиться снег.
Но Малетта заторопился домой потому, что голову ему вдруг как тисками сдавило. Да и вообще вся ситуация показалась ему тревожной и чреватой неведомой опасностью. В каком-то доме из комнаты выгоняли вонь — случай примечательный и крайне редкий. Через широко распахнутое окно доносился дребезжащий металлом голос: было семнадцать часов, и радио передавало последние известия. На мгновение он остановился и прислушался. Увы, уже только сообщение о погоде. «Теплые массы морского воздуха. сопровождаемые ураганным западным ветром, широким фронтом устремились на материк…»
Упало давление! Теперь все понятно! Головная боль! Отчаяние! Мысли о самоубийстве! Он сделал над собой усилие и пошел дальше, а голос продолжал дребезжать за его спиной, и голову ему сжимали тиски. Несколько минут спустя он добрался до своей берлоги, но в ту секунду, когда он нажимал ручку калитки, произошло непредвиденное.
Из таинственной темноты подворотни на другой стороне улицы, наискосок от его дома (подворотня всегда казалась ему подозрительной), вынырнула призрачная закутанная фигура, видимо поджидавшая его.
— Господин Малетта!
— Да?
— Одну минуточку!
Бог ты мой! Да это же Герта Биндер! Храбро шагая по снегу, она перешла улицу и предстала перед ним.
Герта задыхалась от волнения. Ее лицо под платком, накинутым на голову, было смущенным и растерянным.
— Вы удивительно деликатно себя вели, — прошипела она. — И это называется интеллигентный человек! Фу ты черт!
Малетта успел овладеть собой, на губах его заиграла улыбка, сладкая, как сахарин. Он сказал:
— Я совершенно подавлен, можно сказать, уничтожен. Но все это был злой рок; я ничего не мог с собой поделать.
— Не выдумывайте! Вы все это подстроили!
— Но фрейлейн Герта! В чем вы меня обвиняете? Я же люблю вас.
— Вот и отлично! А я пришла к вам. Немедленно отдайте мне пленку!
Улыбка Малетты обернулась мерзкой ухмылкой.
— Но это невозможно. Так никогда не делается.
— Почему? Она ведь вам больше не нужна!
— Нужна, и даже очень. Я хочу хоть изредка смотреть на нее.
Она с мольбой на него взглянула.
— Сейчас же отдайте мне пленку!
А он:
— И не подумаю! Я хочу иметь вас хотя бы в качестве негатива.
Не зная, как быть, она кусала себе губы и наконец сказала:
— Я у вас не задаром прошу. Разумеется, я оплачу свои фото и сверх того пленку.
Малетта смиренно потупился и сказал:
— К бедности я привык, и денег мне не надо. Снимки я сделал бесплатно; это мой подарок, а пленку оставлю себе.
Хотя ее лицо расплывалось в сгущающейся темноте, постепенно становясь только смазанным, бледным пятном, когда она еще раз пронзительно на него взглянула, ему показалось, что на нем промелькнула усмешка.
Она сказала:
— Ну что ж! Денег вы не берете! Значит, вы не вымогатель, так ведь? Но, может быть, вы хотите получить что-нибудь другое. На свете много чего есть, кроме денег. — И сказала (вплотную к нему приблизившись, но тем не менее оставаясь далекой и неправдоподобной): — Разве уж так хороши эти снимки? В действительности многое куда лучше.
Малетта на секунду затаил дыхание (жидкая его кровь прилила к голове) и уже открыл садовую калитку, решив отдать ей пленку, но потом, охваченный внезапным сомнением, внезапным желанием поверить в невероятное (ибо ее слова прозвучали вполне серьезно), снова обратился к ней.
— Это была только шутка? — сказал он.
А она:
— Шутка? Мне теперь не до шуток! Если вы сейчас не отдадите пленку, то не видать мне моего жениха как своих ушей.
Малетта вздохнул глубоко, с облегчением. Ледяной воздух обжег ему грудь. Он сказал:
— Черт побери! Неужто все так худо обстоит?
А она:
— Еще бы! Вы же сами прекрасно знаете, жалкий вы негодяй!
— И вы бы действительно?.. — спросил он.
— Если вы требуете этого в качестве уплаты, то почему бы и нет? Я же в конце концов не состою в союзе девственниц. К тому же и я рассчитываю получить свою долю удовольствия.
Намек был достаточно прозрачным, сомневаться больше не приходилось. Опьяненный своею властью над ней, Малетта выпрямился и сказал:
— Хорошо! Вы получите пленку! Идемте! Железо надо ковать, пока горячо!
Герта быстро сделала шаг в сторону и сказала:
— Не сейчас. Сейчас мне надо домой. Принесите ее завтра в обед в «Гроздь». Там и сообразим, где и когда…
Казалось, она хотела продолжить разговор, но нет, она только коротко хихикнула, и в момент, когда он протянул к ней руку, чтобы схватить ее и хотя бы символично овладеть ею, она боком перескочила через снежный барьер, а он как дурак схватился за пустоту. И тут на него вновь обрушилась шутовская колотушка головной боли, Герта же ускользнула, растворилась как призрак.
Это произошло в четверть шестого, а несколько часов спустя деревня погрузилась в сон и тишину. Пробило девять: в домах погасили свет. Пробило десять: деревня застыла, как бы остекленела. Потом одиннадцать (за облаками плыла луна и бледным светом заливала снег). А вскоре после одиннадцати поднялся обещанный западный ветер; вскоре после одиннадцати деревню начали сотрясать удары.
Сначала казалось, что на деревню дышит огромный рот, темное дыхание веяло сквозь лес. Деревья клонились и мгновенно распрямлялись, их ветви, шипя, тонули в потоках ветра. Мрачное шипение горизонтально стелилось над деревней и вертикально вздымалось от земли к небу. Возник крест из черного шипения, и вдруг раздалась барабанная дробь.
Люди, жившие возле церкви, проснулись. И сказали:
— Ветер! Наверно, где-нибудь не закрыли дверь.
И правда! Дверь мертвецкой стояла настежь (ее еще с утра забыли запереть). Налетел западный ветер и швырнул дверь. Но она не захлопнулась, она отскакивала назад от дверной рамы. Западный ветер снова швырял ее, но она снова отлетала ему навстречу. И опять — туда-сюда, туда-сюда, все быстрее, все громче! Мертвецкая грохотала, как гигантский барабан. Ибо то, что пусто, грохочет особенно громко.

Двадцать девятое января. Еще ночь. Задыхаясь, Малетта просыпается. Жадно ловит ртом воздух, пульс у него бешено скачет. Ему кажется, что он сейчас умрет. Тьма, скорчившись, сидит у него на груди, точно черный злой дух, точно огромная негритянка. Сдавливает ему горло своими толстыми ляжками и страшным бородатым ртом прижимается к его лицу. Он поворачивает голову, сквозь эти ляжки смотрит на часы (смотрит всепроникающим взглядом мыслящего человека). Напрасно! Светящийся циферблат — круг с двенадцатью звездочками — и обе стрелки (они выглядят совершенно одинаково) задают ему неразрешимую загадку: может быть, сейчас четверть первого, а может быть, уже три часа. Но не ляжки, сквозь которые просвечивает загадка времени, бессмыслица цифр и стрелок, не эти ляжки и не удушливый поцелуй бородатых губ разбудили его. Нет, Малетту бьет нервная дрожь, и еще он чувствует, как легонько дрожит кровать — отзвук более сильного сотрясения, словно в соседней комнате поднялась с постели фрейлейн Якоби. Под тяжестью громадного тела, что держит его как в тисках, липко к нему прижимается и тем не менее покорно уступает каждому его движению, он с трудом встает и вслушивается в темноту. В комнате учительницы тишина. Спят гимнастические снаряды, отдыхают на скалистых вершинах дремоты. Ни один Зигфрид не посмеет затрубить в рог. Малетта, натянутый как струна, сидит в постели и слушает затаив дыхание. Бешеные удары сердца сотрясают его. И тут он и вправду слышит шорох, шорох без начала и без конца, шорох, который нескончаемо струится сквозь ночь, как тело нескончаемой, серебристо мерцающей змеи… Ну конечно: журчание подземных вод! Темная трель темной пастушьей свирели. Так булькает что-то в глотке поперхнувшегося человека. Огромная водяная змея проснулась! Под трупным окоченением синеватого льда, сплющенная между крышей и снежным покровом на ней, развертывает она свое тысячекратное тело. Струится с крыши в водосточную трубу, туда, где отчетливей слышна ее странническая песня; неустанным потоком низвергает в ночь свои колоратуры. А к окну в это время прижалось другое тело (серое, плавающее во тьме), стекла дребезжат от внезапного напора, содрогаются от барабанной дроби падающих капель — море! Теплое дыхание моря! Матросы, мореплаватели раздувают ноздри! Это дыхание донеслось сюда сквозь стылые леса (где ветви с хрустом стукаются друг о друга) и весело устремилось в мокрые от талого снега деревенские трубы, которые начинают звучать, как флейты. О угольно-черная влага! О дочь мясника! О злой ночной дух! Малетта сбрасывает одеяло, вскакивает с постели. Веревку! Ради всего святого, веревку! На чердаках уже раскачиваются бельевые веревки! Он стоит в темноте — звенящий, поющий столб линии электропередач. Звуки арфы, эоловой арфы! Далекие звуки рогов! И наконец, гром, тот самый, что, по-видимому, разбудил его: сначала какое-то скольжение по крыше, и тут же удар, что-то тяжело шлепается вниз, глухое падение, от которого содрогнулась земля и пол закачался, словно огромный, величиной с гору, бык испражнился на улице.
Прошло время. Ветер принес новый дождь. И повсюду с крыш пополз талый снег. Он падал в воду, бежавшую по водосточным канавам, вода выходила из берегов и затопляла тротуары. Малетта — он уже опять залез под одеяло — без сна лежал в темноте и прислушивался. Смятение, от которого у него внезапно захватило дух, бушевало уже не только в нем, но и вокруг, в ночи.
Смотри! Все вдруг изменилось! Смешалось! Все рушится (и нет спасения)! Сливается! Скользит! Пачкается! Падает наземь и разлетается брызгами! По каналу струится в преисподнюю! И — смотри же! — где она теперь, гордая Неприступная? Перелом погоды, и вот уже тает ее спинной хребет! Чистота сердца! Чистота плоти! Все станет дерьмом! Чтобы сохранить себя, она от себя отрешается, теряет себя. И поделом! В конце концов, она сама должна знать, что творит. Не мое это дело ее беречь, спасать. Я не буду играть в благородство, не смирюсь, потому что — видит бог! — мне уже нечего терять! И потом: она ведь взрослая, почти что старая! Она должна знать, и она узнает, что более ценно! И еще: все и так уже кажется обманом. Вероятно, она знает себе цену, и цена эта равняется нулю. А деньги, которыми она платит, тоже ведь могут оказаться фальшивыми, и я стану еще беднее, чем теперь? В местности, что превращается в жидкое месиво, нет больше земли и нет расстояний. Еще бы! Обладать шлюхой — небольшая победа! Но, думал он, она же еще не шлюха. Только я, Малетта, сделаю ее такой. Я! Я оскверню и унижу ее!
Настал день (день бурный и дождливый), за окном еще едва развиднелось, а в соседней комнате уже поднялась фрейлейн Якоби и стала насвистывать обычный утренний концерт.
Я проволоку ее по дерьму! — думал Малетта. Да она и сама потащится за мной по всем навозным кучам! А потом — потом я возьму ее, эту мясникову дочку, возьму, как берут потаскуху.
Одиннадцать часов утра. Матрос стоит в своей комнате — темнота, как в трюме. Запрокинув голову, закрыв глаза, стоит они вслушивается в себя и в то, что творится вокруг. Что-то происходит за стенами его дома. Великая ломка! Кажется, и в нем самом что-то происходит! Всю ночь ему снилось море. Снилось, что опять он вышел в море! Он слушает: капли барабанят по стеклу. Мощные порывы ветра сотрясают домишко, завывают в трубе. Горы вздыбливаются, точно синие волны (синие, как ночь). И лес на горах шипит, как пена на гребнях волн. Потом наступает затишье — только вдали замирающий рокот да журчание воды в сточном желобе. Матросу кажется, что он слышит шаги, кто-то приближается к его дому, топает по рыхлому снегу. Ему чудится, что в дверь постучали. Нет! Вправду стучат! Стучат громко и решительно! Жандармы! Значит, его час пробил. Он открывает дверь. Человек в форме. Да. Но это почтальон.
— Повестка?
— Нет, посылка.
— Что это может быть?
— Не знаю. От какой-то фирмы, наложенным платежом. Примите посылку.
Порыв ветра толкнул почтальона прямо на матроса, и тут он понял: в посылке окарина.
Он писал в музыкальный магазин, предлагавший в календаре свои услуги. Писал: «Прошу вас, пришлите мне окарину…» И вот ее прислали.
Он расплачивается и еще дает почтальону на чай. Уносит посылку в комнату. Осматривает ее. Взвешивает на руке. Кладет на стол и вскрывает. Вот она, окарина! Гладкая и темная, как морской зверек; она лежит, точно выброшенная волною на берег, и всеми своими дырками, как глазами, смотрит на матроса.
Зазвонил колокол — двенадцать часов. Но ветер в клочья разорвал колокольный звон. Он растворился в черном потоке ветра, прежде чем достиг людских ушей. Малетта вышел из дому с фотопленкой в кармане: сразу же угодил в глубокую лужу, схватился за шляпу, придержал ее и почувствовал, что вода залилась ему в башмаки. Пальто забилось у него между ног — точь-в-точь деревянная лошадка на палочке, — и он то ли скакал, то ли плыл, то ли летел по улице. Кругом ни души! Дождь хотя и перестал, но деревня выглядела как после всемирного потопа. С крыш смыло весь снег! Зато по улице широкой рекой текла бурая жижа. Ребятишки по пути из школы прыгали в эту реку, обдавая друг дружку фонтанчиками брызг. Малетта жался к стенам. Но толку от этого было чуть: ноги у него уже промокли до щиколоток, и он все время зачерпывал башмаками воду, хотя и не шел, а летел, скакал на «деревянной лошадке».
В полных воды башмаках он явился в «Гроздь».
Учитель в лыжном костюме уже сидел там; он бросил взгляд на фотографа.
— Смотрите-ка! Сам господин Малетта! — сказал он. — Где ж это вы пропадали в воскресенье? Прихворнули, что ли?
Малетта снял пальто, уселся и сказал:
— Да. Я простудился. Может, вам представить медицинское свидетельство? Или поверите мне на слово? — И с таким видом, будто ответ учителя его нимало не интересует, Малетта отвернулся и поглядел по сторонам. Один коммивояжер, два возчика и кельнерша — больше никого. Ни Франца Биндера, ни Герты не было.
А учитель:
— Ну зачем же сразу злиться? Я просто хотел узнать, как вы поживаете. Только и всего.
А Малетта (по-прежнему не глядя на учителя):
— Вы же видите, я еще жив.
Кельнерша Розль принесла им суп, и разговор прекратился сам собою.
Оба с облегчением склонились над своими тарелками и принялись хлебать теплую желтоватую водицу.
Рев бури за окном, бури, что перепахивает зиму, доносился до них, словно глухой непрерывный зов. Зов великого пахаря проникал сквозь стены, грубый хриплый зов. Оба возчика подняли головы и прислушались — эти звуки, видимо, были хорошо им знакомы.
— Слышишь? — сказал один с блаженной улыбкой.
Второй кивнул, схватил свой стакан и выпил.
Суп был уже выхлебан. Господин Лейтнер положил орудие жратвы на тарелку и сказал:
— Сегодня ночь лунного затмения. Но надо надеяться, что потом станет достаточно светло, чтобы хоть что-то увидеть.
Малетта, раскрошив кусочек хлеба, катал из крошек маленькие колбаски. Сейчас он поднял глаза и спросил:
— Полное затмение? — И тут же оцепенел.
Входная дверь напротив него вдруг широко распахнулась, и в залу, окутанный ароматами кухни и отхожих мест, во всем своем великолепии вошел скототорговец Константин Укрутник.
Он притворился, что не видит Малетту. Что Малетта не более как пустое место. Величественно, большими шагами он проследовал к стойке — дверь за ним с шумом захлопнулась, — открыл водопроводный кран, взял кружку, ополоснул, наполнил ее, посмотрел на свет и, видимо, решив, что она чистая, одним глотком ее осушил.
Затем поставил кружку на место, тыльной стороной ладони отер губы, не спеша повернулся на каблуках и через другую дверь вышел в подворотню.
Малетта неподвижно сидел на своем стуле, втянув голову в плечи, и, покуда шаги скототорговца гулко отдавались в подворотне, не сводил глаз с зажатой в пальцах колбаски из хлебного мякиша.
А учитель (который задолжал ему ответ, так как напряженно наблюдал за происходящим):
— Да-да! Полное затмение! Начнется в двадцать один час сорок минут.
И тут явилась свинья! Принесли свиное жаркое.
— Пожалуй, жирновато!
— Вообще мяса нет! — сказал Малетта.
Они снова склонились над тарелками; с улицы сквозь стены проникал мрачный зов.
И опять один из возчиков сказал:
— Слышишь? Вот это задувает!
Коммивояжер скорчил такую мину, словно промерз до костей. Он быстро и нервно обернулся к окну. Затем поднялся и взял с соседнего столика газету.
Малетта с отвращением жевал жаркое. От теплого жира у него сразу же заныло в животе. Кишки у него сжимались, казалось, он ест последний обед приговоренного к смерти. Он весь скрючился и поджал ноги к животу; вода, что была у него в башмаках, вода, что при каждом движении омывала ему пальцы, чавкала, как будто он под столом ел ногами.
Наконец он одолел жаркое. Отвращение поднялось выше и защекотало его под языком. В голове притаилась мучительная боль, готовая с затылка вот-вот перепрыгнуть в глазницы.
Учитель промокнул губы бумажной салфеткой.
— Да, верно. Что-то я хотел вас спросить… — начал он.
Но в этот момент дверь из подворотни открылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова Герты Биндер.
Герта взглянула на Малетту. Взглянула широко открытыми глазами. И — ей-богу! — она даже улыбалась. Уголки ее рта были чуть-чуть приподняты.
А учитель (сразу же):
— Честь имею, фрейлейн Герта! Как поживаете?
А она (с кокетливыми ямочками на щеках):
— Спасибо, хорошо. — Она сделала Малетте какой-то знак глазами и тут же исчезла.
— Счет! — крикнул Малетта. Он почувствовал, что у него задрожали колени. Швырнув деньги на стол, он встал и взялся за свое пальто.
— Что я хотел вас спросить, — сказал учитель, — вы уже дочитали книгу?
— Какую книгу?
— Которую вы у меня взяли.
— Ах, эту! Даже еще не начинал.
Явилась кельнерша, взяла деньги и стала искать мелочь. Малетта в нетерпении протянул руку.
— Надеюсь, — сказал учитель, — вы скоро ее прочтете.
И вдруг деревня словно бы развалилась на части. Коммивояжера подбросило в воздух. Вслед за ним обоих возчиков. Все бывшие в это время в зале повскакали с мест и разинули рты.
Мимо прогрохотал тяжелый грузовик и окатил дом грязью. Темным потоком, застившим дневной свет, потекло по окнам бурое снежное месиво.
— Господи помилуй, — пробормотал один из возчиков, садясь на место, другой разразился громовым хохотом.
— Вот это да! — сказал учитель.
Но Малетта уже открыл дверь и вышел вон.
Подворотня! Сквозняк выдул пыль из углов и теперь маленькими вихрями кружил ее над мостовой. Сырые грязно-белые стены гудели. Казалось, великий пахарь ревет, сложив руки рупором.
Малетта сунул сдачу в карман. С трудом застегнул пальто, полы которого неистово полоскались на ветру. Дверь в мясную лавку была широко распахнута, и в отдалении, в белой кафельной глубине, он увидел Герту. С куском сырой говядины в правой руке она вышла из-за прилавка. Кровавое, неопределимое нечто, которое она держала кончиками пальцев, обвисало грузно и дрябло. Герта прошла вдоль стены, подняла руку и повесила мясо на крюк. Потом обтерла передником пальцы, бросив при этом быстрый взгляд на дверь, и, притворяясь, что ничего не заметила, вернулась обратно за прилавок.
Малетта, неслышно ступая, вошел в лавку (за его спиною ревел пахарь). Герта не удостоила его взглядом, она упорно смотрела вниз, на мраморную плиту. И вдруг подняла глаза.
— Двести грамм брауншвейгской? — спросила она настороженно.
— У меня в кармане пленка, — сказал Малетта.
Она вскинула брови.
— Какая еще пленка?
— Пленка, на которой вы сняты.
Она посмотрела на него точно из дальней дали.
— Хорошо, — сказала она, — в таком случае давайто ее сюда.
А Малетта:
— Минуточку! Вы ведь мне кое-что обещали.
А она:
— Ах, вот что! Разве я вам что-нибудь обещала?
Малетта почувствовал, как головная боль перепрыгнула с затылка на макушку. Он спросил:
— Вы уже позабыли наш разговор? Или его вообще не было?
Герта вышла из-за своего укрытия и крадущимися шагами приблизилась к нему, на ходу медленно снимая передник.
— Прошу, — сказала она. — Я готова. Но сперва дайте мне пленку.
На секунду у Малетты перехватило дыхание. Дрожащими пальцами он вытащил из кармана пленку и протянул ей. Герта не шелохнулась. Скрестив руки, пристально смотрела на него.
— Это та самая?
Малетта подошел к окну и развернул пленку.
— Пожалуйста, можете убедиться сами.
Он поднес развернутую пленку к свету, темному, грозному свету этого дня, к сверканию лемеха посреди небесной пашни.
Герта за его спиной медленно подошла поближе. Прищурив глаза, посмотрела пленку.
— Да, это та самая, — удовлетворенно произнесла она. И (внезапно вытянув руку): — Дайте сюда!
Малетта отпрянул:
— Э-э, потише! Только так на так!
— Вы мне не верите?
— Вы мне тоже. Когда вы придете?
— К вам никогда, — сказала она и улыбнулась.
Он обалдело уставился на нее.
Она улыбалась! И на щеках у нее обозначились ямочки.
— К вам я не приду! — сказала она. — Это слишком рискованно. У меня есть лучшее предложение: приходите вы ко мне.
— Что? — воскликнул Малетта. — Я? К вам? Сюда? В «Гроздь»?
Гулкое эхо отскочило от кафельных стен.
— Т-с-с! — Она приложила к губам толстый указательный палец. А потом сказала: — Я придумала. Сейчас пок ажу.
С деловитым видом она пошла впереди него к двери.
— Идите через двор, — сказала она, — за сарай. Только постарайтесь, чтобы вас не было видно из кухни. Я сейчас же туда приду. — Держась за щеколду, она подождала, покуда он выйдет, захлопнула за ним дверь и заперла ее.
— Значит, за сараем! — повторила Герта.
Малетта все еще держал пленку, темного ленточного червя, которого буря рвала у него из рук. Слава богу! Он свернул ее и живо сунул в карман, а Герта в это время, громко топая, поднималась по деревянной лестнице. Но тут великий пахарь (буря) взревел с новой силой. Взмахнул бичом, погнал волов; и Малетта, тоже подгоняемый ударами бича, понесся во двор. Грязища! Снежное месиво и потоки воды! Пространство двора и пространство неба, взрыхленные сверкающим лемехом! С криками «эй!», «но-но-но!» — на волах по крышам! И пошло́! Черный, отливающий жиром глянец ложился на глыбы льда. В этом освещении, когда предметы казались неимоверно большими, — к примеру, кухонные окна, пялившиеся на него, — Малетта постарался стать как можно меньше. Никогда еще эти окна не были такими темными и громадными. Придерживая рукою шляпу, Малетта перепрыгнул с камня на камень, тотчас же провалился в воду по щиколотку и оказался у сарая, что пел, как эолова арфа, и содрогался от стука воловьих копыт. Малетта брел вдоль сарая, шатаясь, по колено увязая в рыхлом снегу. Над его головою постукивала дощечка с надписью: «Здесь». В нос ему ударил едкий запах деревянного сортира. Обогнув вонючий воющий домишко, Малетта очутился у задней стенки сарая. Оглянувшись, он понял, что ему удалось наконец избавиться от пристально-настороженного взгляда кухонных окон. Лемех провел борозду по его черепу. Перепахал головной и спинной мозг. Это уже становится невыносимым, думал он. И еще: бог ты мой! Не будет же она сразу… Вдруг над нпм точно ворона закаркала. Вверху взвизгнули ржавые петли! От ужаса глаза у него полезли на лоб, казалось, еще немного — и они полезут по загаженной торцовой стене сарая. Он увидел: в каменной кладке стены горизонтально торчит балка, виселица! А под ней — открытая дверь! И — он не поверил глазам — из этой двери на него смотрела Герта Биндер.
В сапогах и в развевающейся юбке, высоко над его головой она стояла подбоченясь, широко расставив ноги, а пахарь задирал ей юбку.
— Как вы туда попали? — спросил Малетта.
Она звонко расхохоталась.
— Через чердак! — крикнула она. И потом: — Хватит лупиться, а то ослепнете! Лучше дайте мне лестницу, вон она лежит там, у стены.
Малетта принес и приставил лестницу.
— Только руки перемажешь, — проворчал он.
Держа лестницу, он смотрел вверх, на роскошные ляжки, то и дело мелькавшие под юбкой. Наконец красотка спустилась, перепрыгнула две последние перекладины и, хихикнув, упала навзничь прямо на руки Малетте. Запрокинув голову, лежала она в его объятиях и скалила свои белые зубы. Вблизи, при дневном свете ее широкое лицо казалось до ужаса грубым.
— Я прошла по стропильным фермам, — прошептала она, — чтобы меня не застукал мой жених. Он все время следит за мной. Но сегодня вечером он уезжает.
Малетта ощутил тепло ее дыхания и вконец одурел. Он попытался поцеловать ее в приоткрытые губы, но она успела отвернуться.
— Задатков не даю, — сказала Герта, выскальзывая из его объятий. Она откинула со лба жесткие растрепавшиеся волосы и засмеялась. Ее зубы были единственным источником света в этот мрачный полдень. И вдруг:
— Ну ладно! Начнем, что ли!
А Малетта:
— Прямо сейчас? Господи помилуй!
А она (снова смеясь):
— Боитесь? Я хочу вам показать, как пройти в дом. — Она уже свернула направо за угол и, тяжело ступая, пошла вдоль задней стены сарая. — Сегодня вечером вам нечего бояться, — сказала Герта, — часов в десять все уже улягутся спать.
Пройдя несколько шагов, она остановилась. Теперь они стояли вплотную к торцовой стене дома, откуда было рукой подать до узкой проезжей дороги, что тянулась между полями и надворными постройками.
Скрестив руки на груди, Герта уставилась в землю.
— Вот здесь, — таинственно сказала она. И с силой принялась сапогами отгребать от стены снег прямо на Малетту.
А он (возмущенно):
— Вы же меня совсем засыпали!
А она:
— Не велика беда! Смотрите, вот здесь спуск!
Из-под снега показались старые, черные от влаги доски, люк, возле самой стены дома.
— Это ход в погреб, — сказала Герта. — Вы спуститесь вниз и пройдете вдоль стены до погреба. Свет на лестнице я оставлю и засуну поленце под дверь, чтобы она не захлопнулась.
— А дальше?
— А дальше выйдете в подворотню, вы же сами знаете, и во все горло крикнете: «Герта!». Хотя нет, — поправилась она — вы прокрадетесь наверх, моя дверь последняя по коридору.
— Ну это уж слишком! Вы что, меня и вправду за дурачка считаете?
Она сделала испуганное лицо.
— Ну что вы, господин Малетта.
А он:
— Вы надо мной издеваетесь! Что это здесь такое? Навозная яма или что-нибудь в этом роде?
Малетта нагнулся и рванул железное кольцо, торчавшее из рыхлого снега.
А она (полная усердия и желания помочь):
— Погодите, снегу еще слишком много!
Она ногой сгребла снег с доски, грязное месиво брызнуло Малетте прямо в лицо.
Малетта так и взвился. Он позеленел и весь дрожал от гнева и возмущения.
— Ой! Я вас, кажется, обрызгала! — засмеялась Герта. Она тоже нагнулась и сама потянула за кольцо. — Помогите же мне, прошу вас! — сказала она.
А он:
— Еще чего! Идите-ка вы к черту, фрейлейн!
Герта (нагнувшись и выставив зад):
— С превеликим удовольствием! Но сначала вы должны убедиться, что я не обманщица. — Она присела на корточки (ляжки под ее юбкой широко растопырились) и — раз-два, взяли! — подняла тяжелую крышку. Раздался звук, похожий на свинячье чавканье, и черная пасть раззявилась им навстречу.
И она (торжествуя):
— Ну, что вы теперь скажете?
Малетта с опаской наклонился над люком.
Облицованная камнем шахта, железная лестница. Стоптанные ступеньки терялись в темной глубине.
— Интересно! — сказал он. — Даже очень интересно. Выходит, ваш погреб может обчистить каждый кому не лень?
А она:
— Ничего подобного! Этот ход знаем только мы. И вообще в наших местах люди все честные.
На лице Малетты отразилось сомнение как в потаенности хода, так и в честности местных жителей.
— Ну конечно, — сказал он, — я буду сидеть в погребе, а вместо вас явится ваш жених и устроит мне красивую жизнь.
Она опять засмеялась.
— Смелость города берет, — сказала она. — Во всяком случае, дорогу я вам показала. А теперь гоните-ка пленку!
Герта отпустила крышку, и от стука, с которым та захлопнулась, от внезапного дыхания глубины мурашки пробежали по ее телу.
А Малетта:
— Сейчас? Авансом? Я не такой болван!
А она:
— Господи, мой жених вечером уедет домой. И он сказал, чтобы до тех пор пленка была у меня. А иначе он больше не приедет.
Малетта, в голове у которого ничего не оставалось, кроме боли и смятения, вдруг почувствовал себя обязанным войти в ее положение. Он сказал:
— Ладно уж, бог с вами, берите.
Он вытащил пленку из кармана и отдал Герте. Она зажала ее в своей грубой красной руке.
— Спасибо, — сказала она. И еще раз: — Спасибо.
Она посмотрела на Малетту, казалось, готовая с воплем радости броситься ему на шею, но вдруг повернулась и побежала прочь.
— Значит, около половины двенадцатого! — крикнула она на бегу. — Я оставлю свет и не запру свою дверь.
Она снова засмеялась, подмигнула Малетте через плечо и помчалась по разливанному морю грязи (под ногами у нее взблескивали фонтанчики мутной воды, великий пахарь дул ей в спину, подгонял ее) и — Малетта не успел и глазом моргнуть — скрылась за углом сарая.
Почти у каждого человека — и прежде всего у человека образованного — не хватает в голове какого-нибудь винтика; а это значит, что в известных обстоятельствах его ум может обернуться невероятным идиотизмом. Сам он не замечает, как это происходит, а контрольного прибора, который бы это зафиксировал, у него нет. У него есть только таблетки (не от идиотизма, а от болей), таблетки, унимающие головную боль, которая могла бы послужить предостережением. И вдобавок убежденность, что он умен, и вера, не в бога, а в собственный разум, который, как ему удалось убедиться, еще никогда его не подводил. Так что же он делает? Ну конечно, он идет домой, но не затем, чтобы лечь в постель и плевать в потолок. Нет! Как раз сегодня он очень возбужден, как раз сегодня хочет наложить на себя руки. Но стоит ему проглотить таблетку, и вскоре он замечает, что головная боль утихла, а все остальное он, наоборот, перестает замечать (к примеру, что все местные жители посматривают на него с ухмылкой). Он видит только дочку мясника, с развевающимися волосами, беспечно прыгающую по самой грязи, а так как в детстве бонна всегда говорила ему: «Пфуй! Бяка!» — зрелище это особенно его раздражает. Чистота прежде всего! Он умывается, бреется, стрижет ногти на руках и на ногах (чтобы подчеркнуть свое превосходство!), припараживается, готовясь к авантюре, исход которой мог бы предвидеть любой осел. Ну в самом деле! Он думает: ясно как божий день — это ловушка! Разумеется, он так думает. Но, думает, я в нее не попадусь! Дудки! (Он вздергивает указательным пальцем кончик носа.) У меня есть глаза! И уши! И разум!.. Вздор! Ничего у него нет! Разве что смутное влечение. Неужто же к мускулистым прелестям мясниковой дочки? Оно отдает железом! Отдает только что наточенным ножом и, невыговоренное, вертится у него на языке.
Стемнело. Малетта зажег свет, и сразу стало видно все убожество его тесной каморки. Он достал из шкафа свой выходной костюм и тщательно его осмотрел. Костюм был в полном порядке. И совсем не траченный молью. Перекинув его через руку, он подошел к окну и бросил испытующий взгляд на улицу. Сейчас, в сумерках, улица выглядела так, словно наводнение уже спало. Малетта натянул брюки и обнаружил, что они еле сходятся. Он потолстел за эту зиму! Набух, как беременная женщина. Но с чего бы? Наконец ему удалось с ними справиться. Он повязал галстук. Надел двубортный пиджак. Застегнул пуговицы и сам себе показался круглым и тугим, как свиной рулет. Немного погодя ему в голову пришла мысль: свет! Необходим карманный фонарик. У Зуппанов он наверняка есть, а если не у них, то, может, у фрейлейн Якоби. Он прислушался. За стеною ни звука. Кажется, лихой девицы нет дома. Он вышел из комнаты и для верности постучал к ней в дверь — ничего! Она со своими учениками каталась на водных лыжах.
В темноте ощупью он спустился по лестнице. Стараясь ступать как можно тише, чтобы лучше слышать. Ветер стонал и завывал в трубах, стропила трещали от буйных его порывов. Хотел ли Малетта услышать голос, который бы его отговорил? Он слышал только, как тяжко стонал дом на ветру. Наконец он очутился внизу, у кухонной двери. Нащупал дверную ручку и нажал ее.
Старик и старуха уставились на него как баран на новые ворота.
— Простите за беспокойство, — сказал Малетта. — Я хотел узнать, не можете ли вы одолжить мне на сегодняшний вечер карманный фонарик?
Хозяин дома, взглянув на жену, сказал:
— У нас как будто есть фонарик? Где он может быть?
А она:
— Я почем знаю? Это же твой фонарь.
А он:
— Да ведь ты его куда-то задевала!
А жена (вдруг преисполнившись недоверия к Малетте):
— Зачем он вам понадобился? Собрались куда-нибудь на ночь глядя?
А Малетта:
— Да. Мне надо уйти. И я не хотел бы завязнуть в грязи.
— Не знаю, куда он делся, — сказал старик. — Наверно, на чердаке. Да он все равно никуда не годится, в нем батарейки нет.
А она:
— Возьмите лучше свечу!
А он:
— Что ты несешь! Свечу ветер задует!
— Может, у учительницы найдется фонарь, — сказал Малетта. — А если нет, то я, пожалуй, возьму свечу, вы ведь позволите?
Он уже повернулся, чтобы уйти. Но на пороге помедлил, оглянулся и спросил:
— Скажите, учитель Лейтнер недавно утверждал, что в Тиши есть какие-то подземные ходы. Это правда?
А старик:
— Да тут много чего болтают. Вроде бы кто-то наткнулся на них во время земляных работ. Да точно-то ведь ничего не известно. Я сам такого хода отродясь не видывал.
Выслушав это сообщение, Малетта вернулся к себе в комнату. Он думал: старик в самом деле ничего не знает или только прикидывается простачком? Я же своими глазами видел, сегодня, в погребе. И в конце концов, Франц Биндер тоже об этом говорил. Малетта надел пальто и стал ждать. (Как мало, однако, греет даже самая теплая одежда.) Он думал: может, это тайна, которую местные жители не хотят выдавать чужакам? Он ждал. Время текло на удивление медленно. Еще только восемь. Он взял ломоть хлеба и откусил от него. На лестнице раздались шаги. Вернулась фрейлейн Якоби и прошла к себе в комнату.
Он слышал, как она открыла дверь и зажгла свет; жадно жуя свой хлеб, слышал, как щелкнул выключатель. А затем произошло нечто невероятное: фрейлейн Якоби позвала его. Не может ли он сейчас же зайти к ней, крикнула она.
Так уж устроен мир: каждому, кто готов вот-вот сломать себе шею, в последнюю минуту встречается ангел, воплотившийся в какого-нибудь человека, иной раз ничего общего с ангелом не имеющего, к примеру в такую лихую девицу, как фрейлейн Якоби (явно слишком лихую для ангела); ангел никогда себя не выдаст, он попытается средствами, доступными тому, в кого он воплотился, удержать и спасти дурака: спасти не как ангел, а как человек.
Фрейлейн Якоби постучала в стенку.
— Господин Малетта! — крикнула она, — Вы не заняты?
— Нет. А в чем дело? — откликнулся он.
— Зайдите ко мне поскорее. Вы мне нужны.
Чуя недоброе, он вышел в коридор и открыл соседнюю дверь. Фрейлейн Якоби стояла посреди комнаты и странно лучистым взглядом смотрела на него.
— Вы хотели помочь мне раздеться, — дерзко сказала она.
А он:
— Ах да! Кажется, я что-то такое говорил.
А она:
— Вот, пожалуйста. Предоставляю вам эту возможность. Помогите мне снять сапоги.
Он с ужасом посмотрел на ее ноги (кровь уже ударила ему в голову) и увидел: на ней были резиновые сапоги, как две капли воды похожие на так взволновавшие его сапоги Герты. И еще он увидел (лоб и виски у него, казалось, вот-вот расколются от боли): голенища сапог — в соответствии с состоянием улицы — были отчаянно забрызганы грязью.
И:
— Ага! Немецкая девушка маршировала!
А она:
— Конечно! Всегда вперед, сквозь все преграды! — Она уселась на кровать, задрав ноги, и, смеясь, крикнула: — Опля! Тащите!
Он схватился за сапоги, за налипшую снежную грязь, охваченный сатанинской яростью; раздался звук, как будто разом откупорили две бутылки, и сапоги разлетелись в разные стороны. Но Малетта успел схватить учительницу за пятки и резко рванул вверх, так что она с криком опрокинулась навзничь и (приличия ради) задрыгала ногами, казалось, она вконец обессилела от смеха, сотрясавшего ее тело.
— Вон отсюда! — взвизгнула она. — Вон! — И опять зашлась смехом, потому что юбка у нее взлетела выше бедер, выставив напоказ ее исподнее. Но он схватил учительницу под коленки, прижал ее ляжки к животу, прыгнул к ней в кровать и, левой рукой надавив ей на ляжки, правой принялся лупить ее по заду, так что его грязные пальцы оставляли темные отпечатки на трико.
— Вот так, госпожа учительница, теперь займемся гимнастикой!
На ее упругих ягодицах шлепки получались удивительно смачными. Но она, казалось, не чувствовала ни стыда, ни боли. Напротив! Ей это, видимо, доставляло неслыханное удовольствие. От шлепка к шлепку смех ее становился все заливистей, набирался силы, всю ее наполнял, так распирал ее, что уже вырывался не только из горла.
— Ну хватит, — задыхаясь проговорила она. — Хватит! Сдаюсь! Покоряюсь сильнейшему из мужчин! — Она заерзала и сжала ноги, как бы желая предотвратить новую стихийную катастрофу.
Малетта — он уже едва дышал — отпустил ее. Съежив шись, сидел он на краю кровати и сверху вниз глядел на фрейлейн Якоби, которая лежала на спине, все еще трясясь от хохота, ее юбка, сбившаяся к подмышкам, походила на спасательный пояс, из которого выпущен воздух. Вытянув ноги, она застонала и снова залилась смехом. Смех трепыхался, пульсировал в ее теле от прыгающих грудей до дрожащей выпуклости живота.
— Так всегда бывает с героями, которые хотят показать слабому полу свою силу. — Смахнув набежавшие слезы, она повернулась к нему лицом. Посмотрела на него из-под полуприкрытых век. Взгляд ее под тенью ресниц вдруг стал совсем темным.
— Меня зовут Ильзе, — сказала она с необоснованной загадочностью в голосе и выпятила губы, казалось, она ждала, как он на это отреагирует. Потом добавила (сиплым, бесцветным голосом, странно и грубо прозвучавшим во внезапно наступившей тишине):
— Ну, в чем дело? Чего ты еще ждешь? В другой раз так просто меня не получишь!
То были слова ангела (слушайте! слушайте!), и прозвучали они, конечно, несколько вульгарно (вульгарно не для той особы, которая их произнесла, а для ниспосланного богом ангела). Ясно, что Малетта этого не понял. Неясно, однако, почему он не воспользовался случаем.
Слушайте! Слушайте! Ничего себе разговор для девушки, подумал он и воспользовался случаем, чтобы совершить ошибку. Он думал: так! Теперь оставим девицу лежать, как она лежит, и пусть себе лопнет со злости. Малетта и не чаял, что это ангел божий говорил с ним хриплым голосом фрейлейн Якоби.
С кривой ухмылкой на губах он поднялся и бросил на нее презрительный взгляд. А потом:
— Нет, благодарю. Сапоги я с вас снял. А для дальнейшего наймите себе платного партнера.
Она не шелохнулась. Даже дыхания ее не было слышно. Казалось, она еще не хотела верить, казалось, еще ждала. В задранной юбке лежала она поперек кровати, словно так можно было стереть в памяти услышанное. Но выглядела она как на смертном одре. Губы вдруг побелели, глаза бессмысленно уставились в пустоту, и дрожь пробежала по ее телу. Ангел одним прыжком выскочил из нее, добрый ангел дал деру, и осталась только она, учительница Ильзе Якоби, не нагая и прекрасная, а омерзительно, постыдно заголенная, только она, женщина двадцати восьми лет, мать девочки по имени Герлинда, сначала дева трудовая, потом сотрудница вермахта, прошедшая через множество разочарований и под конец попавшая в плен. Затем целый год изо дня в день работа в угольной шахте (черной, как продукт осквернения расы), еще раньше ее изнасиловала рота солдат, и позднее тоже, все, как говорится, одно к од ному, но никогда еще ей не было так больно и так стыдно, как перед этим жалким субъектом, в котором для нее не было ничего привлекательного, кроме разве что одного загадочного обстоятельства: он ненавидел ее и тем не менее его к ней тянуло.
Но он отвернулся и вышел из комнаты. Тогда она вскочила, одернула юбку и разразилась бранью:
— Идиот! Грязная свинья! Неужто вы думали, что я и вправду лягу с вами!
Малетта — он уже ходил взад и вперед по своей комнате — слышал, как она хохотала точно помешанная, потом все стихло, и вдруг она вышла, сбежала вниз по лестнице и бросилась вон из дому, как будто за нею гнался черт.
Зверям в лесу не спалось. Птичьи крылья мелькали во тьме меж деревьев. В бушующем море ветра черными призраками метались вороны и слышался легкий тревожный топот копыт по снегу.
Матрос брел по деревне. Даже скотина в хлевах беспокоилась, фырчала, сопела, рвалась с цепи. Он это слышал и слышал шуршание соломы в черноте скотных дворов. А в небе, над разорванными теплим ветром тучами, плыла луна (наконец-то полная луна!), и деревня была вся в черных и серых пятнах — мозаика из талого снега и черной грязи.
Продолжая свой путь, матрос шел мимо «Грозди». Освещенные окна отражались в лужах. Внутри уже, видимо, собрались завсегдатаи, их возбужденные голоса были слышны даже на улице — и снова луна, и ничего, кроме журчания полой воды; луна — расплывчатое пятнышко, то темное, то светлое в уходящих тучах, что плыли по ветру, как льдины по реке. Матрос шел и шел. Трубы черными кольями вонзались в небесный ледоход. Матрос подумал: эти тучи спешат вдаль. И тут же столкнулся с фрейлейн Якоби.
Она прижала руку к сердцу.
— Ох, как я испугалась, — хрипло проговорила она.
Он узнал ее по голосу, но что-то в этом голосе показалось ему странным. Он спросил:
— Разве вы меня не видели?
— Не знаю. Хотя… Я видела вас, но…
А он:
— Вы плачете!
— С чего вы взяли? (Она отвернулась.) Как вы могли это разглядеть впотьмах?
На каком-то из дальних дворов замычала корова. Матрос глянул в направлении, откуда донеслось жалобное мычание.
А потом:
— Я слышу по вашему голосу.
А она:
— Ах, вот как! Ну, значит, вы ослышались.
— Я слышу даже, как растет трава!
— Среди зимы?
— Да. Она растет всегда. В один прекрасный день все зарастет травой, и это хорошо.
Учительница взглянула на него. Он заметил, что голова у нее не покрыта. Ее светлые волосы развевались на ветру и в лунном свете казались белыми.
— Да, — сказала она. — Вы правы. Она растет всегда. И над нами когда-нибудь вырастет трава. И никто нас не отыщет под этой травою. Она будет зеленеть, а нас словно никогда и не было.
Матрос медленно и осторожно погладил руку фрейлейн Якоби и этим движением все-таки слегка оттеснил ее в сторону. Он видел мерцающий свет в ее влажных глазах и чувствовал, что она дрожит в своем пальтишке.
— Жаль, — сказал он печально. — Все-таки жаль. — И устремил взгляд куда-то мимо нее, в бессонную ночь. А потом: — Вы ведь поняли меня, правда? Поняли, что сейчас лучше всего идти дальше?
Он отпустил ее локоть, повернулся и вправду пошел дальше, не оглядываясь, только слышал ее усталые, шлепающие шаги, все больше от него удалявшиеся. Дойдя до церкви, матрос тяжело поднялся по ступенькам на кладбище. И вдруг все в нем словно бы перевернулось, и он почувствовал, что вся его жизнь теперь пойдет по-другому. Он медленно прошел по галерее к мертвецкой. Кругом на горах зашипели леса, что-то закричали ему осипшими голосами. Стараясь понять этот зов, он прислушался. Ничего, лишь затихающая вдали барабанная дробь, и все. Перед ним на крюке, вбитом в дверной косяк, болтался клочок какой-то ткани.
— Он и сидел как раз, где ты сейчас сидишь.
Пунц широко раскрыл свои остекленелые глаза.
— Вот тут, под часами, — сказал Хабихт. — Тут он и сидел. Припоминаешь? А незадолго до семи встал и ушел.
Они пребывали в довольно-таки мрачном настроении: Хабихт, помощник лесничего Штраус и Пунц Винцент. И Хабихт говорил об Айстрахе, не о «зебре» — о «зебре» они намеренно умалчивали.
А Хабихт:
— Без двенадцати или без тринадцати семь…
А Штраус:
— Ну а дальше-то что?
— …он ушел. А сколько ему надо было времени, чтобы дойти до кирпичного завода? Полчаса, уж никак не больше.
Часы тикали над головой Пунца Винцента.
Помощник лесничего ухмыльнулся, сверкнув золотыми зубами, и сказал:
— Ну и что? Это уже дело оконченное.
— Я тут кое-что обмозговал, — сказал Хабихт.
Пунц с угрожающим видом перегнулся через стол.
— Это калеке-то полчаса? — переспросил он. — Старому-то хрычу? Да он бы и за час туда не дотащился. Понимаешь? У него и ревматизм был и подагра!
Вахмистр Хабихт угрюмо покачал головой.
— Цоттер ведь встретил его на полдороге. Как раз было семь, — сказал он.
— Иди ты со своим Цоттером! Мало ли что он говорит! — сказал Пунц Винцент.
Хабихт бросил на него быстрый взгляд. Глаза его вдруг стали черными и колючими. Он сказал:
— Тебе ведь тогда еще плохо стало, припоминаешь? Ты добрых полчаса просидел в сортире.
У Штрауса ухмылка застыла под носом, и два его золотых зуба, казалось, снаружи прилипли к губе.
Пунц Винцент повернулся к стойке.
— Розль! — крикнул он. — Неси четвертушку красного! — А потом: — Еще бы не помнить! Так живот прихватило, умирать буду — не забуду. Черт бы все побрал! Ну и пронесло ж меня тогда! Даже вспомнить страшно! А Хабергейер с Шобером ходили смотреть, не помер ли я!
Он разразился громовым хохотом, те двое к нему присоединились.
— Хабергейер, — проговорил Хабихт сквозь смех, — Хабергейер следил за тобой. А что он тебе сказал?
Пунц (вдруг сощурив глаза):
— Ты что ж, думаешь, так я тебе слово в слово все и повторю? С тех пор худо-бедно месяц прошел! Тут не упомнишь! Поторапливайся, сказал, мы, мол, тебя дожидаемся.
Кельнерша принесла вино и поставила стакан перед Пунцем. Он взял его и тут же опрокинул на стол. Кроваво-красная лужа растеклась по скатерти.
— Ой! — Кельнерша (окосев от злости) схватила тряпку и ликвидировала это безобразие.
Пунц убрал со стола свою лапищу и больше не шевелился. У помощника лесничего золотые зубы снаружи липли к губе.
А Хабихт (внезапно поднявшись):
— Минуточку!
Он прошел мимо стойки и вышел за дверь. Помощник лесничего проводил его взглядом, Пунц нет. Кельнерша тоже исчезла.
— Что это с ним сегодня? — спросил Штраус.
Ветер яростно бился в окна. На стене над тирольской шляпой Пунца тикали часы. Половина десятого. Одна из двух стрелок указывала вниз.
А Штраус:
— Какая муха его укусила?
Пунц пожал плечами и взглянул на стол. Стекла дребезжали под натиском ветра, а стрелки медленно ползли дальше.
Наконец дверь снова открылась. Но вошел не Хабихт, а Герта с Укрутником. Запахло отхожим местом; Укрутник пропустил Герту вперед и при этой оказии крепко ущипнул ее в зад.
Она взвизгнула, отскочила, а так как он сиганул было за нею, укрылась за стойкой.
— Белого или красного? — спросила она.
— Белого.
Она доверху налила два стакана и протянула ему. Он взял их и огляделся.
— Иди вон в тот уголок. — И Герта указала на столик в углу у самой двери.
— Очень надо! — сказал Укрутник. — Там же этот всегда сидит. — И все-таки отнес туда стаканы.
Герта подошла и вытерла об Укрутника свои влажные руки.
— Очень уж ты чувствительный.
— Конечно! — ответил он. — Конечно. А ты не знала?
С хохотом они уселись на скамье. В этот момент вернулся вахмистр Хабихт. Он прошел мимо них через всю залу и сел на прежнее место. Поставил локти на стол и уронил голову на руки.
— Что-нибудь случилось? — спросил помощник лесничего Штраус.
— Розль! — рявкнул Пунц Винцент. — В чем дело?
— А что должно было случиться? — проговорил Хабихт, не поднимая головы.
— Ясное дело, ему выпить охота, — сказал Укрутник.
— Розль, — вибрирующим от смеха голосом крикнула Герта.
— Ничего не случилось, — сказал Хабихт, — просто я размышляю.
Дверь мертвецкой опять стояла открытой. Старик Клейнерт запер ее, когда прозвонили к ранней обедне, но матрос ее открыл (и крепко держал, чтобы она не хлопала на ветру); он заглянул в пустой гроб, в смоляно-черную пустоту, откуда на него пахнуло затхлостью, а ветер трепал ему волосы, так как матрос снял шапку.
Итак, ты покинул этот мир, думал он. И мир пуст, точно старый ящик. И буря поднялась, налетела на этот мир, так что он завыл, как корабельная сирена перед отплытием. (Порыв ветра, черный под серебром небесного ледохода, черный от влаги, черный от раскисшей земли и промокших лесов, черный от беременных дождем морских просторов, траурно-почернелый от моря качающихся вершин, порыв ветра ударился о церковную стену, вскочил на нее, взлетел на башню, прочно вогнанную в небесный ледоход, перемахнул на скат крыши, потом на конек и там с воплем перекувырнулся. Реквием! Мертвецкая наполнилась гудом, клочок черной ткани забился на ветру. У матроса волосы встали дыбом, дверь рвало из рук. Началось! Потому что мера переполнилась! Какая пустота! Потому что тебя не хотели больше терпеть на этом свете, не хотели терпеть из-за того, что ты всю жизнь шел к своей цели, цели такой далекой, нет, такой близкой, что ее уже никто не видит. Конечно! Полет на Луну, да! Полет на Марс, да! Можно лопнуть от важности! И взлететь на воздух! Да! Но искать свою цель в совсем другом направлении запрещено. Тот, кто на это отважится, будет расстрелян!.. О Свобода! Слово! Разжеванное, выхолощенное! Оно на языке у каждого пройдохи, и он плюется им направо и налево! Это слово слизью стекает по нашим лицам! Нас с самого рождения заплевывают им! Но свобода, как таковая? Где она осталась? Я не чувствую ее вкуса в слюне, которой заплевали мне рот! Я знаю только: кто страдает от голода — говорит о еде, а о свободе говорит тот, кто давно забыл, что она такое. Но ты ее не забыл, и ты обладал ею! Она достояние всех отверженных! Она должна быть нашим общим достоянием! Потому что мы все отверженные! Не думать об этом! Лучше тепло! Лучше ложь! Укрыться за посредственностью и целесообразностью! Но вдруг появляешься Ты и идешь своей дорогой! И присваиваешь себе свободу! Свободу быть нецелесообразным! И воруешь! Крадешь курицу! Крадешь кролика! У добропорядочных воров, обкрадывающих друг друга только в соответствии с буквой закона! У бравых парней, которые становятся по стойке смирно, если на них прикрикнуть, и лишь из послушания жгут, насилуют, убивают! Реквием! Окно было зарешечено! И все же аромат лесов проникал к тебе! И голос дождя, стучавшего по надгробным венкам, которые сплел тебе лес! Ибо тебе было назначено искупить вину! Вину перед собой! И мою вину! И мой грех! Потому что, когда твой отец оставил тебя, я был занят трупом. Теперь ты мертв! Ты снова со своей матерью (ведь твой отец оставил тебя). Ночная волна накатила и захлестнула тебя! И ты идешь сквозь ночь, плывешь через подземную чащу сна. В земле твое тело станет черным, как корень, черным, как весть, носящаяся по морю, черным, словно гигантское материнское чрево, в котором тебя уже не настигнет эта банда… Но банда по-прежнему заплевывает мир, а мир пуст, как эта мертвецкая, и потому что он пуст и ничего нового уже не произойдет и каждый день будут совершаться такие же убийства, и так как мы уже думаем, что это наше право, и что так будет и впредь, и что нам всегда все сойдет с рук, то мы подходим к концу: мера всех мер переполнилась. Буря захлопывает дверь!
Пунцу Винценту принесли новый стакан красного вина.
— Наконец-то, — проворчал он, схватил стакан и поднес ко рту.
Хабихт отнял руки от лица и посмотрел на Пунца, жадно лакавшего вино.
— Что у вас, язык отнялся? — обозлилась Розль. — Я не дух святой и не знаю, когда вам что нести!
— Он струхнул, — сказал помощник лесничего. — Струхнул из-за того, что вино пролил.
Между тем явились новые гости, что в будни да еще в поздний час было весьма необычно: Алоиз Хакль, Алоиз Цопф, Герберт Хауер и фрейлейн Ирма (на этот раз под руку с Эрнстом Хинтерейнером). Они вошли на удивление тихо (поразительно тихо для таких молодых сильных людей), огляделись, словно хотели спросить: ну, а что теперь?.. Тут их подозвала Герта Биндер. Одной рукой она обнимала шею Укрутника, а другой помахала им.
— Добро пожаловать! Проходите пока что в отдельный кабинет. Мы сейчас тоже туда придем.
Итак, вся компания направилась в отдельный кабинет.
Штраус повернулся к оставшейся парочке.
— В чем дело? — спросил он, — Что случилось?
— Поди сюда, — возбужденным шепотом сказала Герта, а Укрутник сощурил один глаз.
Штраус встал, на длинных своих ногах пересек залу, пересек залу и наклонился к ним обоим, наклонился, как согнутая бурей ель, и Герта зашептала ему что-то на ухо.
А Пунц Винцент (опять ни с того ни с сего):
— Цоттер спутал время, ясно тебе? Старику не меньше часу надо было, а то и больше. Он же едва ноги таскал, старая развалина.
Вытянув шею и навалившись грудью на стол, Герта продолжала шептать. А Штраус (раскрыв рот):
— Ха-ха, ха-ха-ха!
Его зубы взблескивали, как фейерверк.
— Ты мне шарики не вкручивай, — сказал Хабихт. — Это ровным счетом ничего не значит. Дело совершенно ясное — о нем и говорить нечего.
Он рывком поднялся, взял свою фуражку и шинель. На другом конце залы вдруг взметнулся гейзер смеха: Ха-хи-хи! А Хабихт (он уже надел фуражку и влез в один рукав шинели):
— Эй, Пунц, у тебя дома, поди, есть велосипед?
А тот:
— Есть, да не очень. Я уж его несколько лет как разобрал. Сделал из него своей старухе тачку для ребятишек.
— Розль! — срывающимся голосом крикнула Герта.
— Пусть себе их по очереди катает, ясно? А рама и сейчас стоит возле груши, за коровником. Моя старуха на нее загаженные пеленки вешает.
Из кухни, косая от злости, явилась кельнерша.
— Поди запри ставни снаружи! — сказала Герта.
— Сама можешь запереть, руки не отвалятся! — буркнула Розль.
— Так-так, — сказал Хабихт и застегнул пальто.
— Да еще и грязища непролазная, — сказал Пунц Винцент.
— Спокойной ночи, господин Хабихт, — звонко крикнула Герта, а потом, обращаясь к Розль, которая уже накинула шерстяной платок: — Когда господин Пунц уйдет, запрешь за ним. Мы сегодня закрываем в десять, — пояснила она.
Когда вахмистр Хабихт вышел, сразу же вслед за Розль, а Пунц Винцент остался сидеть в мрачном раздумье, Герта вскочила и, сделав обоим кавалерам знак следовать за ней, виляя задом, поспешила в отдельный кабинет. А на улице в реве вновь усиливающейся бури кельнерша захлопывала ставни, и при каждом хлопке Пунц Винцент слегка вздрагивал. Он был не такой пунцовый, как обычно, и не такой бешеный. Бледный и неподвижный, он смотрел в свой стакан, а над его головой тикали часы, показывавшие уже без четверти десять.
Матрос отпустил ручку, дверь закрылась. Дело в том, что старик Клейнерт привел в порядок стальной запор и он сработал: наверно, дверь будет стоять запертой до того дня, когда ее распахнут перед новым покойником. Ну ладно! Матрос надел шапку, повернулся и, тяжело ступая, пошел по собственным следам, пошел по пятнистому, черно-белому кладбищу, залитому лунным светом; все плясало у него перед глазами. Здесь они лежали! Здесь обрели покой, быть может, божественный, во всяком случае, они были надежно укрыты черной землей. А он, матрос, он, кажется, еще живет, а жить — значит нести ответственность. Он вышел с кладбища и закрыл за собою решетчатую калитку; спускаясь но ступенькам, он заметил немного впереди себя, на церковной площади, человека в развевающейся шинели, тощего верзилу, которого клонило на ветру, — вахмистр Хабихт в ветреной ночи.
— Эй!
Серый мундир остановился и с трудом повернул к матросу остаток человеческого достоинства — темное свое лицо.
— Обождите немного, — сказал матрос.
А Хабихт (удивленно):
— Вы? Где это вас носило?
Матрос уже поравнялся с ним.
— Вы же видите, — сказал он, — я был на кладбище.
— В такой час?
— А почему бы и нет? Разве ото запрещено? Или в это время можно ходить только в кабак?
Хабихт удивленно покачал головой. И сказал:
— Ночыо на кладбище?
— Будьте спокойны, — сказал матрос. — Я не посрамлю ни живых, ни мертвых.
Оба молча пошли дальше, обогнувши большую, взбудораженную ветром лужу, нырнули в тень какого-то дома и снова вынырнули на свет.
Внезапно они остановились.
Неприязненно посмотрели в глаза друг другу.
— Ну?
— Что «ну»? — спросил матрос. — Наши с вами дела окончены или нет?
Лицо Хабихта вдруг заострилось, стало напряженным. Он сказал:
— Не совсем. Вы же что-то знаете. Почему вы молчите?
— Зачем мне навлекать на себя неприятности?
— Кто говорит правду, не навлекает па себя неприятностей.
— Ого! — сказал матрос. — Ого! Похоже, вы никогда не пробовали говорить правду.
Хабихт смерил его угрожающим взглядом.
— Должностное лицо всегда говорит правду! — сказал он строго. А потом: — Я за эти дни многое передумал. И многое пересмотрел. Я уже не задавался вопросом, на кого падают наибольшие подозрения. Я думал о том, кто наименее подозрителен.
— Ну и?..
— Многим людям до старика никакого дела не было. А кое-кто водил с ним дружбу. Вот их-то я и перебирал в уме.
Луна, казалось, была готова проломить лед. Рыхлые льдины плыли по небу, и меж их светящихся краев проглядывал лунный свет, как трава среди камней.
— Я спрашивал себя, — продолжал Хабихт, — у кого из них имеется алиби. И тут меня вдруг осенило: один из них как бы заранее его себе обеспечил.
А матрос:
— Я, кажется, знаю, о чем речь. Мы все этого нанюхались. Этим вся округа провоняла. В общем, история не слишком аппетитная.
— Я еще ни в чем не уверен. Это что-то новое. Какая-то «хитрость дикаря». К сожалению, я должен заметить, что при ближайшем рассмотрении это алиби вовсе не алиби.
Матрос сделал шаг вперед и сказал:
— Пойдемте-ка лучше, у того дома имеются уши.
— Что это значит?
— Там кто-то открыл окно и слушает. Вы не видите? Там что-то шевелится, кажется, рука! — А потом (они тем временем медленно пошли дальше): — Я хочу вам кое-что рассказать. Слушайте! В начале декабря я был на хуторе у старой гориллы, у кузнеца, который продал свою кузню. Обратно я уже шел впотьмах, тьма вдруг стала такой, что хоть глаз выколи. Ну вот, подошел я к мосту, возле дубов, и вдруг услышал какой-то звук. Я остановился и прислушался, не разобрал сперва, что это такое. Это была трость. Трость с железным наконечником. Какой-то тип поджидал там другого типа. По-видимому, он здорово волновался. И постукивал тростью по гальке. В этот самый момент явился второй. И они завели разговор.
— А вы его слышали? — спросил Хабихт.
— Конечно. Сначала все это показалось мне забавным. Но то, что я услышал, было уже совсем не забавно, нет, это было довольно-таки серьезно. Они толковали об одном человеке. Он, мол, опять треплется где ни попадя, надо что-то делать, понимаешь, иначе беды не миновать.
— А имени они никакого не называли?
— Нет! Они называли его просто «старик». И оба решили, что тут «одно только» можно сделать.
— А дальше?
— Дальше они держали военный совет. Это точно. Потом обсуждали, как все осуществить.
— Что?
— Вот этого-то они и не сказали.
— А потом?
— Потом они вдруг что-то услыхали и замолкли.
Хабихт снова остановился.
— И вы понятия не имеете?.. — спросил он.
А матрос:
— Я рассказываю только факты. А свои понятия держу про себя.
Он пошел вперед. Решил, что с него довольно. И тут же заметил, что идет в обратном направлении. Он повернул к дому. Лунный свет ударил ему в глаза.
— Никак не возьму в толк, — пробормотал Хабихт, — но тут дело явно не чисто.
Матрос поднял глаза к небу.
— Что это опять такое? — спросил он.
Тут уже и Хабихт повернулся и посмотрел вверх. В тучах образовалась дыра, и в этой черной рваной дыре во всей своей красе и великолепии появилась луна. Полная луна. Она должна была бы быть круглой. Но круглой она не была. У луны не хватало краешка. Она выглядела так, словно черная пасть черными зубами вгрызлась в эту светлую гостию.
А Хабихт:
— Ах, да! Сегодня же лунное затмение!
А матрос:
— Вот оно что! Это наша тень! — И вдруг: — Послушайте, не надо торопиться. Присмотритесь получше к печи для обжига кирпича!
На этом их беседа закончилась. Они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Между их быстро удаляющимися шагами образовалась пустота, и луна освещала эту пустоту. И там было оно! (Теперь, когда луна нырнула в земную тень.) Темное, безобразное, непостижимое. Оно точно корнями оплело нас, будто мы уже разлагались в глубинах земли под надгрызанной луной. Он, верно, имеет в виду покойного Ганса Хеллера, думал Хабихт. А матрос: да! И это тоже! А вообще в этих местах зарыта падаль! И вонь стоит до небес! Осталась только пустота, остались озаренные луною лужи, ветер время от времени пробегал по ним, и вода покрывалась гусиной кожей. А немного позже, вернее, часом позже (покуда мы спим и гнием, время идет своим чередом), со скрипом открылась и снова закрылась садовая калитка: Карл Малетта вышел на улицу.
Он был во всеоружии: взял у хозяев свечу, захватил коробок спичек и сунул в карман. И все; даже разума, который, как он полагал, имелся у него в голове, в настоящий момент не было ни в голове, ни в одном из карманов. Оснащенный таким образом — явно недостаточно, — он отправился в «Гроздь» своей обычной дорогой, которая в столь поздний час и ввиду изменившейся цели похода показалась ему в высшей степени необычной. Необычность еще неведомого пути не так страшна, как необычность пути обычного, когда этим путем ты идешь к совершенно новой цели. Но Малетта примирился с необычностью, вернее, попросту ее не осознал; к тому же он был поглощен одной заботой: как бы не угодить в грязь, что, правда, не всегда ему удавалось. И еще этот свет! Гостия луны уменьшалась, исчезала в темной пасти — в земной тени, и теперь только жалкий рогалик украдкой подмигивал из-за туч. Все живет, думал Малетта. Нажирается до отвала! Даже луну и ту сожрут! Всё! Он ступил туда, где ему показалось суше, и тут же увяз в густой, топкой глине. Проклятье! Он подтянул повыше брюки и зашагал дальше. Целое дворянское поместье налипло на его подошвы. Он стал помещиком! И уже не достоин презрения! С пудовыми гирями на ногах шел он сквозь все преграды, как жених к невесте. Сначала он подошел к «Грозди» с фасада — хотел убедиться, что там действительно все уже угомонилось. Он увидел: ворота и ставни на запоре, свет везде потушен, дом стоит как нежилой. Что ж, хорошо! Было уже четверть двенадцатого — самое время браться за дело, конечно соблюдая величайшую осторожность, ибо тишина и темнота могут обернуться ловушкой. Через узкий, местами угрожающе узкий проход между двумя строениями, хорошо ему известный с того дня, когда влюбленная пара — Герта и Укрутник — ходила в лес, он вышел в поле, иными словами, на проезжую дорогу, что тянулась за надворными постройками, затем, сойдя с нее, свернул немного вправо и добрался до задней стены «Грозди». Темнота между тем сгустилась. (И надо же, чтобы именно сегодня!) Было разве что немного светлее, чем в новолуние, и свет был как остаток мучной пыли на губах. Изготовившись к прыжку, ветер засел в бороздах на пашне. Потом он прыгнул, прыгнул прямо на деревню, вытянул в прыжке свое тело и ударился о конюшни и сараи. Он был черный, жилистый, гибкий и во все стороны рассыпал удары упругих бархатно-мягких лап. Он фырчал! И пах, как зверь, пах мокрой шкурой и мокрым лесом! Малетта тащился вперед по снегу, вперед по голой земле, по сухой, измятой траве, по размытому вспаханному полю. А земля — вязкая черная масса — липла и липла к его башмакам. Комья земли на подошвах с каждым шагом становились все больше. Ему казалось, что он вот-вот упадет, но тут он дошел до стены и привалился к ней. Он не имел сил стронуться с места, ему чудилось, что его засасывает бездна. Никогда еще он так глубоко не уходил корнями в родную землю. А теперь у него еще выросли гигантские лошадиные копыта. Его шатало не столько от порывов ветра, сколько потому, что он пытался сдвинуть с места эти копыта. Но — слава богу! — вот и люк, несмотря на темноту, он сразу его обнаружил. Нагнувшись, он тотчас же нащупал кольцо и уже собрался было дернуть его, но помедлил. Герта, эта стерва, прошла через чердак. Почему же он должен идти через погреб? Едва передвигая ноги, он потащился вдоль стены. Он знал: лестница осталась стоять под виселицей. Он добрался до угла сарая, сотрясавшегося на ветру. Поднял глаза кверху, поискал на земле. Ничего! Лестница, видимо, исчезла, нет ее и на старом месте. Он вернулся к люку, исполненный решимости добраться до цели. Ничего не попишешь, надо рискнуть, думал он, может, в конце концов все и обойдется. Малетта схватился за кольцо, поднял крышку и удивился, как легко справилась с нею Герта. А что удивительного; тут же подумал он. Эта деревенская мясничиха посильнее нас будет. Он опустился на четвереньки, вытянув ногу, нащупал лестницу и — ступенька за ступенькой — стал задом спускаться вниз, в черную яму. Голова его еще не совсем скрылась в ней, и он увидел перед собою валы вспаханной земли; так человек, гибнущий в морской пучине, видит, как растут и набегают на него огромные отвесные волны. И вот он уже внизу: моряцкая смерть! Так точно! Он слышал ветер, что дул над открытым люком и каким-то странным ревом отдавался в затхлой глубине шахты. Опираясь на ветхие ступеньки, достал из кармана свечу и спички. Первая спичка не зажглась, вторая и третья тут же погасли, четвертая сломалась, у пятой отлетела головка! Загорелась только шестая, только шестая зажгла свечу. Он высоко поднял ее, чтобы она по слепила ему глаза. Язычок пламени скособочился, но потом распрямился. Свет ощупывал стены прохода и терялся во мраке. Сердце у Малетты вдруг забилось где-то в горле. Неужели это и вправду подземный ход в погреб? А в погребе, может быть, ловушка? Или еще где-нибудь? А может, эта мастодонтиха и впрямь лежит в постели и ждет? Он осторожно спустился с последних ступенек, согнувшись, проник в коридор, ведущий еще ниже, и через несколько шагов очутился в кромешной тьме, как бы в трубе, заткнутой паклей. Он заслонил рукою огонек, чтобы лучше видеть; и сейчас же последовал сигнал тревоги: Малетта вдруг почувствовал едкую вонь и увидел, что пламя свечи наклонилось и уменьшилось. Господи ты боже мой! Он с опаской глянул на крохотный язычок, который уже не трепыхался, а разве что тускнел и, по мере того, как Малетта пробивался дальше, все больше съеживался в воздухе, что уже не был воздухом. При этом свете — его едва хватало метра на два — он увидел, почти уже наткнувшись на нее, влажную каменную стену. Коридор сворачивал направо за угол и вел — куда, спрашивается? Невыносимая, удушливая вонь ударила в нос Малетте. Движимый любопытством, он, шатаясь, прошел еще несколько шагов, но в это мгновение свеча погасла, как будто кто-то пальцем надавил на фитилек… Малетта повернул назад. Но крышка люка была закрыта.
— Он там! Попался! — заорал Укрутник. Он появился в дверях отдельного кабинета и поманил за собою остальных.
Обе дамы вскочили: «Ха-хи-и!» И мужчины вскочили: «Хо-хо-о!» И все разом ринулись за ним во двор, освещенный только лампочкой из подворотни, и, дрожа от нетерпения, столпились у железной крышки в передней части двора. Притушив свет, за плотно запертыми ставнями ждали они этого мига. Укрутник тем временем подстерег фотографа и захлопнул над ним крышку люка. А теперь, напряженно вслушиваясь, стояли они вокруг люка, шестеро мужчин и две дамы, всего восемь персон, восемь персон при лунном затмении, в восторге от того, что девятая персона находится там, внизу, в сточной яме.
— Я что-то слышу, — прошептала Герта и наклонилась над крышкой люка.
Из недр земли донесся невнятный бормот.
Потом приглушенный вопль ярости:
— Сволочи!
И глухой подземный бормот стал удаляться.
— Он пошел назад, — сказал Штраус.
— Погоди, он еще вляпается, — сказал Укрутник.
— Ой, мамочки! — взвизгнула Ирма. — Сейчас помру! — Она вся скорчилась и покрепче сжала ноги.
А Малетта тащился по коридору, ощупью пробирался вдоль загаженных стен, задыхаясь, почти теряя сознание от страха, метался между источником убийственного смрада и крышкой люка. Он уже несколько раз пытался ее открыть, хотел сделать еще последнюю попытку, но не нашел поворота и очутился в боковом проходе. Тут же стукнулся головой, хотя и шел согнувшись. Он снова и снова старался зажечь свечу. Но спички, которыми он чиркал, сыпали искры, рассыпали снопы искр, но не загорались. Что было делать Малетте? Он снова повернул назад, ощупав склизкие стены, понял, что стоит на стыке нескольких коридоров, но, каким коридором он шел сюда, он уже не знал и двинулся наугад. Вдруг совсем рядом взревел чей-то голос: «Хо-хо-о!» Как будто кричали в рупор. Малетта отпрянул и схватился за трубу, из которой сочилась какая-то жижа. Содрогаясь от омерзения, вытащил руку из нечистот. По трубам разносился громовый хохот. Он ринулся дальше, весь в поту, едва держась на ногах, а эхо отскакивало от стен коридоров. Внезапно с другой стороны раздался пронзительный свист.
— Скоты! — взвизгнул Малетта, шатаясь, пошел вперед — и угодил прямо в нечистоты.
— Вляпался! Вляпался! — ликовали дамы.
Они слышали его вопли. И слышали бульканье.
— Да, вот теперь он вляпался! — сказал Укрутник.
Он поднял крышку и карманным фонариком посветил в глубину. Из пузырящейся жижи торчала голова, а рядом плавала охотничья шляпа.
Хауер и Хакль вернулись от своих клозетно-переговорных труб.
— Лестницу сюда, — прошипел помощник лесничего Штраус.
Франц Цопф и Эрнст Хинтерейнер притащили лестницу. Обе дамы зажали носы.
В этот момент открылось окно и в нем (вместо луны) показался пивной бог Франц Биндер.
— В чем дело? — спросил он. — Что там внизу случилось?
— В сточную яму забрался взломщик! — крикнул Штраус.
Пивной бог в окне раздулся как индюк.
— Что-о-о?
— Фотограф в яме! — крикнула Герта.
— О господи боже мой, черт подери!
Слышно было, как он босиком зашлепал по комнате.
При свете фонаря лестницу спустили в люк.
— Лезь! — гаркнул Укрутник. — Поднимайся, да поживей!
А кельнерша Розль (появившись в другом окне):
— Чего там случилось? Чего вы орете?
В яме что-то заплескалось. Малетта пытался подтянуться на лестнице. Однако тяжесть мокрой одежды тащила его назад, и жижа вновь сомкнулась над его головой.
— Кто там в яме? — спросил Франц Биндер, выйдя во двор в ночной рубашке.
Обе дамы скрючились от хохота.
— Они кого-то туда загнали! — крикнула Розль.
А внизу булькал Малетта. Сорвавшись несколько раз, он наконец все же поднялся по лестнице.
— Что вы делали в выгребной яме? — спросил Франц Биндер.
— Ворюга он, — пояснили дамы и отошли подальше.
— Хотел через люк пробраться в дом! — злобились мужчины.
— Надо же, — сказал Франц Биндер. — Ну и дела!
Малетта скорчился, как от смеха. С его одежды стекала грязная жижа. Он наклонился, застонал, в горле у него заклокотало, и его вырвало прямо под ноги стоявшим вокруг.
А Укрутник:
— Ах ты мразь! У него уж горлом пошло! — И сзади толкнул Малетту в крестец, так что тот ткнулся носом в землю.
Громовый хохот!
— Жандармов сюда! — завизжала Розль. — Жандармов!
А Укрутник:
— Заткнись, истеричка! Что, мы сами с этим вонючкой не справимся, что ли?
Он дал Малетте второго пинка. Покуда Франц Биндер смотрел на все это в полной растерянности, одни из парией открывал ворота, а дамы спешили отойти подальше, несчастный встал на четвереньки и, подгоняемый ударами сапог, пополз к подворотне, распространяя вокруг себя зловоние. Полумертвый, он добрался до улицы, хотел было встать, но снова упал и, едва за ним закрылись ворота, скатился в затопленный грязью кювет.
И тут это случилось.
Тот самый возчик, что обнаружил убитого Айстраха, но еще никогда не видел привидений, известный своим односельчанам как человек солидный и надежный, к тому же в силу лошадиной своей натуры, можно сказать, слившийся воедино со своими лошадьми, примерно в это время (может, немного навеселе, потому что час был поздний, но в здравом уме и полной памяти) возвращался со своей упряжкой из Плеши в Тиши.
Видел он едва ли на пять шагов вперед (тут есть над чем призадуматься), ибо луна уже совсем ушла в тень. Фонарь, болтавшийся между колес, освещал топавшие по снежному месиву копыта лошадей. Эти копыта да грязный снег под ними — вот, собственно, и все, что возчик мог разглядеть. Впрочем, по этой дороге, знакомой ему и его лошадям вдоль и поперек, он мог бы проехать даже с закрытыми глазами.
Наконец он добирается до первого деревенского двора. Он ничего не видит, только слышит эхо конских копыт, что отскакивает от стен справа и слева, когда он весело и беспечно въезжает в деревню. В этот момент, еще довольно далеко от «Грозди» (следует учесть и это обстоятельство), он слышит, но сперва не обращает внимания — в деревне завыли псы, и вдруг что-то в этом вое поражает его, вой явно передается от собаки к собаке, от двора к двору и вдоль дороги как бы движется прямо на него.
В следующее мгновение случается беда. Только он успел подумать: что это с ними? Странно как воют! И вдруг совсем близко ощущает темную массу, словно ночь внезапно сгустилась перед ним. Он хочет схватить поводья, но поздно: мягкий удар о повозку, фонарь гаснет, лошади, заржав от ужаса, встают на дыбы, гривы развеваются, их, можно сказать, подымает над дорогой, они шарахаются в сторону (грязь брызжет дождем), и, когда — тоже сначала взметнувшись вверх — поперек дороги опрокидывается повозка, поклажа валится в кювет, сломанная оглобля со звоном влетает в темное окно, возчик, подгоняемый какой-то силой — то были не кулаки, не дурачества односельчан, нет, именно сила, как он сам потом говорил, — с едва ли не предсмертным воплем «и-и-и-и-и и-и!» летит сквозь черноту ночи и, все время слыша ржание лошадей, стукается своею, слава тебе господи, довольно крепкой башкой о придорожное дерево да так и остается без сознания лежать под ним.

И тут пришло отвращение, пресыщенность всем, что творится вокруг, страстное желание не видеть этого своими глазами, стремление вырваться отсюда.
Собачий лай огласил округу, лошадиное ржание огласило округу. Треск сломавшейся оглобли, звон разбитого стекла, потом быстро удаляющиеся шаги. В этом переполохе ночь раскололась надвое. Утро принесло успокоение (так нам казалось); недвижно дремало оно под небом цвета шифера, под сплошным покровом облаков, что изредка подрагивали, как звериная шкура. Земля, темная и мокрая, лежала под этой шкурой (изредка трепетавшей, как лошадиные бока), земля, вновь окрашенная в тленные краски осени, но перерытая, пропитанная влагой и почернелая от ночного потопа. Ни ветерка! В самом деле! Пока ничто еще не шелохнется! Ветер притаился за Кабаньими горами. Белой ватой валил дым из печных труб, сползал с крыш и застилал деревню.
В разодранной ночи, при лунном затмении, люди повыскакивали из домов. Затащили возчика в подворотню, вызвали «скорую помощь» и поймали умчавшихся лошадей. Дознаться, что послужило причиной аварии, было бы проще простого (оглобля раскололась надвое посередине, и ночь раскололась надвое посередине!), но возчик лежал в больнице в окружном городе, и снять с него допрос пока еще было невозможно. Оставались только следы на дороге да лошади, которые говорить не умеют. Старик Клейнерт завел их в конюшню и спросил:
— Эй вы! Что это вам в голову ударило?
Оба жеребца подняли хвосты и уронили свои яблоки — оба разом, как по команде, это и был их ответ! Следы на дороге давали приблизительно такие же показания, то есть говорили о том, что так и осталось темным для нас, а немного позднее по следам проехал грузовик и стер их с лица земли на вечные времена.
В тени, отбрасываемой этими событиями, под сумрачно унылым пологом тумана мы узнали — позднее, чем могли бы узнать, — о ночной попытке ограбления «Грозди», что поначалу нас скорее возмутило, чем позабавило.
— Ну вот, — говорили мы, — опять эти чужаки горожане поработали.
Но когда мы узнали подробности, узнали, что Малетта едва не потонул в выгребной яме, радость перевесила наше возмущение; вскоре мы уже хохотали что было мочи, и хохот наш был как удар волны в приливе отвращения, клокотавшем у нас в горле.
В кювете все еще оставалась вмятина.
Скототорговец господин Укрутник сводил нас туда и объяснил:
— Вот тут он свалился, — показал Укрутник, — да так и остался лежать — ни дать ни взять жаба.
В грязи мы увидели ясный отпечаток человеческого тела, а некоторым показалось, что они видят ещу и отпечаток лица. Но этим все и ограничилось. Самого Малетту мы не видели. Да и ночью никто не видел его лежащим в канаве.
Мы отправились к старикам Зуппанам.
— Вернулся фотограф домой? — спросили мы.
Старик утвердительно кивнул.
— А как же! Весь дом провонял насквозь, от погреба до чердака.
И верно! Запах в доме стоял, как на свежеудобренном поле.
— Не знаю, что и делать, — сказал старик, — он когда наверх подымался, всю лестницу нам изгадил.
Фрейлейн Якоби слышала, как он вернулся домой среди ночи, в тот самый момент, когда она, измученная прогулкой, залезла в холодную постель и с головой укрылась одеялом.
Утром она встала не как обычно, а медленно, с трудом, точно свинцом налитая. Она говорит, что не занималась гимнастикой, не свистела и даже охоты хорошенько умыться у нее не было. Потом, причесывая перед зеркалом свои золотистые «боевые кудри» (возле загороженной двери) и, возможно, с неудовольствием взирая на свое отражение, она вдруг почувствовала вонь. И подумала: что ж, вполне естественно! Такой гнусный тип и пахнет гнусно! Наскоро намазав хлеб маслом, она поспешила в школу.
Об одном только учительница умолчала: когда она откусила кусочек хлеба, ей вдруг показалось, что он отдает нечистотами. Она бросается к умывальнику и выплевывает его в таз, затем наполняет стакан водой и полощет рот.
Тщетно! Отвращение, начинаясь с нёба, бесцветными своими корнями врастает в глубь ее тела. Она смотрит па шкаф, загораживающий дверь к Малетте, ладони ее покрываются холодным потом. Она понимает: все это исходит оттуда, исходит от падали, что гниет там, за стеной. Она заходит в темный угол за шкафом и прижимается губами к дверному косяку.
— Сдохни, — шепчет она. — Сдохни, грязная скотина! Хватит тебе заражать воздух! Сдохни же наконец!
В школе у нее сегодня все шло неладно. Началось с таблицы умножения.
— Сколько будет дважды два? — спросила она и подождала ответа.
Поднялся ученик первого класса.
— Четыре!
Она пристально посмотрела на него своими голубыми огоньками. И поправила ученика:
— Дважды два — пять!
И даже написала это на доске, чтобы он получше запомнил (ну, в чем дело?): «2x2=5».
Девчонки захихикали.
Вслед за ними мальчишки.
— Четыре! Четыре! — захлебываясь от восторга, хором кричали они.
Она густо покраснела и схватила тряпку.
— Тихо! — рявкнула она, как унтер-офицер. В ярости шлепнула мокрой тряпкой по доске и написала заново: «2x2=…» Трах! И на доске осталась какая-то каракуля.
Мелок раскрошился под нажимом ее пальцев.
— Госпожа учительница разучилась считать! — сообщила Анни, принеся после школы молоко.
Матрос позвал ее в комнату и сказал:
— Она никогда не умела считать.
Анни поставила кувшин с молоком возле плиты. Ее голубая юбчонка взметнулась вверх и снова опустилась. Девочка обернулась к матросу.
— Она вдруг решила, что дважды два — пять, — сказала она.
Матрос стал рыться в шкафу.
Он сказал:
— Ей-богу? Смотри-ка! Ну да она еще научится. Дважды два и вправду пять, только понять это могут немногие.
Он вытащил пз шкафа коробку и положил ее перед Анни.
— Ну, как ты думаешь, что там внутри? — спросил он. — Счетная машина? Нет? Так смотри же!
Матрос сел и стал глядеть, как девочка тонкими пальчиками сняла крышку и из-под шелковистых облачков ее нежно загнутых ресниц в коробку хлынул сияющий мартовской синевою взгляд.
И лицо ее вдруг преобразилось! Словно солнце взошло над долом!
— Окарина! — воскликнула она.
— Да, окарина, — подтвердил матрос.
Пятница, тридцатое января. В воскресенье уже первое февраля. А там и март наступит! И апрель не за горами! Значит, снова придет весна!
Анни вынула окарину из коробки и прижала свои пухлые губы к мундштуку.
— Ну, смелее! — сказал матрос. — Дуй в нее! — А потом: — Поди сюда, глупышка, я тебе покажу!
Анни подошла, протянула матросу инструмент, взобралась к нему на колени и прижалась к его груди. Матрос подул в мундштук, еще влажный от ее слюны, губы его словно ощутили вкус теплого летнего дождя.
А звук-то какой! Будто родник зажурчал! Будто земля сама поет себе песню.
— Как хорошо! — сказала Анни.
А матрос:
— Я думаю! Вот! Возьми ее! Теперь твоя очередь!
Он думал: теперь твоя очередь. Твоя. Не наша. Ведь у тебя есть все! Действительность и правда. У нас, взрослых, остался только обман, мы судим да рядим о вещах, которые нам уже не принадлежат. И считаем! Дважды два — четыре! Но это не так. Всегда выходит больше! И больше именно на ту величину, которую мы не учли. Больше на неопознанное. На непредвиденное. Воистину так! Если бы вы, дети, знали, какие жалкие, убогие шутники мы, взрослые, какую постыдную комедию мы ломаем, вы бы больше не ходили в школу!
Анни удалось извлечь несколько звуков из глиняных дырочек.
Он думал: господи! Если бы снова можно было обладать истиной! Миром! Вернее, действительностью! Мечтой! И незаметно подкрасться! По высокой шелестящей траве!..
Ее дыхание извлекло из глиняных дырочек земляные звуки, и эти звуки манили, словно из дальней дали. Действительность: обладать девочкой-пастушкой, снова иметь пастушьего ангела…
— Что это было? — спросил он вдруг.
— Что? — удивилась Анни.
— Что ты сейчас играла?
— Не знаю. Просто так.
Это было море, безбрежная водная гладь. Возлюбленная открыла глаза. Или чайка взмахнула крылом? Голубая песня легко коснулась его.
Между тем случилось следующее: перед одним из домов остановилась машина. Дверь дома открылась; дверца машины открылась. Из до. ма вышла наша кинозвезда. Из машины высунулся какой-то господин. Наша кинозвезда с чемоданом в руке села в машину и — жми на всю катушку! Убирайся! И к чертям Эрну Эдер!
— Ко всем чертям! — сказал Укрутник.
Чтобы возвыситься в собственных глазах и еще потому, что суббота была уже на носу, он немного погодя заявился в парикмахерскую.
Давайте оглянемся назад! Вот он сидит, развалившись в одном из кресел, и тянет к нам свой подбородок, в зеркале тянет к нам свой подбородок, покрытый белой мыльной пеной, и открывает рот, темнеющий посреди пенной белизны.
— Ха-ха-ха!
Смех вырывается из черной дыры в зимнем пейзаже, а фрейлейн Ирма, нежно намыливая Укрутника своими пальцами-колбасками (она готова делать это вечно), вторит ему.
— На четвереньках выполз за ворота! — хихикает она. — Я чуть не померла со смеху!
А Укрутник (громко, из черной дыры):
— Хо-хо! Хо-хо-хо!
И мясной бог возлагает ему на чело венец из колбасок высшего сорта.
Эрна Эдер начала свою «кинокарьеру»; фотограф чуть не задохся в дерьме; господин в машине задохнется уже через три километра; с Гертой они опять помирились. Чего еще можно желать! Скоро они поженятся, да! И сразу уедут в Италию! Ясное дело! Ирма, которая смотрит на него в зеркало, тоже бы сгодилась. И деньги на легковую машину у него есть!
Он расписывает парикмахерше эту машину:
— Обалдеть можно! Лак светло-зеленый и розовый! Зеленый, как надежда, — он причмокнул языком, — и розовый, как свежая телячья котлета.
Фердинанд Циттер — он уже стоит, держа наготове бритву, — чувствует какую-то дурноту в животе. Она мягко поднимается по пищеводу и словно пальцем щекочет у него под языком.
— Довольно! — Он решительно отодвигает в сторону Ирму с ее колбасками и, раскрыв бритву, склоняется над Укрутником.
Говорит:
— Ума не приложу, как это могло случиться?
— Он хотел ограбить дом, — говорит Ирма.
— Мы так думаем, — говорит Укрутник.
— Но это же ерунда, — возмущается Фердинанд Циттер. — Такое даже золотарю в голову не придет.
Скототорговец лязгает своими мощными челюстями.
— Сидите, пожалуйста, смирно, — говорит Фердинанд Циттер.
А тот:
— Решил небось, что проберется в погреб. Наверно, прослышал про наши подземные ходы.
— Он же мог там богу душу отдать, — говорит Фердинанд Циттер. — Если бы ему стало плохо, если бы потерял сознание, он бы утонул.
В зеркале Укрутник видит Ирму, стоящую за его спиной.
— Если бы да кабы, — говорит он. — Да такого и не жалко.
Фердинанд Циттер бреет подбородок скототорговцу, он весь ушел в это занятие. В парикмахерской затишье, затишье перед бурей, слышно только, как скребет бритва.
А потом (внезапно):
— Вы говорите по-чешски?
— На кой мне это? — удивляется Укрутник. — Я л<е не богемец.
— Ваше имя звучит совсем по-чешски.
— А иди ты! Здесь таких имен навалом!
— Я немного знаю по-чешски, — продолжает Фердинанд Циттер. — Я несколько лет прожил в Пра/е. Я и по-латыни знаю и всегда твержу себе: «Nomen est omen». Хотите, я переведу вам ваше имя?
— Ой, не могу! Вот это номер! — говорит Ирма.
— Валяй! — соглашается Укрутник. — Я слушаю.
— Только не обижайтесь, — говорит Фердинанд Циттер. — Укрутник — значит сволочь.
В это самое мгновение с улицы донесся едкий запах дыма.
— Пожар! — кричит Ирма. — Господин Циттер, смотрите, пожар!
Она бросилась к двери, распахнула ее, тут же закашлялась и закрыла лицо руками.
— Где горит? — закричал Фердинанд Циттер и побежал за нею настолько быстро, насколько позволяли его старые ноги.
И Укрутник — одна щека еще вся в мыльной иене — вскочил и тоже бросился к двери.
Они не сразу поняли, в чем дело. Вся улица была полна густого серого дыма, серого мрака из чада и пара, как будто горели стога мокрого сена. Вдруг дым заалел, точно щеки юной девицы; на другой стороне улицы полыхало зарево, на фоне которого выделялся силуэт человека. Пламя лизало стену дома и выбрасывало вверх черные тлеющие клочья. Человек, держа в руках палку, которой он помешивал в костре, отбежал к садовой ограде, и вдруг — словно с небес — раздался сварливый голос:
— Эй, поберегись! Бросаю штаны!
И в столбах дыма вниз пролетело темное Нечто, казалось, орел спикировал на землю на распростертых крыльях.
— Зуппаны, — сквозь кашель сказала Ирма.
— С ума они сошли, что ли? — спросил Фердинанд Циттер. — Что они там творят?
— Жгут его тряпье, — пояснил Укрутник. — Хорошо бы они и его заодно сожгли.
Ирма прыснула, прикрыв руками рот. Фердинанд Циттер сверкнул взглядом поверх очков.
Старик Зуппан помешал палкой горящий хлам, тлеющее пальто вздыбилось в огне — точь-в-точь человеческая фигура.
Между тем добрая половина деревни сбежалась поглядеть, где бушует огонь, но когда мы узнали, что это мокрая одежда тлеет на костре (следовательно, нет ни пожара, ни чего-нибудь другого стоящего), мы сами начали — все еще сотрясаясь от сильного кашля — бушевать не хуже огня.
В это время примчался начальник пожарной охраны.
— Вы что, рехнулись? — заорал он еще издали. А потом (уже у самого забора): — Чем вы тут занимаетесь?
— Надо же эти вещи сжечь, — пробурчал старик.
Зепп Хинтерейнер покачал головой.
— А жаль вещички-то! — сказал он.
— Еще бы не жаль! Они мне в самый раз, я раньше примерял. Да вот жена говорит, очень уж они смердят, надо, мол, их сжечь. — Старик нагнулся и, поворошив палкой в костре, запихнул штаны между потрескивающих поленьев; штаны зашипели, заскворчали, как мясо, когда его бросают на раскаленную сковородку.
Зепп Хинтерейнер отошел подальше.
Фердинанд Циттер тоже отошел подальше.
Ирма с Укрутником тоже отошли подальше и прикрыли дверь парикмахерской.
Все мы, стоя в отдалении, зажали носы.
Дым плотными клубами поднимался кверху, образуя в небе фантастические фигуры: великаньи головы, великаньи груди, великаньи зады. Тяжело, вяло кружась и кувыркаясь, сочился он из узкой щели улицы, в алых отсветах пламени похожий на кровавые кишки зарезанного животного. Но у дыма не было определенного направления, он просто кувыркался в воздухе, выворачивался наизнанку и, едва успевая остыть, вновь спускался вниз и распластывался над землей.
В это время Хабергейер вышел из «Грозди», где просидел несколько часов подряд, и:
— Тьфу, черт! — Он раздул ноздри своего охотничьего носа. — Черт подери! Ну и вонища!
Утром он вернулся из города и привез целую кучу новостей. Много говорил о политике, много говорил о некоторых «высоких инстанциях». Значительно поглаживал бороду, часто раскрывая обросший волосами рот:
— Ландтаг! — говорил он. А потом: — На обсуждение будут поставлены различные вопросы! — И еще: — Районное управление! — И снова: — Ландтаг! — И: — Мы там не одиноки! Можете мне поверить! — И что-то еще о «Западной Европе», «свободе» и «демократии».
Из жилета с серебряными пуговицами он вытащил часы, посмотрел на них и кивнул.
— Скоро двенадцать. Он должен вот-вот прийти. Мне надо ему кое-что сказать.
— Кому?
— Винценту. Он сейчас с лесорубами там, наверху.
Хабергейер отошел от «Грозди», чтобы получше осмотреться, и тут в нос ему ударил вонючий дым.
— Дым по земле стелется, — сказал он, — в такую погоду дым всегда по земле стелется.
Пробило двенадцать. Фрейлейн Якоби вышла из школы и, рассекая дым, приблизилась к своему дому; одновременно с ней явилась Герта Биндер — чтобы встретить свежевыбритого Укрутника у дверей парикмахерской.
Фрейлейн Якоби, бросив взгляд на тлеющую одежду, вошла в дом и поднялась к себе в комнату. Сняла пальто и повесила его в шкаф.
— Сдохни! — сказала она. — Сдохни наконец, грязная скотина!
В соседней комнате, на кровати, вытянувшись, лежал Малетта (и так уже словно в гробу); казалось, он последовал ее доброму совету чуть ли не сразу после того, как она этот совет дала, ибо, лежа без сознания в сточной канаве, при лунном затмении, как бы слитый с окружающим мраком, он умер своей второй смертью, второй частичной смертью, иными словами, он был жив разве что на одну треть, и даже то, что еще жило в нем, собственно говоря, было уже ничем.
Попробуем представить себе следующее: деревня, раскинувшаяся на мертвой зыби окоченелой земли, на море, ставшем камнем или глиной; надежно укрытая в ложбине волны, она с первых дней своего существования так и не сдвинулась с места — хотя и доступная глазу людских поколений, но все же живущая своею собственной потайной жизнью, жизнью, что в перегное забвения, под вечно растущей травой упорно таится от постороннего взгляда. А в хорошей, пригодной под пашню земле глубоко зарыта всеми позабытая падаль, но именно потому, что она глубоко зарыта и всеми позабыта, она существует и с каждым днем смердит все страшнее. Запаха ее никто не слышит. Но люди вдыхают его и снова выдыхают в лицо своим ближним. Рот, легкие — все полно им. И мало-помалу он проникает в кровь.
Слава богу! Мы теперь неуязвимы, у нас выработался иммунитет. Мы уже привыкли к нашему климату. Говоря «воздух родины», мы подмигиваем друг другу, но никогда уже не почувствуем мы дурного запаха.
Только двое не смогли привыкнуть (да и не хотели привыкать) — двое приезжих, которых мы недолюбливаем. И эти двое вдруг повели носом… Ну и вонища! Похоже на болотный газ! Как будто земля страдает расстройством пищеварения. Хотя говорят, что у нее желудок здоровее, чем у нас, но тем не менее какую-то пищу и она не в состоянии переварить!
И покуда один из этих людей зажимает нос (по правде сказать, без толку), другой ходит по деревне и принюхивается, потому что на душе у него пусто и муторно. Он жадно дышит, дышит полной грудью (ибо не дух господен, а всего лишь повешенный парит над водою, да и вода уже иссякает, и с казненным больше делать нечего), он жадно вдыхает этот смрад — так многие из нас лакают сливовицу, дышит полной грудью — так пьяница наливается водкой, и вскоре чувствует, что ему, как пьяному, море по колено. Ему, горемыке! Он, уязвленный Никто! Никто по имени Малетта (существо, которое мы не замечаем). Ибо ему, увы. не суждено было стать тем, кем он мог бы стать, нет, он стал другим или, вернее, тем, кем должен был стать тот, другой. У него только одно стремление — отомстить, так как в своих незадачах он винит целый мир. Вот он и гуляет со своим повешенным, что болтается в его душе, и уже знает: то, чем он дышит здесь, — гибель. Не он станет великим (и живым), ибо он дышит этим. Это станет великим в нем (и через него живым). Это\ Темное, Безобразное, Непостижимое, оно неприметно, как тайный запах падали, присутствует в воздухе. Оно вливается в него, как вода в тонущий корабль, через все органы чувств, через все нервные стволы. Сразу завладевает им, разлагает его и переваривает, потому что сам он себя переварить не может. Оно толстеет, нагуливает жир на распаде Малетты, возрождается к новой жизни, оно сгущается в нем, приобретает объем и очертания, как эмбрион в материнском чреве. Оно ведет долгий доверительный разговор с повешенным, как бы получает от него инструкции и тем не менее, видимо, действует в соответствии со своими собственными законами. У него есть свой план, своя цель.
И однажды это произошло.
Оно вырвалось из Малетты. Оно уже не раз перерастало его и глядело на него из лесной чащобы, но на сей раз оно отделилось от него, ибо уже стало достаточно великим и сильным. И когда он без сознания валится в придорожную канаву, оно вскакивает и оказывается среди нас…
Что? Нам никогда не доводилось увидеть это. Л тех, кто видел, уже нет в живых.
Была ли то оборотная сторона медали? Уже не голова, а звериный образ бога? Тогда мы ощутили это, как щекотание под языком, а вскоре должен был последовать и пинок в зад.
Но Малетта лежал на своей кровати раздетый и обмытый, как мертвое тело; лежал недвижно — во зло использованное орудие, которое отшвырнул великий палач.
А внизу, стоя в дверях парикмахерской, Укрутник говорил своей невесте:
— Слушай-ка, вот занятная история. Знаешь, что такое Укрутник? Укрутник по-чешски значит сволочь.
Все трое расхохотались (Герта, Укрутник и фрейлейн Ирма), и в эту минуту загудели колокола — старик Клейнерт звонил к черной обедне.
А теперь — покуда не началось — набросаем схему ситуации:
Колокола прозвонили полдень.
Местные я; ители сели обедать.
Одежда Малетты тлеет на костре.
Сам Малетта, как мертвец, лежит на кровати.
Фрейлейн Якоби стоит рядом, за дверью.
Старик Зуппан в саду приглядывает за костром.
На другой стороне улицы стоят Укрутник и Герта Биндер.
Фрейлейн Ирма стоит и смеется вместе с ними.
Фердинанд Циттер моет руки в задней комнате парикмахерской.
Хабергейер все еще торчит перед «Гроздью».
В «Грозди» взад-вперед бегает фрейлейн Розль.
Учитель чинно хлебает суп.
Дым белой лепешкой лежит над деревней.
Старик Клейнерт дергает за веревку колокола.
А там, где только что слышался стук топоров, на опушке леса, куда должен был выйти Пунц, там, где должна была явиться миру его пунцовая башка (если только Хабергейер не ошибся в расчетах), там, в вершинах деревьев, недвижно уставившихся в небо, все еще сидит в засаде ветер, изготовившийся к прыжку; гигантская тишина, что должна воцариться, когда отзвонят колокола.
Потом это случилось. Колокольный звон умолк. Настала такая тишь, словно у всех нас перехватило дыхание. И в эту секунду ловушка захлопнулась, ловушка, что, возможно, была поставлена с самого начала.
Рабочие с лесопилки, бесстрашные парни, которые были тогда в лесу вместе с Пунцем Винцентом, потом (с побелевшими губами) рассказывали примерно следующее.
Услыхав, что в Тиши звонят колокола, они живо закончили работу.
— Пунц, — говорят они, — сложил свой метр и сунул в карман. Точно так же, как и всегда.
— Все было как всегда, — говорят они.
— Мы ничего такого не заметили.
— И в Пунце тоже не заметили.
Только совсем безветренно было, ничто не шелохнулось.
Он ушел немного вперед и, покуда остальные брали свои рюкзаки (а в долине звонили колокола), остановился, вытащил из кармана сигарету и сунул в рот.
Потом достал зажигалку.
— Мы слыхали, как щелкнула зажигалка, — говорят они, — он ведь стоял недалеко от нас.
Зажигалка щелкнула, но, видно, зажглась не сразу. Пунц тряхнул ее и выругался. Потом она снова щелкнула и на этот раз уже зажглась: они видели дымок, который пустил Пунц Винцент.
И в это мгновение колокола смолкли.
С опушки леса донеслось эхо, и больше ничего.
Пунц оборачивается.
Делает одну затяжку.
И вдруг сигарета летит по воздуху.
Описывает высокую дугу.
Это было, рассказывают они, как будто кто-то вырвал сигарету у него изо рта и далеко ее отшвырнул.
Но там не было ни души, и по-прежнему ничто не шелохнулось, и Пунц держал руки в карманах. Но сигарета все-таки улетела, потом упала и исчезла в подлеске.
— Он стоял к нам лицом, — говорят они, — он ведь как раз обернулся. Мы видели его, видели его лицо и глаза тоже. Нам их по гроб жизни не забыть. Они еще ох как долго нам сниться будут.
И зубы у них стучали.
Мы спрашиваем:
— Он кричал?
Спрашиваем:
— Слышали вы, как он кричал?
— Нет, еще не слышали. Он только смотрел. Смотрел сквозь нас.
Они говорят, что проследили за его взглядом, сразу обернулись и посмотрели в ту сторону.
— Ну и что там было?
— Ничего. Вырубка. А за ней лес, и больше ничего.
— А потом?
— Потом это началось. Потом он закричал.
Потом началось.
Маленькая Анни первая услышала крик. Она как раз выходила из хижины гончара, торопилась домой со своею окариной, но вдруг остановилась, будто кто-то загородил ей дорогу, и:
— Наверху кто-то кричит! Слышите? — Она бросилась обратно к хижине.
Матрос вышел на порог. Прищурившись, посмотрел вверх, на опушку леса. Все замерло кругом. Недвижные деревья вонзались в небо. Молчание обвисло на их ветвях, точно брюхо толстяка.
Но так как Анни крепко держалась за его рукав, ему тоже почудился вдали какой-то крик. Он сказал:
— Не слушай! Пойдем-ка лучше в дом. — И вдруг сам ощутил нечто похожее на страх.
Он втолкнул девочку в комнату и запер дверь, дверь ведь как-никак защита, а он знал — тут недалеко до беды. А потом:
— Что-то там неладно. Подождем, покуда это кончится.
Вслед за тем и мы услышали крики (они даже до деревни донеслись). Крики вонзились в распухшую тишину, как нож вонзается в тело.
Мы не сразу сообразили, откуда они несутся. Словно бы ниоткуда и отовсюду. Они перекатывались от леса к лесу, от холма к холму, и эхо, как тявкающая собачонка, скакало за ними. Становясь все страшнее, они, казалось, со всех сторон обступали деревню, кружили вокруг церковной башни, точно стая ласточек, нарастали и нарастали, жестокие, звериные крики. Словно вокруг неистово травили зверя.
— Это кричат на кирпичном заводе, — сказала Герта.
— Нет, на болоте, — отвечал Укрутник.
И вдруг дым рвануло к небу.
— В чем дело? — пробормотал Хабергейер. — В чем дело?
Это был всего-навсего ветер. Он, как зверь, выпрыгнул из засады, ветер, что все утро сидел притаившись. Точно кружащийся столб поломанных веток, точно кружащийся танцор (с чубом из кружащихся листьев), спустился он с горы прямо на нас, с юга, пролетев над полями, наскочил на нас, продул улицу в деревне и снес черепицу с крыш.
Как быстро все это налетело, так и прошло. Опять ничто не шелохнулось, и крики тоже смолкли. В необъятной тишине, под необъятным угрюмым небом стояло несколько домов без крыш, и сами мы стояли на том же месте и все еще ничего не понимали. Мы смотрели вверх, смотрели в воздух, пронизанный пылью, словно искали наши улетевшие шляпы.
То был третий удар, третий удар когтистой лапы огромного зверя, а сначала все еще выглядело случайностью, и самый удар казался случайным. Поначалу, глядя на разрушение, мы не усматривали в нем никакой системы, кроме того, мы убедились, что ущерб не так уж велик (и почти целиком покрывается страховкой). Но потом в деревню пришли рабочие с лесопилки — они были без шляп, и волосы у них стояли дыбом, — а когда они попытались побелевшими губами пролепетать что-то, хоть что-то прояснить нам — их лица были красноречивее слов: мы вдруг смекнули, что над нами нависла беда, что все это лишь пролог и на сей раз возмездия не миновать.
Хабихт, собравший вокруг себя наиболее смелых мужчин, сказал:
— Мы идем искать Пунца. Пойдешь с нами?
А Хабергейер (он по-прежнему топтался на месте, и без шляпы его сходство с богом-отцом было еще разительнее):
— Сейчас не могу. Я заказал важный разговор. С районным лесничеством. Ничего не попишешь.
Итак, мы отправились наверх — в лес — без него, нимало не думая о его поведении. Тогда у нас совсем другое было на уме, к примеру загадочное ночное происшествие. И потом: Хабихт звонил по телефону в Плеши, и не только в Плеши, а и в другие окрестные деревни. Он спрашивал:
— Какая у вас там погода?
— Хорошая. А в чем дело?
— Ветер есть?
— Нет.
— Ну спасибо.
Таким образом, стало очевидно, что беда коснулась только нас. Торнадо начался на Кабаньей горе и кончился сразу же за Тиши. Мы вспомнили о напоенном кровью небе в тот вечер, когда мы стреляли по арестанту, и сказали себе: мы промахнулись, попал в него только один — Пунц Винцент. Теперь мы искали его. Поднимались в гору, спускались с горы. Искали во всех направлениях. Умнее было бы разойтись в разные стороны. Но нет. Мы держались кучей, как стадо баранов. В одном месте, где еще лежал обильный снег, мы наткнулись на его следы. Он бежал! Мчался огромными скачками! Но от чего бежал? Это не оставило следов.
В надвигающихся сумерках мы вдруг ощутили холод, от зада он пополз по позвоночнику и медленно разрастался в теле, точно дерево с ледяными корнями и ледяными сучьями.
— Вот он где, — сказал помощник жандарма Шобер и указал вниз, в овраг. Ни одного сломанного, ни одного вырванного с корнем дерева. Торнадо не коснулся этой части леса. Мы, спотыкаясь, ринулись вниз. Мы уже знали, что нам предстоит, ибо у нас вдруг появилось шестое чувство, животный инстинкт, и мы почуяли страшное. Лес здесь был непрочищенный, непролазная чащоба. Щупальцами тянулись отмершие ветки. Стоило их задеть, и они с треском переламывались пополам, а на стволе оставались торчать остроконечные деревянные копья. Они, казалось, грозили нам. Опасливо пробирались мы между ними — под ногами чавкала прелая листва, — то и дело скользя, спускались по вязкой глинистой почве. На бегу Пунц, видно, пробирался через сухостой, на копьях висели клочки его одежды. Ниже мы наткнулись на куртку, которую с него сорвало. Вся драная, как будто ее рвали когтями и зубами, висела она на кусте, распространяя омерзительный запах пота. Мы оставили ее висеть и, спотыкаясь, продолжали спускаться, а из оврага навстречу нам перла темнота. Что-то белое мелькало внизу, словно парламентер размахивал белым флагом, — то была его рубашка. Она болталась на дубовом суку, как будто ее повесили сушиться.
Исполненные отвращения, мы вдруг снова почуяли запах. Но на этот раз пахло, как в мясной лавке, сладковато и мерзостно. Кровь! Пахло кровыо и внутренностями. И тут помощник жандарма увидел его.
— Вон он стоит, — сказал Шобер.
И правда! Привалившись к стволу изувеченного дерева, подогнув колени — как бы отправляя естественную нужду, — стоял Пунц Винцент.
А из спины у него торчал окровавленный обломок сука.

— Вон он стоит, — сказал помощник жандарма Шобер.
Эти три слова еще звучали в воздухе, а больше ничего не было слышно. Мы остановились поодаль, сбившись в кучу, как стадо баранов; ноги налиты свинцом, плетьми повисшие руки налиты свинцом, дыхание сперто, будто в рот засунули кляп. И вдруг мы услышали ее и увидели ее, ту, которую мы всегда стараемся спугнуть шумом, ту, против которой воздвигаем плотины из шума, ее — последнюю тишину, тишину по ту сторону жизни.
Мы видели ее. Видели ее как Ничто. Ничто, такое же неумолимое на вид, как и на слух. Между деревьями уже темнеющего леса, в незаполненном пространстве между стволами, в том сумеречном сердце леса, что влечет человеческий взгляд в безысходную бесконечность, на какую-то долю секунды, но секунды, показавшейся нам вечностью, явилась — не чудище, не зверь, не тот ночной волк, которого мы никогда не убьем, — всего лишь (и это гораздо страшнее) тишина, уничтожающий ответ на все; тишина стояла и пялилась на нас.
И сразу все кончилось, мы пришли в себя. И принялись снимать с сука Пунца Винцента. Четверо здоровенных мужчин прилагали все силы, чтобы освободить пропоротое насквозь тело. Оно уже остыло, наступило трупное окоченение. Пунц был похож на раскидистый узловатый корень. Когда он наконец свалился наземь, нас буквально отбросило назад.
Уже в полной темноте и, можно сказать, ощупью возвращались мы в деревню, неся тело на самодельных носилках из веток; руки и одежда у нас были залиты кровью, как у мясников, и нестерпимое отвращение переполняло нас, подступая к горлу. Мы ни о чем не думали. Мы не могли больше думать. Даже о его жене и троих детях. Мы просто положили тело в мертвецкой, закрыли дверь и, ни слова не говоря, разошлись в разные стороны. А когда мы крадучись добрались до своих домов и долго еще трясли замки и засовы, проверяя их надежность, кругом в лесах нарастала, ревела тишина, обступала нас со всех сторон, сгущалась в напряженно внимавшей ей деревне, грозя разорвать нам барабанные перепонки.
В последующие дни мы сидели затаив дыхание, и беда, казалось, тоже затаила дыхание. Она устроила засады вокруг деревни, вокруг нашего, в общем-то понятного, бездействия, когда мы только и знали, что вслушиваться. И хотя кое-что все-таки происходило (наверно, чтобы доказать нам, будто все идет как обычно), но все происходящее, конечно, резко отличалось от великого нашего бездействия, нам же тем не менее казалось, что время остановилось и мир остановился тоже.
Единственно порядка ради я перечислю следующие события: в субботу вдова Пунца с воплями пробежала по деревне; в воскресенье разнесся слух, что Малетта при смерти; в понедельник утром приехали страховые агенты, а днем в «Гроздь» привезли музыкальный автомат; во вторник снова пошел снег; в среду мы провожали Пунца в последний путь (и чувствовали при этом: все происходящее — театр, сельская драма, разыгранная на фоне леса, захватывающая, даже трогательная, но в то же время ничего не значащая, ибо действительность начинается только за кулисами); в четверг вечером Малетта все еще был жив, но в пятницу тем не менее поехали за врачом; в пятницу же Хабихт (которого вызвали в город, он еще в среду туда укатил) получил вознаграждение за поимку убийцы — чтобы масленица прошла повеселей.
Однако в Тиши в эти дни было отнюдь не весело. Беда все еще камнем лежала у нас в желудках, хотя минула уже целая неделя. И Пунц Винцент лежал у нас в желудках сгустком падали, от которого нас с каждым днем все больше мутило, хотя он уже со среды покоился на кладбище, чинно укрытый землей и венками. И вообще: вопли его вдовы тоже лежали у нас в желудках (потому что, в конце концов, сердце не камень), ее траурная вуаль, мокрая от слез, все время трепетала у нас перед глазами. Единственное утешение — эта вуаль трепетала и у нее перед глазами. А вдобавок еще дома без крыш! И господа страховые агенты в придачу! Но прежде всего эти вопли тишины! Ибо ей уже никто не мог заткнуть глотку!
Днем еще было терпимо: тишина пряталась за дверями, под лестницей. Но вечером она выползала наружу и вопила что есть мочи! Потом вдруг присаживалась к столу завсегдатаев и вступала в разговор.
Хабергейер степенно огладил бороду и сказал:
— На свете ничего не бывает без причины — ясно? Он либо рехнулся ни с того ни с сего, либо это был волк.
Мы сидели в «Грозди» (не только в пятницу, но и в четверг вечером, еще до того, как в Тиши привезли доктора — это я знаю точно, — а значит, дело было в четверг). Мы накурили так, словно хотели скрыться за клубами дыма; но тишину, что сидела рядом, нам выкурить не удалось, и клубы дыма плавали, кружились в воздухе, то поднимаясь, то опускаясь, как водоросли в стоячей гнилой воде. Сокрушить тишину криком мы тоже не могли, так как о том, что лежало у нас на сердце и в желудках, мы говорили весьма таинственным шепотом, то и дело надолго замолкая.
И тут Франц Цоттер сказал:
— Но его сигарета…
— Она выпала у него изо рта, — сказал Шобер.
— Нет, она улетела, — возразил Цоттер.
— Чушь все это, — заметил булочник Хакль.
Зажгли лампы. Яркий неоновый свет сверху пробился сквозь дым и неожиданно упал на наши напряженные, застывшие, как маски, лица.
— Ясно одно, — заметил Шобер, — он от чего-то удирал. Не знаю от чего, но убежден, что это самое существовало только у него в башке.
— А одежда! — возразил Франц Цоттер. — Его куртка! Рубашка! Все было изодрано в клочья!
— Перестаньте! — простонал Хабергейер. — Мне худо!
А Шобер:
— Ерунда! Он просто продирался сквозь кусты.
На улице прогрохотал грузовик. Свет его фар полоснул по окнам.
— А обломок сука? — сказал Франц Цоттер. — Прямо в живот… Такое случайно не бывает!
Шум грузовика смолк. И тут же заговорила тишина. Она подняла вверх свои сизо-голубые туманные пальцы. Казалось, она говорит: дело обстоит следующим образом!
И сразу из-за стойки подал голос Франц Биндер:
— Дело, вероятно, обстояло так: он думал, что за ним гонится волк, бросился наутек, вот и напоролся!
А Хакль:
— Иди ты куда подальше со своим дурацким волком!
А Хабергейер:
— Я видел его след!
— К нам уже однажды забредал волк, — вставил Франц Биндер.
— Да, в прошлом пеке! — сказал Хакль.
В конце залы стоял музыкальный автомат, сверкающий яркими красками и никелированными деталями. Но пока что никому даже в голову не приходило его запустить.
— А лошади? — спросил хуторянин Фердинанд Шмук.
— Если кучер налижется, лошади понесут! — сказал Зепп Хинтерейнер.
— Но лошади ведь пьют одну воду, — сказал Франц Цоттер.
— Мы должны держаться вместе и сохранять спокойствие, — объявил Франц Цопф.
Но на столе среди кружек с недопитым пивом уже сидела тишина, она снова разинула пасть, и мы видели ее язык, на котором вертелось непроизносимое слово.
— Я человек современный, — сказал Франц Цоттер, — и. конечно, плевать хотел на всякие суеверия. К тому же я человек деловой, голова у меня светлая. По-моему, в этой истории что-то не так.
Мы опять умолкли и принялись сосать свои трубки. Мы оглянулись назад, в ледяные дали минувших лет. Мы видели волка, рыскавшего вокруг деревни. Слышали вдалеке его ночное завывание. А тишина сидела на столе, и Невыговоренное, как слюна, капало у нее изо рта и пряло нить, алую нить, что тянется по белу свету: кровавый след, теряющийся в бескрайней дали.
— Тогда, — сказал старик Клейнерт, — было точно так же. Там теленок, тут свинья — вот и все. Там след и тут след — вот и все. По ночам вой, по утрам кровавый след — вот и все.
Из посеребренного инеем леса он вышел на голубеющий лунный свет. Ночь, как рассказывают, была светлая, по и тогда его никто не видел.
— Может, полсотни лет назад! — сказал Хакль. — Полсотни лет назад всякое могло случиться.
— Волки не вымирают, — сказал Франц Цопф. — Они так и шныряют через границу.
Жандармы и егеря отправились на поиски. Шли в лес по его следу, устраивали травлю, обкладывали его со всех сторон. Но в сумерках кровавый след терялся среди деревьев. К тому же его запорошило снегом. И запорошило сном! Никто так и не убил волка в Тиши.
— Но, — сказал старик Клейнерт и поднял палец, — тогда дело было еще далеко не так худо. Тогда он драл только скотину. К нам, людям, он в то время относился с почтением.
И тут волк как живой встал перед нами и оскалил зубы (на западном или восточном краю деревни, кому как правится). Налитыми кровью глазами он смотрел на нас, и пена стекала из его пасти. Но в эту минуту помощник жандарма Шобер поднялся с места и вытащил из кармана монету.
— Надо мне наконец опробовать этот автомат, — сказал он.
И бросил монету в музыкальный ящик.
В пятницу жизнь уже шла своим чередом. Начнем с того, что с матросом случилась неприятность, и виновато в этом было, наверно, то Невысказанное, что по-прежнему сидело в засаде. Матрос знал, что оно там, знал и то, что в наших хмельных мозгах оно принимало образ волка, и, хотя это раздражало и беспокоило его, испытывал жестокую радость при мысли, что оно угрожает нашей деревне. Но это и все. Как поступить, ему было неясно. Он ждал, сам не зная чего, и еще ждал двух парней с кирпичного завода Плеши, которые обещали зайти за горшками. Их (горшки) надо обжечь как положено, а они (парни) хотели прийти в обед; это значит, что они придут, когда им вздумается, и, следовательно, он не волен распорядиться своим временем.
Матрос брался то за одно, то за другое и в конце концов стал листать календарь. Он обнаружил, что все истории уже давно прочел и все загадки (по крайней мере в календаре) разгадал. А поскольку был только февраль и следующий календарь еще даже и не печатался, он решил слазить на чердак, где лежала целая стопка календарей за прошлые годы. Матрос поставил лестницу, влез наверх и закрыл за собою крышку люка. С одной стороны на чердаке лежало сено, с другой был свален разный хлам. Матрос почувствовал запах пыли. Он вошел в этот запах, как в потусторонний мир, запутался в паутине прошлого, в которой годы висели, как дохлые мухи. Сено шуршало у пего под ногами. Трава умершего лета щекотала его. Он чихнул, и слезы умиления навернулись у него на глаза, потому что не только козами, но и сеном пахла пастушка его юности.
На одной из балок лежали календари. Матрос сел и принялся неторопливо разбирать стопку. 1952 — 51–50 и 49–48 — 47. Эти календари он сам покупал и сам складывал здесь, но под ними лежали другие, и он только сейчас их заметил.
1945.
(На обложке портрет величайшего полководца всех времен.)
Он взял тоненькую тетрадь и раскрыл ее, вернее, она сама раскрылась, так как между истрепанными пожелтелыми страничками вместо закладки лежал сложенный листок бумаги.
И в это мгновение что-то произошло, что-то похожее на взмах крыла или взмах призрачной руки, снаружи коснувшейся крыши. И тут же сквозь дыру в дранке просунулся длинный палец, указывая на вышеупомянутую закладку, узкая полоска золотого, сверкающего света — на дворе проглянуло солнце.
Матрос уставился на этот вырванный из тетради листок, на котором трепетал солнечный зайчик, вдруг увидел, что он весь покрыт карандашными каракулями, и узнал руку отца.
Он разгладил листок — солнце тем временем снова спряталось и его лучи растворились в сумраке — и стал разбирать бледные робкие каракули.
Старик пытался написать письмо. Неуклюжим, но педантично аккуратным почерком он всякий раз начинал сначала и потому накропал всего несколько фраз.
«Мой горячо любимый сын! Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо…
Мой горячо любимый сын! Если ты когда-нибудь прочтешь яти строки…»
Потом немного больше:
«Мой горячо любимый сын! Я не знаю, дойдет ли до тебя это письмо. Я даже не знаю, надо ли мне его отсылать, потому что, как я слышал, все письма вскрываются…»
У матроса пересохло во рту, сперло дыхание в горле, и ему показалось, что под кожей у него нет ни костей, ни мускулов и что весь он набит морской травой.
Он перевернул этот убогий листок и на обороте увидел (снова):
«Мой горячо любимый сын! Когда ты прочтешь эти строки, меня уже не будет среди живых…»
В ушах матроса вдруг что-то зажужжало, это было похоже на жужжание каких-то насекомых; оно приближалось, нарастало, делалось все громче и громче и, наконец, стало уже нестерпимым, как овладевшее им напряжение.
Матрос встал на ноги, набитые морской травой (так, словно ему надо было «выстоять»), и прочитал:
«Мой горячо любимый сын!»
А дальше было написано:
«Случилось нечто ужасное…»
Вот оно самое!
Жужжание смолкло возле дома. Послышались голоса, это парни прикатили на машине. Дрожащими пальцами матрос сунул листок в карман и спустился в сени.
— Вот и мы, — сказали парни. Они ждали, стоя в дверях.
Матрос убрал лестницу.
— Так, значит, это вы, — сказал он. Как во сне, он вышел на двор, где стоял заляпанный грязью грузовик, и добавил:
— Ваше счастье, что земля опять промерзла, неделю назад вы бы тут не проехали.
Вместе с обоими парнями он прошел в сарай, и они вынесли оттуда глиняные горшки.
Уши его были полны шепота и шипения:
«Тогда много чего случилось.
Вам надо было пораньше вернуться.
Люди пусты, как птичьи гнезда по осени, и вложить в них можно все, что угодно».
Вот тут-то и произошла неприятность.
— А это что за ваза? — спросил один из парней. И указал на сосуд, стоявший в углу.
Это была ваза, которую матрос сделал в сочельник.
Он оглянулся в нерешительности. И сказал:
— Эта остается… Хотя, нет, берите ее тоже! — Потому что одно ему было ясно: сосуд необходимо обжечь, даже если он никогда не будет вмещать ничего, кроме ночи.
Он схватил вазу, повернулся к одному из парней и вдруг почувствовал над собою смерть: балку, на которой повесился отец, и тень мертвеца, и веревку, и всю власть судьбы над собою, и внезапную слабость в коленях, и внезапную слабость в руках и в пальцах, обхвативших сосуд со взрывчатым веществом, взрывчатым веществом его подавленного отчаяния, сосуд со взрывчатым веществом обманчивой тишины, судорожного спокойствия… и вот уже осколки валяются на земле!
— Вдребезги! — сказал парень, опуская руки, протянутые было, чтобы подхватить вазу.
Матрос смотрел на осколки. И сказал:
— Да, конечно, вдребезги. Жаль!
Ночью, что последовала за этим днем, ему опять снилось море, и тою же, в общем-то спокойной, ночью жар у Малетты начал спадать. А матросу снилось, что он находится на большом корабле, но не на палубе, а глубоко внизу, в темном трюме, обреченный исполнять работу кочегара. Он думал: господи ты боже мой! Как же это случилось? Как же я докатился до кочегарки? Ведь я штурман! У меня даже есть письменное удостоверение. Как мог старик загнать меня сюда? Он почувствовал адскую боль в позвоночнике. Ага! Это багор! — подумал он. И сразу же: нет, какой там багор! Это боль от тяжелой работы! И тут сон его совершил скачок, то есть декорации переменились без всякого перехода, без всякой логики. Трюм вдруг стал похож на лестничную клетку, вернее, на глубокую шахту без единого окна. Лестницы свободно раскачивались во мраке, высоко вверху сквозь люк мерцал слабый свет утренней зари, а из темноты мужской голос пророкотал:
— Господин Недруг! Господин Недруг, извольте спуститься сюда!
Да ведь это Хабихт! — подумал матрос. А Хабихт уже стоял перед ним и отдавал ему честь.
— Тут без черта не обошлось! — сказал он. — Я прошу вас взять на себя это дело.
Матрос стал взбираться вверх по лестницам, с трудом балансируя над пустотою на шатких перекладинах. Ага, этот уже со страху в штаны наложил, подумал он и звонко рассмеялся во сне. Нo подъем был отнюдь не веселый, потому что все эти лестницы провисали под его тяжестью, он перелезал с перекладины на перекладину, но с места не двигался, как белка в колесе. И все-таки он вдруг очутился под самым люком, уже высунул голову навстречу заре и… там была палуба! Слава тебе господи! Над нею простиралось чистое небо!
Скорее на волю! И снова наверх, на палубу! Он подтянулся на руках. Но тут судно опрокинулось килем вверх. И все вдруг перевернулось, небо стало бездонной пучиной, а он, матрос, лежал на животе перед люком и растерянно смотрел вниз, в глубину неба… И вдруг он увидел там себя самого смотрящим вверх, и еще увидел: у человека там, внизу, было лицо фотографа. Тогда матрос быстро захлопнул крышку люка, с трудом приподняв ее (ведь все было шиворот-навыворот), вскочил на ноги, при этом ему казалось, будто он упал навзничь и кубарем катится по булькающей воде.
Однако на самом деле он в этот момент стоял на палубе. Стоял на корме могучего корабля. И внезапно его осенило: это военный корабль, великий миг настал для меня.
Рядом с ним стоял пожилой человек, не «старик», а просто какой-то человек, может быть боцман. Он явно был не расположен разговаривать, он стоял, вперив в даль мечтательный взгляд.
Матрос обратился к нему.
— Военный корабль? — спросил он.
Боцман кивнул.
— Военный корабль без орудий?
Боцман кивнул.
— И весь белый? Чистый как снег?
Боцман кивнул.
Позади сверкающего линкора на горизонте всходило, а может быть, заходило солнце, оно отбрасывало на воду широкую световую дорожку, золотом обрызгивало увенчанные пеной гребни волн. А линкор медленно уходил в открытое море (на восток или на запад — неизвестно), в мучительно глубокую лиловость, что была как музыка; за ним следовало несколько маленьких корабликов. Но вот так история! Маленькие корабли шли намного быстрее (и это было печально, хотя казалось вполне естественным). Вздымая за собою пенные гребни, они устремились вперед и играючи обогнали гордый линкор.
— Ну и ну, — сказал матрос, — мы даже за этими селедочниками не поспеваем!
Но боцман глянул на него, словно хотел сказать: глупая твоя башка, неужто ты и вправду так думаешь?
И тут это случилось. Случилось чудо (в ту самую минуту, когда матрос понял боцмана). Мощный толчок сотряс стальное тело корабля, толчок такой силы, что их отбросило назад; скользящий за кормою пенный гребень вздыбился, метнулся к свету — сверкающий столб брызг заискрился на солнце, он рос и рос — слепящий и до того прекрасный, что дух захватывало, — ввысь, ввысь, к ночному зиянию неба, столб жидкого серебра и расплавленного золота, — броненосный крейсер шел полным ходом. Маленькие корабли остались далеко позади. А он, освобожденный, несся навстречу тайне, глубокому ультрафиолетовому свету вечности.
Потрясенный, как может быть потрясен только человек, никогда не живший у моря, матрос вынырнул из своего сна, быстро перевернулся на другой бок и снова заснул.
В ту же ночь температура у Малетты спала до 36°, а это значит, что сам он с заоблачных высот жара упал на землю и проснулся около грех часов утра, весь в поту… Но теперь он понимал, где находится.
Следующая ночь (ночь с субботы на воскресенье) и вправду обещала быть веселой — наперекор всему! В «Грозди» должно было состояться первое масленичное гулянье, так называемый «домашний праздник в «Грозди». Стоял мороз (но ночь сулила жаркое веселье); царил мрак (но ночь сулила яркий свет); непроглядный мрак — на три шага вперед ничего не видно. Луна вступила в свою последнюю фазу и должна была взойти только к полуночи. Однако это отнюдь не мешало молодежи, охочей до танцев, ведь молодым не ведомы ни холод, ни страх. Они являлись, пешком и на мотоциклах, ряженые и неряженые — даже из самых захолустных уголков, — чтобы хоть разок как следует проветрить душу и тело. Моторизованные молодые люди с ветерком влетали в деревню (на дороге уже не было снега, она снова годилась под трек), слепящими фарами и грохотом моторов разбивая вдребезги темноту и тишину. Остальные (неполноценные), то есть пешеходы, тащились с карманными фонариками или переносными фонарями. Чтобы обратить на себя внимание, им приходилось орать, свистеть и палками колошматить по заборам. В узкой полоске колеблющегося света они шли своей дорогой, и видны были только их ноги, марширующие по Тиши, а больше ничего. По что они шли на своих двоих, было слышно даже тем, кто еще не видел их освещенных ног.
Матрос тоже шел по деревне (все еще в возбуждении от своего военно-морского сна), и так как он по-прежнему не знал, что делать, за что взяться, то хотел по крайней мере хоть немного позлобствовать. Он видел огоньки, мелькавшие вдоль улицы, слышал крики парней, визг девушек — и вдобавок эта ночь! Она была черна, как дымоход, и отдавала сажей, пыльной суровостью и горечью бесснежного мороза. А днем-то ведь таяло! Южный ветер! С лесопилки доносилось пыхтение мотопилы, а со станции Плеши свист локомотивов: их железные тела трепетали, готовые двинуться в путь, трепетали от приближения весны. И ежели «старик» не утонул в море и не был подвешен коптиться в небесной трубе, и ежели поезда идут на юг (и на север тоже), в таком случае, в таком случае можно будет опять когда-нибудь выйти в море.
Веселая толпа гуляющих валила ему навстречу (освещенные ноги, а вверху, в темноте, громкие крики). Он тотчас укрылся в подворотне, не желая стать объектом шуток этой оравы. По в подворотне уже стоял какой-то человек, видно тоже убоявшийся хамских выходок.
— Господин Недруг?
— Черт побери! Кто здесь?
— Это я, Франц Цоттер. В темноте я вас сразу и не признал.
Молодые люди протопали мимо. Луч света упал на стену дома напротив, и в этом свете возникли гигантские тени женских икр, марширующие исполины, которые доставали до кровельного лотка.
— Слыхали последнюю новость? — спросил Франц Цоттер. — Хабихта вчера наградили. Дали орден за поимку убийцы. — И вдруг (во всю глотку): — Это я из газеты вычитал!
Вот и все. Потом он замолчал, так как мимо один за другим промчались мотоциклисты; жуткий грохот ударялся о стены, заталкивал обратно в рот простые слона; в белоснежном, слепящем свете фар, что как нож вонзался во тьму, мелькали свешивающиеся с седла зады и жарко растопыренные ляжки отважных всадниц в высоко подоткнутых юбках.
Матрос закашлялся, пыль и пары бензина разъедали ему носоглотку.
— Совсем взбесились, окаянные! — прохрипел он. При этом он имел в виду и награждение Хабихта и ляжки всадниц. И тут, заметив, что охота промчалась мимо (правда, за нею еще тащился вонючий хвост), он оставил Франца Цоттера в подворотне, а сам поспешил уйти.
Бал начался с таким же шиком и размахом, с каким являлись в деревню гости. Все, кто был молод, собрались здесь и уже наступали друг другу на ноги. Но едва начались танцы, как произошло первое несчастье: во всей округе вышла из строя электросеть.
Густой мрак. Духовая музыка замерла на диссонансе — воцарилась тишина. И тут же послышался возглас какого-то парня: «Эге-е!», что значило примерно следующее: «Ну? Это еще что такое?» И сразу топот, огонек спички возле ящика с пробками и голос Франца Биндера:
— Замыкание, наверно!
И вдруг отчаянный визг — несколько девиц пожелали оповестить мир о том, что их тискают.
Незадолго до того, как погас свет, в залу вошел помощник лесничего Штраус. Ему как раз хватило времени заметить, что в отдельном кабинете стоит учительница. Он протискивался через толпу гостей, целеустремленно лавировал среди потных тел. Он угадывал направление, как лесной зверь, и потому не боялся заблудиться в темноте. Он задевал рюши, звенящие украшения, шуршащий шелк, согретые, туго натянутые трико, задевал бедра, голые руки, тугие груди — разгоряченную плоть, что рвалась наружу из-под всех покровов. С удовольствием раздувая ноздри, он ухмылялся (но два его золотых зуба не блестели впотьмах). Так! Должно быть, это сестры Бибер с хутора. Даже в маскарадных костюмах от них несет коровником. Дальше запах сапог и бриллиантина. Ага, значит, и Укрутник здесь! А вон там, верно, Паула Пок, потому что пахнет совсем как в сапожной мастерской. Он проталкивался вперед, поводя своим многоопытным носом. Хлопнул рукой по заду, сначала по одному, потом по другому — здорово! Не иначе это сестры Шмук. Затем налетел на какого-то парня, который не замедлил дать ему пинка в живот.
— Эй, ты кто такой? — спросил Штраус.
— Волк, — ответил парень.
А тут еще и посетители вышли из себя:
— В чем дело? Когда починят свет?
— Немножечко терпения, немножечко терпения, — восклицал Франц Биндер. — Розль уже пошла за лампами.
Тут запахло солдатней! Запахло гимнастическим залом! Бравые ребята, должно быть, где-то поблизости. Штраус старался не наступить им на ноги и, осторожно продвигаясь, наскочил на большое, крепкое женское тело. Она ли это? Он слегка наклонился и щекой коснулся плеча, казавшегося угловатым, хотя на самом деле оно было округлым и пахло свежей, хорошо промытой кожей.
— Фрейлейн Якоби? — прошептал он.
— Да! Кто это?
— А вы не догадываетесь?
— Нет.
— Волк. Я пришел вас съесть!
— Вместе с платьем?
— Нет, сначала я его с вас сниму.
Он сзади схватил ее и просунул большие пальцы ей под мышки, а так как она не противилась и не вывертывалась (а в конце концов даже выразила согласие, игриво потершись об него спиной), он недолго думая заключил ее в свои объятия.
А в это время в доме, где она жила, у Зуппанов, в темноте и полной тишине, происходило следующее: Малетта неподвижно лежал на кровати — в руках черная книга учителя — и как раз ломал себе голову над отрывком, дочитать который ему помешала внезапно наступившая темнота. Он достал эту затрепанную черную книжонку, отчаявшись заснуть, открыл ее на первой попавшейся странице и наугад, с середины абзаца стал читать:
«…конечно, не только по слухам, но и по собственному неопровержимому опыту, на множестве примеров узнали они, что мы не отступим от своего мнения. Сатана (а мы вовсе не собираемся отрицать, что он существует и вершит деяния тьмы в детях неверия) тремя способами держит линкантропов в своих сетях: 1) тем, что они, подобно волкам…» Малетта повторил: «…подобно волкам…» Но в это мгновение лампа погасла — при слове «волки» электросеть вышла из строя.
О чем же здесь речь? — думал он. — Сатана! Дети неверия! Деяния тьмы! И линкантропы! Что такое линкантропы? Это слово даже в кроссворде никогда не встречается!
Впотьмах он отложил книгу в сторону. Поднять руку ему оказалось нелегко. Он чувствовал страшную слабость, голова кружилась, и тело было словно чужое.
Дни забытья, дни горячки, непостижимые и мутные, остались позади — фантастическое море тумана между жизнью и смертью, но которому он блуждал до полного изнеможения. Говорят, он пролежал так целую неделю, а вчера к нему даже приходил врач. И впрыснул ему пенициллин, рассказывала старуха Зуппан. Сегодня жар спал — чудеса, да и только! Малетта не мог вспомнить ничего определенного (да и было ли что-нибудь определенное во внешнем мире?). Но на языке у него по-прежнему оставался вкус безумного ужаса, и сейчас еще он ощущал возможность метаморфозы, словно это уже не раз с ним бывало, страшился и жаждал ее; как будто в его распоряжении имелось второе тело с животной силой, животной яростыо, с мощными зубами, терзающими трепетную живую плоть, и с дыханием, что, подобно воплю — вольно и дико, — рвалось из него. Малетте казалось, что у него лопается грудь, разрывается горло. Время от времени он впадал в полудрему, в до странности чуткое сумеречное состояние, его охватывал великий страх перед самим собою, и торжество, и муки совести из-за того, что он выполнил зловещую задачу — взял на себя омерзительную работу палача.
Волки, размышлял он. Какие еще волки? И мысли Малетты закружились вкруг этого слова, закружились все сужающимися спиралями — завороженные, как насекомые, что ночью вьются над лампой; но че. м уже становились спирали, тем непонятнее и темнее становилось слово. Оно было темнее того мрака, в котором парило, было таким темным, что уже начинало слепить, как яркий свет. И вдруг он почувствовал, что на него накатывает беспамятство — опять! Несмотря на врача и пенициллин! Ему почудилось, что оно освободило его от собственного его тела, как от одежды, и медленно, вперед ногами высосало в окно.
Матрос тем временем (в мыслях он уже опять был далеко) доплелся до западного края деревни. Насквозь промерзшая, потрескавшаяся глина под ногами и горечь мороза на губах. В закопченном, стылом, беззвездном провале ночи шаги его раздавались, как в подземелье, и только эхо этих шагов говорило ему о том, через какие пространства он идет. Он шел мимо дома могильщика, мимо сада, за которым проселок сворачивает к шоссе, и дальше шел по пустынному шоссе, что тоже вело лишь в темноту, шел на запад, так, словно он уже блуждал в потустороннем мире. Однако его чувства не имели ничего общего с «вечным покоем», наоборот, он больше не ощущал себя ушедшим на покой. Если «старика» не утопили в море и не подвесили коптиться в небесной трубе, иными словами, если он еще был жив и все видел — хотя бы издалека (может, с какого-нибудь стариковского надела, а может, с потайного капитанского мостика), тогда — сказал он себе, — тогда вопреки всему ты должен опять взяться за руль… на тонущем корабле, на покинутом корабле, ибо тогда, тогда твоя служба еще не кончена!
Он повернул и тою же дорогой пошел назад. Наверно, по любой дороге надо идти назад. Идешь назад, но не возвращаешься. Море успокоилось, след корабля исчез. По обеим сторонам дороги вздымались тени, отчетливо выделяясь на фоне призрачно светящейся снежной равнины. Ужели это те, кого он обманул, покинул, забыл, но не вырвал из своего сердца?
— Чего вы тут ждете?
Они молча пожали плечами.
— Клиента? Жениха?
Они молча пожали плечами.
— Избавителя?
Они молча пожали плечами.
— Или меня?
Они молча пожали плечами.
Девочка, которую без памяти вытащили из воды, лежала поперек дороги. Он склонился над ее бессильным телом и спросил:
— Ты живая? Или мертвая?
А она:
— Не знаю. Я не чувствую никакой разницы.
Дрейфующие мины плавали в непрозрачной воде ночи. Их не было видно, просто он знал, что они плавают здесь. И знал, что в один прекрасный день они взорвутся. Или они здесь, чтобы наводить на кого-нибудь страх?
Человек, которому тогда ампутировали ногу, сидел в придорожной канаве.
— Как поживаешь? — спросил матрос.
А тот:
— Как я могу поживать, если я мертв? Всё мразь! Всё обман! Что тут, что там!
С человеческой ногой в пасти акула стремительно ушла в глубину. Матрос взмахнул руками, словно поплыл за нею! За врагом! За дьяволом! Бог ты мой! Капитан на стариковском наделе! Глухое бульканье наполнило уши матроса, неясный гул, что слышат водолазы. Скрытый во тьме ручей струился по камням. С тем же звуком вода в тот день заливалась в лодку.
И вдруг он ощутил лютый холод, холод, от которого останавливается дыхание, холод, который кляпом затыкает глотку утопающего, когда тот судорожно ловит воздух ртом. Тут ты вцепляешься в румпель, думал он, но вцепляешься, только чтобы удержаться, вцепляешься, объятый страхом смерти. И в этот миг он увидел айсберг.
Непреклонный, неодолимый, смертельно и загадочно светящийся изнутри, всплыл он справа по борту, недвижное Нечто, вольно и гордо купающееся в собственном отражении. И медленно проплыл мимо. Мир отскакивал от его хрустальных граней, словно обжегшись, отскакивал назад в темноту, и кольцо льдисто-голубого ужаса окружало айсберг. Казалось, он говорил: «Я преодолею все. Смерть чужда мне так же, как жизнь, лишь себя я знаю!» Он походил на обращенное ввысь лицо спящего великана, что неподвижно покоился на воде.
И снова дом могильщика, а за ним черное скопище — деревня. Ни одно окно в ней не светилось — электросеть вышла из строя. Но матрос этого не знал.
Он свернул в сторону и опять пошел той же дорогой назад. А что еще остается? — думал он. Ни одного кровавого пятна на воде, ни одного масляного пятна на воде, ничего! Ночная синь нарастающих водяных валов, вот и все. Великая холодная жестокость моря!
Между тем Розль принесла керосиновые лампы — две для залы, две для отдельного кабинета. Разумеется, для таких больших помещений света этих ламп было недостаточно. Музыканты задули в свои трубы, но поскольку они не могли как следует разглядеть ноты, то играли до такой степени фальшиво, что каждый, у кого есть уши, слышал это, и в конце концов танцующие сбились с панталыку так же, как и оркестр. Тогда музыканты капитулировали (к полном согласии с публикой), отложили свои инструменты и вместо них поднесли к губам пивные кружки. Остался — музыкальный ящик тоже был в параличе — только Карамора со своей испытанной гармошкой. Тог: ему был не нужен, ведь он человек, и ноты тоже не нужны, ведь он играл как бог на душу положит. Играл, правда, не всегда верно (люди смутно припоминали, что не так, собственно, оно должно звучать), но тем не менее умел попадать в ритм танцующим, отчетливо отбивая такт. Оба помещения (зала и отдельный кабинет) все больше наполнялись животным теплом, животными испарениями. Правда, основной ингредиент — Эдер Эрна — отсутствовал, но здесь позаботились о замене, так что сожалеть об этой утрате не приходилось. Меж тем пятеро музыкантов подсели к столу завсегдатаев и пили сколько влезет (напитки они получали бесплатно — так было договорено); через час, уже пьяные в стельку, они поднялись, испытывая жгучую жажду деятельности. Сперва они смахнули со стола все кружки, потом, шатаясь, влезли на скамейки и стулья и грянули в рожки и трубы (опять фальшиво!). Укрутник вышвырнул их из залы… Танцы продолжались, танцующие крепко прижимались друг к другу — тесто из мяса, что в полутьме колыхалось, подходило как на дрожжах, — густая масса, сбитая, круто замешанная, подрагивала в такт топающим башмакам.
Вдруг разом все замерло. Ноги перестали двигаться, гармошка перестала играть, воцарилась мертвая тишина — ни вздоха. Пары, еще не разомкнувшие объятий, замерли, как манекены в витрине, окаменели в моментальном движении, в танцевальном па, будто внезапно остановился показ фильма.
Они вслушивались.
Вслушивались в то, что происходило на улице.
И от ужаса глаза у них полезли из орбит.
Что случилось? Бога ради, что случилось? Они вслушивались, но различали лишь бешеное биение собственного пульса.
Пот остыл на них, они чувствовали, как он сбегает вниз ледяными каплями и противно щекочет кожу, по все еще не смели шелохнуться.
Франц Биндер — единственный, кто ничего не понял, — нарушил чары, спросив:
— Что это на вас нашло? Привидение, что ли, увидели?
Ему не ответили. Все таращились друг на друга. Наконец Укрутник собрался с духом и пошел к выходу. Он оттолкнул Герту, которая пыталась силой его удержать, открыл дверь и вышел в темную подворотню. Несколько дюжих парней последовали его примеру. Им тоже пришлось выдираться от своих дам. Не отставать от него было делом чести. Зиберт, инвалид войны, первым пошел за Укрутником.
Молча столпились они в воротах. Укрутник уже одной ногой ступил на тротуар. Все, вытянув шеи, напряженно прислушивались. Но ночь была недвижной и непроглядной, словно бы замурованной.
Пожимая плечами, они вернулись в залу.
— Ну, что там стряслось? — спросил Франц Биндер.
— Ничего, — отвечал Укрутник, — ровным счетом ничего. Можно продолжать. Нам, видно, просто померещилось.
А матрос остановился на дороге, что-то поразило его. Он уже опять был в этом мире (на окраине деревни), наверное, поэтому и удивился. Он вслушался в ночь. Где-то на дальнем хуторе выла собака, а еще дальше — возле Плеши — шел поезд. Нет, это не то. подумал он. Собака… поезд… что тут особенного? Черт возьми, что же это такое коснулось меня? Он слушал, откинув голову, прикрыв глаза: собака… поезд… вот и все. К тому же задним числом он даже не был уверен, что слышал еще какой-то звук. Пожав плечами, он побрел дальше впотьмах (все время по задам деревни). Ты рехнулся! — говорил он себе. Вконец рехнулся! Если будешь продолжать в том же духе, тебя скоро упрячут в сумасшедший дом! Немного погодя ему почудилась музыка. Да, конечно, жалобные всхлипы гармошки. Они доносились откуда-то, приглушенные толстыми стенами дома, не иначе как из ресторации! Матрос опять остановился. То, что он слышал, действовало не слишком-то ободряюще и, видит бог, звучало — да простит нас музыкант — прескверно. Точно ребенок плачет в темноте. Матрос на ощупь прошел еще несколько метров, потом снова замедлил шаг. Все верно: он стоял на заднем дворе заведения Франца Биндера, и музыка эта доносилась с «домашнего праздника в «Грозди». Тонкий слой снега в бороздах распространял какое-то сумеречное свечение, от которого уныло побеленная стена дома казалась призрачной. Матрос стоял, слушал странные жалобные всхлипы и смотрел на дом. Вровень с землей там имелось окно, распахнутое настежь. Матрос, конечно, не обратил бы на это внимания, будь помещение за окном вовсе не освещено или освещено, как обычно, электрическим светом. А главное — если бы не недавнее предостережение. Но за окном было черно, как в бочке дегтя, и в глубине этой черноты вдруг стал перемещаться маленький огонек; а, поскольку матрос все еще не знал, что электросеть вышла из строя, этот огонек возбудил его любопытство. Итак, он подкрался поближе, чтобы посмотреть, в чем дело (такие крошечные огоньки сплошь и рядом служили сигналами, морскими навигационными знаками, указывающими путь во мраке). Вскоре, однако — о чем он уже догадывался, — .матрос носом почуял, что его ждет разочарование: из окна отчаянно воняло — помещение оказалось отхожим местом, а огонек — зажигалкой, которую кто-то поднял повыше, чтобы не оступиться.
Матрос отвернулся, утратив всякий интерес, но в это самое мгновение заметил то, чего ему как раз не хватало, чтобы восстановить недостающие звенья некой цепи.
Недалеко от окна стоял прислоненный к стене велосипед. Самый обычный велосипед, оставленный кем-то в надежде, что здесь, на заднем дворе, его не украдут. Велосипед и открытое окно — матросу вдруг все уяснилось. И покуда в уборной медленно угасал огонек зажигалки, для матроса во тьме постепенно проливался свет.
Так и только так было тогда! Тогда, в новогоднюю ночь! В ночь убийства! Тогда здесь, у стены, тоже стоял велосипед; к раме был привязан топор; Пунц Винцент вошел в уборную, запер за собой дверь, затем вылез в окно (плевое дело) и поехал вслед за стариком Айстрахом. Тем временем Хабергейер притащил к дверям клозета идеального свидетеля — жандарма (с одной стороны, чтобы охранять дверь, с другой — чтобы сделать алиби еще более надежным). И разговаривал с Пунцем, который догнал свою жертву, и, наверно, уже убил старика, и скоро должен был вернуться тою же дорогой, разговаривал так, чтобы всем было слышно! И — что самое чудовищное! — эти обстоятельства были известны вахмистру Хабихту, который, хотя и арестовал мнимого убийцу, избил его и с помощью настоящего убийцы спровадил на тот свет, в конце концов поехал в город, где на него нацепили орден!
Матрос пошел дальше и вдруг заметил, что вокруг него и впрямь творится что-то неладное. Что-то кралось за ним на мягких лапах, обогнало его, затем снова приблизилось и ускользнуло. И внезапно остановилось на обочине, поодаль, как бы поджидая матроса. Что это было, он не видел и не слышал, но ощущал это каждым своим нервом.
И тут же услышал шорох, чье-то тяжелое дыхание — так иногда дышат собаки. Оно доносилось из темноты между двумя хозяйственными постройками; но это могло быть и человеческое дыхание.
— Есть тут кто-нибудь? — бросил он в неизвестность.
Шорох тотчас же смолк, ничто больше не шелохнулось.
— Эй! Кто там? — разозлись, крикнул матрос.
— Малетта! — ответил голос из мрака.
Вскоре после полуночи зажегся свет. Все крикнули «ах!» и зажмурились. Смущенно улыбаясь, разжали объятия (словно застигнутые на месте преступления). И пошло веселье! Даже без духовой музыки! Карамора тоже мог убираться восвояси, если хотел! Потому что теперь, когда ток снова побежал по проводам, в ход был пущен музыкальный автомат.
— Вот это да! — орал Укрутник. — Ноги сами в пляс идут! Ай да машина! Ей-богу, танцы у нее в крови.
Итак, деревенская ресторация наполнилась музыкой со всего мира, удовольствие не меньшее, чем нажимать на стартер автомобиля.
И вдруг музыка стихла. Какой-то шутник (кто именно, заметить не успели, он сразу же улизнул) бросил в автомат фальшивую монету, она застряла в щелке — ни туда и ни сюда. Гости принялись кулаками колошматить по автомату.
— Прекратить! — рявкнул Франц Биндер. — Хватит! Это не поможет!
И в самом деле! Он был прав, это не помогало. Тогда в щель стали совать всевозможные инструменты. Сломались три перочинных ножа, и в довершение сломался даже ноготь Герты Биндер, да так, что его отломившийся кончик тоже застрял в щели.
В конце концов гости сдались и стали расходиться (намного раньше, чем собирались). Особенно — ясное дело! — заспешили разные парочки, к примеру помощник лесничего Штраус и фрейлейн Якоби. Герта проводила их задумчивым взглядом, потом посмотрела на отца.
— В понедельник позвоню в фирму, — сказал Франц Биндер. — Они обязаны бесплатно починить автомат. — Обливаясь потом, он выкатился из-за стойки и открыл окно (обычно он не рисковал это делать). Суровая, ледяная, пугающе горькая ночь хлынула в почти опустелую залу.
В это самое время Малетта очнулся — словно его грубо втолкнули назад, в собственное тело. Он огляделся. Лампа опять горела, под ней лежала раскрытая книга. Он услышал, как распахнулась и вновь захлопнулась входная дверь, и понял, что это вернулась домой учительница. Она тихо, крадучись поднималась по лестнице, и он уже подивился было ее деликатности, как вдруг различил; шаги-то были двойные, как будто она кралась на четвереньках.
Малетта потянулся за книгой и нашел то место, дочитать которое ему помешал распределитель земных тягот; за стеной раздавалось приглушенное хихиканье, и он опять потерял это место. Несколько минут Малетта лежал как в столбняке, но потом решительно взял книгу и стал читать:
«…конечно, не только по слухам, но и по собствен ному неопровержимому опыту, на множестве примеров узнали они, что мы не отступим от своего мнения. Сатана…»
В соседней комнате заскрипела кровать.
«…сатана (а мы вовсе не собираемся отрицать, что он существует и вершит деяния тьмы в детях неверия)…»
(На улице поднялся отчаянный шум — мотоциклисты разъезжались по домам.)
«…тремя способами держит линкантронов в своих сетях…»
(Малетта поднял глаза от книги и прислушался. Мотоциклы протарахтели мимо, а за стеной, похоже, занимались гимнастикой!)
«…1) тем, что они, подобно волкам, действительно совершают нечто, будь то похищение овцы или убиение крупного рогатого скота, однако, не будучи обращенными в волков, а в обличье человеческом, сами же они в своем ослеплении воображают себя волками и в сходном ослеплении принимаются за волков и другими…»
Он затаил дыхание. Теперь он знал, о чем идет речь! За стеной опять затрещала кровать. А на улице стоял отчаянный грохот моторов. Небо, окоченевшее над деревней, выгибалось навстречу гигантскому гимнастическому залу, где на потолке болтались устрашающие снаряды: канаты и кольца, на которых могли бы повеситься все гимнасты! На ночном столике тикал будильник. Казалось, он хрипел: убить! убить! убить! Непрерывное подстрекательство! Но Малетта справился со своим страхом и дочитал до конца:
«…2) тем, что им в глубоком сне и впрямь вообразилось, будто они зарезали скотину, тогда как они одра своего не покидали, а все, что им пригрезилось, за них совершил нечистый;
3) тем, что мерзостный сатана заставляет все это совершить обыкновенных волков, а вместе с тем внушает им, спящим и одра своего не покинувшим, как во время сна, так и при их пробуждении, будто все это сделано ими».
В воскресенье вечером Хабихт вернулся из города. У станции Плеши он вместе с лесорубами сел в почтовый автобус. Вахмистр кивнул шоферу, который его приветствовал, и поспешил занять почетное место — впереди слева. Автобус, громыхая, въехал в по-воскресному сонную деревню, остановился у почты, остановился у гостиницы «Олень», потом свернул направо, в поле — вот и все, сумеречная пустота зимнего пейзажа, и ничего больше.
Вахмистр Хабихт, съежившись, сидел позади водителя, и через его широкое плечо глядел на дорогу. Смешанное чувство, с которым он в пятницу получал награду и с которым еще сегодня утром выехал из города, по мере приближения к Тиши мало-помалу перерастало в глухой безысходный страх.
— Ну, что у нас нового? — спросил он и, казалось, в ту же секунду услышал ответ, услышал прежде, чем шофер успел открыть рот.
— Ничего особенного. В «Грозди» был бал. И снег опять выпал.
В бороздах и ямах справа и слева от дороги еще лежал свеянный ветром снег. При сумеречном свете, под пасмурным, угрюмым небом это напоминало разбросанные по земле кости гигантского скелета. А на хребтах Малой и Большой Кабаньей горы (черный бык, а дальше слева черный кабан) встрепанная щетина топорщилась и врастала в облака. Вахмистру Хабихту вдруг почудилось, что он впервые приехал в эти края и сегодня впервые увидел все это: пашни… горы… снежный скелет. Неожиданно его охватило чувство, которое он словно бы уже испытал однажды, что его всего оплело корнями, как будто он давно лежит в могиле.
Он слышал, как позади него спорили два лесоруба. Темой спора был, конечно, «мужицкий страх», о котором говорил Хабергейер.
— Чепуха все это! Надувательство! — утверждал один. — Мне думается, они хотят что-то скрыть.
Дорога подымалась в гору п делала крутые виражи, за поворотом справа возник хутор, серый четырехугольник, который, казалось, крутился вокруг своей оси и с мужицкой хитрецой выглядывал из-за громадной навозной кучи. Потом мост и остановка «Лесопильня». Автобус остановился. Слышно было, как журчит ручей. Большинство пассажиров сошли здесь. И только один сел в автобус — егерь Хабергейер. Сначала появилась его борода, потом он вошел, и борода уже развевалась над головами сидящих.
— Доброго здоровья!
— Доброго здоровья! Садись сюда! — сказал Хабихт.
Хабергейер сел рядом с ним, и автобус тронулся.
А Хабергейер (на ухо Хабихту):
— Слушай! Скажу тебе по секрету: я теперь убежден, что это был волк. Ну, а мужицкий страх, конечно же, тут как тут.
И вдруг лес; он обрушился на них с горы и ощупал автобус своими ветвями. Внезапный испуг, краткий ужас! А лес уже снова отступил назад, в собственную свою темноту. Шофер включил фары, и дорога, залитая ослепительно-белым светом, засвистела им навстречу. Слева хижина гончара, справа кирпичный завод — все уже полускрытое ночью. Хабихт настороженно глянул на склон горы и неожиданно ощутил высоту и крутизну глиняной стены как нечто страшное, готовое в любую минуту сорваться и обрушиться на него, словно удар судьбы. И еще (вдобавок ко всему): мелькающие за окном кусты, казалось, то и дело пытались надавать ему оплеух.
— Ты не читал в газете? — спросил он хриплым голосом. — Мне в пятницу дали орден.
Через минуту автобус затормозил у «Грозди», Хабергейер поздравил Хабихта и вылез, а Хабихт поехал дальше и сошел на Церковной площади; автобус развернулся и уехал. Вахмистр стоял — а тьма все сгущалась — и смотрел на медленно исчезающие вдали огоньки стоп-сигналов, смотрел остановившимся взглядом; так списанный на берег матрос смотрит на парус, исчезающий вдали. А когда — он еще не успел ничего понять — и шум мотора заглох вдалеке, на него навалилось чудовище, в десять раз более страшное после четырех дней в большом городе, — тишина.
Провести ночь наедине с этой тишиной, быть награжденным и все-таки изгнанным во тьму, смотреть в лицо фактам, о которых ты ничего знать не желаешь, ибо они никак но увязываются с твоим служебным мировоззрением… Настольная лампа, правда, еще горит, но зачем, спрашивается? Она освещает орден, который лежит здесь, чтобы на него пялились, только и всего. И Хабихт большими шагами — помощник жандарма Шобер дремлет рядом — ходит из угла в угол и размышляет. Иногда он останавливается у окна. Конечно, он ничего не видит, но зато чувствует. Он чувствует, что деревню, покинутый корабль, несет сквозь тьму, а кругом грохочет тишина, вырвавшаяся из своих собственных тенет. Что мне теперь делать? — думает он. — Такой орден обязывает! Все-таки что же мне делать? Хабергейер! Пунц Винцент! Господи помилуй! Как быть? Обязан я действовать или сидеть тихо? Он подходит к шкафу и открывает скрипучую дверцу. В среднем ящике бокового отделения лежат два пистолета и наручники. Те самые, что двадцать пятого января никак не хотели защелкнуться. Теперь-то они защелкнутся! Но на чьих запястьях? Вдруг он вспоминает о матросе, и опять ему чудится, что он лежит в могиле, опутанный корнями. Что замыслил этот непонятный человек там, на краю деревни? Выжидает, держа в руках все нити?
Черт побери!.. Тишина прижала к окну свою темную пасть, а потом взревела с новой силой. Стекла задребезжали. Хабихт заметался и спустил предохранитель на пистолете.
— Цыц!
Но его возглас застрял в усах, легкий ветерок застрял в живой изгороди; он направил дуло пистолета в окно и уже согнул палец на спусковом крючке. А тишина раззявила пасть, зевнула и высунула язык, длинный, как кишка. И вдруг Хабихт увидел кровавый след, что тянулся вкруг деревни, кровавый след, похожий на удавку палача, а потом, в миг просветления (молния выхватила из тьмы все сокрытое), далеко, на другом конце времени и пространства, в начале того, что зовется прошлым, в начале пашни, поросшей сорняком, увидел, как волк — на этот раз настоящий — исчезает в чащобе.
На следующее утро, вскоре после восьми, в караульню ворвался учитель. Постучав, он сразу же рванул дверь, вытаращенные глаза его явно свидетельствовали о том, что случилось нечто из ряда вон выходящее.
— В чем дело? — спросил Хабихт.
А тот:
— lie знаю точно, но полагаю, что это надо проверить: несколько детей утверждают, будто возле печи для обжига кирпича встретили черта и он показал им свой хвост.
Хабихт спрятал в ящик стола орден, который он только что тщательно начистил и оглядел со всех сторон.
— Черт возьми! Какой еще хвост!
А учитель:
— Вот это-то мы и должны выяснить!
Хабихт запер ящик письменного стола, потом встал и застегнул ремень.
— Шобер! — крикнул он у двери соседней комнаты. — Ты слыхал, что говорит господин Лейтнер?
Явился помощник жандарма. Лицо у него было дурацкое.
— Нет. Ничего я не слыхал. Случилось что-нибудь?
Хабихт:
— Так вот. Садись на велосипед и езжай к печи для обжига кирпича, погляди, кто там шляется и не показывает ли что-нибудь.
Шобер уразумел не сразу. Переспросил:
— Показывает что-нибудь? А что он должен показывать?
Хабихт устало махнул рукой.
— Поторопись! — сказал он. — Я. выеду вслед за тобой.
Одновременно, как по команде, они вышли из караульни, и, покуда учитель, торопясь привести детей, быстрым спортивным шагом шел по дороге (так что люди выглядывали из дверей), а Шобер, торопясь добраться до печи, как бешеный крутил педали, Хабихт, ведя за руль свой велосипед, дошел до школы, чтобы допросить детей на месте.
Их было пятеро: трое мальчиков и две девочки. Ужас застыл в их глазенках.
— Какие же вы трусишки! — сказал учитель, — Берите пример с господина вахмистра, он ничего не боится.
Если бы ты, дурачина, мог заглянуть ко мне в душу! — подумал Хабихт и строго взглянул на детей.
— Итак, — сказал он, — вам встретился черт. И он вам что-то показывал.
Мальчики уставились в иол, девочки уставились в пол, все пятеро спрятали лица от Хабихта, у всех пятерых уши так и запылали.
А Хабихт (не надеясь вытянуть из ребятишек хоть одно разумное слово, а только чтобы выиграть время):
— Ну и какой он с виду? Рога у него есть?
Одна из девочек пошевелила губами:
— Черный и весь-весь волосатый, — сказала она.
А другая:
— Он сидел наверху, на откосе, и играл своим хвостом. Он был очень грустный!
— Как он был одет?
— Не знаю, — сказала девочка. — Он был весь засыпан листьями.
А один из мальчиков:
— Враки! Он был весь завален глиной. Он торчал из глины, как корень.
— Так у нас дело не пойдет, — сказал Хабихт.
— Да, так дело не пойдет, — повторил учитель.
— Он был черный, как гнилой корень, — сказал мальчик. — А глаза у него были совсем белые.
— Он с вами заговорил? — спросил учитель. — Сказал вам что-нибудь?
Но девочки покачали головами. Нет, он только страшно на них таращился.
Тут Хабихт сделал последнее усилие:
— А хвост? Какой у него был хвост?
— Он совсем без шерсти, — объяснили мальчики, — длинный, черный и извивался, как змея.
Наконец Хабихт вскочил на велосипед, радуясь, что по крайней мере избавился от учителя, но на сердце у него не полегчало, он все еще ничего не понимал. Интересно, это и вправду какая-то нечисть или всего-навсего корень? — спрашивал он себя. Проклятье! Что бы это такое могло напугать всех пятерых?
Со странно напряженными нервами, со странной слабостью в ногах крутил он педали своего велосипеда и вскоре очутился совсем один в пустынном поле. С вечера морозило, теперь опять стало таять; в придорожной канаве журчала вода. Больше ничего не было слышно: темное утро притаилось, недвижное, бесшумное. Темной массой вздымалась к облакам Кабанья гора (к тяжелой шиферной крыше), и только на востоке, на краю земли, у самого горизонта, светилась узкая щель.
Хабихт (хотя ему хотелось обратного) все сильней и сильней жал на педали и в конце концов добрался до склона горы, до того самого обрыва пониже хижины гончара, что всегда так приятно напоминал ему о том, как кончилась охота облавой. Глиняный откос подступал вплотную к дороге, дорога сворачивала влево, потом вправо, и там, опершись на свой велосипед, стоял помощник жандарма Шобер и пристально смотрел вверх, на гору.
Хабихт подъехал к нему и соскочил.
— Есть там кто-нибудь? — спросил он и тоже посмотрел на гору.
А Шобер:
— Не знаю. Я ничего не видел. Но сдается, что-то там есть.
Хабихт уставился на слабо мерцавшую сквозь черный кустарник глину, и ему почудилось, что по голове у него забегали крошечные муравьи. Он сказал:
— Если он тебя заметил, то уж, ясное дело, дал деру.
— Или же спрятался там, наверху, — отвечал Шобер. — По-моему, в кустах что-то шевелится.
Хабихт отвел велосипед на обочину и прислонил к телеграфному столбу, потом быстрым шагом вернулся к Шоберу и расстегнул кобуру.
— Давай просто покричим матросу и попросим его к нам спуститься. Если этот мерзавец засел наверху в кустах, матрос его спугнет и отрежет ему путь к отступлению, конечно при условии, что этот мерзавец не он сам. Здесь у нас все возможно. — И, не дожидаясь согласия Шобера, он сделал глубокий вдох, сложил руки рупором и громовым голосом крикнул:
— Господин Недруг! Господин Недруг!
Ему ответило эхо. Сначала спереди, потом сзади. А больше ни звука. У вахмистра Хабихта перехватило дыхание. Пустота; казалось, он падает в пропасть; несчастье, отчаяние, склон горы, обрыв, а за спиной кирпичный завод, на секунду выдавший себя отзвуком, что с каким-то странным лаем отскочил от его стен, и ничего больше, полный вакуум, падение вниз головой (а на голове копошится целая туча муравьев) и, наконец, издали, сверху, голос матроса:
— Эй! Что случилось? Кто там орет внизу?
— Спуститесь сюда! — закричал Хабихт, — Мы ищем тут одного придурка. И будьте так добры, загляните в кусты! Этот тип, наверно, прячется там.
Матрос стал спускаться, продираясь сквозь заросли. Его башмаки скользили по глине, как полозья салазок. Он хватался за ветки, которые с треском ломались, потом спрыгнул на дорогу.
— Гора потеет грязью и водой, — сказал он. — Там наверху все превратилось в сплошную кашу. По того парня я нигде не видел. Он, наверно, тоже влезает и вылезает через окно уборной.
Хабихт искоса, подозрительно взглянул на него.
— Не о том парне речь, — пробормотал он.
Брови у матроса поднялись.
— Ах, вот как! Значит, он был только предлогом?
— Нет, — сказал Хабихт. — Минуточку! — Он украдкой взглянул на Шобера, который, изучая склон горы, медленно отдалялся от них, ведя за руль свой дребезжащий велосипед. И затем: — Слушайте! Я только хотел вас предостеречь. Все, видимо, опять входит в свою колею…
— И потому мне следует помалкивать? Так, что ли?
— Да, — отвечал Хабихт, — Именно это я и хотел сказать. — И вдруг тихо, но с угрозой в голосе: — Я дам вам хороший совет: забудьте ваше ночное приключение на мосту, а также все, что вы, наверно, еще знаете, и постарайтесь впредь не морочить мне голову. Как видите, дело заглохло само собой.
Матрос прищурился.
— Вы получили орден, — сказал он.
А Хабихт (тоже прищурившись):
— Так точно. А вы имеете что-нибудь против?
Под тяжелой шиферной кровлей неба — дню приходилось вползать иод нее на брюхе — двое мужчин стояли и смотрели друг на друга прищуренными сверкающими глазами.
В этот момент помощник жандарма Шобер, успевший уже отойти довольно далеко, закричал:
— Вахмистр! Поди сюда! Здесь след!
— Сейчас! — крикнул Хабихт (не поворачиваясь в его сторону), а потом (умоляюще): — Ну как, вы поняли? — Он отвернулся и зашагал наверх, к Шоберу, который в нетерпении ожидал его.
— Что нашел? — спросил он, правда, довольно небрежно, ибо чувствовал на своей спине буравящий взгляд матроса. Но Шобер ему не ответил, а испуганно, кивком головы указал на гору; что он имел в виду, Хабихт понял не сразу. Нахмурив брови, он наклонился… и:
— Что там такое? — спросил он в замешательстве (все еще чувствуя на себе взгляд матроса).
А Шобер (наконец-то!):
— Там, наверху, в глине след. Не пойму, как он там очутился!
Хабихт посмотрел туда, куда указывал Шобер, и на этот раз муравьи побежали у него не только по голове, но и по всему телу, вверх-вниз: то, что он увидел, было отпечатком лошадиного копыта.
— Интересно, — сказал он. — Очень даже интересно. Какая это лошадь скачет через овраг, вверх, на гору. И стоит наверху на одной ноге? Как цапля! А три ноги держит на весу!
Шобер сделал испуганное лицо.
— Господи боже мой! — сказал он. — А мне и в голову не пришло. Один-единственный след, и больше ничего — так же не бывает!
Как бы ища подмоги, Хабихт повернулся и встретился взглядом с матросом. Тот стоял на дороге, в некотором отдалении, засунув руки в карманы бушлата, и, судя по выражению его лица под морской фуражкой, ждал какого-то важного события.
— Как этот тип на нас смотрит! — сказал Шобер.
А Хабихт (громко):
— Это и есть «неприметная тропинка», где мы стоим?
А матрос:
— Гм, вполне возможно. Печь… дуб… а наверху мой дом. — Он вытащил левую руку из кармана, прочертил в воздухе кривую. — Да, приблизительно так. Да. Вы стоите на «неприметной тропинке».
И… молчание, темная, недвижно притаившаяся природа: редкие, загадочно светящиеся пятна талого снега, сверху тяжелая, неподвижная шиферная кровля неба, снизу журчание и бульканье бегущей воды да еще мрачный тленный запах глины, отдаленно напоминающий о венках и могилах.
— Уверен, что все это только болтовня, — крикнул Хабихт и почувствовал, что отдельные муравьи уже копошатся у него в мозгу.
Матрос подошел поближе и пожал плечами.
— Лошади не раз здесь шарахались, — сказал он.
Хабихт опять уставился на гору. Ему почудилось, что там, наверху, шевелятся кусты. Проклятье! Что-то здесь нечисто! Вся гора как будто шевелится! Он тяжело ступил — вопреки голосу инстинкта — на край придорожной канавы, чтобы получше видеть, но земля тут же подалась под его сапогами.
— Осторожней!
Он попытался сохранить равновесие и тут же увяз, рванулся было назад и схватился за велосипед Шобера, но велосипед опрокинулся и упал на него, а сам он уже по колено ушел в засасывающую грязь. Он не мог шевельнуть ногой и вдруг позади себя услышал чавканье, бульканье, отрыжку, казалось, гигантский желудок выворачивается наизнанку, и тут же за его спиной раздался крик матроса:
— Назад! Оползень!
Он увидел над собою белесую массу, массу скользящей глины, она двигалась прямо на него.
— Шобер! — взвизгнул, он, повалился на спину и среди этой медленно оползающей, тягучей массы, в которую превратился склон горы (кусты на нем переворачивались мокрыми корнями вверх), почувствовал, как его мощным рывком вытащили из сапог; в последний миг он был освобожден.
— Порядок! — сказал матрос.
— Да, порядок, — прохрипел Шобер.
И покуда оползень двигался дальше, громоздя друг на друга глиняные валы, тяжкие глыбы, которые раскалывались и, истекая грязью, шлепались на дорогу, матрос с Шобером оттащили вахмистра Хабихта в сторону и поставили его на ноги (в одних носках; когда его спешно вытаскивали из сапог, они сбились вниз и образовали на пальцах какие-то странные опухоли).
Матрос:
— Ну, что вы теперь скажете?
А Хабихт:
— Дьяв…
Матрос:
— Да, это был он!
— Мой велосипед приказал долго жить, — заметил Шобер.
— И мои сапоги вместе с супинаторами! — горестно прошептал Хабихт.
Широко раскрыв глаза, он увидел за собою сель, ком теста метра в три высотой, которое все еще подходило и вздымало кверху корневища деревьев — гигантских каракатиц, протягивающих к небу свои щупальца.
В понедельник дорога оставалась непроезжей, но уже во вторник пришел грейдер, и к вечеру по этому злополучному месту могли в один ряд проехать машины.
В среду, около полудня, матрос спустился вниз, чтобы посмотреть наконец, что же там такое: между горами глины образовалось русло, заполненное липкой грязью, в которой увязали ноги прохожих. Матрос отпрянул, сделал большой крюк, стараясь обойти этот ералаш и таким образом дошел до пустыря по ту сторону дороги. Он постоял там, как человек, которому некуда спешить — впереди откос, сзади кирпичный завод; погруженный в созерцание глиняных навалов, он вдруг почувствовал, что за ним наблюдают. Глянул налево, глянул направо — на дороге никого (все добропорядочные люди в это время сидят за обедом или творят молитву). Он оглянулся и стал смотреть на кирпичный завод, но и там ничего подозрительного. Пошел дальше — к дубу, круто повернулся и взглянул вверх, на лес. Вновь почувствовал на себе взгляд чьих-то глаз и вновь не обнаружил того, кому они принадлежали.
Странное дело, подумал он, нигде ни души, и все-таки я ясно чувствую, что кто-то за мной наблюдает! Ему вспомнились следы под его окном, те самые, что вели из лесу, потом опять в лес и там, наверху, сворачивали к деревне. Какого же лесного духа выслала эта каморра по его следам? Кто тот сыщик, что ночью заглядывал в его окна? Айстрах был мертв, мертв был и Пунц. Значит, Хабергейер! Или помощник лесничего Штраус? Или вахмистр Хабихт? Вдруг все это показалось ему фантастическим и нереальным; на секунду его охватило неприятное чувство, какое бывает во сне, словно на него смотрят сверху, пристально смотрят потухшие глаза небес.
Он откинул голову, взглянул вверх, на потрескивающий скелет дерева: подумать только, он и сегодня сидел там, в ветвях, этот возница! Ветер! Насвистывал свою песенку и щелкал кнутом в пустоте. Матрос облегченно вздохнул. Ветер и не думал смотреть на него. Слишком он горд, чтобы обращать внимание на матроса. У него есть дела поважнее: табун жерёбых кобыл — облаков — гнал он над землей, всюду заляпанной пятнами талого снега(клочьями мундира генерала мороза), в нетерпении ожидавшей великой ломки. Трепеща, лежала она, напрягши мускулы под своей мокрой зимней шкурой, под пожухлой травой, темно и бесстыдно проглядывавшей между грязными лохмотьями мундира. А он, могучий пахарь, изрыгая проклятия, опять усердно перепахивал землю, коровы же и кони время от времени поливали ее дымящейся брызгающей мочой. Матрос не имел ко всему этому ни малейшего отношения.
Он шел к печи для обжига кирпича и чувствовал себя как тогда, в ноябре, нервы его были также странно напряжены, словно лишь ничтожная черточка отделяла его от той тайны. Он приблизился к зданию, притаившемуся под низкими лохматыми тучами, оно четко обозначилось на фоне белесой полосы яркого света, что насильственно отделяла темноту земли от темноты неба. Какие-то путаные голоса шипели у него в ушах, мешаясь с голосами пустоты, со свистом ветра. Матрос шагал по снегу, по сухой примятой траве, все еще чувствуя на своей спине взгляд, его преследующий. Все больше и больше охватывало его нестерпимое волнение, он задыхался, голова его гудела, как в приступе белой горячки.
— Страшное это место. Когда бы я здесь ни проходил, меня так и тянет туда заглянуть.
— Послушай, Айстрах, ты чего-то боишься?
— Нет, меня только все тянет туда заглянуть.
И вдруг:
— Случилось нечто ужасное!
— Отец, — прошептал матрос, — отец! Ты!
— Да, — отвечал голос отца. — Я должен повеситься. Случилось нечто ужасное.
Матрос был уже там, перед тем окном, возле которого стоял Ганс Хеллер, а потом и он сам. Второпях он не стал искать входа в этот квадрат, а просто впрыгнул в пустую глазницу. А ветер (теперь это и вправду был ветер, сырой и холодный, тревожный, удушающий воздушный поток вперемешку с дождевыми каплями) ринулся за ним — сразу через нее четыре окна — и наполнил пустое и открытое вверху помещение жалобным воем. Матрос увидел перед собою стену. На самом ее верху все еще росли сорняки, они шевелили пальцами, блеклыми пальцами потайного, позабытого: эй-эй! Смотри, мы все еще здесь, и наша вонь подымается к небу! Но в ту самую секунду, когда мороз пробежал у него по коже, взгляд, его буравивший, стал до того нестерпимым, что он круто обернулся и, пошатнувшись, спиной привалился к стене.
Это резкое движение внезапно вырвало его из оправы времени. Громадное солнце слепящим потоком хлынуло в помещение. У окон стояли пятеро парней: они подняли винтовки и нацелили их на него. Четверо были в коричневых (как глина) мундирах, пятый, бородатый старик, — в штатском. Но если те походили на комья глины, то этот был весь из стекла. Солнечные лучи, казалось, насквозь пронизывали его тело. Матрос сразу узнал его. Но тут сверкнул залп. А выстрел был уже не слышен.
Матрос прижался лбом к стене. (Ужас вторично повернул его.) Колени у него дрожали и подгибались, все тело покрылось потом. Руки судорожно шарили по стене, словно ища опоры среди рушащегося мира.
— Отец! — едва выдохнул он. — Отец! Господи спаси и помилуй! — И ощупью стал пробираться вдоль стены. На этой стене, опять уже непроницаемой, он нащупал теперь множество мелких дыр в штукатурке, дыр, которые могли быть только следами пуль. На пути домой, как только он вышел на шоссе, его удивила какая-то трескотня — Хабергейер верхом на своем мопеде, борода развевается, как шарф. Выехав на шоссе с южной стороны, он сразу же угодил в оползень, в липкую грязь. Колеса заскользили, мопед начал подпрыгивать, как строптивый осел. С остекленелыми глазами и окаменевшим лицом егерь балансировал, точно смешной гном на взбесившемся достижении современной техники. Наконец опасность миновала, страх улегся. Отважный всадник притормозил, и машина остановилась возле матроса.
— Ничего себе грязища! А? — миролюбиво заметил он и вонзил когти своего горного ботинка в траву на обочине.
Матрос, задыхаясь от ненависти, уставился на этот ботинок, потом поднял глаза, взгляды их встретились.
Хабергейер сказал:
— На кирпичный завод ходил, что ли? — Глаза его внезапно стали узкими и колючими. То были глаза егеря, глаза стрелка, уже нацелившегося на свою жертву.
Матрос ничего не ответил, язык его прилип к гортани, от ужаса пересохло во рту. Тюкнуть мне его сейчас? — подумал он. Тут же, на месте! Заодно с мопедом! Видит бог, у меня руки так и чешутся! Правда, толку от этого будет чуть.
— А я тебя видел, — сказал Хабергейер. — Я как раз шел по лесу и все примечал. — И вдруг (таинственным шепотом): — Волка хочу выследить! Вот и брожу там с утра до вечера.
Матрос, с трудом разжимая губы:
— Ну и хорошо! Теперь-то уж с нами ничего худого не случится.
— Ничего, — сказал Хабергейер, — я все время начеку. Вы только по бездорожью не шляйтесь. Вот и все!
Сейчас я его прикончу, думал матрос. Он уже сжал кулаки в карманах и сказал:
— Н-да, а то, глядишь, и на тот свет спровадят, как вашего друга Айстраха, к примеру.
Лицо у Хабергейера стало каменным.
— Я сейчас не о нем говорю.
А матрос:
— Я знаю. Вы говорите обо мне.
— Я говорю вообще, — отвечал Хабергейер.
Матрос вытащил кулаки из карманов. Но они были как ватные, бессильные, бесчувственные. Да, так тебе с ним не справиться, подумал он, придется отложить до другого раза.
Хабергейер завел свой мопед. Дымка загадочности вдруг подернула его взгляд. Он сделал вид, что собирается уехать, но еще раз глянул на матроса.
— Послушай-ка, — сказал он. — Мне пришла в голову недурная идейка! Ты мог бы сделаться бургомистром, хочешь? Конечно, тебя здесь не очень-то любят, ну да наплевать. У меня есть связи. Я уж сумею все устроить. Протащу твою кандидатуру.
Эта капля переполнила чашу. Матрос захохотал как безумный. Он хохотал все безнадежней, все громче, хохотал из последних сил.
А Хабергейер:
— Что ты смеешься? Я говорю серьезно.
А матрос:
— Я знаю. Потому и смеюсь.
— Ты, значит, не хочешь?
— Пет, благодарствуй, я не карьерист.
— Ну что ж, нет так нет. Была бы честь предложена.

Потом настало двенадцатое февраля, день, когда вахмистр Хабихт получил письмо с угрозами, Алоиз Хабергейер убил собаку, а Карамора повредился в уме.
В этот день погода все время менялась, солнце сверкало то сквозь снег, то сквозь завесу дождя; в сплошных серых тучах иногда вдруг разверзалась темно-голубая пропасть, резкий ветер без разбора перемешивал свет и тени.
Что-то такое случилось, подумал утром помощник жандарма Шобер. Надо посмотреть, в чем там дело. Он открыл дверь и вышел. Письмо, просунутое в дверную щель, шлепнулось на пол.
Шобер нагнулся и поднял его.
— Письмо! — крикнул он Хабихту. — Письмо без адреса.
А вахмистр (из заспанной тишины дома):
— Ладно! Положи его пока что на лестнице.
Шобер положил письмо на нижнюю ступеньку, надвинул шапку на лоб и вышел. За церковной башней сивый облачный конь встал на дыбы и перескочил через голубую пропасть. А письмо лежало на нижней ступеньке, еще запечатанное и едва различимое в тени, но, когда ветер ударял в окошко прихожей — как будто собирался взять дом приступом — и разгонял облачных коней, солнце на краткий миг проглядывало меж их развевающимися гривами и конверт в полутьме начинал светиться.
Незадолго до этого матрос решил пойти на хутор и наконец добиться ясности. Под громкий галоп небесных коней он, как парусник, плыл среди брызг, что летели из-под их копыт, и сначала причалил к «Грозди».
— Эй, хозяин, — сказал он Францу Биндеру (просунув голову в дверь ресторации), — заткните-ка пасть своему ящику, а то ничего не услышите.
Пивной бог встал, приглушил радио и милостиво повернулся к матросу.
А тот:
— Дайте-ка мне жареной свинины, кило или полтора. Только прошу, не такой жирной, как в прошлый раз, а то этим салом хоть сапоги смазывай.
Выходя, он столкнулся в подворотне с Гертой, которая нахально загородила ему дорогу.
— Вы что, один эту свинину будете жрать? — спросила она.
А он:
— Ага! Хотите, могу вас пригласить.
Она одарила его взглядом, в высшей степени непристойным.
— Что ж, повеселиться я не прочь.
А он (уже обходя ее):
— Тут я вам ни к чему. У вас и без меня хватает.
В это самое время Хабихт спустился по лестнице, поднял письмо, оглядел его, пожал плечами, потом достал перочинный ножик и с педантичной аккуратностью вскрыл конверт.
И — глаза у него полезли на лоб — ничего себе подарочек: карандашом на листке канцелярской бумаги (трепещущий луч света вдруг упал на него) злодей огромными печатными буквами вывел:
ПРОЩАЙТЕСЬ С ВАШЕЙ ЖАЛКОЙ ЖИЗНЬЮ! ХОЧУ СКАЗАТЬ: ПОЕШЬТЕ ЕЩЕ РАЗОК ВВОЛЮ, ВЫПЕЙТЕ ВСЛАСТЬ! В НОЧЬ С ТРИНАДЦАТОГО НА ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ВСЯ ДЕРЕВНЯ ВЗЛЕТИТ НА ВОЗДУХ.
А матрос опять вышел на ветер и опять показался себе мореплавателем. Он думал: нет! С этой лежать в постели? Бр-р-р! И большими шагами пошел прочь. Но тут он заметил собаку, о которой говорилось вначале, а вверху мчались облака-кони и хвостами сверкающего дождя хлестали но крышам. Собака лежала посреди церковной площади, собака, до того отвратительная, что можно было только радоваться ее смерти. А вокруг, занятые серьезным разговором, стояли мужчины (среди них Алоиз Хабергейер с ружьем и биноклем). Они смотрели на отвратительный труп, не зная, как к нему отнестись. Потом они подняли глаза и выжидательно взглянули на егеря, и тогда егерь раскрыл рот, заросший божественной бородой.
— Вот он лежит, — сказал он.
А люди:
— Да, но это же не волк!
— Нет, не волк, — согласился Хабергейер, — это собака. Одичавший волкодав. Он не менее опасен, чем волк.
— Да это же пес старика Клейнерта, — сказал Франц Цопф.
— Верно! — сказал Франц Цогтер, — я его тоже знаю.
А Хабергейер (с невозмутимым видом):
— Очень сожалею, но одичавшие собаки подлежат уничтожению.
Матрос подошел к ним.
— Что это такое? — спросил он, ничего не понимая.
— Волк! — сказал Шобер. — А вернее, собака! Хабергейер застрелил ее сегодня утром.
— Ну и дела… — сказал матрос и окинул взглядом сначала собаку, потом егеря.
А тог:
— Вот и разгадка. Если это не волк, то скорее всего собака.
Тут подошел вахмистр Хабихт, отвел Шобера в сторону и шепнул ему что-то на ухо.
— Что? — задохся Шобер. — Что? Ты шутишь!
Матрос насторожился. Обернувшись, он увидел, что Хабихт в упор смотрит на него. Нахмурив брови, он двинулся к нему.
— Вам что-нибудь нужно от меня? — спросил он угрожающе.
Хабихт окинул его взглядом с ног до головы и спросил:
— Вы случайно не писали письма?
— Кому?
— Мне.
— Вам? Письмо?
— Да. Письмо с угрозами. Сегодня утром кто-то просунул его в дверь.
Матрос рассмеялся.
— Как вам такое могло в голову прийти? Я в свое время даже возлюбленной не писал. С какой же стати я теперь, на старости лет, буду писать вам?
Хабихт с мрачным видом жевал усы.
— Значит, это Карамора, — пробормотал он. — От Караморы всего можно ожидать. К сожалению, придется эго дело проверить.
Они обернулись к трупу.
— Надо поскорей закопать, — как раз говорил Франц Цопф. — Если придет Биндер и увидит пса, то уж обязательно утащит и в воскресенье, чего доброго, подаст нам на жаркое.
А Хабихт (подняв палец):
— Слушайте! Кто-нибудь из вас видел Карамору?
— Когда?
— Сегодня утром или ночью.
— Утром не видели. И ночью тоже. Мы же спали!
Впрочем, они и не могли его видеть ночью, так как он был в Плеши у одной знакомой, молоденькой служащей с почты. Иными словами, на ночь у него имелось алиби. Поздним утром он отправился в Тиши: в то утро была переменная облачность. На груди у него висела гармонь, на которой он играл, покуда они не легли. Девушка говорила:
— Слушай! Ты это знаешь? — и тихонько напевала мелодию, а потом: — Не знаешь? Ну ладно уж, хватит!
Немного погодя они уже лежали в постели.
Но теперь: разворошенная ветром постель природы, влажная не от любви, а от талых вод; на востоке сквозь тучи проглянуло солнце, снег белел сквозь скелет леса, и ничто уже не напоминало ему о почтовых делах, даже телеграфные провода вдоль дороги; казалось, их только сейчас натянули, чтобы они могли петь тихую песню в беспокойном потоке ветра.
Карамора все время испытывал какое-то внутреннее сопротивление, и шаги его становились короче по мере того, как он приближался к месту, где белел рубец оползня. С той окаянной осенней ночи, когда его напугал кравшийся за ним зверь, он очень не любил проходить здесь и всякий раз мучился смутным чувством страха. Наконец он остановился. Словно злой дух схватил его за ноги. Он думал: видит бог, эта дорога — проклятое, дурное место. Поле, где не растет ничего, кроме сорняков; кирпичный завод, который медленно разваливается на части; дуб, крепкий с виду, но гнилой внутри; с другой стороны — дорога, на ней они подстрелили арестанта. А теперь еще целая гора глины и грязи, из нее вдобавок ко всему торчат сапоги жандарма! Наверху по-прежнему ютится хижина гончара, где повесился старый Недруг. Неужто всему виной «неприметная тропинка»? — думал он. Эта полоска земли, на которой вся жизнь идет шиворот-навыворот: по весне трава жухнет и засыхает, а по осени начинает зеленеть. Он огляделся кругом, не видно ли где прохожего, с которым можно было бы пойти вместе, машины или телеги, чтобы поскорее проехать это место, но дорога, куда ни глянь, была пуста. Ничего не поделаешь! Придется идти одному. Обычно здесь уйма народу, но лишь в тех случаях, когда помощь никому не нужна. Как человек, но дощечке проходящий над пропастью, он переставлял ноги с величайшей осторожностью, но в то же время довольно быстро, чтобы напрасно не длить мучений. При этом он не смотрел (как в шорах) ни направо, ни налево, а только вперед, на нескончаемый ряд высоких столбов с натянутыми на них, убегающими вдаль проводами. Он слышал металлическое жужжание, вгонявшее столбы глубже в землю, и ему чудилось. что в этот миг жужжание вечности доносится до него, вечности, вдруг ставшей слышимой. Это было непереносимо! И делало пропасть еще непреодолимее! Он нащупал свою гармошку и, чтобы не слушать больше этого жужжания, извлек из нее несколько звуков. По едва он коснулся клавиш, как глаза его от внезапного ужаса скосило вправо; он заметил, как справа что-то прошмыгнуло — кто-то шевелился в развалинах.
Перестав играть, он замер и уставился туда, на кирпичный завод. Ноги его словно вросли в глину. Он увидел в одном из окон какое-то шевеление. Но это мог быть и куст, росший там. Оно слегка мотало головой, словно раскачиваясь на ветру, но. прежде чем Карамора смог разобрать, что это такое, оно наклонилось и исчезло.
У него задрожали колени — теперь ему было ясно, что это не куст. Он зажмурился, потом снова открыл глаза и опять увидел это. Но на сей раз с другой стороны, у дуба.
То был человек, маленький, тощий человечек. Он шел согнувшись, шатаясь под тяжестью глины. Ибо весь с головы до пят был покрыт ею. Он словно только что выбрался из-под оползня и медленно приближался к Караморе, едва волоча ноги, хотя казалось, что его подошвы не касаются земли, что он беззвучно скользит поверх сухой травы. А когда он вдруг встал против солнца (оно лишь сейчас поднялось над горизонтом) и его лучи проникли сквозь трещины в слое грязи, которой был покрыт этот человек, Караморе почудилось, что под глиной нет тела.
А тот поднял руку и указал на Карамору. Нет, он указал на его гармонь, потом на себя, как бы говоря: дай мне! Дай и мне немножко поиграть!
И вдруг он исчез, растворился в пустоте. Рассеялся, как туман на солнце. Метрах в пятидесяти от дороги обратился в прах, растаял в потоках света.
С Караморы спало оцепенение (а провода продолжали жужжать над ним). Он отпрыгнул назад, удержался на ногах и вдруг помчался как одержимый.
Весь в поту, вконец измученный, с остановившимися глазами, он добежал до Тиши. Мы немедленно потащили его в «Гроздь» и влили ему в глотку пива. Но заговорил он лишь после нескольких рюмок водки… А когда он рассказал свою историю, уверяя, что видел призрак и что виновата в этом только его гармошка, которую он решил пожертвовать церкви на бедных… А потом стал клясться, что говорит чистую правду и что в печи для обжига кирпича зарыта собака (не собака старика Клейнерта, нет, та еще лежит на улице); ему еще осенью казалось, что вокруг него шныряет невидимый зверь… Мы переглянулись и вдруг поняли, что он спятил.
Хабихт отодвинул нас в сторону и принялся его расспрашивать.
— Значит, он хотел заполучить твою гармошку? И весь был вымазан глиной? А потом вдруг взял да исчез?
Карамора равнодушно кивнул.
Хабихт закусил губу.
— Ты мне письмо писал? — спросил он внезапно.
Карамора только глаза вытаращил, как будто и понятия не имел, о чем идет речь.
— А где ты был ночью? — спросил Хабихт.
— Оставь ты его в покое, — сказал Франц Цоттер.
— Конечно, а то он совсем сбесится, — сказал Франц Цопф.
— Я был в Плеши, — отвечал Карамора. — У одной знакомой.
Тут Хабихт встал и пошел не куда-нибудь, а прямиком к своему телефону. Войдя в караульню, он захлопнул дверь и сразу схватился за трубку.
— Будьте добры, окружное жандармское управление!
(Шобер, он тоже вернулся, навострил уши.)
— Десятое отделение. Жандармский пост Тиши. Вахмистр Хабихт. Срочно требуется подкрепление! По возможности еще сегодня.
(Шобер не верил своим ушам.)
— Я получил известие, что на деревню готовится нападение. Нет. Анонимное. В ночь с пятницы на субботу. Понятия не имею. Я обязан расследовать это дело…
Ибо безумие, уже занесенное в деревню, начинало охватывать одного за другим, и Хабихт, много дней пребывавший в крайнем возбуждении и не смыкавший глаз по ночам, конечно же, стал первой его жертвой.
Матрос тем временем прошел уже почти полдороги. На этот раз он считал, что ему удалось сократить ее, так как хорошо знал, куда ему надо идти. Миновав мост возле дубовой рощи, он оставил дорогу справа, и под копытами гигантских, вставших на дыбы коней пересек поток ветра в широкой лощине. Теперь его окутала завеса дождя, с запада над полями несся сверкающий конский хвост, глыбы земли, черной и дымящейся на холоде, выступили из лежалого снега, как острова из моря. И сразу же в воздухе повисла неправдоподобная тишина, белесый свет затопил все вокруг, и в этом освещении (оно выхватывало отдельные части ландшафта, то игравшие огненными красками, то темные и блестящие от влаги) меж двух развевающихся хвостов матрос увидел белую часовню, словно парус в океане. Он уже поднимался вверх по мягкому луговому склону, а часовня светилась ему навстречу еще ярче, чем тогда, в сумерках, ибо тела вздыбившихся коней излучали голубовато-стальное сияние. И в то время как победоносное сияние юга прорвалось и высветило склон и часовню (волну и парус), а конские копыта, вспенивая зеленоватый брод, звенели, высекали искры из прибрежных камней, север, под сводом радуги, полыхавший мучительной, дикой лиловостью, походил на ворота темного конного завода, из бесконечных глубин которого вырывались все эти кони. Ступит ли старик, считавшийся мертвым, на борт корабля? Ступит ли на него хотя бы одной ногой, хотя бы мизинцем левой ноги на борт этого крохотного, белого, таинственно мерцающего летучего голландца? Матрос видел его перед собою уже совсем близко и все же далеко, бесконечно далеко, почти уже затерявшегося под прекрасным высоким сводом, с которого дождь свисал, как сверкающий жемчужный занавес. И вдруг матроса охватило странное волнение, предчувствие, что на сей раз он обязательно встретит старика, заглянет наконец в его глаза или хотя бы сможет припасть к его ногам.
Запыхавшийся, усталый, он бросился на ворота, уповая, что капитан крейсера, которого он не увидел во сне, преображенный, появится на борту катера; обеими руками обхватил прутья решетки, прижался лбом к холодному ржавому железу и вопреки ожиданиям увидел не картину (алтарь, прежде скрытый от него темнотой), а, к своему ужасу (ибо в эту секунду он действительно заглядывал в лицо божества), пустой каменный грот в форме раковины, от которого отскакивало его собственное хриплое дыхание.
Вскоре лес остался позади и матрос подошел к хутору. Но другую сторону поля виднелись сливовые деревья кузнеца, их вершины царапали брюхо мчащихся во всю прыть коней-облаков. Я, кажется, застал его, сказал себе матрос. Мне послышалось дыхание в старой каморке. Он думал только о старике (не о чьем-то дыхании, не о ветре, не о часовне) и о каморке в собственном сердце.
Но гориллу он опять увидел, как тогда, в сарае за домом. Стоя в темноте, тот гнал сливовицу и держал в руке какой-то чудной стакан.
— Здорово вы подгадали! Я как раз сегодня в четыре начал ее гнать. — Он повернулся к чану и подставил стакан под трубку, из которой мерно капала жидкость.
Матрос смотрел на сверкающий медный котел, на огонь, полыхавший под ним, на пропущенную сквозь воду стеклянную спираль, на тоненькую, равномерно взблескивающую струйку. Он взял стакан, протянутый ему кузнецом, вдохнул запах сливового сусла и, одним глотком осушив его, почувствовал во рту сентябрьскую свежесть.
В это самое время Малетта затемнил свою комнату, ибо то, что творилось на улице, нисколько его не интересовало, до обеда было много времени, а бумага для затемнения оставалась на окнах еще с войны. Он раскатал ее, включил красную лампу и решил сделать то, что до сих пор никак не собрался сделать, а именно проявить фото, на котором должен был быть виден и он сам.
Малетта подготовил все необходимое, достал пластинку из кассеты, положил ее в ванночку и стал терпеливо ждать. На ночном столике тикал будильник, его хриплый голос кричал из красноватой полутьмы: «Убить! Убить! Убить! Убить! Убить!» Но тот, кто был уже мертв на две трети, не мог последовать благому совету, у него не было сил даже себя самого лишить жалких остатков жизни.
Два раза в день старуха Зуппан приносила ему пищу, которая, если судить по ее виду и вкусу, состояла из объедков, как правило достававшихся свиньям. Зуппанша входила, подавала ему еду в постель и, покуда он, водрузив тарелку на колени, давясь, глотал это хлёбово, стояла поодаль (как будто следила, чтобы он не проглотил ложку) и рассказывала обо всем, что произошло в деревне за время его тяжелой болезни — об урагане, о бедном господине Пунце Винценте, о вахмистре Хабихте и о том, что, поговаривают, будто во всем этом виноват волк.
Сегодня она тоже побывала у него, но не с едой, а с новостью. Хабергейер нынче утром пристрелил волка, и теперь все пойдет на лад. «Убить! Убить! Убить!» — тикал будильник, старуха же болтала и болтала. А со всех четырех стен на него таращились местные жители, будто хотели сказать: «Ну? Так что?»
Я — нет! Откуда мне взять силы? Пусть за меня это сделает кто-нибудь другой! Я только проявлю фотографию, а потом все. Эта фотография — мой последний козырь, и я с него пойду!
Он знал, что его жизнь на исходе. И все на исходе. Даже средства к существованию. Он уже с октября сидел на мели; ему теперь и за квартиру заплатить нечем. Он подумал: в руках шантажиста такое фото принесло бы неплохой доход. Любое зло имеет практическую сторону, но он страшился этой грязной стороны.
Он вынул пластинку из ванночки и поднес ее к красной лампе. Увидел, что держит ее неправильно, и перевернул. Теперь все в порядке. Но нет! Опять неправильно! Похоже, что этот отвратительный снимок ему не удался.
Малетта прищурился. Правда, он разглядел задранные ноги Герты; зад и ляжки были черными, а черные высокие сапоги — белыми. А он? Где же он? Черт побери! Наверно, автоспуск сработал раньше времени. Он вертел ее, как загадочную картинку, все напрасно! В этом хаосе он нигде не видел себя. В том месте, где должен был быть он, находилось лишь большое, странной формы пятно, вот и все. И вдруг он задрожал всем телом, ибо мгновенно, за какую-то долю секунды он узнал Нечто! Растерянным взглядом смотрел он на расплывчатое пятно и вдруг понял, что оно само себя разоблачило. Тогда он — голова у него кружилась — закрыл глаза перед лицом бездны. Пластинка выпала у него из рук и разбилась.
— Часовня, — сказал матрос, — пуста, как открытая раковина на берегу. Поначалу я внушал себе, что там внутри что-то есть, но сегодня убедился, что она пуста.
Кузнец снова наполнил котел и огромной деревянной ложкой помешал сусло. Он сказал:
— Да, вот уже целую вечность она так стоит. Меня только удивляет, что ее все еще красят.
Матрос уселся в стороне на колоду, понурил голову, уронил руки на колени. Затем поднял стакан, который кузнец уже в третий раз наполнил сливовицей и, прищурившись, уставился на него.
А потом:
— Мы живем в стране маляров. Здесь только и знают, что красить да перекрашивать. Ставни зеленые, стены розовые! Все так приветливо! А в саду стоит гном, покрытый пестрым лаком. Но, — сказал он вдруг и устало усмехнулся, — краски иной раз шутят дурные шутки. Если, к примеру, смешать черную и красную, получится зловещий коричневый цвет.
Кузнец молча вытащил ложку из сусла (оно только что закипело), надел колпак на котел, прикрепил к чану трубочку и сказал:
— Знаю, знаю, вы до коричневого не охотник.
А матрос:
— Гм, как сказать. Крестьянская девушка с коричневыми руками мне очень даже нравится. И коричневые волоски, что торчат из подмышек, тоже нравятся.
— И еще сусло, которое мы тут варим! — сказал кузнец. — И земля, которая опять проглянула из-под снега.
Матрос поднес стакан к губам.
— Я пыо за деревню! — сказал он и опрокинул в глотку пламя ясного сентябрьского дня; на секунду ему пришлось закрыть наполнившиеся слезами глаза, и на краткий прекрасный миг он под веками увидел огромное, янтарного цвета солнце. А потом: — Я знал одну батрачку, она как будто по заказу для меня была сделана. И к тому же смуглая, можно сказать коричневая. Но это дела не меняет. Ведь коричневыми не только волосы бывают.
Рот кузнеца исказился гримасой.
— Валяй дальше! Я пока что хорошо слышу. — Он подставил пустой стакан под трубку и уселся на табурет перед котлом.
А матрос:
— Ну ладно, так слушайте! Коричневых от загара крестьян я люблю. Даже с налипшей на ноги землей. Потому что я люблю землю. Не родину, а землю! Глину, из которой я делаю свои горшки. А вот, к примеру, дерьмо (оно ведь тоже коричневое) я терпеть не могу. И если я носом чую, что мой собственный отец — спаси господи его душу! — вывалялся в дерьме, мне уж совсем худо становится. Потому-то я сюда и пришел, вы понимаете!
Тонкой струйкой, с трелью, ласкающей слух, потекла сливовица в стакан. Кузнец не отрываясь смотрел на нее, хотя смотреть, собственно, было не на что.
— Так называемый первач! — сказал он.
Матрос поставил стакан на пол.
— Оставьте хоть на минуту вашу сливовицу! Вы точно знаете, что тогда случилось. Скажите же мне наконец! Я и так уже вдребезги пьян!.
Кузнец не поднимал глаз. Он то и дело пробовал пальцем: сливовица требует много внимания. Потом подставил под струю другую кружку и только тогда повернулся к матросу.
— Вы жестоко ошибаетесь, точно я ничего не знаю, — сказал он. — Хотя часто об этом думаю.
— О чем?
— Я говорю о тогдашней истории. Не знаю, имел ли к ней какое-нибудь отношение ваш отец.
Матрос невольно подался вперед.
— Так, значит, все-таки история… — сказал он настороженно.
— Выпейте еще, — сказал кузнец, потянулся за стаканом и наполнил его. А потом: — Тогда была почти такая же погода, как сегодня. (Он протянул матросу стакан.) То дождь, то солнце, только что снег уже весь стаял. Был конец апреля или начало мая, я уж не помню.
Матрос приблизил стакан к губам, но не отпил, точно дожидаясь какого-то сигнала. Внутренним взором он видел завесу дождя, солнце, игру света и тени.
— Деревья уже оделись листвой, — рассказывал кузнец. — В садах вырос лук-скорода и что там еще растет в это время года. Гномов вынесли уже поздней. — Он подставил под струю новую кружку, наполнил ее и поднялся. — Фронт был совсем близко. И мы знали — скоро все кончится. — Он подошел к громадной бутыли в углу сарая и влил в ее горло кружку тепловатой сливовицы. Первач он сливал в стоявшую рядом бутыль поменьше. — И большинство этому радовалось, — сказал он.
Тут матрос стал пить (покуда кузнец возвращался на свое место), маленькими глотками пил он темно-синий огонь осени и вдруг почувствовал: завтра! Перелом! Возбуждение охватило его, словно по жилам разливался свет!
— Я тоже радовался, — сказал кузнец, садясь. — Спозаранок выглянул на улицу и вдруг увидел несколько иностранных рабочих в сопровождении отряда самообороны. Как раз за день до того вышел приказ (уж не знаю, кого он касался, жандармерии или фольксштурма) пригнать иностранных рабочих на железную дорогу, погрузить и отправить. Тогда ведь каких только организаций не было, поди разберись: СС, СА, гитлерюгенд, трудовая повинность, а под конец еще фольксштурм! Наш отряд самообороны входил в фольксштурм. — Он снова попробовал свой первач и восторженно произнес: «Черт возьми!» Подбросил в огонь несколько свежих поленьев, они весело затрещали. А потом: — В отряде самообороны тогда состояло только четверо (все остальные были на фронте). А именно: Айстрах, Пунц Винцент, Ганзль Хеллер, у которого молоко на губах не обсохло, ну и, конечно, Хабергейер, ортсгруппенлейтер. Он-то и возглавлял всю эту шайку. Ну вот, вышел я из дому и вижу: эти четверо гонят иностранных рабочих на железную дорогу. Дело было часов около семи, и я еще ничего такого не подумал…
Матрос сидел неподвижно, закрыв глаза.
— Значит, мой отец, не состоял в отряде самообороны, — сказал он.
— Нет, — отвечал кузнец. — Только в фольксштурме. Все старые развалины тогда состояли в фольксштурме. — А потом: — Я видел, как они идут (они были в мундирах фольксштурма, с карабинами через плечо, а я, как уже сказал, ничего такого не подумал). Утром все было спокойно, и только около одиннадцати в Плеши завыла сирена воздушной тревоги. Я залез на крышу с биноклем, хотел поглядеть на самолеты. Я там долго проторчал, но самолеты не прилетели. Мне подумалось: сегодня ничего не будет, я хотел было спуститься и немножко перекусить. Н-да (было уже время обеда, а я с утра ничего не ел), и в ту самую минуту, когда мне уж совсем невтерпеж стало, я услышал стрельбу. Ну, думаю, господи боже! Вот уже и русские в деревне! И опять пальба! Тут уж я прислушался повнимательней: должно быть, стреляют где-то возле кирпичного завода. Я схватил бинокль и стал глядеть в ту сторону. Вы ведь знаете, кузня — крайний дом в деревне, и в хорошую погоду с крыши все видать до самого дальнего хутора. Сперва я ничего не видел. А потом вижу: из печи для обжига кирпича вышли пятеро, остановились и начали о чем-то совещаться. К сожалению, я их не узнал, бинокль у меня неважный, да еще солнце слепило. Один из них, старик, был в штатском, остальные в форме фольксштурма. Они долго в чем-то убеждали старика, мне показалось, что это ваш отец, потому что он пошел в хижину гончара и вскоре вернулся с кирками и лопатами. Он роздал им инструмент, и они все вместе снова скрылись в печи. Я ждал час, другой, потом мне уж совсем худо стало с голодухи, и я слез.
Матрос по-прежнему сидел с закрытыми глазами.
— А у этих людей было оружие? — спросил он.
— Ну а как же! У каждого по карабину. Думаю, что и у штатского.
Матрос открыл наконец глаза и сказал:
— Так! Вот теперь мне надо еще выпить! — Он протянул кузнецу стакан, пальцы его дрожали.
А тот:
— Я тогда сразу подумал: что-то здесь нечисто. И вот почему: после стрельбы по мишеням кирки и лопаты не нужны, а если они рыли окопы, так зачем было стрелять, правда ведь? (Он подал матросу полный стакан.) Так что же я сделал? — многозначительно сказал он. — Решил: сперва поем, потом буду дальше смотреть. Я открыл дверь настежь, чтобы получше видеть дорогу; все это время продолжалась воздушная тревога, нигде не было ни одной живой души и ни одного самолета. Я ел свою колбасу, а на улице дождь лил, бушевала буря, изредка проглядывало солнце. Отбой дали только часа в четыре.
— А потом?
— Потом они появились.
— Те, из отряда самообороны?
— Да нет! Самолеты! В облаках образовалась громадная темно-голубая дыра, и видно стало, как они летят. Я вышел и глянул вверх. Стоял как дурак и считал: двадцать — тридцать — сорок — пятьдесят — шестьдесят — семьдесят! Потом опять набежали облака.
— А самооборона? — спросил матрос.
— Они, верно, тем временем разошлись по домам. Я потом подкрался к печи, но там уже никого не было.
Матрос залпом выпил стакан и опять закрыл глаза.
— Господин старший лесничий! — сказал он. — Садовый гном! С каким удовольствием я сбрил бы его окладистую бороду!
— Да, это было бы недурно! — сказал кузнец. — Но я ведь уже говорил: я не знаю, они ли это были. Хабергейер рассказывал после в трактире, что они еще до воздушной тревоги вернулись домой. Но, — сказал он и поднял палец, — самого главного вы еще не знаете. Я это приберег на закуску. И теперь хочу вам рассказать. — Он поменял кружки, отпил из полной один глоток, с наслаждением утирая усы, отодвинул ее в сторону и продолжал: — В Плеши тогда жил один железнодорожник, стрелочник по имени Иозеф Рацек. Примерно через месяц, когда все уже счастливо окончилось, мне дали кое-какую работенку на железной дороге, там я столкнулся с этим самым Йозефом Рацеком. Ну, мы поздравили друг друга с тем, что остались живы, в общем поговорили обо всем на свете: о русских, конечно, и еще об иностранных рабочих. Тут этот Рацек мне говорит, что в то утро он как раз был дежурным. И что же дальше? Я просто ушам своим не поверил, ну никак не хотел верить. Отряду самообороны пришлось вместе с иностранными рабочими вернуться назад. Ночью на дистанции что-то случилось — понятное дело! Поезд, с которым должны были отправить рабочих со станции, не вышел.
Матрос все время слушал затаив дыхание, но тут он встал и направился к двери.
— Сколько их там было? — спросил он.
— Пять или шесть, может, даже семь, — сказал кузнец.
Видя, что матрос вышел из сарая, кузнец поднялся и тоже вышел в сад, где за скелетами фруктовых деревьев блуждали то светлые, то более темные солнечные блики. Он сказал:
— Обдумайте хорошенько, стоит ли вам что-либо предпринимать. Я уже примирился с тем, что живу среди убийц.
Быть убийцей среди живых! Мертвецом среди живых! Среди бесстыдно довольных, бесстыдно здоровых быть больным, быть палачом! Волосатой бессмыслицей из влаги и ночи, которая набрасывается на путников! Малетта снял черную бумагу с окна, собрал осколки пластинки и вскоре уже, давясь, ел что-то из принесенного старухой Зуппан. Она рассказала ему, что Карамора повстречался с призраком возле печи для обжига кирпича.
— Ну и ну! — сказал Малетта. — Итак, история продолжается! Выходит, егерь убил не того волка!
Он стоял у окна и горящими глазами смотрел на деревню, ему казалось, что она разваливается, подточенная его ненавидящим взглядом, и, завязшая в трясине своих навозных куч, превращается в мусор и хлам. Он думал о последних событиях; более всего Малетту занимал конец Пунца Винцента — наверно, не из симпатии к этому господину (нет, ее заслуживал спорее волк, нежели жертва), а потому, что он вдруг вспомнил, что ему давно уже во всех подробностях грезились сцены казней, казней, которые он старался накликать на деревню. Он все еще видел то загадочное светлое пятно, ту жуткую бессмыслицу на последнем фото мясниковой дочки (когда он закрывал глаза — видел на внутренней стороне век, а когда открывал — видел дымным облаком над деревней) и видел себя самого в «Грозди» уставшим после странствия на свету, на морозе и на ветру, после дня, о который он порезался, как об осколок голубого стекла. А за столом завсегдатаев пировало «высшее общество» Тиши, славная пятерка (двое из жандармерии, трое из лесу), один из них был обречен на смерть (он сидел под стенными часами, и обе стрелки указывали на его голову). Зато Франц Биндер указывал наверх, потому что там, наверху, прихорашивалась его дочь, а потолок дрожал под сапожищами Укрутника. Сапоги скототорговца царили в небе этого дома.
Малетта выпивает свой стакан. Потом откидывается на спинку стула и закрывает глаза. Его опьянение до сих пор было красным, как вино, теперь оно переходит в свою противоположность, становится синим. С краткой фиолетовой болью меняет цвет и делается синим, как лед, синим, как этот убийственный день, синим, как осколок стекла, которым вскрывают вены: продутая ветром долина под шиферной кровлей неба, и в ней деревня, что могла бы называться Тиши, кругом громоздится неразбериха гор, изрытых бешеными ветрами: и внезапно он понимает: здесь обитель зла! Хорошо замаскированное, зло гнездится в долине и притворяется спящим — не только убийство, но и потребность в убийстве, в мести, — и это зло завладело им, Малеттой! Как опухоль, выросло в его теле. Вскормилось его кровью. Однажды оно переросло его и теперь угрожающим, черным как ночь, зловонным облаком повисло над деревней. Что он думал тогда? Думал: кто-нибудь из них пойдет в лес, считая, что в лесу, в поле все тихо, спокойно, и вот тут, вот тут-то ты его и трави! Хватай его! Рви на куски, мой волк! Не шевелясь, с закрытыми глазами Малетта вслушивался в себя, а издалека доносились крики, становившиеся все пронзительнее, и кружили над деревней… И наконец стук женских каблучков в подворотне — далекие выстрелы! Эхо далеких выстрелов! Или то лязганье костей? Треск ветвей падающих деревьев? Или медленно, но верно крутящиеся жернова? А теперь это действительность, не мечта: в тот же вечер убийство свершилось, и, если он не ошибается, точно через месяц одного из них затравил волк!
Охваченный несказанным ужасом, он отпрянул от окна, подошел к ночному столику, взял в руки черную книгу и открыл ее там, где лежала закладка.
«…конечно, не только по слухам, но и по собственному неопровержимому опыту, на множестве примеров узнали они, что мы не отступим от своего мнения. Сатана (а мы вовсе не собираемся отрицать… 1) тем, что они, подобно волкам…»
Нет, не то! Проклятье! То было другое место! Дрожащими пальцами водил он по строчкам. Вот оно! Черным по белому стоит:
«2) тем, что им в глубоком сне и впрямь вообразилось, будто они зарезали скотину, тогда как они одра своего не покидали, а все, что им пригрезилось, за них свершил нечистый».
Он захлопнул книгу и положил ее на столик. Итак, нечистый! Но он еще почище нечистого! То, что маленькому палачу, простому смертному только грезится, то великий вечный палач приводит в исполнение!.. Торжествуя, смотрел он на портреты — обходил почетный караул. Но что такое? Эти хари больше не производили на него никакого впечатления! Паутина, в которой он запутался вместе с ними. вдруг порвалась. Они были отвратительны, но прежде всего они были ничтожны. Недостойны ненависти, недостойны даже плевка в лицо! И в этот миг он осознал свою роль. И обратился в бегство.
Голод, думал матрос. Голод мертвецов! Моим бедным отцом они не насытились. И сожрали одного за другим: мальчишку, Айстраха, Пунца Винцента! Каждого, у кого еще были остатки совести, они призвали к себе и сожрали, только Хабергейера они не трогают! Его они предоставили нам, живым!
Он долго сидел на пне в глубокой задумчивости. На первый взгляд все казалось ясным, но суть этой истории по-прежнему оставалась темной и непонятной. Он думал: значит, мертвецы вовсе не мертвы, раз они могут совладать с живыми! (Выйдя из лесу, он спустился по луговому склону, не обратив внимания на часовню, оставшуюся слева.) Но мы против них бессильны! — думал он. — Мы многое можем одолеть, но только не мертвецов, ибо они мертвы и мы не в состоянии еще раз убить их. Непостижимыми, а потому и неприступными остаются они среди нас!
Немного не доходя до моста, он вынырнул из своей задумчивости. Увидел дубы, вонзавшиеся в небо. Шелестя редкой, оставшейся с осени ржаво-красной листвой, они вцеплялись в темнеющие облака. Переходя мост, он слышал, как под ним скользило змеиное тело ручья, как нежными боками терлось оно о прибрежные камни, и чувствовал волнующий запах тины и водорослей. На той стороне, у дубов, охваченный уже неукротимой яростью, подстегиваемый хмелем, матрос свернул вправо, на дорогу, ведущую к домику егеря. С востока полями подкрался мороз и вонзил свои челюсти в дорогу, уже давно непроезжую. Земля затвердела, грязь застыла. Лужи и колеи стали покрываться хрустящей ледяной корочкой. Уверенными шагами матрос приближался к лесу. Бык и кабан, казалось, опрокинулись назад. Здесь, на северном склоне, еще лежал глубокий снег. Сквозь скелеты деревьев неземным светом мерцали голубеющие поля. Вскоре дорога пошла в гору, со дна лесного ущелья ее высасывало наверх, в холод и тишину. Деревья слева и справа подступали к дороге и сплетались ветвями над его головой. Матрос подобрал лежавший поперек дороги сук, дубинку, она могла очень и очень ему пригодиться. Господин старший лесничий, вот кого бы я хотел ею попотчевать! И он взмахнул ею, со свистом рассекая сумерки. Однако этим символическим жестом он словно бы оскорбил лесного духа (может быть, злого духа), духа казенного леса, духа, который, наверно, был заодно с Хабергейером. Вскоре он убедился, что этот дух преследует его. Справа на склоне, наверху, матрос увидел, как дух крадучись шныряет за деревьями на длиннющих журавлиных ногах, отлично приспособленных для того, чтобы подходить быстро и незаметно.
Матрос остановился. Эта пакость действовала ему на нервы.
— Эй! Что это за дух там, наверху? — крикнул он.
И голос духа:
— Стой! Ни с места!
А матрос:
— Я уж и так стою! Чего вам надо?
Дух громадными прыжками стал спускаться с горы. Матрос крепче сжал свою дубинку, так как увидел, что это помощник. есничего Штраус, а значит, и вправду злой Дух.
— Поосторожней, не сломайте ноги! Такие длинные у вас больше не вырастут! — И, сощурившись, уставился на Штрауса, который по скрипучему снегу двигался прямо на него.
И вот он дошел! Спрыгнул на дорогу и сунул прямо под нос матросу свою двустволку.
— Так! Теперь ты от меня не уйдешь, — прохрипел он, зловеще ухмыляясь. И даже в сумерках его золотые Зубы сверкнули.
А матрос:
— Как бы не так! Много хочешь! Только убери сперва свой пугач, а то худо будет! Не ухмыляйся так, идиот несчастный, и спрячь свои золотые зубы. А не то какой-нибудь удалец тебе их вышибет!
Но помощник лесничего продолжал ухмыляться, да и ружье по-прежнему держал наизготовке. Он сказал:
— Но-но, потише! Ты же пьян в стельку! От тебя за десять метров разит сливовицей!
Вместо ответа матрос поднял палку.
— Ну! Что тебе надо! — выкрикнул Штраус, отступая.
— Дай мне пройти! — сказал матрос.
— Черта с два! — отвечал Штраус. — Теперь ты пойдешь со мной.
Матрос шагнул вперед.
— Да, черта с два! — сказал он. — Теперь я пойду дальше! Мне надо кое-что сказать Алоизу Хабергейеру. Фюреру фольксштурма и ортсгруппенлейтеру! Итак, хайль Гитлер! — Он поднял руку для приветствия, правда левую, так как в правой держал палку.
— Стой! — крикнул Штраус, и лицо его приняло неимоверно дурацкое выражение. — Стой! Я сперва должен тебя обыскать, нет ли у тебя оружия.
Матрос остановился и ткнул палку ему под самый нос.
— Посмотри-ка на нее как следует! Вот мое оружие! Не веришь? Ладно, можешь меня обыскать. Только живо! Я спешу к егерю! — Он поднял руки вверх, как пленный, и ждал, покуда Штраус его обыщет. — Хабергейер приговорен к смертной казни, — продолжал матрос. — Я хочу ему доказать, что телесное наказание куда приятнее.
— Хабергейера нет дома, — сказал Штраус, ощупывая куртку матроса.
А тот:
— Так-так! Где же он, спрашивается? Небось в трактире!
— В городе, — ответил Штраус. — У него какие-то дела в ландтаге.
Матрос широко открыл глаза.
— Я же его сегодня утром видел.
— Да, — сказал Штраус. — Утром он еще был здесь, а в обед поехал в город.
На этом обыск закончился.
— Ну, много нашел? — спросил матрос. И так рак Штраус скорчил кислую мину, сказал; — А ну покажи-ка мне еще разок свой золотой зуб.
Штраус отошел в сторону и с головы до пят оглядел его.
— По мне, можешь идти. Но если пойдешь к егерю, только зря время потеряешь. Он разве что послезавтра вернется.
Матрос взмахнул палкой в воздухе.
— Пожалуй, еще депутатом станет! — сказал он мрачно. — А меня он обещал скоро сделать бургомистром. Так что поберегись! А то вызову ветеринара и велю тебя кастрировать! — Он отвернулся и, яростно тыча палкой в глубокий снег, стал дальше подниматься по склону. Для него, что возвращаться назад, что пройти мимо егеря, выходило так на так. Долго еще он чувствовал на себе неподвижный, полный ненависти взгляд лесного духа. И все. Матрос добрался до перевала (он прибавил шагу, так как уже начало темнеть) и пошел вниз к домику егеря.
Надо все-таки попытаться, думал он. Кто знает? Может, он уже вернулся? Может, его вышвырнули из города? Такие бороды там не больно-то в цене… Он открыл калитку и прошел через сад, который теперь, зимой, походил на заснеженную пашню. Догадаться, что это сад, можно было лишь по игрушечным замкам, деревянным грибам и целой армии садовых гномов.
Он постучал в ярко освещенное окно, и через минуту в дверях появилась жена егеря.
— Ну-у! — крикнула она. — Сам-то в городе, в окружном управлении. Только послезавтра вернется.
— Я пришел передать ему привет, — сказал матрос. — От людей, которые его знают еще с войны.
— О-о! — крикнула жена. — Тогда приходите еще! Сам завсегда рад про фронтовых дружков слышать.
Идя назад по саду, он немного сошел с дорожки: чтобы сократить путь домой, ему надо было слева обойти сарай. Поскольку было уже довольно темно и свет из низких окон падал не очень далеко (сам же он оставался еще ярко освещенным), то пробираться без дороги ему было не так-то просто. И тут — хоть он и раньше об этом думал, но все равно испугался — матрос споткнулся о красоту (да так здорово, что чуть не упал). Да, споткнулся об одного из стоящих на страже гномов. Задыхаясь от ярости, матрос повернул назад. Ведь падал-то он, а гном по-прежнему стоял на месте! Это был на редкость толстый гном, который, казалось, беззвучно хохотал в темноте. Матрос не поленился, поднял палку, высоко занес руку (сливовица сообщила ей небывалый размах), и палка, это доброе оружие, просвистела в воздухе; голова чудища со звоном разлетелась на куски.
В тот же вечер матрос стоял у могилы своего отца, ибо едва он вернулся домой, как хмель, негодование, растерянность снова погнали его назад, в темноту. Он чувствовал слабый запах гниющего мусора, увядших цветов, иссохших венков; выброшенные за кладбищенскую стену, они превращались здесь в отличный перегной.
— Эй! Проснись! И скажи, что мне делать? — крикнул он. — Эксгумировать вас всех, что ли? А может, свернуть шею егерю? Или как? Или просто на всех на вас… — Он проглотил конец фразы и стал напряженно вслушиваться в непроглядную темень. В ответ ни слова! Только кучи мусора тихонько затрещали — крысы! Или это усилился мороз?
На радость чувствительным сердцам (и в утешение за разбитого садового гнома), когда наступила предпоследняя ночь этой истории, произошло еще одно небольшое, но приятное событие.
Укрутник приехал под вечер, и, хотя голова его была забита рогатым скотом и свиньями, что-то в поведении Герты — когда он, здороваясь, поцеловал ее и потом, во время ужина, — показалось ему странным.
Сейчас они под руку шли по темному двору, слабо освещенному тусклым светом из кухонных окон. Они решили поехать в Плеши в кино, но сначала надо было вывести машину из сарая. Шагая в ногу, они задевали друг друга ляжками (как в танцах, но менее игриво), и Укрутнику казалось, что ее мясистая рука в кожаном рукаве как-то особенно властно ложится на его руку. Он уже раздумывал, не спросить ли, в чем, собственно, дело, ведь должно же это что-нибудь означать, но, когда они дошли до задней, темной части двора, Герта сама завела разговор.
— Вчера я была у врача, — начала она.
(У врача? Ну и ну! Зачем, спрашивается? Она же не больна.)
Укрутник остановился и спросил:
— Ну, а чего ради? Ты что, заболела?
— Нет, я здорова. Совершенно здорова, как сказал врач. Еще он сказал, что я не должна слишком много есть.
В мозгу Укрутника зародилось подозрение, на время вытеснившее все мысли о рогатом скоте. Он высвободил руку и отступил назад.
— О господи, — сказал он, — что случилось?
А она:
— Ты не слыхал? Эрна Эдер вернулась.
А он:
— Не о том речь! Говори, что случилось?
А она:
— В новом пальто! И туфли тоже новые! И подмышки, знаешь, намазаны такой штукой, чтобы поменьше пахло.
Он не видел ее лица. Черной тенью стояла она у двери сарая, малорослая (значит, по сравнению с ним сущая пигалица) и тем не менее таинственная и угрожающая, как сама судьба.
— Мне-то какое дело? — сказал он мрачно и откашлялся (голос вдруг изменил ему). — Ей это так же мало поможет, как и тебе. И вообще — плевал я на нее!
— Правда? — спросила она из глубин своей таинственности, — Выходит, брюнетки тебе теперь больше по вкусу, чем блондинки?
— Ты же сама знаешь!
— С гостиницей и мясной лавкой в придачу.
— Не мели вздор! — выдохнул Укрутник.
Они стояли в темноте, отчужденные и непроницаемые друг для друга, дыша, как при тяжелой работе. Стояли, точно изготовившись к прыжку, слегка наклонившись, согнув колени, и между ними, в остром как нож воздухе, взблеснуло что-то, похожее на электрический разряд, и погасло.
Укрутник двинулся к Герте.
— Господи, — сказал он, — Ведь ты же не…
Он вытянул руку и хотел схватить ее, но она с хихиканьем отскочила в темноту сарая.
Он пошел за ней и налетел на свою машину; поставив ногу на подножку, он вдруг почувствовал, что Герта совсем близко. Он подумал: до чего ж ловка и смышлена! И до чего осторожна. Уже уселась в машину и хочет меня напугать. Он нагнулся, почуял запах ее волос и даже через кожаную куртку — запах козочки, этот нежный, острый, как иголка, звериный запах, отдаленно напоминающий запах бензина и кошачьей мочи. Он сказал:
— Ну, теперь выкладывай! У тебя будет ребенок? Или только припугнуть меня хочешь?
Он открыл дверцу и протянул руку. Но к ужасу своему, схватился за пустоту. А из глубины сарая до него донеслось хихиканье. И в тот же миг перед самым его носом дикое фырканье, и в руку его вонзились маленькие острые зубки; он отдернул руку и отшатнулся, а из машины одним прыжком выскочила кошка.
И тут в сарай вошла какая-то темная фигура.
— Только не пугайтесь, — предусмотрительно сказал вошедший. — Это я, Франц Цопф. Биндер сказал, что вы едете в Плеши. Может, заскочите по дороге на хутор?
Укрутник, превозмогая боль, сжимал свою руку.
Герта появилась из глубины сарая и сказала:
— A-а, господин Цопф. В чем дело? — Потом тихо Укрутнику: — Да, у меня будет ребенок. Ты рад?
А Франц Цопф:
— В чем дело? Скоро узнаете. Я хотел только вас просить, чтобы вы сообщили Хеллеру: завтра в восемь здесь в «Грозди» заседание совета общины. Ему следует еще сегодня уведомить Бибера и Шмука.

Ha следующее утро, черное и белое (небо было еще черное, а снег белый, деревья и пашня были черные, но в бороздах еще лежал белый снег), итак, в это утро (то есть тринадцатого) прибыло подкрепление: отряд из тринадцати человек — видно, чтобы подкрепить суеверие. И в это же самое утро, часов около шести (а то и раньше), матрос старался выманить из дому могильщика.
Он постучал в заднюю дверь дома, там его не мог заметить какой-нибудь ранний прохожий. Сначала он стучал как положено, согнутым пальцем, но когда это ни к чему не привело, стал колотить в дверь палкой, которую прихватил с собой. Тогда ему открыли.
Старик Клейнерт, в подштанниках, с глазами, еще затянутыми паутиной сна, еле ворочая языком, спросил, что ему надо.
Матрос:
— Пойдем со мной! Надо выкопать несколько трупов! Возьми кирку! Возьми лопату! И пошли!
Старик Клейнерт спросил, не рехнулся ли матрос. Трупы закапывают, а не выкапывают!
Матрос:
— Как когда! Трупы, о которых я говорю, надо выкопать. В «Грозди» за столом завсегдатаев будет заседать совет общины, и они пойдут на голосование. При этом они должны так вонять, чтобы вам всем дурно стало!
Старик Клейнерт сказал, что сделать это не так-то просто. Тут требуется согласие общины, разрешение отдела здравоохранения или судебное постановление и еще много чего… К тому же сейчас темно (он выглянул во двор), и вчера застрелили его собаку, и земля мерзлая и твердая, как цемент. И вообще: он на это пойти не может.
— Ладно! Тогда я сам справлюсь. А судебное постановление получим задним числом.
— По мне, пожалуйста, — сказал старик Клейнерт. — Делай, что хочешь! Но я об этом знать не знаю! Ясно тебе? А какие это трупы? — вдруг спросил он. — Эй, ты! Какие такие трупы? — крикнул старик, когда паутина сна, заволакивавшая ему глаза, наконец разорвалась.
Ничего. Ни слова в ответ.
Матрос исчез, словно призрак.
В проеме двери не видно ничего, кроме темного неба.
(В феврале в этот час еще темно.)
Когда немного позднее (но много раньше обычного) Малетта очнулся от своего беспокойного полусна и с трудом сел в постели, за окнами все еще дарил неверный предутренний свет — чернота неба, чернота земли, а между ними леденящее голубоватое свечение снега, схоронившегося в бороздах и канавах. Но в мансарде Малетты было еще совсем темно. Он прислушался — везде тишина, и в доме и на улице; судьба неслышно занесла руку для последнего удара. Он зажег лампу, вылез из постели и вокруг увидел безбрежность бегства; но он еще считал, что должен что-то сделать для своего спасения, предпринять вылазку в Безбрежное. Он чувствовал на своей шее проволочную петлю, которую уже затягивал нечистый. Однако верил, что найдет выход, — в возвращении. Малетта не знал, что судьба уже настигла его, не знал, что эта петля как раз и была возвращением. Он посмотрелся в зеркало над умывальником, понадеялся даже (на какую-то долю секунды) увидеть там зверя; но все тот же Никто глянул на него — не палач, всего лишь помощник палача. Глаза на обрюзгшем, исхудалом лице Малетты широко раскрылись, он хотел получше себя рассмотреть. Ничего! Ноль! Орудие, пригодное к употреблению, но знать, на что оно было употреблено, не хотелось. И вдруг он отпрянул — из зеркала на него смотрели глаза смерти, глаза Ганса Хеллера, которые он тогда увидел в мертвецкой — две дыры в Ничто; пустота смерти смотрела на него.
В десять минут седьмого (а значит, с двадцатиминутным опозданием) в Плеши, пыхтя, прибыл первый пассажирский поезд. С него сошли двенадцать жандармов с карабинами, предводительствуемые тринадцатым (его воинское звание никто не мог бы определить, так как на нем был прорезиненный плащ). Наших мест он, видимо, не знал, потому что спросил дежурного по станции, какой дорогой, в каком направлении и сколько времени идти до Тиши. Дежурный все точно ему объяснил. Он даже вышел из помещения и рукою указал в ночь. Над холмами и лесами, к юго-востоку от Плеши, небо начинало светлеть, но к северу, над Тиши, скрытой Кабаньей горою (туда-то и указывал дежурный), было еще черным, как дымоход.
Между тем Малетта решил навсегда покинуть наши края — чем скорее, тем лучше, может еще сегодня, может прямо сейчас, — и без промедления начал одеваться.
Сначала он пересчитал деньги, потом прикинул: на билет и отправку багажа хватит, хватит и на доставку чемоданов к станции. В городе он может сразу продать свою «лейку» и на эти деньги прожить первые дни. А здесь? За текущий месяц квартирная плата внесена. Сегодня еще только тринадцатое, так что если он съедет немедленно, платить ему придется только за еду, вот и все.
Вздох облегчения вырвался у него, он был почти счастлив и принялся (в безбрежности бегства) укладывать чемоданы, удивляясь: как мало у него вещей и в то же время как много, когда начинаешь их упаковывать.
А матрос снова шел по деревне и добрался до кустов на краю дороги, где заранее припрятал все необходимое. Отшвырнув палку, он раздвинул черную трескучую путаницу ветвей, вытащил кирку, лопату и, наконец, фляжку-термос с черным кофе. Отвинтил крышку, отпил глоток (радуясь, что в темной чаще нашел ее), потом сунул фляжку в карман, вскинул инструмент на плечо и пошел дальше, а горячий кофе разливался по его насквозь промерзшему телу. Пройдя метров двести, он свернул влево, спустился по склону и, тяжело ступая, зашагал через пустырь к каменной стене, уже видневшейся во мраке ночи. Выйдя на проселок неподалеку от дуба, он. к вящему своему удивлению, заметил столбик с табличкой, которого в среду тут еще не было: «Стоп! Опасность обвала! Вход воспрещен!» Он изо всех сил пнул этот столб, так что тот накренился, — точь-в-точь обломок мачты, торчащий из глиняного моря, потом бросил свой инструмент в то подозрительное окно и сам прыгнул туда вместе со своей фляжкой.
А в Тиши Хабихт уже не находил себе места от волнения; он не учел, что поезд может опоздать, но, наученный горьким опытом, опасался, что его оставят в дураках, пошел к телефону и вызвал окружное жандармское управлений.
Он стоял, держа возле уха холодную как лед трубку, и ждал.
— Минуточку, — сказала телефонистка в Плеши, — пожалуйста, не отходите от аппарата.
Ну, наконец-то! Вызывающий доверие грубый голос произнес:
— Окружное жандармское управление!
— Говорит вахмистр Хабихт, жандармский пост Тиши.
— Идиот!
— Алло!
— Вы правильно расслышали: идиот!
На что вызывающий доверие грубый голос ответил:
— Алло! Кто там сказал «идиот»?
— На проводе кто-то третий, — закричал Хабихт.
— Совершенно верно, ваш покорный слуга Штифелькнехт, — сказал третий.
Хабихт весь раздулся от злости.
— Убирайтесь к черту! — заорал он в трубку.
— Что вы сказали? — спросил грубый голос.
— Это я не вам! — простонал Хабихт.
И — пауза: только отдаленный гуд, жужжание и неразбериха криков, точно в потустороннем мире (а за окнами ни день ни ночь, серая мгла, как в преисподней).
И вдруг опять грубый голос:
— Алло! Что случилось?
— А что всегда случается, — раздался голос третьего.
— Этот нахал все еще на проводе! — завопил Хабихт.
— Конечно, а куда мне деваться, — отвечал третий.
Хабихт бросил трубку на рычаг, потом снова набрал номер. Услышал гудок, затем страшный треск и… больше ничего. Связь прервалась, телефон был мертв.
Тринадцать жандармов тем временем шагали к Тиши. Обогнули Кабанью гору. Небо над ними посветлело, стали видны расплывчатые пузатые облака. Высоко, на лесной прогалине, появились две лисицы и мерцающими огоньками глаз сверху вниз глядели на дорогу. Высунув из чащи хитрые мордочки, они принюхивались, осторожно втягивая влажно-холодный воздух. Люди, все время смотревшие прямо перед собой в предрассветную мглу, не замечали, что за ними наблюдают. А лисы следили за людьми и явно потешались над ними. Они видели серого военного червя, эдакую тысяченожку, обутую в сапоги (между черными и белыми полосами), казалось, серая туманная гусеница ползла по дну вспаханной долины. Лисы, беззвучно смеясь, оскалили свои острые зубы (будто все уже постигли своим звериным разумом) и отступили назад, в темноту леса, в еще безмятежную, кристально-ясную ночь.
Через полтора часа, то есть без четверти восемь (фрейлейн Якоби как раз вышла из своей комнаты), Малетта кончил паковать чемоданы и спустился на кухню, к Зуппанам.
— Ну и ну! Что это вы в такую рань встали? — сказал старик.
А старуха:
— Ну и ну! Он еще под конец станет деловым человеком!
— Я, видите ли, опять собрался в дорогу, — сказал Малетта. — С завтрашнего дня моя комната свободна.
Оба уставились на него, тупо и равнодушно.
— Вот как! Ну что ж! — и кивнули.
А Малетта:
— Сколько я вам еще должен? За еду. Кажется, это все. За квартиру уплачено.
Жена растерянно взглянула на старика.
— Чего тут считать? — сказала глупая и жадная старуха. Она долго что-то высчитывала на пальцах и наконец назвала какую-то несуразно большую цену.
Малетту даже пот прошиб. Такое требование рушило все его планы.
Но муж сказал:
— Ты совсем сдурела. Вчетверо меньше! — А потом Малетте: — С вас причитается вчетверо меньше!
Малетта дрожащими пальцами отсчитал деньги (фрау Зуппан искоса следила за ним) и спросил о том славном возчике, которому однажды уже препоручал свой багаж.
— А, этот! — сказал старик. — Он долго провалялся в больнице. В ту ночь, когда вы упали в выгребную яму, тогда еще лунное затмение было, у него телега перевернулась как раз у въезда в деревню, а сам он башкой треснулся о дерево. Он говорит, у лошадей что-то между ног пробежало, они шарахнулись и вывалили его посередь дороги.
— Ах, вот как! Значит, это был он. Жаль, я не знал!
— Да он жив-здоров! И опять ездит! — сказал старик. — Сходите к нему сейчас, может, еще застанете.
Через некоторое время в деревне появились тринадцать жандармов. Люди подбегали к окнам, глазели на них, подсчитывали и говорили:
— Черт возьми! Надо же, тринадцать, да еще как назло нынче тринадцатое!
Матрос тоже видел, как они направлялись в деревню; услышав приближающийся чеканный шаг, он поднял голову от своей работы. Черт подери! — подумал он. — Дело принимает серьезный оборот. Он выкопал уже несколько ям, но ничего подозрительного пока не нашел, и все-таки он был уверен, что трупы зарыты именно на кирпичном заводе. Отпив глоток из фляжки и поплевав на руки, он снова взялся за лопату. Надо попробовать копать у самой стены со следами снарядов. Это оказалось не очень трудно. Промерз только верхний слой земли. Яма становилась все глубже, все темнее. Лопата чиркнула обо что-то твердое. Матрос нагнулся над ямой. Это был увязший в глине кирпич, только и всего.
А Малетта напялил пальто (самое старое), надвинул на лоб шляпу (самую старую), осторожности ради поднял воротник и вышел навстречу темному дню. Под мышкой он пес черную книгу учителя: «Курьезные и полезные заметки о естественной истории и об истории искусств, составлено Канольдом, 1728». Он хотел сначала переговорить с возчиком, потом вернуть книгу и зайти постричься, потому что опять уже смахивал на художника. Опасаясь, что его узнают и начнут над ним издеваться, он огляделся по сторонам, потом пошел дальше, но то и дело оборачивался, ему все казалось, что за ним кто-то гонится. Но ничего особенного он не обнаружил, только женщины, как всегда, кучками стояли у ворот, но и они не обратили на него ни малейшего внимания, так как возбужденно перешептывались, обсуждая какое-то важное событие. Однако если бы он поднял глаза, он бы, конечно, заметил двух ворон: они сидели на коньке крыши как раз над его окном и внимательно считали, сколько раз он оглянется, так ничего и не увидев.
В четверть девятого в «Грозди» собрались завсегдатаи. Началось экстренное заседание совета общины, но день все равно не наступил, по-прежнему было темно, как на дне моря, хотя солнце (если верить составителям календаря) взошло уже час назад.
Вошедшие наталкивались в темноте на стулья, и стулья со скрипом скользили по половицам.
— Дайте свет! — крикнул Хинтерлейтнер, свирепого вида мужчина.
— Дайте свет! — повторил начальник пожарной охраны. — Так и шею сломать недолго.
Франц Биндер включил неоновые трубки; и был свет (что правда, то правда, но омерзительный), испорченные неоновые трубки гудели и непрестанно мигали.
Старик Хеллер спросил:
— Что с этими погаными трубками?
Франц Биндер:
— Понятия не имею! Вчера они были в порядке.
В мигающем холодном и слепящем свете вся зала словно тряслась от холода.
Мужчины расселись по местам, казалось, их всех без исключения бьет озноб.
— А где же Хабергейер?
— В городе. У него сегодня большой день.
Слово взял Франц Цопф:
— Я еще вчера всех вас вызвал, — начал он, — потому что Хабихт просил меня переговорить с вами. Дело в том, что Хабихт получил письмо: деревня наша в опасности. — Он сделал паузу, обвел взглядом присутствующих, они замельтешили, зарябили у него в глазах как персонажи первого сельского фильма в истории кино. — Но, — продолжал он, — это не должно вас пугать. Хабихт говорит, что нам нечего бояться. Он уже вызвал сюда для подкрепления отряд из тринадцати человек, и если мы будем бдительны, ничего не случится.
Трясясь, как на телеге, весело громыхающей по крупной гальке, члены совета общины взялись за кружки, которые поставил на стол Франц Биндер, с трудом поднесли их к губам и окунули бороды в пену.
Потом утерлись и спросили:
— Это волк? Волк опять здесь?
— Да нет, — сказал Франц Цопф, — это же была собака! И потом, волки писем не пишут.
Ну конечно же. Франц Цопф безусловно прав. Если он в чем прав, то прав наверняка, это они знали.
— Тут речь может идти о какой-то хулиганской выходке, — сказал он, — или о мистификации, понимаете?
Они понимали только очень приблизительно, потому что не знали этого слова, однако оно глубоко проникло в их подсознание и вызвало легкую дурноту в желудках.
— Хабихт сам придет попозднее, — сказал Франц Цопф. — И все вам точно объяснит. Я знаю только одно: сегодня с наступлением темноты никто не имеет права выходить из дому. Любой человек, появившийся на улице, будет расстрелян на месте. А теперь, — он многозначительно поднял палец (в мигающем свете над его головой часы показывали половину девятого), — теперь, пока он не пришел, мы можем обсудить поступившее предложение — спилить все каштаны вдоль улицы.
В это время (еще была ночь, хотя уже настал день, и если оно и дальше так пойдет, то «наступление темноты» никогда не состоится) на глубине трех четвертей метра матрос наткнулся на какой-то предмет, он даже сразу не мог определить, что это. Матрос выпрямился. Прислонил лопату к стене. Сдвинул шапку на затылок и тыльной стороной ладони отер лоб. Затем вытащил трубку и закурил. Попыхивая трубкой, глянул вниз на загадочный предмет; а спина у него болела как тогда, когда он во сне работал кочегаром. На горизонте уже обозначились холмы по ту сторону Плеши, и в неверном сумеречном свете этот предмет, весь покрытый глиной, казался (если смотреть сверху) узловатым корнем. Но матрос успел заметить, что он был мягким и поддавался под его лопатой, что, как известно, не свойственно корням. И еще он ощутил (несмотря на окутавшие его облака табачного дыма) в высшей степени неприятный запах. Сделав еще несколько глубоких затяжек, матрос спрятал трубку, поплевал на руки, схватил лопату и принялся освобождать находку от земли. Это (что очень скоро выяснилось) был башмак, рабочий башмак времен войны, на деревянной подметке. Он был еще зашнурован (это тоже очень скоро выяснилось), у его обладателя уже не было времени развязать шнурки. В рабочей одежде опрокинулся он во тьму и стал ждать воскресения из мертвых. Разлагаясь, ждал, вплоть до этого мига, а его нога была надежно упрятана в грубый рабочий башмак. Матрос постепенно его откапывал. Из башмака выступали две кости: малая берцовая и большая берцовая, потом показалось колено, бедренная кость, таз… А потом — в остатках сгнившего мяса и истлевшей ткани — целое гнездо толстых белых червей.
Тут матрос выскочил из ямы. Для начала ему вполне хватило этого зрелища, собственно, и для жандармов его хватит, а черви уже расползались в разные стороны. Пот градом лил с матроса. Он высунулся из окна и залпом осушил фляжку. (Конечно, сливовица здесь была бы уместнее, потому что его желудок уже подступал к гортани.) Он опять вытащил трубку и уже собрался было закурить, как вдруг услышал за спиной скрежет и хруст, словно гигантская собака перегрызла разом все кости.
Матрос обернулся. Глаза у него полезли на лоб. Стена в противоположном конце здания вдруг зашевелилась. Наклонилась вперед, у нее вспучилось брюхо! В брюхе появилась трещина, а из нее посыпался цемент. Матрос раскинул руки (как будто мог таким образом предотвратить обвал), но стена уже рухнула, с глухим треском развалилась на части и погребла под собою всю мерзость.
— Поскольку начинает процветать иностранный туризм, — сказал Франц Цопф, — надо, чтобы у нас в Тиши хоть немного посовременней стало. Если спилить каштаны, дорога будет шире на целый метр. По полметра с каждой стороны прибавится.
А Франц Цоттер:
— Если хотите знать мое мнение: я против того, чтобы спиливать все деревья. И уж совсем не понимаю, как такое предложение мог внести комитет по благоустройству.
А Хакль (председатель комитета по благоустройству):
— Полагаю, нам лучше знать, что хорошо, а что плохо.
А Франц Цоттер (раздраженно):
— Ну, например? Валяй, я охотно у тебя поучусь!
А Хакль (раздраженно):
— Свет, воздух и солнце — это главное! Солнце должно сиять…
Тут вмешался старик Хеллер:
— Здесь дело в выгоде, а не в красотах, — сказал он. — Если оставить деревья, это ничего не даст, доходу с них никакого. А если спилить — это уже дрова. Дрова, как известно, можно продать.
— Ну, а нам что-нибудь перепадет? — спросил крестьянин с дальнего хутора. — Может, хоть ружьишки выдадут?
— Еще не знаю, — сказал Франц Цопф, — но вполне возможно. Наверно, будут выставлены посты, как тогда, в январе.
А Франц Биндер (из-за стойки):
— Я лично не против! По мне — рубите их на здоровье. А дрова может купить Укрутник. Если хотите, я с ним переговорю.
Малетте тем временем удалось незаметно добраться до дома возчика, что в почти ночном мраке этого дня было не так уж сложно. Он покричал, возчик вышел из конюшни и двинулся ему навстречу. В тяжелых сапогах шагал он по конскому навозу. На голове у него все еще была повязка, и потому шляпа сидела непривычно высоко. Да, он все равно поедет завтра в Плеши, сегодня уже нет, а завтра с самого утра, к первому поезду. Пусть только Малетта приготовит чемоданы, он в пять часов утра их заберет.
— Собственно, я мог бы тоже с вами поехать, — сказал Малетта. — Мне бы хотелось поспеть к первому поезду.
Ну, что ж, пожалуйста. Если фотограф не боится тряски. У него лично после того несчастного случая от нее всякий раз голова болит.
— А как это случилось? — спросил Малетта, взглянув на повязку, видневшуюся из-под шляпы.
— Ах ты господи, — сказал возчик, — я и сам толком не знаю. Люди говорят, что я был в дым пьяный.
Малетта усмехнулся (словно червяк прополз по сыру).
— Вероятно, это был волк, — сказал он как бы вскользь, — волк, которого вчера убил Хабергейер.
Возчик махнул рукой.
— Да нет, что вы! Какой там волк! Хотя что-то все-таки было, — сказал он, немного подумав. — Потому как все собаки вдруг залаяли.
В это самое время матрос снова появился в деревне. Уверенно шагая, он держал курс на караульню. Он пришел прямо с кирпичного завода, сапоги его еще были заляпаны глиной. Уходя, он еще раз пнул ногой столбик, теперь он упал свеженамалеванной табличкой вниз (маслом вниз, как говорится), хотя она — как, к сожалению, выяснилось — прибита была не зря.
Матрос подошел к зданию жандармерии и, так как входная дверь была открыта, тотчас же поднялся по лестнице и постучал.
За дверью слышался глухой бормот, но никто не пригласил его войти. Наконец дверь приоткрылась и показалась голова Шобера.
Матрос:
— Мне нужен вахмистр.
Шобер:
— Ничего не выйдет. У нас совещание.
Матрос:
— И все-таки я должен его видеть.
Шобер:
— Минуточку! Я его спрошу.
Он оставил дверь приоткрытой. Комната была битком набита: серые мундиры в сером табачном дыму.
— Скажите ему, что я нашел труп! — крикнул матрос.
Шобер вышел на середину комнаты. А голос Хабихта (из клубов дыма) спросил:
— В чем там дело?
— Это Недруг. Он что-то нашел.
Хабихт направился к двери.
— Минуты покоя не дадут! Что случилось?
— В печи для обжига кирпича зарыт труп. И рядом, наверно, есть еще трупы.
Хабихт обалдело уставился на него. Потом отвернулся, потом опять взглянул на матроса и вышел в прихожую.
— Как вы об этом узнали? — спросил он.
— Откопал, — сказал матрос.
Хабихт несколько раз повернулся вокруг своей оси, как будто в отчаянии искал, куда ему скрыться… а потом:
— Мне сейчас некогда. Я должен быть в «Грозди» на заседании совета общины. Приходите после обеда! — Он повернулся к матросу спиной и захлопнул за собой дверь.
Заседание! — подумал матрос. — Заседание совета общины! Черт возьми! Вот куда надо пойти.
Малетта между тем простился с возчиком и, держа под мышкой книгу, отправился в то здание, где ломают и калечат будущих людей и где такой человек, как господин Лейтнер, является чем-то вроде наместника бога на земле. Шаги гулко раздавались на каменных плитах, и эхо их отскакивало от побеленных стен, на которых висели различные литографии, поучительные — да! — но вряд ли пригодные для воспитания вкуса. Классные комнаты были расположены слева и справа по коридору, там, видно, прилежно занимались ученики. Из одной доносился почти мужской голос фрейлейн Якоби, из другой — разве что чуть-чуть более низкий голос учителя. Среди этих голосов одинокие шаги Малетты — хоть он и старался ступать осторожно — звучали как выстрелы. Пустой коридор — ужас для опоздавшего школьника! У Малетты вдруг задрожали колени. И запах школы! Этот ненавистный запах! Запах яблок, бутербродов с колбасой и мочи! И тех хорошеньких деревянных завитушек, что остаются после очинки карандаша: запах, вызывающий в памяти страх и унижения… Малетта вытаращился на одну из литографий. И вдруг его пот прошиб от ужаса: на ней был волк! Одетый бабушкой, он сидел в кровати и приветствовал ничего не подозревавшую девочку, которая стояла на пороге.
Его затошнило при воспоминании об одном эпизоде гимназических времен. После перемены они возвращаются в класс. Малетта входит последним и стоит еще у самой двери. Он слышит приближающиеся деловитые шаги учителя, хочет сесть на свое место и вдруг замечает, что один мальчишка, злой драчун, который давно уже его задирает (правда, безуспешно, потому что Малетта ребенок тихий, ласковый и ни в какие потасовки не лезет), берет разбег от кафедры и, склонив голову, мчится прямо на него, намереваясь нанести ему удар в живот. Малетта делает шаг в сторону, ничего больше. Он не хочет драться, так же как не хочет терпеть боль. Но мальчишка не успел сбавить темп и со всего маху треснулся головой о дверной косяк. В это мгновение появляется учитель, застает драчуна в слезах и спрашивает, в чем дело. Но драчун — как же поступает обиженный драчун? — орет благим матом, показывает учителю шишку и сквозь душераздирающие рыдания объясняет, что Малетта ударил его по башке. Малетта вскакивает, хочет оправдаться, сказать, что не так было дело, жаждет все объяснить учителю, этому доброму, чистому, мудрому образцу человека, так как еще верит в священную справедливость. Однако образец человека не дает ему и слова вымолвить: «Молчать! Я запишу вас в классный журнал!» И вправду записывает Малетту и захлопывает журнал. И в Малетте что-то тоже захлопывается, захлопывается, чтобы уже никогда не открыться.
И снова шаги (он идет дальше): выстрелы, выстрелы из каменоломни! Гулкие выстрелы. А слева — бархатный (до тошноты) тенор учителя. Малетта постучал и сразу же открыл дверь.
Господин Лейтнер с удивлением воззрился на него.
Дети воззрились на него.
Послышалось сдержанное хихиканье. Господин Лейтнер сделал злое лицо.
В слепящем свете голой груши, свисавшей с потолка, он походил на молодого учителя из хроникального фильма «По родной стране», провозвестника прогресса, на которого ученики смотрят как на бога.
— Что вам угодно?
— Я принес вашу книгу, — сказал Малетта и поднял руку так, как поднимает школьник, который хочет, чтобы его вызвали. Дети, зажав руками рты, корчились от смеха. Малетта казался им неимоверно комичным.
Господин Лейтнер по-спортивному соскочил с кафедры: хоп! Вот, мол, смотрите, какой я ловкий, какой храбрый и…
— Именно во время занятий? — спросил он ядовито.
— Позже я не смогу прийти, — объяснил Малетта.
Он держал книгу, как пистолет, направленный на учителя, и учитель уже было взял ее, но в ту секунду, когда Малетта выпустил ее из рук (что было не так-то просто, влажные пальцы приклеились к обложке), над ними с треском, словно в нее выстрелили, лопнула лампочка, и во внезапно наступившей темноте этого дня на класс обрушился град осколков.
Несколько секунд царила мертвая тишина. Потом какая-то девочка тихонько заплакала. В сумраке раскачивался провод с пустым патроном, а господин учитель неподвижным взглядом уставился на потолок.
— Как это могло случиться? — сказал он. — В жизни ничего подобного не видел.
— Что ж, такие вещи случаются, — сказал Малетта, — и пожалуй, имело бы смысл включать это в учебную программу.
А неоновые трубки в «Грозди» еще горели, хотя и мигали так, словно вот-вот потухнут; господа завсегдатаи все продолжали заседать, им надо было дождаться Хабихта.
— Если я не ошибаюсь, — сказал Франц Цоттер, — эта дорога находится в ведении окружного управления и расширять ее не наше дело.
— Верно, — сказал Хакль, — но деревья — наши. Они уже не в духе времени и потому их надо срубить.
— Что он сказал? — спросил один из хуторян.
— Что они уже не в духе времени, — гаркнул другой.
— И еще, — сказал Франц Цопф, — они заслоняют дома. А дома у нас — загляденье.
Франц Биндер, сидевший с ними, поднялся и пошел к стойке напиться воды. Он сказал:
— Я велел весь фасад подновить! А вывеску «Мясная торговля и гостиница «Виноградная гроздь» позолотить. Обошлось в копеечку! Я и неоновые трубки раздобыл (они уже опять гаснут), и музыкальный ящик (он тоже уже не работает), еще кофеварку «Еспрессо» куплю! А туристы ничего этого не видят. Они проезжают мимо! За целое лето хоть бы один остановился в гостинице! А почему? Да потому, что эти поганые деревья все заслоняют! Срубить их к чертовой бабушке! А дрова пускай Укрутник купит.
Они проголосовали — подняли руки (ястребиные когти, кротовые лопатки, бесформенные куски мяса с пятью отростками), и едва было принято решение (семью голосами против одного, Франца Цоттера) срубить деревья вдоль дороги, как в подворотне послышались чьи-то решительные шаги.
— Вот и он! — сказал Франц Цопф.
— Вахмистр идет, — сказал Хакль.
Они встали по стойке «смирно», не сводя глаз с двери. Дверь распахнулась, и вошел матрос.
— Вы можете взять вашу жареную свинину, — сказал Франц Биндер.
— Благодарю, я уже поел. — Матрос повернулся к столу завсегдатаев: — Эй вы, босячня! — сказал он. — Вольно! Можете сесть!
Они молча таращились на него.
А он:
— Предводитель вашей шайки еще в городе? Хочется мне сбрить его бородищу и поглядеть, какая задница за ней скрывается.
Они все еще молчали. Внезапность нападения так их ошеломила, что они не находили нужных слов. Только угрожающе поднялись со своих мест — все разом.
А матрос:
— Сидите, сидите! Я тоже к вам подсяду. Окажу вам раз в жизни такую честь. А Биндер принесет мне добрую кружку сливовицы. Надо нам выпить за спасение душ покойников!
Он взял стул и сел, члены совета общины тоже сели, все еще настороженные (словно изготовясь к прыжку), и опустили на стол сжатые кулаки.
Франц Биндер налил водку, подал ее матросу и спросил:
— Что делать с жареной свининой?
А матрос:
— Да хоть собакам бросьте! С сегодняшнего дня я перехожу на вегетарианскую пищу. — Он взял стакан и высоко поднял его. — Итак, — сказал он, — за покойников! И за будущее! За свободу, за мир и что там еще у нас пошатнулось! Потому что все зиждется на прошлом, а оно уходит из-под пог. — Он залпом осушил свой стакан, со звоном поставил его на стол и поочередно заглянул каждому в глаза.
— Никто ничего не подозревает. Все невиновны, — произнес он наконец.
— А о чем речь-то? — спросил начальник пожарной охраны.
Матрос повернулся к нему.
— Об иностранных рабочих. О недочеловеках, как вы их называли.
Молчание. Только жужжат и мигают неоновые трубки.
А потом матрос:
— Были здесь такие? Да или нет?
— Господи, да с тех пор сколько воды утекло! — сказал Франц Цопф. — Может, и были какое-то время.
— Ясное дело, были, — сказал Франц Цоттер. — Припомни-ка получше. Ты сам у себя на хуторе одного держал. И ты тоже (он повернулся к одному из хуторян). И ты (повернулся к другому). И ты тоже (к третьему). Сдается мне, что и у Караморы был один.
— У меня тоже был, — сказал Хинтерлейтнер, свирепого вида мужчина. — Я бы ему с удовольствием голову размозжил, лодырю эдакому.
— Он прав, — сказал матрос, — по крайней мере говорит, что думает. Значит, всего их было шесть, а может даже семь?
— Шесть, — пробормотал Франц Цопф. — А на кой тебе это сдалось?
Матрос, прищурившись, взглянул на него.
— Сейчас узнаете, — сказал он, — но сперва я хочу заметить, что мы с вами никогда на «ты» не были.
Угрожающий шепот.
— Что он сказал? — спросил один из хуторян.
Фердинанд Шмук наклонился и гаркнул ему в ухо:
— Что мы с ним никогда не были на «ты».
Матрос откинулся на спинку стула и спросил:
— Может, кто из вас еще помнит, что сделал отряд самообороны с этими шестью иностранными рабочими весной сорок пятого года?
И снова молчание (только жужжит и мигает свет, да торопливо тикают часы, отсчитывая время). А потом — словно откуда-то издалека — Франц Цопф:
— Я, ей-богу, не знаю, о чем вы тут толкуете.
Матрос со смиренным видом посмотрел в потолок:
— Об иностранных рабочих, — сказал он, — и об отряде самообороны.
— Отряд самообороны? — спросил Франц Цопф. — Вы, верно, имеете в виду фольксштурм?
А матрос:
— Нет, я имею в виду отряд самообороны.
— Ты что, не помнишь отряда самообороны? — сказал Франц Цоттер. — Ты же сам его тогда сколачивал. Хеллер, Айстрах, Пунц Винцент — они все состояли в этом отряде. А Хабергейер его возглавлял.
— Господин ортсгруппенлейтер! — сказал булочник и ухмыльнулся.
— Заткнись и не вмешивайся! — закричал Франц Цопф. А потом: — Мы должны держаться вместе и сохранять спокойствие. Этот бродяга что-то затевает.
Матрос рассмеялся ему в лицо.
— Ага, долго же вы соображали! — сказал он. — А ведь вам придется помочь жандармам раскопать могилы, а тем самым и могильщиков. Думаю, вас это позабавит.
— Жандармам? — переспросил Франц Цоттер.
— Конечно, жандармам, их тут сегодня целых пятнадцать штук! Очень удачно получилось.
— Они здесь потому, что деревня может вот-вот взлететь на воздух, — проворчал Франц Цопф.
— Она и взлетит, — сказал матрос.
— Что он сказал? — поинтересовался глуховатый хуторянин.
— Что деревня взлетит на воздух! — прокричал Фердинанд Шмук.
Адольф Бибер покачал головой.
— Ну и дела! — сказал он. — Ну и дела!
А матрос:
— Значит, отряд самообороны все-таки существовал. И весной сорок пятого этот отряд во главе с Алоизом Хабергейером отвел на железнодорожную станцию шестерых иностранных рабочих. — Матрос заглянул в лицо каждому из сидевших за столом. — Так? — спросил он и подождал ответа.
— Точно! — сказал начальник пожарной охраны, — Я хорошо помню. Это было, когда над Тиши летала целая прорва самолетов.
— Верно, — сказал матрос, — верно! Но бомбы они сбрасывали где-то в другом месте. Каждая бомба стоит кучу денег, и тратить их на вас было бы слишком накладно.
— По-моему, он просто хочет нас оскорбить, — сказал Франц Цоттер.
— Он нас оскорбить не может, — буркнул Франц Цопф.
— Сын какого-то голодранца! — сказал Хинтерлейтнер. — Да чихал я на него!
— Прекрасно! — сказал матрос, — значит, я могу продолжать. — Он облокотился о стол. — Так вот, отряд самообороны сопровождал на станцию шестерых иностранных рабочих. А что произошло потом? — спросил он. — Это уже вряд ли кто вспомнит. Так что же?
— А мы почем знаем? — сказал Франц Цоттер.
— Да что с ним разговаривать! — сказал Франц Цопф.
— В Плеши рабочих погрузили в эшелон, — сказал Франц Биндер. — Состав уже был подан.
— Ерунда! — сказал матрос. — Никакого состава в Плеши не подавали. Дистанция в тот день была блокирована. Сверхчеловеки вместе со своими недочеловеками вернулись назад.
— Д-а-а-а? — протянул Франц Цоттер. — А я и не знал.
— Но-но, полегче, — сказал начальник пожарной охраны, — эта история плохо пахнет.
— Мы не желаем больше с вами разговаривать! — сказал Франц Цопф.
— Ну и куда же они их дели? — поинтересовался Хакль.
А матрос:
— Вот об этом-то я и спрашиваю.
— Нас спрашивать не о чем! — рявкнул Франц Цопф. — Отряд самообороны, наверно, отпустил их на все четыре стороны. Да и вообще! Вас это не касается.
— Меня не касается?! — закричал матрос. — Эта мерзость всех касается, и меня в том числе.
— Черт подери! — загремел Хинтерлейтнер. — История и вправду получается вонючая.
А матрос:
— Ага! Наконец-то и вам в нос ударило.
Он опять откинулся на спинку стула.
— Итак, продолжим, — сказал он. — Шесть иностранных рабочих зарыты в печи для обжига кирпича. Ваш отряд самообороны там их расстрелял.
В голубовато-холодном, непрестанно мерцающем свете они и сами походили на трупы, ни дать ни взять заседание утопленников под слегка колышущейся водной гладью.
— Я этого не знал! — сказал Франц Цопф, — Хотя и знаю, что тогда всякое бывало. Но этого, нет, этого я не знал. Мне такое и во сне не могло присниться.
И вдруг заговорил старик Хеллер:
— Оставьте мертвых в покое, — сказал он. — Мой мальчик, Айстрах, Пунц — все мертвы. И в конце концов, ваш отец тоже был при этом.
Матрос пристально на него взглянул:
— Да-да, мой отец тоже был при этом… Но откуда вы это знаете?
— Я? Откуда знаю?
— Вы же только что сами сказали.
— Ему все известно об этой пакости! — рявкнул начальник пожарной охраны и вскочил, да так, что стул с грохотом опрокинулся.
— Спокойно! — прохрипел Франц Цопф. — Спокойно!
— Похоже, многие знают об этом! — крикнул Хакль.
Все повскакали с мест. Только матрос остался сидеть.
— Так давайте же поговорим о мертвых! — воскликнул он. — Айстраха прикончил ваш Пунц Винцент за то, что старик слишком много болтал. А ортсгруппенлейтер стоял на страже перед сортиром.
Шум и гам.
— Он врет!
— Он оскверняет их память!
Но матрос поднял руку, как для фашистского приветствия. и опустил ее на стол (бандиты!) с таким грохотом, будто на столе взорвалась бомба.
От этого страшного удара произошло следующее: во-первых, окончательно погасли неоновые трубки, во-вторых, монетка, застрявшая в музыкальном ящике, проскочила и попала наконец куда следует. В первый раз, при попытке пропихнуть или достать монетку, не помогли никакие удары, а теперь, после удара матроса, вдруг загремел «Звездный марш».
— Отставить!
— Я не знаю, как это делается, — выдохнул Франц Биндер. — Пускай себе гремит, потом сам перестанет.
И в то время, как кругом уже сыпались оплеухи, падали стулья, слетали шляпы, Хинтерлейтнер схватил матроса, Хинтерлейтнер наступал на старика Хеллера, Бибер вцепился в зоб одному из хуторян, а Хакль схватился с бургомистром, гигантский голубой марш разверзся и приоткрыл небо (так некогда разверзлась дыра в облаках, в ней появились сонмы серебристых ангелов смерти и с убийственным грохотом пронеслись над Тиши).
А с неба, точно рокот бомбардировщика, послышался голос матроса:
— Он вылез из окна сортира и потом влез в то же окно. А Хабергейер караулил дверь.
Матрос дал тумака (совсем по-американски) Хинтерлейтнеру, дал тумака Францу Цоттеру, который подвернулся ему под руку, одним прыжком очутился у двери, выскочил вон и в подворотне столкнулся с Хабихтом.
— Берегитесь! — сказал он. — Там заседает совет общины. Если вас примут за меня, вас линчуют!
— Сейчас я их утихомирю, — сказал Хабихт. — Сегодня ночью они опять смогут нести караул.
Немного погодя поднялся южный ветер. Пропахший сырым деревом и сырой землей, он нежданно-негаданно прискакал к домику матроса по луговой дороге. Тот мигом скинул бушлат — ему и без того было жарко, — перебросил его через руку и зашагал дальше, а ветер уже шумел в кронах деревьев. Матрос бросил злобный взгляд на печь для обжига кирпича, где стена погребла под собою трупы. Кто обрушил ее? — размышлял он. — Айстрах? Или Пунц?.. Или мой отец? С другой стороны горы доносилось пыхтение лесопилки, а из Плеши — свистки паровозов. Он думал: если бы я стал копать дальше, она бы рухнула на меня! И вдруг он почувствовал, что по горло сыт всем этим и страстно хочет вырваться отсюда. А может быть, капитан обрушил стену? — подумалось ему.
Когда через несколько минут он подошел к своему дому и заметил, что позабыл запереть дверь, сверху, из леса, кто-то выстрелил по нему. Пуля возле самого его плеча угодила в дверной косяк.
Широко открытыми глазами он осмотрелся кругом. Деревья качались под посветлевшим небом так, что ветви их соприкасались, а в кронах завывал ветер, — вот и все. Но в доме его ожидал второй сюрприз. Там в темноте комнаты прятался человек, и сейчас он вышел на свет.
— Бога ради! — сказал он. — Что случилось?
А матрос:
— К черту! Что вы тут делаете?
— Дверь была открыта, — запинаясь отвечал Малетта. — Я вошел, решив, что вы дома.
Но матрос уже не слышал его слов (да и не был расположен слушать эту ерунду); в несколько прыжков он очутился за углом сарая.
— Негодяй! — крикнул он. — Грязная скотина! Спускайся сюда, немедленно!
Ни ответа. Ни даже голубоватого взблеска ружейного ствола. Только деревья раскачиваются под южным ветром; стрелок же остается невидимым, неизвестным, возможно, впрочем, что он успел удрать. У двери раздался плаксивый голос Малетты:
— Умоляю вас, входите скорее, не то произойдет несчастье!
Матрос обвел взглядом лесную опушку, пожал плечами и пошел к дому.
— Вы думаете, что выстрел предназначался вам? — спросил Малетта. Он был бледен как полотно и дрожал всем телом. Матрос подозвал его кивком головы и показал на маленькую круглую дырочку в косяке.
— Это… это же просто… — залопотал Малетта, — просто…
А матрос:
— Легче на повороте, голубчик! Горячиться, право, не стоит. — Он отбуксировал Малетту в дом, закрыл дверь и сказал. — Пальни он на секунду раньше, и эта дырка была бы у меня в спине. Несчастный случай на охоте, понятно вам? Так было бы написано даже в справке о моей смерти.
Малетта, не дожидаясь приглашения, опустился на стул, силы его, видимо, иссякли. Он спросил:
— Но… скажите бога ради… из-за чего?
— Это служебная тайна, — ответил матрос.
Он повернулся несколько раз вокруг своей оси, как это недавно сделал Хабихт, и подумал: чего я, собственно, хотел? И чего хочу? Чтобы меня пристрелили? Или как?
Меж тем Малетта обрел дар речи.
— Я должен был еще раз повидать вас, — сказал он. — Дело в том, что завтра я уезжаю, — навсегда. От этого милого уголка меня уже с души воротит.
А матрос:
— Ага! Теперь вспомнил: я хотел немножко перекусить! Конечно! — Он подошел к плите, вытянул руку — и опять забыл, что ему здесь надо. Может, это был Хабергейер, который вовсе не ездил в город? — думал он. — Может, он уже вернулся… Или помощник лесничего Штраус, обиженный лесной дух?
— На меня здесь все беды валятся, — продолжал Малетта. — Нигде еще я не испытывал столько несчастий. Я ношу их в себе как болезнь. И передаю другим.
А матрос:
— О чем вы там говорите? — И думал: если я сейчас пойду к Хабихту, этот снайпер спустится с горы и выковыряет пулю из дверного косяка.
А Малетта:
— Вы меня не слушаете? Я сказал, что мое несчастье заразительно. Хочу я того или нет, но в последнее время я всем приношу несчастье. Вот и вам я его принес. Мне очень жаль.
Матрос пристально смотрел в окно. Он сказал:
— Не мелите вздора! Если я дам себя подстрелить, вашей вины тут не будет. И если я окажусь таким дураком, что ж, туда мне и дорога.
Малетта поднялся, подошел и встал сзади него.
— Возможно, — сказал он, — но, видите ли, мне это было бы тяжело. Потому что тогда слишком многое сделалось бы бессмысленным, и это значило бы, что я всю жизнь страдал напрасно.
Матрос обернулся и словно бы впервые увидел Малетту, впервые увидел эти темные глаза, мерцающие нехорошим огнем, и это рыхлое, как губка, мертвенно-бледное лицо.
А Малетта (стерпев взгляд матроса):
— Я ведь страдал с детских лет, начиная со школы. Сила же, нужная для того, чтобы научиться преодолевать страдания, иными словами, любовь, — для меня закрытая книга. — Он вернулся в глубь комнаты и сел на свой стул. (Наверно, ему уже трудно было стоять.) — А война и вовсе меня доконала. — Он закрыл глаза, словно засыпая, — Это было в каменоломне, — продолжал он. — Мы получили приказ расстрелять нескольких человек. Человек эдак сто пятьдесят или двести пятьдесят (не могу точно сказать); женщин, детей, стариков, целую деревню… Они ничего нам не сделали. Просто стояли нам поперек дороги. И значит, должны были быть расстреляны. Ни один из нас не запротестовал! Пятьдесят здоровых мужчин повиновались, пятьдесят — одному господину лейтенанту! Вы только представьте себе! Одному господину лейтенанту! С которым любой из нас мог справиться в одиночку!.. Дело было сделано в два счета, и никого из нас это не взволновало — меня тоже. Потому что я был такой же ноль, как все остальные, и вдобавок приказ есть приказ. Но в той местности было несносное эхо; оно возвращало нам отзвук выстрелов, и много лет спустя — когда все уже как будто миновало — я снова услышал их в каком-то шорохе. С тех нор я знаю, что в тот день я стрелял в себя и что тогда я еще не дозрел до ремесла палача. И что от природы человек больше чем ноль, и полагать себя нолем — это почти самоубийство. — Он открыл глаза и посмотрел на матроса. Спросил: — Помните ли вы еще нашу первую встречу? Я тогда сказал себе: смотри! Перед тобой человек! Потом я себе представил, что мы обменяемся рукопожатиями, но тут появились вороны, помните? И я сказал: они чуют добычу.
— Это были воро́ны, — ответил матрос.
— Что ж, воро́ны так воро́ны, — сказал Малетта, — И все-таки я убежден: это было какое-то предзнаменование.
Матрос вдруг почувствовал окно позади себя, почувствовал, что спина его не прикрыта, и шагнул в сторону; теперь за его спиной была стена.
— Ага! — сказал Малетта. — Отошли в укрытие. Тогда вы бы этого не сделали. Тогда вы были неуязвимы; ваша спина была как броневая плита.
Матрос метнул на него яростный взгляд.
— Плевал я на броневую плиту! — сказал он. — Может, вы думаете, что жизнь доставляет мне удовольствие? Лучшим моим днем будет день, когда я смоюсь из этого мира.
— Нельзя вам из него смыться, — сказал Малетта. — Ведь в таком случае, как я уже говорил, все станет бессмысленным. Если одному из нас надо умереть, то умру я. Я и так уже все равно что мертвый. — Он пристально взглянул в глаза матроса и повторил: — Все равно что мертвый. Потому, что я ноль. Я повешенный, который болтается там, на дереве. У меня никогда недоставало силы быть человеком. А у вас эта сила есть, вы — человек. И пока вы живы, я страдал не напрасно. Ведь вы мое «я», мое утраченное, лучшее «я». Вы тот, кем я хотел стать.
Матрос недвижно стоял у стены.
— Если мне суждено быть вашим лучшим «я», — прошептал он, — то вы, вероятно, мое худшее «я», «я», которого мне надо страшиться. Выходит, что мы старые знакомые.
Малетта снова закрыл глаза.
— Я расскажу вам сон, — сказал он, — сон, приснившийся мне много лет назад, но с недавних пор я почему-то все время думаю о нем: я стоял на корабле (не знаю, как я туда попал), и человек, похожий на вас, высунул голову из грузового люка и сказал мне приблизительно следующее! «Поскольку ты не сумел стать мною, я должен стать тобой, твоим «я», иначе с моей гибелью все погибнет на нашей земле, но, если я и стану тобой, все равно все погибнет».
— А потом?
— Потом он закрыл над своей головой крышку люка, словно скрылся в иной жизни, а я был недостоин последовать туда за ним.
Теперь уже матрос закрыл глаза.
— Будет исполнено, господин капитан! — прошептал он, — будет исполнено! — И из темной глубины его жизни, спрятанной во многих темных сосудах жизни, которая тем не менее переросла его и вышла в просторы, синие, как море, чтобы слить воедино высоту и глубь неба и земли, из забытого безвременья, словно из иллюминатора затонувшего судна (сквозь зеленоватые массы воды и вуали водорослей), смотрели на него неумолимые глаза старика.
— Потому, что я ноль, — вторично пояснил Малетта. — Мучительное «О» перед самым концом, когда чувствуешь только боль и ничего другого, круглое отверстие, сформированное губами, дырка, через которую волк проникает в деревню. — С помощью большого и указательного пальцев левой руки он изобразил дырку и просунул в нее указательный палец правой. — Пробоина в корабельной обшивке, — улыбнувшись, добавил он. — Уже хлынула вода: я — это гибель, я — пустота. — Малетта быстро встал. — Мне надо зайти к парикмахеру, — сказал он. — Хорошо выбритое лицо и подстриженные волосы — это тоже важно. И охотничья шляпа — важно.
Он пошел к двери и надел шляпу. Матрос, тяжело ступая, двинулся за ним.
— Я должен пойти в деревню, в жандармерию, — сказал он. — Пойдемте вместе.
Малетта был уже во дворе.
— Мне за вами не поспеть, — сказал он. — Я был болен и еще плохо держусь на ногах. И потом — вы же знаете, — я приношу несчастье.
Матрос только рукой махнул. Запер дверь, сунул ключ в карман и, уже как из дальней дали, подал руку Малетте.
— Итак, — сказал он, — всего наилучшего!
Малетта стоял на ветру и смотрел ему вслед, смотрел, как быстро шагает он по луговой дороге, видел его широкую надежную спину, исчезающую внизу (среди просторов окружающей природы под необъятным сумрачным небом), и вдруг почувствовал дурноту, поднимавшуюся от ступней, словно земля разверзлась перед ним, разинула жадную свою пасть, чтобы поглотить его, и в это мгновенье в Тиши колокол прозвонил полдень.
Жандармская караульня. Неподалеку бьет полдень. Жандармская караульня! (Последний раз в этой истории) Хабихт в одиночестве сидит за своим письменным столом, и голова у него гудит не хуже соседнего колокола. Тем временем тринадцать жандармов идут по деревне (их ведет Шобер, и таким образом получается, что их четырнадцать). Они возвещают, что в деревне этой ночью будет объявлено чрезвычайное положение, но адской машины, которую они ищут, так и не находят. Удивительное дело, думает Хабихт. Дерутся, выбивают друг у друга последние остатки зубов, но не успеешь глазом моргнуть, как они опять неразлучные друзья, и никто уже не может допытаться у них, что, собственно, произошло. Под звуки победного марша он вошел в «Гроздь» и… глазам своим не поверил: клубок кряхтящих стариков, из которого торчало шестнадцать подбитых гвоздями башмаков, взад и вперед катался по полу среди осколков разбитых кружек. Франц Биндер стоял на другом краю поля битвы — с двумя спасенными в последнюю минуту кружками в руках — и безмолвно переводил растерянный взгляд с Хабихта на сумасшедший клубок, что бил вокруг себя шестнадцатью щупальцами, словно гигантская каракатица на дне моря. Маршевая музыка внезапно смолкла, слышалось только хриплое дыхание зобастого хуторянина. На полу валялся клубок, теперь так сведенный судорогой, что никто в нем уже не мог пошевелиться.
— Э-э-э-й! — крикнул Хабихт. Но безуспешно. Ответил ему только воздух, просвистевший мимо зоба; и этот пронзительный свист развязал клубок. Его услышали все, и каракатица распалась.
Убытки — три стула, шесть кружек и изрядное количество зубов. Среди осколков валялись серебряные и роговые пуговицы различной величины, с Франца Цопфа сорвали подтяжки, так что он поддерживал штаны руками. Тем не менее все снова расселись по местам и снова стали слушать приказы вахмистра Хабихта, зубы же сплюнули в клетчатые носовые платки — сохранить на память внукам.
А Хабихт:
— Слушайте все! Я получил письмо с угрозами. Кто-то мне пишет, что взорвет нашу деревню. Надо думать, это только глупая шутка, но мы все же должны принять надлежащие меры. Итак, многим из вас придется взять на себя обязанности постовых. Все дороги, ведущие в деревню, будут перекрыты. А также организована патрульная служба. Все виды транспорта мы будем останавливать. Ночью, конечно, запрещается выходить на улицу. Предосторожности ради запрет начинает действовать с восемнадцати часов. В семнадцать мы соберемся в жандармской караульне. Пароль: «волк». Прошу запомнить!
Ни слова о матросе! Ни слова о собственном промахе! Телепатический заговор: стена молчания между здешними и нездешними силами. Что он вспрыснул им, этот малый? — размышлял Хабихт. В конце концов, все-таки правду? Правду об убийстве! Или трупный яд? Взятый от зарытых трупов, которые он, кажется, на самом деле откопал? Хабихт обеими руками держится за голову, она продолжает гудеть, хотя колокол давно умолк. «Недруг, — шепчет он, — спас мне жизнь, а теперь глазом не моргнув хочет свернуть мне шею».
В этот самый момент входит матрос.
А Хабихт:
— Ну, как там дела с вашим трупом?
— С моим вам бы хлопот не обобраться, — ответил матрос. — В меня только что стреляли из лесу.
Хабихт вскакивает как ужаленный.
— Вы с ума сошли! Вам призраки являются! — И при этом подумал: жаль, что тебя не укокошили! Я на любые хлопоты готов, лишь бы этот малый не мог больше рта раскрыть!
А тот (словно он умел читать мысли на расстоянии):
— Конечно, хлопот все равно хватит, — пожалуй, даже больше будет, чем из-за моей смерти, потому что… — он считает по пальцам, — во-первых, при этом случае был свидетель, во вторых, пуля все еще сидит в дверном косяке, психиатру тут, пожалуй, делать нечего! Но, — продолжает матрос, — это еще не все! — И ухмыляется. — К сожалению, моя история имеет продолжение! — И уже считает дальше: — В-третьих, шесть трупов зарыты в печи для обжига кирпича, шестеро иностранных рабочих, которых вы убили в конце войны, в-четвертых, на дальнем хуторе живет старик кузнец, он может рассказать достаточно поучительную историю, а в-пятых, вы сами сейчас провалитесь сквозь землю (вместе с вашим орденом и вашим блаженной памяти Пунцем Винцентом), потому что я намерен (я ведь сумасшедший, и я еще жив) безотлагательно возбудить обвинение против бывшего ортсгруппенлейтера у нас в Тиши, почтеннейшего егеря Алоиза Хабергейера, обвинение в шестикратном убийстве и подстрекательстве к дальнейшим убийствам.
Хабихт держится обеими руками за письменный стол. Колени у него дрожат, он бел, как побеленная стена. И говорит:
— Вы или хватили лишнего, или взаправду рехнулись! Я сейчас позвоню, чтобы мне прислали людей на подмогу!
— Покуда они приедут, — спокойно говорит матрос, — я дам знать в главное управление жандармерии или в министерство внутренних дел, а еще того лучше в прокуратуру.
— Вы?
— Да, я.
— Ей-богу, меня смех разбирает! Кто вы такой, почтеннейший?
— К сожалению, гражданин, гражданин цивилизованного государства, — отвечает он и подмигивает. — Говорить по телефону, например, мы можем.
— Нет! — говорит Хабихт. — Не можете! С сегодняшнего утра линия не работает.
А матрос:
— Ах, вот как! Ну и не везет же нам! Значит, и подмогу вызвать нельзя.
Они смотрят друг на друга прищуренными глазами; оба громко скрежещут зубами, а снаружи вдруг доносится шум, на который они поначалу не обращают внимания.
— Весной сорок пятого… — говорит матрос.
— Я тогда не был в Тиши, и меня это не касается, — отвечает Хабихт.
— … отряд, называвшийся отрядом самообороны…
— Такого не существует!
— … под началом Алоиза Хабергейера…
— Замолчите! — кричит Хабихт. — Мне до этого дела нет!
— … расстрелял в печи для обжига кирпича шестерых иностранных рабочих.
— Не верю!
— Можете пойти и убедиться! Они еще лежат там.
— Их мог с таким же успехом расстрелять кто-нибудь другой!
— Прошлой осенью, — говорит матрос, повышая голос (а шум снаружи становится все глубже, все шире), — у одного из бойцов этого отряда развязался язык, наверно потому, что он струсил; и за это Алоиз Хабергейер…
— Молчать! — визжит Хабихт. — Молчать! Еще одно слово, и вам худо придется! Я вас арестую! За клевету и за обман представителей власти!
— Не забудьте, мерзавец вы эдакий, что у вас на совести человеческая жизнь! — рычит матрос.
Но в это мгновение шум над Тиши становится столь огромным и мощным, что оба непроизвольно нагибают головы.
— Что это?
— Самолеты, — говорит матрос. — Как тогда!
Они бросаются к одному из окон и распахивают его. Но ничего не видят — только стаи взволнованно машущих крыльями ворон и еще клочок бумаги, южный ветер крутит его под сумрачной завесой облаков, под темными весенними тучами, что громоздятся одна над другой, как плотные слои горных пород, и где-то в их бездонных глубинах уже поет хор ангелов смерти.
— Что бы это могло значить? — бормочет Хабихт. — Похоже, несколько эскадрилий!
А матрос:
— Вы газеты читали? Может, разразилась атомная война.
Хабихт:
— Газета вон лежит на столе!
Матрос идет к столу и листает ее.
— Учет скота, — говорит он. — Чушь какая-то! Да это же вчерашняя газета!
— Конечно! — кричит Хабихт. — Здесь все вчерашнее. — Он высовывается из окна, смотрит на небо.
Матрос возвращается к нему и говорит:
— На этом основании Алоиз Хабергейер поручил своему дружку, Пунцу Винценту, убрать старика Айстраха, а как это было сделано, вы знаете сами.
Хабихт медлит с ответом. Кусая губы, он смотрит в окно, напряженно прислушивается к грозной песне ангелов смерти, что невидимыми стаями проносятся над Тиши. Наконец бормочет:
— Я ничего не знаю. Ровно ничего.
— У вас на совести человеческая жизнь, — говорит матрос.
А Хабихт (холодно):
— У меня нет совести. Куда мне с ней деваться при моей-то профессии.
Он соскочил с подоконника обратно в комнату, в то время как в поднебесных высях смолк хор ангелов, а клочок бумаги все еще трепетал, кружился на ветру, как белый флаг: «Сдаемся!»
— Слушайте, скотина вы эдакая! — говорит матрос. — Я требую, чтобы вы арестовали Хабергейера.
А Хабихт:
— Весьма сожалею, но не могу этого сделать. Алоиз Хабергейер неприкосновенен.
Матрос только глаза вытаращил.
— Да-да, — говорит Хабихт, — с сегодняшнего дня его особа неприкосновенна. Потому что он депутат ландтага. А с ландтагом мне связываться не к чему. — Он идет к столу и садится. Говорит: — Да, теперь он депутат. А трупы, или что там еще вы разыскали, — не доказательство. Всего этого недостаточно, чтобы посягнуть на его неприкосновенность.
У матроса такое лицо, словно началось светопреставление. Он говорит:
— Помяните мое слово, произойдет что-то страшное. Не сегодня. И не завтра. Но когда-нибудь.
— Мне-то что за забота, — отвечает вахмистр Хабихт. — Меня тогда уже не будет.
Хабихт видит, как матрос выходит из комнаты, как закрывает за собою дверь, слышит его шаги вниз по лестнице, слышит его шаги на улице. Выжидает несколько секунд, потом встает, подходит к окну, высовывается и видит (в ушах его все еще звучит песнь ангелов смерти), что матрос загибает за угол.
Прочь! Скорее прочь из этой так называемой отчизны! Кто я? Что я забыл здесь? Неужто мне и дальше рыться в этих навозных кучах? Откапывать трупы? И ждать, покуда меня подстрелят!
Матрос добрался до своего дома и отпер дверь. Но разве это его дом и его дверь? Чуждо, враждебно даже, покачивались на ветру дом, дверь и окружающий ландшафт, а в дверном косяке огромная дыра ухмылялась ему навстречу. Снайпер и вправду прокрался сюда и выковырял пулю из доски. Значит, черт уже владел сим вещественным доказательством — что ж, хорошо! Трупы были вторично погребены — под рухнувшей стеной, а кузнеца, старую обезьяну, которому нравилось жить среди убийц и который только под мухой о чем-то пробалтывался, тем временем хватил удар, может быть и не тяжелый, но, во всяком случае, он был не в своем уме. Вне себя матрос вбежал в комнату, огляделся (дверь за ним захлопнулась, а потом снова распахнулась). Те же стены, та же мебель — все как обычно, но все чужое, словно он никогда не жил в этой хибаре. И вдобавок холод, более лютый, чем на дворе, где гулял ветер, так как огонь в плите погас уже несколько часов назад. А сам он? Уставший от жизни, вконец обессилевший, сапоги полны навозной жижи, как у деревенского золотаря!.. Нет! Что же еще держит его здесь? Может быть, глина? Или гончарный круг там, в сарае, этот сладостный наркоз? Но ведь он больше не действует, не дурманит, ни от чего не ограждает. Нагой и трезвый стоит матрос перед людьми, перед самим собой.
Он думал: то, что может сделать этот Малетта, могу и я. Правда, срок паспорта у меня истек, но его можно продлить, а чемоданы я живо упакую, здесь ничего нет, с чем я не мог бы расстаться!
Он принес с чердака два чемодана, почистил их и сразу уложил все необходимое для дороги: зубную щетку, полотенца, мыло, электробритву и одежду, каковой у него было очень немного. И все же он смотрел на себя как на актера, пока еще недоверчиво, но заинтересованно — что из всего этого выйдет, отрешенно, со стороны смотрел на себя, расхаживавшего взад и вперед по собственной комнате, словно по сцене.
Конечно, думал он. Жить — это значит нести ответственность. Но — господи ты боже мой! — не за все же! Не за все же, что происходит на этом свете! Но хотя бы за попранную справедливость!.. Конечно, Хабихт хочет запугать меня (что ему даже в вину нельзя поставить), так как в этом деле он и вправду уже ничего не может предпринять, не сломав себе шею. Я же, напротив, мог бы кое-что сделать! Мог бы «пойти по инстанциям!» Мог бы биться головой об эту резиновую стену. Но ведь это же не моя история, не моя обязанность! Я заявил обо всем, о чем должно было заявить, и в учреждении достаточно компетентном. Что же еще? Расшибить себе голову об стену я не собираюсь. Для такого спорта жаль своей головы.
Он зажег все лампы, раскрыл все шкафы, комоды и сундуки. Перерыл этот хаос, вытаскивал годное, рассматривал, непригодное отшвыривал ногой в сторону. Стремительными шагами он ходил из комнаты в спаленку, из спаленки в комнату родителей, которой никогда не пользовался, оттуда опять в комнату. Поджечь! — думал он. — Самое лучшее — поджечь! Шкафы выплевывали свое старье: хлам, воспоминания! Безвкусные ненужные мелочи из сельского магазина! Он прошелся по ним грязными башмаками. Неприятный запах пота распространился от залежалой траурной одежды, которая вынималась лишь от случая к случаю (когда кто-нибудь умирал). Матрос вдыхал этот запах. Ему казалось, что он идет в длинной похоронной процессии, сопровождающей на кладбище его детство, родительский дом и родину. Море ведь всегда сильнее, чем корабль, а люки никогда не бывают задраены как следует, пусть себе ходит туда и назад эта сволочь! Не станет он больше запирать дверь, больно надо! После меня хоть потоп! — думал он. — Или тысячелетняя империя преступников! Или моторизованное и механизированное слабоумие! Или диктатура садовых гномов! Он поднял глаза. Южный ветер нажимал на окна, так что дребезжали стекла и скрипели рамы. Ночь. Опять наступила ночь! А дня так и не было!
Он выпрямился, огляделся вокруг. Как победоносный военачальник стоял он среди развалин! Оба его чемодана были уже полны вещей, забрав их, он завтра покинет эти края.
Но куда лежит его путь? На восток? Нет. На запад? Тоже нет. На севере слишком холодно, а на юге жарко. Значит, по вертикали в космос! Но зачем? Лучше уж по вертикали в черную глубь земли.
Он осмотрелся, словно ища чего-то, словно что-то еще надо было взять с собой, и взгляд его упал на выцветший портрет матери, казалось, давно уже наблюдавшей за ним.
Она была снята в молодые годы (как же иначе), побуревшая фотография в золоченой раме стояла на комоде, из выдвинутых ящиков которого рекой лился всякий хлам.
Он взял портрет, вынул его из рамы, чтобы положить сверху в чемодан, поставил обратно на комод, портрет же продолжал держать в руке, пристально вглядываясь в него. Он увидел, что мать его была красива, вспомнил ее терпеливую доброту — и вдруг в руке его оказалось вчетверо сложенное письмо. Оно было приклеено к обратной стороне фотографии.
Развернув его, матрос узнал аккуратный почерк, не матери — отца. Руки у него задрожали; он сел за стол, поближе к лампе и стал читать:
Мой горячо любимый сын! Случилось нечто ужасное. Не знаю, что и делать, так как не решаюсь выкопать свою винтовку. Когда пришли русские, я зарыл ее в сарае. В сухом местечке, смазал ее жиром и завернул в чистое полотенце, нам ведь всегда говорили, что с оружием надо обращаться бережно. Ты будешь себя спрашивать, почему я свалял такого дурака, что самая жизнь мне опостылела. Но и ты бы не захотел больше жить, случись с тобой то, что случилось с твоим отцом. Неделю назад в пятницу мы внизу, в печи для обжига кирпича, расстреляли шестерых иностранных рабочих — они работали здесь на хуторах — из-за того, что не пришел поезд, на котором их должны были увезти. Я не стану называть тех, кто в этом участвовал, как знать, попадет ли это письмо в твои руки — ты так далеко! Возможно ведь, что его найдет и прочитает чужой человек, а я никого не хочу предавать. Они вместе с рабочими стояли внизу на пустыре, и один прибежал за мной, чтобы и я принял в этом участие. Они это придумали, конечно же, для того, чтобы я потом ничего не рассказывал. Вот, значит, взял я свой карабин, хотел еще надеть форму фолъксштурмиста, но тот, кто за мной пришел, сказал, что это не нужно, главное — скорей идти. А в Плеши в это время завыла сирена воздушной тревоги, и вся местность словно вымерла. Один из них, мой начальник, сказал: «Сейчас мы здесь откроем тир и повеселимся». Потом загнали иностранных рабочих в печь для обжига кирпича и стали стрелять по ним в окна, а так как стреляли мы не очень метко, то прошло немало времени, покуда мы их добили. Я поднялся наверх за кирками и лопатами, и мы там же, на месте, вырыли их, длилось это четыре часа и было сущим мучением. А когда мы с этим покончили, в Плеши опять завыла сирена, и шарфюрер сказал нам: «Это отбой, смотрит? как совпало, минута в минуту». И мы закурили трубки, вытерли об траву сапоги, но вдруг небо над нами загудело, и мы плашмя бросились на землю. Правда, шарфюрер уверял, что они летят слишком высоко и не могут нас видеть, а к тому же не станут бросать бомбы на Тиши, но мы все равно не хотели подниматься. Лежа на животе, я краешком глаза смотрел вверх, и когда постепенно до меня дошло, что летчики меня не замечают, я вдруг понял, что должен с собой покончить. Ведь всего страшнее было то, что мы стреляли словно в каком-то угаре. Летчики нас так и не заметили. И бомбы сбросили где-то в других местах.
Матрос недвижным взглядом уставился на этот конец, на конец своего отца. Он не чувствовал ничего, кроме нестерпимой тоски по темному лону матери-земли. И вдруг вскочил. Винтовка! Скорей сюда это береженое, тщательно смазанное оружие. Если оно еще в порядке и стреляет, то, конечно уж, ни в каком снайпере не нуждается!
Он стремглав выбежал из дому. Грозно высился перед ним сарай, гудел на ветру, и нехорошее это было гудение. Да и что удивительного — в нем обитала смерть. В нем смерть, как паутина, колыхалась между стропилами, пряталась в глине, ждала, покуда пробудится матрос! А вокруг валялось довольно инструмента, чтобы вырыть ее: лопат, мотыг! Инструмента могильщиков!
Настала ночь. Последняя ночь в этой темной истории, последняя перед тем, как вокруг небольшой деревни вновь сомкнется кольцо из земледелия и скотоводства. Размеренные шаги хлюпают на вязких дорогах. Вооруженные мужчины несут караул вкруг своей деревни. Их карабины еще взблескивают в слабом свечении запада, где небо чадит, как мокрая дранковая крыша, охваченная огнем. Но и это прошло, наступила тишина, из хлевов и конюшен стало слышно шуршание соломы. Фердинанд Циттер отпускает домой фрейлейн Ирму и закрывает свой салон, через пятнадцать минут войдет в силу запрещение выходить на улицу. Последним клиентом у него был Карл Малетта, который на этот раз велел не только подстричь, но и побрить себя. Вот тут-то и произошло непонятное.
Парикмахер с протокольной точностью рассказывает:
— Я уже не раз брил покойников, но живого покойника — никогда. И даже не подозревал, что такое бывает. Человек этот пропах трупом, его кожа, рубашка, костюм, волосы — все было пропитано трупным запахом! Я почувствовал отчаянную дурноту, сознаюсь откровенно, меня чуть не вырвало. Вдобавок я очень нервничал, предчувствовал что-то недоброе. Из мира духов мне была весть, что силы тьмы поднялись против сил света.
Итак, сначала я его подстриг, при этом мы беседовали об Откровении; покончив со стрижкой, я позвал Ирму, чтобы она намылила ему лицо. Она пришла и, конечно же, стала тихонько хихикать, а я правил бритву и посматривал, как она работает все время ухмыляясь. Ирма, странным образом, ничего не заподозрила и потом говорила, что, если от него и пахло плохо, то, наверно, это все еще был запах навозной жижи. Она намылила его, и он откинул голову, а я сзади склонился над ним, но едва я дотронулся до него бритвой, как почувствовал, что моей рукой водит дух. Это чувство походило на судорогу, которая началась от локтя и свела мне пальцы; но смею вас уверить, это было не во мне, а вне меня. Казалось, чужая воля пытается действовать моей бритвой! Особенно, когда я брил ему сонную артерию. Я противился изо всех сил: молился. И мне удалось благополучно его добрить. Но побуждение перерезать ему шею было настолько сильно, что, когда он встал с кресла, я был весь в поту и совершенно обессилен. Вот тут-то и произошло самое непонятное! — сказал он и протер свои очки. — Клиент расплатился, я помог ему надеть пальто, открыл перед ним дверь, пожелал ему всего хорошего, и он мне тоже. Но в ту самую секунду, когда он вышел на улицу, до меня донесся странный звук. Я закрыл дверь и огляделся, хотел узнать, что же это такое было. Вдруг вижу: на полу лежит бритва, которой я сейчас работал. Но это еще не все! — Он снова надел очки. И проговорил: — Лезвие в длину раскололось надвое!
Это произошло в семнадцать часов, а в семнадцать сорок пять он закрыл свое заведение, поскольку в восемнадцать вступал в действие запрет выходить из домов. И в этот самый час матрос уже держал в руке оружие.
Итак, он всем поступился, но зато теперь владел оружием — тяжелым, холодным, синим как ночь. Владел стальной смертью, которая за все его вознаградит. Он не раздумывал, где его искать, а сразу же принялся, в мерцающем свете фонаря, рыть землю под третьей балкой, той самой, на которой повесился его отец, иными словами, на том же месте, где недавно у него в руках на куски разлетелась ваза, и вскоре натолкнулся на тщательно спрятанное сокровище, вынул его из могилы, освободил от заляпанного глиной полотняного покрова. Сухие глиняные крошки посыпались наземь, упало и несколько патронов. Матрос сжал в руке блестевшее синевой ночи сокровище и направил на него свет фонаря.
Это был карабин. И, видимо, вполне исправный. Он ведь хранился согласно предписаниям воинского устава! Лишь в нескольких местах на нем проступала ржавчина. Молодец старик! — подумал матрос. — Эта штука получше веревки. Эта скорее прикончит, да и выглядеть оно будет лучше. Глупость, содеянная отцом, пришла на помощь сыну.
Он задул огарок в фонаре и, взяв карабин, вернулся в дом. Осторожно положил его на стол и окинул задумчивым взглядом — он знал, что смерть смотрит на него из отверстия ствола. Он думал: око за око! Зуб за зуб! Она уже подстерегает меня! И выскочит из этого маленького отверстия! Шесть жертв, и только пять убийц! А кара настигла лишь четверых. Но так как я вскрыл завещание и вступил в права наследования, то за пятого приму кару я, а шестой пусть взывает к ландтагу! Он поднял тряпку, валявшуюся на полу, и стал счищать смазку с затвора. Он думал: это делается быстро, и больно мне не будет! А на спусковой крючок я нажму кочергой.
В этот самый час Малетта лег спать, так как подумал: завтра мне вставать спозаранку, а перед дорогой надо выспаться. И проглотил единственную таблетку снотворного, что у него оставалась. Чемоданы были уложены, все приготовлено, и будильник поставлен на четыре часа. Когда он потушил лампу на ночном столике, по стенам пробежал отсвет огня. Но стены были голые и белые, а комната выглядела устрашающе огромной, так как перед отъездом он сорвал со стен все фотографии и одну за одной спалил в печке. Последняя ночь в Тиши, думал он. Может быть, последняя ночь в постели. Где я буду спать завтра, я не знаю. Но сегодня я еще у себя и даже в тепле.
Он следил за огненной птицей, что вниз и вверх порхала по стенам; потом молитвенно сложил руки, закрыл глаза и, беззвучно шевеля губами, начал молиться:
— Отче наш, на небесех! Да святится имя твое! Ты благословенна в женах и благословен плод чрева твоего… (Тут что-то не так.) Пресвятая дева Мария, матерь божия! Помолись за нас, бедных грешников! Теперь и в час нашей кончины! Аминь.
Он повернулся на бок. С самого детства не читал он молитв. И конечно, не помнил их, отчего бормотал все вперемешку. Чувствуя, как сон медленно овладевает им (как жужжащее облако сна уносит его), он, голосом уже едва слышным, шептал в стену:
— Господи, спаси меня и помилуй! Господи, отпусти мне мои прегрешения.

Итак, он заснул. Потому что принятое снотворное, упакованные чемоданы возле кровати и, не в последнюю очередь, детская молитва на сон грядущий, все это — а возможно и господь бог, к которому он взывал и который впоследствии от него отступился, — еще могло спасти его, уберечь от власти мрака. Учительница — она тоже рано легла спать — говорит, что слышала за стеной его ровное дыхание, и этот звук, в сочетании с журналом, который она читала, постепенно ее убаюкал. Сюда еще надо добавить тихое монотонное завывание в печной трубе, чеканный шаг постовых на улице и, наконец, руки — левая под щекой, правая между колен. Она уверяет, что не боялась; письмо — слухи о нем уже докатились и до нее — она с самого начала не принимала всерьез, и потому спала так же сладко, как обычно. А Карл Малетта? Одно установлено: он тоже спал. Готовый к отъезду, он спал в предвкушении утра, первого петуха, свистка локомотива и тряской телеги, что должна была доставить его на станцию.
— Но незадолго до двенадцати (это я знаю точно, так как сразу же взглянула на часы), — говорит фрейлейн Якоби, — он вдруг издал ужасающий крик, и этот крик тотчас же меня разбудил.
Она зажгла свет, встала и прислушалась. За стеной Малетта бегал по комнате. Потом опрометью бросился вниз и стремительно выскочил из дому. Немного погодя она тоже вышла из комнаты (не из любопытства, а потому что вдруг почуяла недоброе) и увидела, что все двери, и входная тоже, стоят настежь, и тут же услыхала страшный вой, который, однако, приписала сквозному ветру, что дул ей навстречу из темных сеней. Таков был злой рок Малетты: когда он действительно заснул, то есть вышел из своего трупа (так из обманчивого комнатного тепла выходят навстречу реальному холоду и ветру), уже ни молитвы, ни чемоданы, ни снотворное — во всяком случае, мы так полагаем — не могли его защитить, ибо за порогом, если бог отступился от тебя, такие средства теряют силу, и бегство в забытье, бегство от мук сознания, кончается в безысходности, то есть во сне.
Займемся теперь умозрительными рассуждениями. Подумаем о том, что могло ему присниться. Последуем за ним в непроглядный мрак, которым покрыт его конец.
Место действия: его мансарда в доме Зуппанов. Правда, она на себя не похожа, но он знает: это она. И деревня за окном тоже другая, но он знает, что это Тиши. Он лежит в своей постели и видит в окно, громадное как витрина, деревню и окрестности под недвижной шиферной кровлей неба, освещенные как при светопреставлении. Вдруг он понимает: в деревню входит волк. Никто ничего на сказал, но он знает: это так. Все ждут волка, деревня застыла в белесых сумерках. Однако Герта Биндер пришла к нему в гости (ядреная черноволосая мясникова дочка), раздевшись, она ложится в постель и прижимается к нему, сверкая ослепительно голубыми огоньками глаз фрейлейн Якоби. В руке у нее огромный нож мясника.
— Сейчас нарежем колбасу! — говорит она. Затем приподнимает одеяло и обнаруживает там чучело волка.
— Он кусается? — спрашивает Малетта.
— Он набит женскими волосами, — отвечает Герта.
Малетта тычет в него пальцем, волк лопается как мыльный пузырь, и слизь течет в постель.
Малетта в восторге. Он прижимается к Герте, обнимает ее, хочет поцеловать, но она вдруг вся сморщивается, словно бы усыхает, и на глазах превращается в старуху Зуппан. Он вскакивает с постели. Тело его выгибается, надувается как парус, словно ураганный ветер налетел на палатку и поднял ее в воздух. Потом он стоит у окна и смотрит вниз на улицу. Там собралось множество людей, все взволнованно указывают на маленький зеленый предмет, проворно семенящий им навстречу. Это пропавшая шляпа Малетты. Она семенит на сотне крошечных ножек. Люди поднимают крышку канализационного люка, и шляпа исчезает в нем. Малетта облегченно вздыхает. Очень уж неприятная была ситуация. Он оглядывается, так как слышит за спиной голос Герты Биндер.
— Иди сюда! Я уже разделась!
Она лежит на столе и ждет. Малетте в голову приходит великолепная идея. Он делает знак людям — теперь это уже жандармы, — приглашая их войти в комнату, и ведет всех к Герте, но теперь это уже не Герта, а деревянный нужник. Он снимает крышку с круглого отверстия и показывает людям, что он сам сидит там, внизу, маленький и хорошенький, как кучка нечистот (весело, правда?). Жандармы корчатся от смеха. Малетта высовывает голову из выгребной ямы. «Прошу!» — говорит он как фокусник и подтягивается на руках, только это уже не он, а протухшая брауншвейгская колбаса.
— Одна гниль! И это мне хотели навязать!
Тут гаснет последний свет. Словно страшный порыв ветра загасил его. Вся деревня вздувается на черном ураганном ветру, стены полощутся как полотняные кулисы. А Малетта, пойманный, лежит в своей постели и слышит, как матрос что-то говорит. К примеру: дело принимает серьезный оборот, волк на подходе; и вдруг он чувствует, что волк уже лежит в его постели. Чувствует его шкуру, его горячее дыхание, пахнущее сырым мясом, и тут же ощущает на своем горле острые зубы и жадный язык на сонной артерии, и одновременно слышит, что он воет над ним, воет как ночное небо, как все на свете сирены воздушной тревоги, как гигантский орган кафедрального собора. Малетта хочет защищаться, но его словно параличом разбило. Как в столбняке лежит он под этим куполом из воя.
И тут, надо думать, произошло следующее: его ужас, его смертельный страх перед правдой сна, который, наверно, был еще страшнее, чем можно вообразить, вылился в тот дикий крик, в долгий почти звериный вопль, такой громкий, что даже учительница от него проснулась. Если бы не действовало снотворное, этот крик вернул бы к реальности и Малетту. Но так, все еще под влиянием наркотика, он мог прийти в чувство только наполовину и теперь ощущал себя непроходимым царством теней, некой затянутой туманом нейтральной полосой между здешним и нездешним миром; он как бы остался висеть на проволочном заграждении — беглец, упавший посреди дороги, — на периферии земного бытия, на самом краю своего сознания. Затиснутый между подушками, лежал он словно в захлопнувшейся западне и, наверно, все еще слышал волчий вой, не зная, снится это ему или волк и вправду выл. Если реакция его замутненного мозга еще походила на мыслительный процесс, значит, тогда — тогда он разгадал умысел, узнал голос и, сообразуясь с этим, принял последнее великое решение.
Нечистый, подумал Малетта. Он одолел меня! Потому что я хотел убежать! Хотел предать его! А теперь, теперь я должен бороться за свою жизнь. Должен уничтожить его, иначе он уничтожит меня!
Потом он зажег свет, выскочил из постели, оделся, рванул дверь, сбежал вниз по лестнице и, безголовый и безоружный (ибо зачем ему оружие и зачем еще голова?), ринулся навстречу вою, волчьему вою, то есть навстречу нечистому, который должен был быть там, откуда доносился вой, следовательно, по направлению к югу, к Кабаньей горе (ибо оттуда дул ветер, оттуда слышался вой); сперва он мчался между домами, потом через поля и выбежал в эту взбаламученную ночь новолуния, которая искаженной и страшной предстала перед нашими внимательными взглядами и ружьями, снятыми с предохранителей.
И тут мы дошли до места, где смешно было бы пытаться еще что-то объяснять, ведь в это время (может быть, именно в эту минуту) матрос действительно услышал вой… Он все еще сидел за столом, под лампой, а на столе лежали четыре предмета: заграничный паспорт, фотография его матери, письмо отца и начищенный заряженный карабин. И вдруг, едва он протянул руку к винтовке, над ним раздался вой. Он доносился отовсюду из лесу, нарастал, поднимался к небу, надвигался, как непогода, сгущающаяся в темноте над деревней в ужасающее, невиданное небесное тело, в гигантский черный шар из воя; и этот шар приближался к земле.
Был ли то последний сгусток тишины? Пузырь, готовый вот-вот лопнуть? Страшный суд, назревавший в тишине, чтобы однажды прорвать ее?.. Как бы там ни было, слышал он это или нет, но матрос понял, что настал его черед, что костлявая рука, которая повелевает смертью, в темноте указала на него… Но в это мгновение (тоже на самом краю сознания) он решил бороться, бороться за жизнь, и взялся за оружие, но совсем по-другому, то есть правильно.
Он не мог бы объяснить, зачем оно ему понадобилось, ведь враг был повсюду и нигде, враг, которого нельзя пристрелить. И тем не менее! Когда он взял в руки карабин, кончиками пальцев ощутил холод стали и увидел голубоватое сияние, отбрасываемое светом керосиновой лампы — словно зарница полыхала в ночном небе, — его вдруг охватило чувство великого покоя (или это дрема смежила ему веки?); он глядел на это голубоватое свечение, на игру света и тьмы на стволе карабина, и вдруг понял: добро и зло, жизнь и смерть — две личины одной великой, вечной загадки.
И больше он уже ничего не знал, ни о себе, ни о боге. Ночь вдруг воцарилась в его мозгу. Он снял винтовку с предохранителя, перезарядил ее, встал, весь натянутый как тетива, прикрутил фитиль у лампы, погасил ее и стал частицей мрака.
В это самое время Хабихт и Шобер, совершавшие ночной обход, добрались до хижины гончара и остановились.
— Что нам тут нужно? — удивленно спросил Шобер.
— Матрос! — ответил Хабихт из темноты.
А незадолго до этого произошло следующее: Хинтерлейтнер и старик Клейнерт, с допотопными охотничьими ружьями, сидевшие в засаде у проселка к югу от Тиши, вдруг услыхали приближающиеся шаги и тут же увидели какую-то черную фигуру; они взвели курки и, услышав хриплое дыхание, выскочили на дорогу.
— Стой! Кто идет? — устрашающим голосом рявкнул Хинтерлейтнер.
И за ним старик Клейнерт:
— Стой! Кто идет?
— Волк! — взвизгнула черная фигура и промчалась мимо.
— Пропустить! — сказал могильщик и сделал вслед уже давно исчезнувшему человеку размашистый жест — точь-в-точь регулировщик движения. А потом:
— Кто бы это мог быть?
— Понятия не имею, — сказал Хинтерлейтнер.
Тем временем наверху, па опушке леса:
— Ты считаешь, это матрос? — говорит Шобер.
— Не знаю, — отвечает Хабихт. — Все может быть. Подождем здесь.
— А чего ждать-то?
— Не знаю, — говорит Хабихт, — увидим.
— Ничего мы не увидим, — бормочет Шобер.
А матрос между тем открыл дверь и прошел за дом; там он недвижно стоял в темноте — впереди долина, позади дом.
А Хабихт:
— Оставайся тут и будь начеку! Я спущусь и спрячусь за сараем.
— Оттуда также ничего не увидишь, как и отсюда, — говорит Шобер и слышит, как Хабихт спускает предохранитель на винтовке.
Смешно, думает Шобер, просто курам на смех! Вместо того чтобы охранять деревню, он охраняет матроса! Шобер видит, как Хабихт бесформенной тенью расплывается в темноте, слышит его удаляющиеся шаги — и больше ничего.
Матрос все еще слышал вой (кроме него этот вой, наверно, слышал только Малетта), ибо в этот миг он был частицей мрака и ничего не слышал телесным слухом. Над ним, становясь все больше, плавала черная луна, та, которую нельзя увидеть, но которая тем не менее существует в небе над нами, чтобы в один прекрасный день свалиться нам на голову. Но вдруг она исчезла. Пузырь лопнул! Ибо тишина нарушилась, а так как тишину нарушил шорох, то она вновь стала неслышной. Ничего. Порыв ветра налетел на деревья. Они застонали, закачались и снова застыли в неподвижности. Матрос поднял карабин (в мозгу — охотничий инстинкт, а вокруг него ночь) и пошел к дороге, так как почувствовал — из долины что-то движется на него.
Он пока еще ничего не видел и не слышал, но чувствовал — оно приближается (так предчувствуют падение атмосферного давления, резкую перемену погоды). Он направил дуло карабина в темноту и услыхал тяжелое дыхание, звук бегущих лап, а потом увидел это. Объемистый сгусток тьмы, косматая бессмыслица из влаги и ночи двигалась прямо на него, и вдруг сердце матроса защемил смертельный страх, в груди разрасталась боль, такая страшная, такая мучительная, словно сверху на него упал кусок железа, словно огромный кусок железа впился ему в грудь. И тут он поднял винтовку, прицелился (ночь в мозгу, охотничьи угодья, леса по склонам гор), согнул палец на спуске (в груди повернулся кусок железа) и нажал на спуск — как раз когда бессмыслица из влаги и ночи оказалась совсем близко от него. Она с воплем взмахнула руками; матрос услышал выстрел, почти сразу — второй и увидел, как упал во тьму, головой к Тиши, какой-то человек.
Тишина… Потом быстрые шаги за домом. Кто был этот малый, который упал в ночь? А теперь еще шаги из лесу! Проклятье! Проклятье! Неужто он убил человека? Матрос хватает винтовку за конец ствола и, размахнувшись, швыряет ее вниз, в долину. И в ту секунду, когда шаги уже раздаются у сарая и за спиной матроса вспыхивает луч карманного фонаря, он слышит, как далеко внизу винтовка упала в кусты.
— Эй!
— Кто там?
— Вахмистр Хабихт! — отвечает голос. Свет бьет матросу прямо в лицо. — Кто тут стрелял? — спрашивает Хабихт. — Вы? И что это пролетело сейчас по воздуху?
Матрос закрывает рукой глаза от слепящего света и говорит:
— Это я у вас хочу спросить! Вы же тут караулили! А я только что выскочил из дому.
— Неправда! Я стоял перед дверью, — говорит Хабихт, и луч его фонаря шарит по траве.
А матрос:
— Ах, вот как! А что вы там делали?
А Хабихт (таинственно):
— Что я там делал? Если бы я знал! У меня такая же плохая память, как у вас!
В этот миг с другой стороны подходит помощник жандарма Шобер, тоже с фонарем в руках.
— Вахмистр! — кричит он и освещает склон горы. И вдруг: — Господи Иисусе! Там кто-то лежит!
Спотыкаясь, мчится он вниз, направо от дороги, Хабихт с матросом бегут за ним, и все трое одновременно склоняются над неподвижным телом, лежащим лицом вниз, раскинув руки.
— Кто это? — спрашивает матрос одеревеневшим языком, у него вдруг не стало слюны во рту.
Хабихт опускается на колени и переворачивает тело, а потом:
— Фотограф! Как он сюда попал?
Матрос хочет сглотнуть слюну, но ничего не получается, он с трудом отдирает от нёба присохший язык.
— Мертв? — спрашивает матрос. У него такое чувство, будто он стоит на голове.
— Да, — отвечает Хабихт, — смотрите! Выстрел в затылок! — Он отворачивает воротник непромокаемого пальто и, указывая на отверстие в затылке Малетты, говорит: — Нарочно так никогда не попадешь!
— Да, — говорит Шобер, — так метко бьет только случай!
Они выпрямляются. Оба жандарма тушат фонари, темнота вокруг становится прозрачной как кристалл, матрос слышит теряющийся где-то вдали напевный звук и наконец только жужжание проводов в долине.
А Хабихт (Шоберу):
— Теперь мы оба получим по ордену, а?
А Шобер:
— Ясно! Но я стрелял в воздух!
— Конечно, — говорит Хабихт, — это я его уложил, кто же еще? Я сперва его окликнул, а ул «потом выстрелил!
У матроса на секунду перехватывает дыхание. Он чувствует во тьме устремленные на него глаза Хабихта.
— Да, — говорит он наконец. — Вы его окликнули. Это я слышал.
— Даже в доме слышно было, — говорит Хабихт, — даже во сне.
Они медленно отходят от трупа.
— На какую-то секунду я все понял, — говорит матрос. — Это было как вспышка молнии. А теперь все кончилось, я уже ничего не понимаю. Но думаю, мы обезвредили адскую машину.
Спустя приблизительно шесть часов за холмами к юго-востоку от Плеши показалась узкая полоска багряной зари, и в свете ее обозначились зубцы дальнего бора и отдельные группы деревьев. Несколько жандармов и деревенских функционеров, явившихся к хижине гончара, снова удалились, забрав с собой тело, ибо следствие было уже почти закончено; неясным оставалось только, как занесло сюда Малетту, и потому (якобы затем, чтобы выяснить этот вопрос и допросить матроса) остались только Хабихт и тот, в прорезиненном плаще. Какое-то время они просидели у матроса в комнате, а потом все трое вышли из дому и по лесной дороге стали подниматься к дому егеря. Слева светилась алая полоска зари, возвещавшая приближение утра (ведь еще стояла ночь), вскоре заблиставшего сквозь частокол стволов как сквозь зарешеченное окно.
— Земля мягкая, — сказал Хабихт, — сегодня не подморозило.
— А я все-таки замерз, — сказал матрос.
— Это у вас предотъездная лихорадка, — сказал Хабихт. — Кроме того, вы же всю ночь не спали.
Но матрос ничего ему больше не ответил, он не отрываясь смотрел на человека в прорезиненном плаще, который все время шел на несколько шагов впереди и в темноте иногда почти скрывался из виду. Хотел бы я знать, думал матрос, какое лицо у этого человека. Никак не могу вспомнить это лицо, хотя видел его при свете лампы. Они втроем сидели у стола, Хабихт задавал общепринятые вопросы, а этот, в прорезиненном плаще, откинулся на спинку стула — тень от козырька фуражки скрывала его глаза как полумаска — и долго сидел так, сонно смежив веки, казалось, совсем безучастно прислушиваясь к допросу. Но вдруг он широко раскрыл большие глаза и испытующе посмотрел на матроса. Эти глаза были как море. Потом он заговорил:
— Что это был за человек?
А матрос:
— Человек! Слепое орудие, а в результате жертва. И к несчастью своему, совсем не такое ничтожество, каким он себя считал, он ведь стыдился себя.
И снова глаза, в тени козырька синие как море, что поджидает корабли за молом, над которым вьются чайки. А потом вопрос (как на экзамене):
— Как вы думаете, чего он от вас хотел?
Матрос немного подумал. А потом:
— Он хотел с моей помощью обрести свободу. Ему повезло, он заработал пулю, предназначавшуюся мне. Иными словами: он спас мне жизнь.
Приезжий жандарм слегка улыбнулся (запомнить это незначительное, безвозрастное лицо было невозможно из-за покоряющего сияния его глаз) и снова спросил:
— Вы думаете, что вы заслужили жизнь?
Матрос:
— Гм, я еще не знаю, намного ли жизнь лучше смерти. Я еще не пробовал, какая она, смерть.
Приезжий жандарм:
— Что это за письмо?
Матрос:
— Это? Прощальное письмо моего отца.
Хабихт, протягивая руку:
— Дайте сюда!
— Стоп! Я возьму его с собой. — Матрос сунул письмо в карман и сказал: — А теперь я прошу вас пойти со мной к дому егеря. Одно дело, видите ли, осталось незаконченным, а поскольку еще неизвестно, заслужил ли я свою жизнь — сказать по правде, мне дороже чистая совесть, — то я и ставлю жизнь на карту.
Хабихт (прищурясь):
— Вы же прекрасно знаете, что я не желаю больше слышать об этом деле.
Матрос:
— Да, знаю. Но если вы накроете его с поличным?..
Хабихт в задумчивости кусал губы, глядя на человека в прорезиненном плаще.
А тот:
— Я, правда, не знаю, о чем речь, но что касается меня…
А матрос (вставая):
— В таком случае, пошли!
Теперь вокруг них черная решетка леса, и шаги по мягкой почве почти неслышны, а слева утренняя заря заглядывает в тюрьму, в которой себя утверждала ночь.
Значит, ты хочешь пожертвовать собой. Смотри, тебе виднее. А может, за это дело стоит принести себя в жертву?
Люди получше тебя жертвовали собой за менее важные дела.
Да, да! Во имя победы своей футбольной команды, например.
Брось чушь городить! Мне не до шуток.
Да, я знаю. Ты думаешь о смерти, так умри же!
Я убил человека. На моей совести его смерть.
И сейчас ты словно заново родился. Верно?
(Во всей округе закукарекали петухи, их пронзительный боевой клич распорол тишину).
Да, верно. Но это-то и страшит меня! Я не чувствую раскаяния, даже печали не чувствую.
Да и что удивительного! Всего только стряхнуть с себя свою бренную оболочку и в то же время спасти мертвеца для вечной жизни!
Он мне сказал, что я его утраченное, его лучшее «я», то «я», которым он всегда мечтал стать.
Вот и все, бери-ка свои чемоданы и отправляйся на станцию!
Нет. Сначала Хабергейер! Сначала суд господень.
Суд господень не так уж важен тебе. Тебя в первую очередь злит борода поддельного бога…
Они повернули к западу; утренняя заря теперь смотрела им в спину. Слева в овраге журчал ручей, а со склада лесопильни там, внизу, прямо на них несся запах только что напиленных досок.
— Сейчас я пойду вперед, — сказал матрос, — а вы, будьте так добры, спрячьтесь за забором и, если через двадцать минут я не вернусь, входите в дом посмотреть, что там происходит.
— Он, надо думать, еще не вернулся, — сказал Хабихт.
— Сейчас это выяснится, — ответил матрос. Он уже собрался было обогнать обоих, но Хабихт вдруг энергично потянул его за рукав и сказал:
— Не делайте глупостей!
А матрос:
— Вы за меня боитесь? Вы же хотели меня убить.
А Хабихт (шепотом):
— Вчера. Да. Из-за того, что вы меня обругали. Но вы недавно спасли мне жизнь.
Матрос удивленно посмотрел на него.
— И еще одно! — прошептал Хабихт, держа его за рукав. — Куда вы забросили винтовку? Я не хочу, чтобы она кому-нибудь попалась на глаза — за детей боюсь.
Малютка Анни! — подумал матрос. — Она уже не застанет меня сегодня, когда принесет молоко.
— Это карабин, он валяется где-то на склоне, — сказал матрос. Потом высвободил руку.
— Сплошные спасители! — добавил он, — Один спасает жизнь другому! Да, да! И один другому ее отравляет. — Он догнал того, в прорезиненном плаще:
— Когда я снова выйду из дому, — как бы между прочим сказал он, — пожалуйста, не попадайтесь мне сразу на глаза! Подождите, покуда я пройду мимо сарая и опять окажусь в лесу.
Он на мгновение почувствовал запах прорезиненного плаща, увидел глаза, устремленные на него из темноты, и понял: это мартовские небеса над бушующим морем: глаза ангела, сопутствующие моряку.
Светало. Рельефнее становились предметы. Небо, снизу подсвеченное красным, походило на вмятую, погнутую свинцовую пластину. Матрос прошел мимо хозяйственных построек к дому с ярко освещенными окнами, Вернулся! — подумал он. — И теперь, черт его возьми совсем, теперь я ему покажу! В саду он наткнулся на черное скопище гномов. Мразь! Сволочи! Ухмыляются, ханжи, в свои бороды! Остроконечными колпачками прокалывают утро; но самому крупному из них недостает головы! Больших можно убить, думал он. Но масса мелких неодолима. Об них все зубы обломаешь. Такова диктатура садовых гномов!
Он постучал. Работница открыла ему дверь:
— Кого вам?
Ему надо поговорить с ландратом, и притом немедленно. Та ответила:
— Верно, верно! Это же хозяин! Он сейчас только домой вернулся. Пройдите-ка к нему; он как раз переодевается.
И — последняя величайшая неожиданность: в комнате находился совершенно незнакомый ему тип в длинных фланелевых подштанниках.
— Минутку! — сказал он. — Я только штаны надену! — Взял брюки, висевшие на стуле, и натянул их. При этом он заметил оцепенелый взгляд матроса, который все еще ничего не понимал, — и вдруг:
— Вот видите, какие дела! Пришлось мне бороду сбрить. В городе эдакая бородища очень уж в глаза бросается.
Бороды больше не было. Борода была сбрита! Матрос едва устоял на ногах. Голова у него кружилась. Он повернулся вокруг собственной оси, заметил на полочке терракотового гнома и опять бросил недоверчивый взгляд на обнаженное лицо, лицо шестидесятилетнего недоростка.
Хабергейер надел китель с роговыми пуговицами и приветливо обернулся к матросу.
— Чем могу служить? — осведомился он, хотел по привычке схватиться за бороду, но схватился за пустое место и, для спасения своей чести, ощупал и поправил зеленый галстук.
Матрос не знал, с чего начать. Вся его концепция полетела к черту. Как военный преступник ты окуклился, злобно подумал он, а вылез из кокона ландратом. Он сказал:
— Сегодня утром я уезжаю (мне надо уладить одно дело); перед отъездом мне захотелось поприветствовать нашего ландрата и спросить, не сможет ли господин ландрат оказать мне одну услугу.
Хабергейер польщенно ухмыльнулся.
— Да, — произнес он. — Дело быстро сделалось! Один депутат скончался, и я живенько проскочил на его место. — Хабергейер набил свою трубку. — Я слушаю вас, — сказал он. — О чем идет речь? Если дело касается какого-либо ведомства, я, безусловно, смогу вам помочь.
Матрос вытащил из кармана сложенное письмо.
— Здесь у меня письмо моего покойного отца, — сказал он как бы вскользь. — В нем отец говорит о расправе, которую отряд самообороны в Тиши учинил над иностранными рабочими.
Хабергейер, держа в пальцах зажженную спичку, как раз собрался закурить трубку. Сейчас он окаменел, пламя уже лизало его пальцы. Он выпустил спичку, она упала на пол.
А матрос:
— Ага! Вы смекнули, о чем идет речь. Отлично. В таком случае поговорим по-свойски. Мерзавец! Преступник, которому нет оправдания! Шестикратный убийца! Хамелеон, по потребности меняющий окраску!
Хабергейер стоит, склонившись над спичками. Он сер как цемент. Бормочет:
— Вы… Вы не вправе меня оскорблять.
А матрос:
— Конечно! Ваша личность неприкосновенна, и это упрощает дело. Слушайте меня! Раскройте пошире свои свинячьи уши! Я вчера откапывал трупы в печи для обжига кирпича. Мне это представлялось делом стоящим. И я нашел то, что искал. Вы меня поняли? Их было шестеро! Шестеро несчастных человек! Они сейчас явятся сюда! Они уже въезжают в домик егеря!
— Бог ты мой! — сказал Хабергейер. — Старые сказки! Все это так давно было, что и на правду-то не похоже! А потом ведь была война; все тогда шло кувырком! А что, спрашивается, нам было делать с этими иностранными рабочими?
Матрос только глаза вытаращил.
— Вы, значит, считаете, что действовали вполне правильно?
— Ну да. Конечно. Все зависит от обстоятельств.
— Вас не тяготит вина?
— Я не чувствую себя виновным.
Матрос отвернулся, у него сперло дыхание.
— Да, тут, видно, ничего не поделаешь, — сказал он. Взгляд его снова скользнул по терракотовому гному, который, простодушно улыбаясь, смотрел на него с полки. И внезапно:
— А как это случилось с Айстрахом? Я стоял тогда на мосту, возле дубов, и слышал ваш разговор.
— Ах, так это были вы? — сказал Хабергейер. — Айстраха прикончил этот бродяга.
Матрос шагнул к нему и схватил его за китель так, что роговые пуговицы запрыгали по комнате.
— Кто?
— Да, этот…
— Ваш Пунц Винцент! — заорал матрос, слева и справа смазав его по бритой морде.
Хабергейер был уже не бледным, а пунцовым, пунцовее, чем когда-либо Пунц Винцент, и в ту же секунду он затрясся от рыданий, потоки слез хлынули у него из глаз, потекли по щекам.
За его спиной на крючке висела охотничья двустволка с оптическим прицелом. Матрос только глянул на нее, подумал: все под рукой! Ну да мы еще посмотрим. И сказал:
— Я пришел убить вас, думая, что буду иметь дело с мужчиной. Но бороды нет, и мне в лицо ухмыляется задница с ушами — не более того. Мертвые смотрят на вас, но, увы, напрасно. Вас и не видно, вы — гном, самый мелкий из гномов! Что вы, собственно, делаете в ландтаге? Караулите у дверей сортиров? Ваше дело я передам в прокуратуру: доказательств у меня собрано предостаточно. И тогда вам каюк!
Он повернулся, вышел из комнаты, успев еще краешком глаза заметить, что егерь схватил ружье со стены. Пусть! — подумал он. — Эдак даже лучше!
Вот и двор. Семьдесят шагов на восемьдесят, вполне достаточное расстояние для человека, который должен пройти его объятый смертным страхом, иными словами, под ногами матроса двор кажется нескончаемым (а ноги у него вдруг стали ватные). Двор пустынный, открытый всем ветрам, простирается под небом, залитый песочно-серым предутренним сумраком. Этот сумрак делает предметы бестелесными, не отбрасывающими тени, они сами как тени. В самом конце двора, в дали, что кажется неоглядной, стоит сарай, за которым начинается лес, а у облаков над хрупкими скелетами крон развеваются рыжие кудри. Ибо это час, когда кричат петухи, час палача, час казней» суббота четырнадцатого февраля, семь часов пятнадцать минут утра, и матрос неторопливо идет по двору. Он слышит, как егерь выходит из дому. А теперь — как он взвел оба курка. И видит: на двери сарая, по ту сторону сонно зевающей утренней пустоты, растянута для просушки шкура убитой собаки. И знает: собачье триединство это глупость, трусость и бессовестность. Но зло не от мира сего; зло скорее уж отец всего сущего; неуловимое, оно вновь покинуло волчью шкуру, и вот, вывернутая наизнанку, она приколочена к доскам и отражает утро. Во всем многоцветии красок отражает она пустоту небес, играет, переливается, как раковина, выброшенная на берег. И матрос знает: ему никогда не найти отца. Но знает и другое: для того, кто его ищет, отец всегда пребудет живым. Неторопливыми шагами расхаживает капитан по своему мостику и ждет. Только за него, за него одного стоит умереть, иными словами: умереть за ту загадочную лиловость, что осталась на изнанке волчьей шкуры; она объединяет свет и тьму, объединяет все противоположное и оставляет открытыми все возможности.
Иди скорее! — говорит себе матрос.
Нет, иди медленнее! Дай ему время прицелиться.
Иди скорее! Осталось двадцать шагов! Иди скорее!
Человек умирает, но вечна слава совершившего подвиг!
Идиот! Еще пятнадцать шагов! Сейчас он выстрелит!
Барабанной дробью стучит в его ушах страх смерти. Он бросил взгляд на забор, среди темных кустов ему померещились два светлых глаза и глянец прорезиненного плаща.
Еще десять,
еще семь шагов,
еще четыре —
вот и сарай!
Ему ударила в нос вонь волчьей шкуры.
Два шага еще!
А сейчас — за угол!.. Он завернул за сарай и вдруг услышал за своей спиной два голоса.
— С добрым утром, егерь! — сказал Хабихт.
— С добрым утром! — ответил Хабергейер.
— Новое ружьишко?
— Где там! — сказал Хабергейер. — Старье! Я только велел оптический прицел приделать.
Матрос вслушивался, затаив дыхание, потому что оба вдруг умолкли. Он стоял, прислонившись к замшелой стенке сарая, и чувствовал, как пот стекает у него по вискам.
И вдруг опять голос Хабергейера:
— Нет, ты только посмотри! Ей-богу, плакать хочется. Кто-то сломал моего самого большого гнома. Насколько я знаю, это карается законом! А ну, говори скорее, по какой статье?
А Хабихт:
— Эх, мне бы твои заботы! А статья называется «Преднамеренное повреждение чужого имущества».
Хабергейер:
— Правильно! Я так и хотел сказать: преднамеренное повреждение…
Но тут раздался все завершающий смех (возможно, давно уже накапливающийся, почти божественный смех). Сначала он пророкотал у матроса где-то внизу живота, затем родником вырвался из глотки, прозвенел у него в черепе, раскрыл ему рот и нагнал слезы на глаза.
Он набил трубку, достал спички, скрутил прощальное письмо отца и от него прикурил. Попыхивая трубкой, он пошел обратно через лес, раздумывая, на каком поезде ему лучше уехать и как добраться до Плеши — на автобусе или подсесть на телегу какого-нибудь возчика. А когда вскоре он вышел на утренний свет и сунул в карман докуренную трубку, он начал тихонько что-то насвистывать; и то, что он насвистывал, внезапно показалось ему знакомым.
Прозвучала первая нота — и еще он не знал, что это такое; потом вторая — он все еще не знал, а потом третья! И он понял: Голубая песнь! Она вернулась к нему.

Hans Lebert
DIE WOLFSHAUT
HAMBURG 1960
Ганс Леберт
ВОЛЧЬЯ ШКУРА
РОМАН
ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО НАТАЛИИ МАН И Е. ВИЛЬМОНТ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
МОСКВА 1972
Редактор И. Бобковская
Предисловие Ю. Архипова
Художник Б. Маркевич
7-3-4
59 — 72
Ганс Леберт
ВОЛЧЬЯ ШКУРА
Художественный редактор А. Купцов
Технический редактор Н. Рабина
Корректор В. Слепенкова
Сдано в производство 9/III 1972 г. Подписано к печати 13/VI 1972 г. Бумага 84×1081/32. бум. л. 8 печ. л. 26,88. Уч. — изд. л. 33, 10. Изд. № 12/13006. Цена 1 р. 88 к. Зак. 2775.
Издательство «Прогресс» Комитета по печати при Совете Министров СССР Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21
Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва, М-54, Валовая, 28
1
Перевод И. Грицковой.
2
Имеется в виду «Сказка о добром молодце, не знавшем страха» братьев Гримм. — Здесь и далее примечания переводчиков.
3
Вперед! (итал.)
4
Вещественное доказательство (лат.).
5
На месте преступления (лат.).