Книга: Именно это
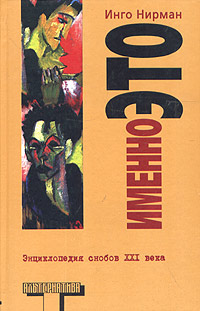
Именно это (Der Effekt)
Он улегся там во весь рост. Никогда бы не подумала. Росту он был не маленького, не так чтобы очень, но все-таки великоват для ванной. Теперь он лежал на полу, вытянувшись, даже не застряв головой у стульчака.
Они долго раздобывали этот клозет-стоячку, мечтая, как удобно будет блевать лежа. Однако он не смотрелся, этот казарменный стульчак с допотопным краном, вделанный в бетонный, быстро рассохшийся фундамент, вместо нормального унитаза, так хорошо гармонировавшего с перегородками и кафелем их фанерно-гипсовой берлоги.
Она часто видела его там лежащим, но никогда не слышала, чтобы он падал. Дернув дверь за ручку, она обнаружила, что та не заперта, что ее удивило, так как он, когда ему было плохо, всегда запирался, стараясь избавить ее от этого зрелища, а себя — от ее реакции. Он хотел покоя, и его не пугало, что при этом все кругом лишь еще сильнее вертится, тает и расплывается.
Может, сегодня его схватило так быстро, что он не успел запереться? Или он хотел, чтобы она нашла его сразу и поняла, что уже ничего не сделаешь и «скорую» вызывать незачем?
Она пыталась привести его в чувство. Неизбежность вызвала у нее не панику, а скуку. Нет, не от этого она почувствовала себя размякшей и усталой. И никуда не стала звонить.
Было еще довольно тепло, теплее, чем на сиденье такси, когда она, просидев в машине несколько минут, почувствовала, что пот промочил джинсы насквозь и никуда не ушел. Сидела на пластиковом сиденье будто нагишом, представляя, с каким треском отклеятся от него ягодицы, когда она встанет.
Она расправила перед собой на руках футболку. Придвинула. Немного наискось на ней было написано «враг», как бы от руки, неровным почерком, белым по черному; мишень была нарисована так, что центр приходился почти против сердца. Из-под рубашки, хотя и темной, но слегка отливавшей желто-зеленым, виднелись лишь полслова и кусочек мишени. Джинсы были выцветшие и казались скорее бежевыми, чем серыми.
Он выглядел и чувствовал себя неплохо, только оделся нелепо, как ей показалось. Если он действительно собирался на ту вечеринку, о которой сообщил ей лишь мельком. Однако у них был уговор, что она за ним не ходит и потом не расспрашивает, а новые анекдоты он сам ей расскажет. Если бы она пошла куда-нибудь без него, это могло для нее плохо кончиться. Ей, а может быть, и ему, хотелось изменить этот порядок.
Она знала фамилию хозяйки и сразу нашла адрес в его записной книжке. Нажала звонок внизу, ей открыли, не спросив ни слова, и дверь в квартиру тоже была не заперта. Ее никто не встретил, и вообще никого не было видно, нельзя было понять, то ли вечеринка кончилась, то ли еще не начиналась. Наконец она увидела молодую женщину, одетую в рубашку или комбинацию цвета слоновой кости с узором вроде паутины, и мальчика лет двадцати с небольшим, в свитере из зеленой шерсти с блестками, с засученными до локтей рукавами. Оба сидели, безучастно глядя на тело мужчины средних лет, в белой рубашке и костюмных брюках, лежавшего перед ними на полу так же, как Юлиус в ванной: на спине, чуть-чуть повернувшись набок, слегка согнувшись и раскинув руки.
Зачем они вообще открыли ей? Может, она нажала не ту кнопку и попала не в ту квартиру? Или Юлиус, уйдя, забыл закрыть за собой дверь?
— Он умер? — Она удержалась от того, чтобы добавить «тоже», сознавая, что долго удерживаться не удастся. Чувствуя, что знает ответ, она все же была поражена и поэтому не могла прямо спросить, что произошло с Юлиусом.
Оба коротко взглянули на нее и снова уставились на труп.
— Это тебя зовут Крис? Женщина кивнула.
— Меня зовут Ребекка, я жила с Юлиусом. Сей час он вот так же лежит у меня в ванной.
— Меня ты, наверное, не знаешь. Меня зовут Даниель. — И юноша откровенно взглянул на ее бедра.
Ребекка поняла, что ей повезло, потому что до дома недалеко и можно еще успеть очистить квартиру от наркотиков и следов на тряпках, которые придется либо выстирать, либо выбросить, а на следующее утро заявить в полицию и выдать труп Юлиуса. Что вы о нем знаете? А ничего, кроме того, что он пил.
Тут, видимо, это произошло даже раньше. И вот явилась Ребекка, и, может быть, явятся еще свидетели. Придется объяснять, откуда труп и почему сразу не сообщили. Или они уже вызвали полицию и поэтому оставили дверь открытой? Но тогда явление Ребекки должно было испугать их.
Она подумала, что полиция может прийти, пока она здесь. Но спрашивать не стала, понимая, что ей могут и не ответить.
Если, выйдя, она встретит поднимающихся по лестнице полицейских, то прикинется мышкой и проскользнет мимо, не сообщая, что произошло у нее дома. Если же они полицию не вызывали, то им же хуже, а Ребекке как раз на руку. Впрочем, если она сама еще через пару часов не заявит в полицию, то ее положение будет не лучше. Соврать, что была в отъезде, не удастся, улик в доме слишком много.
Крис встала и спросила:
— Ты дверь закрыла?
Ребекка посмотрела ей в глаза со всей возможной прямотой. Не для того чтобы узнать что-то и не в знак взаимопонимания — для этого ситуация была слишком неясной.
— Мы не звонили в полицию. Там не любят наширявшихся.
Это не было ни извинением, ни просьбой. Они ничего не ждали, но и не собирались ничего раскрывать. Включало ли это «мы» и покойников? Да ведь и они оба точно так же могли умереть сегодня ночью.
Ребекка решила остаться. Возможно, ей удастся узнать, что случилось. Предполагать было нечего, она просто шла по следу.
Крис и Даниель встретили ее слаженной парой. Ребекка была для них тупым, немым, но, возможно, опасным орудием, механизмом, который следовало разобрать на части, чтобы потом, переделав, выбросить. Вмешиваться не стоило, иначе, они вынудят ее саму принимать решения.
То, что она нутром чуяла намерения этих двоих, ее раздражало и настораживало, однако скоро она оценила их внимание и вежливость.
— Кто он? — кивнула Ребекка в сторону трупа.
— Бруно, школьный друг моего отца. — Даниель взглянул на него, как на любимого пса. Имя вызвало череду воспоминаний, доходящих до глубокого детства. Оба малыши, щенок и ребенок. Рука Даниеля дернулась, как бы желая погладить, но вовремя остановилась.
— Он наверняка был под кайфом, как и тот, с кем он говорил, я его не знаю. Шевелились они медленно, как больные. Рот еле выговаривал слова, и слова не совпадали с выражением лица и жестами, с движением плеч. Как будто руки-ноги сидели на железных штырьках, соединенных резиночкой где-то в середине. Я слышала, как один сказал: «В принципе мы с тобой делаем одно и то же. Ты борешься с болезнями общества, я — тела».
Потом Бруно обернулся ко мне: «Ты чем зарабатываешь? Или чем хочешь зарабатывать?.. Разве плохо, начав с раба, стать боссом?» Он не подкалывает меня, а просто рассуждает сам с собой.
Крис заговорила в настоящем времени. Чтобы абстрагироваться от Бруно?
— Мне захотелось достать его. Он приехал на два часа раньше, надеясь провести их со мной, пока не пришли гости. Я сказала, что ухожу. Он спросил, куда. Я ответила, что это не его дело. А он все спрашивал. Мне это надоело, и я отрезала: «Туда, где нет тебя». Он замолчал. И тут я увидела человека, настолько трогательно-беззащитного в своей тоске, что противостоять ему было совершенно невозможно. И заговорила добрее, намекая, что уйти мне надо по нашим же с ним делам: «Мне уже пора. Только не расспрашивай. Я сама». Ну все, пока, мол, до вечера. Он ушел. Зная, что он будет торчать перед домом и потом попрется за мной, я надела шмотки Юлиуса, в которые он хотел переодеться для вечеринки, вызвала такси и поехала, но он сел в свою машину и поехал за мной. Когда мы подъехали к лесу, я вылезла, подбежала к его машине и виновато призналась:
— Я хотела сделать тебе сюрприз, а теперь ругаю себя, что мои закидоны тебя так обидели и разочаровали.
Можете представить, как он после этого возбудился. Мы шли и шли, все дальше в лес. Времени у нас было всего около часа, поэтому я решила сделать для него этот час незабываемым — и не щадила его. Наконец я заставила его сделать перерыв, увидев, что ему это уже нужно позарез. Он изо всех сил настаивал на следующей встрече там же. Но я не хотела надоесть ему слишком быстро.
Крис говорила, стоя у стены, как и в начале разговора, абсолютно ровным голосом. Как будто рассказывала это уже много раз или, наоборот, только что выдумала.
Докапываться Ребекка не решилась. Что произошло, когда Бруно потом, в тот же вечер, увидел эти шмотки на Юлиусе? Или Крис хотела доказать Бруно, что он в душе гомосек, а она — лесбиянка? Или это чистая стервозность, сознающая свою власть и потому цепляющая кого и когда захочет?
Для Ребекки той вечеринки не было. Для нее она начиналась только сейчас.
Она подошла к Даниелю:
— А в какой вечеринке участвуешь ты? Даниель дернул головой, как бы прося ее уйти, однако она придвинулась еще ближе:
— Я хочу…
Ее голос подавлял его, не оставляя выхода. Он не спросил, зачем ей это. Встать и уйти он тоже был не в состоянии. Где же Крис, пусть она придет и вытащит его, потому что ему это, при всей боли, казалось слишком мелким и ненужным.
— Я не знаю, что буду делать через пару лет. Но я знаю, сколько просрал. И чего больше никогда не наверстаю. — Боль свою Даниель выплеснул как-то слишком демонстративно, и все же это было всерьез. Его голос звучал намного выше обычного — казалось, будто его душат.
Ребекка не отпускала его. Он моложе ее на пару лет, но не настолько, чтобы ей захотелось утешить его или сделать выговор. Она произнесла твердо и как бы в пустоту:
— Если ты считаешь, что просрал что-то, значит, ты просто не любишь принимать решений. На самом деле у тебя еще туча возможностей, и ты успеешь сделать много чего важного. И очень скоро убедишься, что все это не зря.
— С учетом универсальной безысходности бытия как такового столь энтузиастический вариант чреват для меня кондрашкой. — Даниель показал как, задрожав коленями и скривив рот. Зрелище и вправду было жалкое.
Крис обернулась к трупу: они стояли так, что им не было его видно. Она не побоялась подойти. Присела возле него, а Даниель меж тем продолжал:
— Да мне и предложить-то никому нечего, кроме обрывков впечатлений и ощущений. Какие-то детали фасада, въевшиеся в память с детства, или интерьеры комнат.
Вдруг Крис, подняв голову, посмотрела Ребекке прямо в лицо, так что той, если она хотела избежать контакта, нужно было немедленно отвернуться. Или немедленно заговорить. Затянувшаяся пауза порождала новые загадки. Долгий взгляд раскрывал тончайшие ходы мысли каждой из незнакомок, но были ли они понятны другой? Казалось, что Крис мысленно передавала ей что-то, но поймет ли та, ей было безразлично.
Ребекка попыталась найти способ, как себя выразить, и нашла: гримасы. Свела все мышцы лица к центру, а потом разгладила, а потом еще раз, и еще, сама не зная, что это значит.
Крис раза три-четыре в самом начале, где-то между и под самый конец представления, показала Ребекке знак: соединенные в колечко большой и указательный палец — «о’кей», что означало ошибку. Даниель показывал его гораздо чаще, почти с издевкой — то ли чтобы поторопить ее, то ли чтобы остановить.
Крис велела Даниелю прекратить, и тот повиновался с обидой. Тут Ребекка решила взять быка за рога, не нападая, а просто ища путь к цели:
— Я вижу, мы понимаем друг друга, так что на взаимную симпатию не рассчитываю. Ты немного не в себе, поэтому, — попыталась она подольститься, — лучше пока отдохни, а я…
Крис снова показала ей «о’кей», что значило: «Будь хоть немножечко гордой и убирайся!» Ребекка настаивала:
— Не отказывайся от помощи, я ведь искренне предлагаю. А так, мне-то что.
Даниель, хотя и разделявший эту позицию Ребекки, счел ее напор ненужным признанием в беспомощности и хитроумии и хихикнул:
— Если Крис не удастся сейчас взять тебя на поводок, то другие, узнав об этом, просто перестанут ее уважать.
Вот тут Ребекка начала кое-что понимать в игре. Не стоит пытаться сломить сопротивление Крис, лучше дать ей через муки и слезы преодолеть саму себя. Для Ребекки это многое прояснило.
Крис потянулась к ней губами, и Ребекка склонилась к ней. Когда они начали целоваться, Даниель ушел. Он направился к бару, он же низенький столик, уставленный бутылками, и задумался, что выбрать.
Ребекка хотела подсесть к Крис, но та неожиданно встала. Их губы расстались. Они направились к бару, где уже сидел Даниель. Там было темнее, и от стола отражался свет уличных фонарей. Ребекка разглядела, что на Даниеле расхристанная рубашка, длинный плащ, то ли твидовый, то ли лодзенского сукна, с какими-то наклеенными полосками на спине. Спереди и сзади на шее (а потом, как она узнала, и на руках) были запекшиеся ранки, в открытых местах прикрытые претенциозным шарфиком.
Крис переоделась ради нее в коричневое шелковое платье, обнажавшее ноги до самых бедер, как и тот, прежний, наряд. Ребекка, хотя и помнила тот, была заново поражена этим, сумев пробормотать лишь:
— Как сексуально! И как удобно!
Такое платье требовало длинных волос. Крис пошли бы крупные, слепленные пряди, которые при повороте головы почти били бы Ребекку по лицу. Ей самой — мелкие, колючие прядки, цепляющиеся везде: под мышками, между ног, между пальцами, на губах, во рту.
Опускаясь на ковер, я чувствовала, как длинные ворсинки обвивают мою ногу и ищут другую. Если бы я откинулась на спину, то они бы, наверное, доползли мне до груди.
На обеих были трусики, едва прикрывавшие срам. Казалось, что волосы сами по себе выбирались наружу из-под верхней резинки.
Лица были непроницаемы. Прям был лишь взгляд, ищущий и натыкавшийся на преграду — поднятый локоть.
— Алло, кто это?.. О нет, он… Его нет. Каждое слово, каждое движение означало что-то, и поэтому имело право на существование.
Ребекке хотелось наконец отодвинуть этот занавес хоть в какую-нибудь сторону, смять его, чтобы по складкам понять, к чему он подвешен. Но пока были одни догадки и ничего больше, да и занавес не хотел отодвигаться.
— Слушай, что бы ты там о себе ни думал… Какая разница, что и как.
Она хотела сказать Даниелю, что для нее он — не такой же, как все, и что она разделяет его опасения. Так пускай они не боятся ее, не боятся ее слов и мыслей. Если ему нравится погибать, ну что ж, погибай, однако сегодня ему, как на картине, явилась Ребекка.
Наверное, с ним ей было бы хорошо. Когда она поняла это, ее мысли спутались. Это было беспорядочное отступление, хотя пока все шло неплохо.
Она заговорила отрывочно:
— Так здорово, что я сейчас тут, с вами… замечательно… нет, правда замечательно… да, наверное, так оно и есть.
Это нарастание всяких «нет, правда» и «абы как» означало, что ей приходилось все сильнее сдерживать себя. Наконец она не выдержала и ринулась напролом:
— Я не замаскированная бомба замедленного действия! Тут что-то случилось, а вы даже внимания не обратили, а потом бы и вообще не вспомнили. Однако разобраться-то можно, пусть поздно, но нужно разобраться!
Ей показалось, что ее устами заговорил мертвый Юлиус. И вовсе не от смущения, а от радости она неожиданно разразилась веселым смехом, заражая других.
Ребекка проснулась в одежде; она лежала на спине, подтянув ноги, под тонким одеялом неопределенного цвета. Цвета переливались.
Она моментально вспомнила, где находится. Увидела рядом сидящего на корточках Даниеля. Крис стояла в дверях, все в том же платье с паутинным узором. Оперевшись о косяк, она стояла, выгнув тело дугой и застыв в этой позе, и по лицу было ясно видно, что именно это ей сейчас доставляло желанную радость.
Ребекка встала, приняла душ и села с ними завтракать.
Она понятия не имела, который сейчас час. Не помнила ни своего тела, ни того, что произошло раньше. Вкуса не чувствовала. Жевала, что в рот попало. Роняла слова, уже ничему не удивляясь.
— А Юлиус, он, собственно, был кто? — обратился к ней Даниель.
Речь шла о сексуальной ориентации — кем он был: голубым или транссексуалом?
Крис молчала. Помедлив, Ребекка наконец быстро проговорила:
— Думаю, что он с детства любил только самого себя, но не по-голубому. У него была Лейла. Но Лейла не была лесбиянкой, а Юлиус не был голубым.
В школе она видела учебные фильмы про цыплят, которых сажали в разноцветные картонки неправильной формы, отчего их реакции на весь окружающий мир изменялись. Выходит, что если человеку в пубертате не показывать ничего, кроме сучка, банана и пары апельсинов, то он западет на них? Впрочем, выяснить это можно было бы лишь путем многолетних опытов, провести которые захотел бы разве что какой-нибудь тоталитарный режим.
Заговорила Крис:
— Юлиус был вроде тех девочек-переростков, которые даже на лолитку уже не тянут. Все говорят, что она очень мила, но трахнуть ее никому и в голову не придет.
Что она хотела этим сказать? Да, Юлиус был большого роста, и все говорили, что он очень мил, что же с ним было не так?
— Нет, ну таким… подросткам в сексуальности тоже не откажешь. И всегда найдется достаточно мужчин, да и женщин, которые как раз любят таких неоформленных и чистеньких, как по отдельности, так и как класс. Это уже не педерастия, а скорее мечта вернуться в детство и наконец забыть его. Это самообман, но он не вреден и никому не опасен. Что в этом плохого?
— Что скажешь, Крис? — повернул голову Даниель.
— Главное, что сам человек при этом думает, когда остается один и закрывает глаза хотя бы на мгновение.
— Ну что мгновение? Необычные мгновения у всех бывают…
— Н-ну… Осознаем мы, конечно, не все, что видим. Но если осознаем, то гораздо больше, чем уместится в одно мгновение, в пять минут, в десять минут. А чего тебе еще надо? Я бы предпочла лучше ничего не осознавать, чем принимать слишком определенные решения.
Ребекка вспомнила, что Юлиус мертв. Ему не дали мгновения, чтобы осознать хоть что-то.
Даниель, молча переводивший взгляд с Крис на свой недопитый бокал и обратно, взглянул на Ребекку и собрал лоб в складки, явно нарочито:
— Разве те, кто преступил свой предел, не впадают в пошлейшие стереотипы противной стороны?
В его устах это прозвучало как никому не нужная истина с оттенком горечи: «Пусть лучше так, но я же всего лишь…»
По пути в город Ребекка все время спрашивала себя, на кого могли бы запасть Юлиус и Лейла. Она пыталась отказаться от привычки находить на все быстрые и никому не нужные ответы. Потому что за ними, в сущности, тоже не было ничего. Даниель тогда продолжал:
— Что такое бисексуальность? Да, мне хочется трахать стариков, детей, животных, щель в стене, культю оторванной руки, да хоть деревья. Но это невозможно, и что мне остается? Только ширнуться. Зато после этого мне не нужно дрочить или искать какую-нибудь вонючую дырку. Мне не нужны они все, я однолюб и с радостью делал бы все, все без конца, с одним-единственным партнером.
Но зачем? Зачем вообще все? Я, мол, уважаю за каждым право на все, прямо изо всех сил уважаю. Нет, я этого не хочу. И генные эти технологии, чудо расизма, от них я тоже ничего не жду. Ну, пускай они там делают человека с каждым разом все благороднее, пусть даже это все правда, но мода-то все равно меняется скорее, чем поколения, над которыми они проделывают эти свои опыты.
Он отпил, хлюпнув, глоток из своего бокала. Долго болтал во рту, пить-то там было почти нечего.
— Меня поражают эти гимназистики, готовые убивать людей, чтобы те не ели животных. К несчастью, гибнут от этого не люди, а здания — видимо, целиться их там учат хорошо.
Крис объяснила Ребекке:
— Когда ты заснула, кайф у него еще не прошел.
Вообще-то от мелатонина хорошо засыпаешь, но в этот раз мы заснуть не могли.
— Плоды древа жажды сладки, но, однажды вкусив их, ты чувствуешь, что сердце твое заходится. При этом тебе хорошо, и смерть весела, как подарок, которого давно ждешь. — Даниэль проговорил это с некоторым надрывом, желая, чтобы этот его заупокойный текст стал ударом, как шок. Если бы все это не было так нелепо, можно было бы и впрямь сдрейфить или привыкнуть. А в самом деле, что плохого в том, чтобы умереть без страха и боли? — Ты только ждешь. У тебя только одно желание. И оно бродит вокруг, как кошка.
— Но ты не любишь кошек. — То ли Крис напомнила Даниелю его прежние слова, то ли продолжила его мысль в предположительном смысле?
— Он был влажный, а на вкус — чистый щелок пополам с дихлофосом. Может, левый. Одним казалось, что не забирает, другим — что забирает даже слишком сильно, — не знаю, у меня проблем не было. Ну, один перебрал, конечно. Но мы только потом об этом узнали.
— Если принять «М» одновременно с чуточкой «S», — обернулась Крис к Ребекке, — получается бикфордов шнур. Сначала «М» и «S» только ползут, потому что тормозят друг друга, зато потом ка-ак бабахнут. Чем больше «S», тем медленнее эффект и тем сильнее, а вместе с «М» — это вообще улет[1].
«Улет» — это смерть? И можно так подобрать дозу, чтобы слегка хлебнуть смерти, а потом вернуться? Ребекке очень хотелось узнать, что и как можно разыграть по таким сценариям, а также кто, когда и в каких дозах здесь что принимал, будь то по собственному или чужому желанию или же просто по неведению, но она понимала, что для нее сейчас это невозможно.
Крис продолжала:
— Юлиус сидел на полу и лизал зеркальце, одно из тех, что были разложены вокруг. Потом вдруг сказал: «Тебя-то я и жду». То ли это Лейла смотрела на Юлиуса, то ли Юлиус на Лейлу. Позже он объяснил, что не понимал тогда, сколько его здесь, он один или их двое.
Это показалось Ребекке настолько телевизионно-рекламно-бессмысленным, что она не нашлась что ответить.
— Пока он сидел далеко от меня, в глазах у него была паника. Я подобралась к нему, и тогда его взгляд сделался спокойным и твердым. Мне уже никак было не удержать его. Он был уверен, что теперь его желание будет исполнено в любое время.
Этого Ребекка уже не вынесла и ушла.
Она вернулась домой. Слух у нее был слишком тонок, поэтому спать в этом доме, хоть одна, хоть с кем-то, она не любила. Стены тоже слишком тонки, а кое-где вообще из фанеры.
Они оба любили эту квартиру, оплачивать которую одному было не по силам. Полы были шаткие, но не скрипели. Стены на полвысоты покрывали панели из светлых, протравленных до легкой красноты деревяшек. Две комнаты одинаковой величины располагались рядом. Ребекка могла попасть в ванную прямо из своей комнаты, Юлиусу приходилось идти через прихожую. Была еще большая комната, начинавшаяся прямо от прихожей и заканчивавшаяся кухонной нишей.
Квартира приучила ее к осторожности. Они слышали друг друга через стены, но никогда так не переговаривались. При встрече они не делали вид, будто не знают, что происходило за стеной, но в разговорах касались лишь того, о чем один сам сообщал другому.
Знали, когда можно войти, но всегда стучались, ожидая ответа. Находили предлог, чтобы заранее предупредить другого о своих планах.
Оба избегали думать о том, что будет, если один из них найдет постоянную любовь. Стали бы они тогда интриговать друг против друга? Хотя ведь они и так интриговали, стараясь не допустить этого. Повторяли как пароль: «Только не води сюда, здесь невозможно жить».
Они вели себя, как будто были в гостях один у другого. Спали иногда с кем-нибудь, иногда друг с другом. Не играли в опасную дружбу «подруги» и доброй бабы-натуралки, женщины и ее доброго приятеля-голубого. Просто квартира была такая. Хотя голубым он не был. Интересно, как он спал с ней — как Юлиус или как Лейла? И как было узнать это — по тому, входил он в нее или нет?
Она вспомнила идиотский рисунок из какого-то комикса: дрожащий пенис, заполненный женской фигурой с пышными формами.
Было поздно, оба устали. Ребекка взглянула на него. Он дотронулся до ее колена, провел пальцами по бедру. Она отвела взгляд. Он спросил:
— Полежим?
Он мог выразиться и прямее, но было ясно, что тогда все сразу бы перестало быть простым и ясным.
— Где?
— Без разницы. Хочешь, пойдем ко мне, хочешь, к тебе.
Ни один не сдвинулся с места. Он снова погладил ее колено, как будто с тем что-то было не в порядке. Ребекка очнулась: — Давай ко мне.
Он возился долго. Она слышала его шаги, шум воды, включаемой и выключаемой несколько раз. Наконец раздалось полосканье горла. Она успела расслабиться — возможно, зря.
Она отодвинулась, освободив ему место, но не слишком много. Они разделись в тесноте, не вставая.
Она была не готова. Лучше бы уж он сначала зашел к себе, а она провалилась в подушку и лишь потом узнала бы его в запахе своих рук, ладоней и пальцев.
Постепенно оживая, они нашли руки друг друга, обнялись. Слегка повернулись и убедились, что стало удобно. Поцеловались, чувствуя ответное движение не только губ, но и рук.
Ребекка ощутила на вкус последний легкий привет розовой жвачки, которую он вынул изо рта перед ванной. Вот бы начали опять выпускать сладости со старыми добрыми синтетическими наполнителями, но не в тех жутких дозах, как раньше, от которых бывает рак, а так, как этот вкус сейчас, гомеопатически.
Их движения замедлились и постепенно сошли на нет. Хоть бы грохнуло где-нибудь, а то ведь ничего не получится. Свалило бы их с кровати или хотя бы перевернуло.
— И ты такой же. Такой же, как я. Юлиус закатил глаза и привычно отрезал:
— Извини.
— Ты не виноват. — Ребекка не расстроилась. Это была просто глупая фраза, и она надеялась, что именно так он ее и воспримет.
Наконец она решилась зайти в ванную. Тела там не было. Она не столько испугалась, сколько, честно говоря, даже слегка обрадовалась: хлопот меньше. Может быть, это Даниель и Крис забрали его, пока она спала. Но тот, кто забрал тело, мог ведь раньше и привезти его сюда. Это не полиция: они в любом случае были бы обязаны запечатать дверь.
Ей стало тоскливо. Даже трупа Юлиуса у нее не осталось. Однако в голове крутилось что-то иное, не печаль и не боль: казалось, будто ее лишили чего-то нужного.
Нет, странностей и лакун не было, ее самосознание еще могло с этим справиться. Или она просто не замечала их, как за легким недомоганием не замечаешь надвигающейся старости и неизлечимой болезни?
Ребекка подумала о полуразрушенном мозге Юлиуса, давно уже не способном предотвращать нервные припадки.
А может, у Юлиуса не приступы появлялись от наркотиков, а он принимал наркотики, чтобы смягчать их, отчего выходило только хуже?
Ребекке казалось, будто тысячи тупых пальцев легонько тычутся ей в затылок. Головная боль была несильной, но мысли ускользали.
Она лежала уже несколько часов и никак не могла заснуть, но свет включать не хотела. Полежать еще часок, а потом пойти в туалет, умыться и налить себе чаю, и все в темноте?
Она знала: чем бы она ни занялась теперь, все будет без толку и будет длиться без конца. Могла начать перечитывать свои книги или сортировать их по полкам. Могла, если бы занималась гимнастикой, делать какие-нибудь упражнения, чтобы привести тело в тонус. Могла позвонить кому-нибудь — ну да, тут-то конец будет, ведь тот может положить трубку. Но от этого все равно ничего бы не изменилось, разве что она просто упала бы от усталости.
Так, изнывая от скуки и бесполезных воспоминаний, Ребекка и лежала, пока не заснула на рассвете, когда уже занимался новый день.
Проснувшись, она не чувствовала себя усталой, но была совершенно без сил. Встала и поплелась в ванную, благо ни отпирать первую дверь, ни запирать вторую не было надобности.
Долго рассматривала себя нагишом в зеркале, вертя еще не гнущейся шеей так, что на ней образовывались глубокие складки. Задница у нее еще ничего: что ни надень, хоть обтягивающее, хоть свободное, хоть жесткое или мягкое, выглядела она… «фривольно» — вспомнила слово, которым раньше не пользовалась никогда.
На самом деле любая одежда ее только портила. Заставляла смотреть на лицо, а на нем у нее никогда не было ни достойного, ни даже определенного выражения.
В этом — ее проклятие. Ей очень пошли бы белая прозрачная блузка, застиранные джинсы и ковбойские сапоги цвета мальвы. И густые вьющиеся волосы. Если бы они были. И к ним еще черная куртка без рукавов и широкое пальто из натуральной кожи.
Когда же людям надоест приносить свою самую выразительную часть тела в жертву непогоде и мимике — постоянной, предательской, бесполезной? Начали бы тренировать лицо и щадить его, как когда-то щадили руки, — те, кто мог себе это позволить, конечно.
Что вообще означает чье-то лицо? Увидев его хоть мельком, она потом узнавала его всегда, но не сумела бы описать лица даже старых знакомых. Узнавание и оценка стали у нее настолько бессознательными, что она не понимала, например, как можно создать фоторобот.
Вот бы лица были, как автомобили, каждый год новая модель. И обводы с каждым разом все лучше, и пассажиров вмещается все больше, но машина всегда узнаваема. Все та же кожа определенной жесткости, тот же набор заранее запланированных морщин, и от носа до губ всегда ровно сантиметр.
Да что лицо! Лучше, чтобы все части тела были видоизменяемы. И одежда могла бы возбуждать всю поверхность тела, не важно, где там что.
За последние десятилетия люди стали заметно больше ростом, а никто этого как будто даже не замечает. Растут, как города, а улочки-то узкие, и городской транспорт уже не справляется. Лекала стали делать длиннее, но ведь почти любое платье, и обувь особенно, сохраняют красоту только при небольших размерах, для которых они, собственно, и моделировались, а для больших размеров их просто вытянули, и стало некрасиво.
При небольшом росте человек меньше ест, ему всего нужно меньше, и места везде хватает, и все кругом представляется ему таким большим и волнующим. Даже на самых дешевых местах в самолетах можно вытянуть ноги. К чему весь этот ажиотаж: больше, больше? Большое волнует, но в нем нет величия. Пусть у тебя самый большой автомобиль и самый большой дом, но сам-то ты от этого больше не станешь.
Юлиус был так высок и так худ, что стоило ему чуть приподнять плечи, как он уже казался вешалкой.
Если он держал спину прямо, то выглядел деревянным. Хотя рост у него был всего-то на несколько сантиметров выше среднего.
Интересно, как бы он выглядел, если бы голова у него была на несколько размеров меньше или больше? Или если бы у него выпали все волосы, а парика он не носил бы? У него кожа потела и чесалась — что, если бы он выбрил себе все волосы? Хотя нет, с облегчением вспомнила она, у него всегда был включен кондишен.
От внешности зависело так много, что видимость и сущность никак друг с другом не связывались. Изюминка пропадала.
Стараясь вспомнить как можно больше — на всякий случай, вдруг понадобится? — Ребекка не отдавала себя отчета, что большая часть даже этих уже осознанных воспоминаний для нее совершенно бесполезна или она забудет их раньше, чем они ей пригодятся. Нет, она не надеялась, что этот процесс осознания, требующий безумного количества времени, поможет ей укрепить ум и память. Но, увязая в мелочах, она не могла сопоставить их и выделить главное. Не умела сосредоточиться на том, что необходимо в данный момент.
Вся жизнь состоит из мелочей. Поэтому напрягаться незачем, но заниматься ими придется.
Она думала: ну, прочту я еще одну книгу, потом еще одну, потом газету, а потом помру. После смерти Юлиуса она не испытывала особой жажды жить. Необходимость сосредоточиваться то на том, то на этом казалась ей глупостью и нервировала.
Сама она отвлечься от всего этого не могла, значит, пусть ее развлечет внешний мир. Но бродить по улицам или переключаться с канала на канал было слишком утомительно. Пообщаться бы с кем-нибудь, но лучше письменно, так как ее внимания хватало лишь на несколько секунд. Внезапно ее охватила волна отвращения, потом другая, каждая длилась по несколько минут, но потом все прошло, как не было.
Она писала, что в голову взбредет, сплошную ложь, не надеясь ни на что, кроме снисхождения к своим словам и к себе, за ними прячущейся. Ее невидимый собеседник только дивился, получая ее путаные, неоконченные фразы, сцены неизвестной ему реальности, не верил, но не обижался и требовал продолжения.
«Откуда он взялся?»
«Он там был».
«Ты там с ним познакомилась?»
«Да нет, хотя в конечном итоге произошло именно это. Ну, примерно как ты со мной, ты ведь тоже сам ничего мне не рассказываешь и не говоришь специально для меня».
«А раньше ты его никогда не видела?»
«Нет, но все остальные его знали».
И немного погодя добавила:
«Ты мне не веришь?»
«Как ты все это разузнала?»
«Потому что они не хотели, чтобы я знала. Вот увидишь, они будут все отрицать. Хотя нет, они просто скажут, что никогда в глаза меня не видели».
«Ты боишься встречаться с ними?»
«Нет, мне все равно».
«А то, что он что-то знал, их не волновало?»
Ребекка не могла вспомнить об этом ничего. Может, это решающая проверка, не лжет ли она? Отвечать надо было сразу. Или писать очень длинный ответ, ведь собеседник не знает, с какой скоростью она умеет печатать.
Она взмокла от напряжения, пальцы заскользили по клавиатуре, пошли опечатки. Нет, это бессмысленно. Она написала только: «Не знаю».
«Знаешь».
И потом: «Ты сказала ему, говорила с ним об этом?»
И еще через две минуты: «А он потом сообщил им, что ты все знаешь?»
«Нет, это точно нет. Он никогда так не делал. Я уверена, что он никому ничего не сообщал».
И добавила: «Вот и все, этого более чем достаточно».
«Почему ты сказала только ему?»
«Не надо…»
Видимо, он действительно ожидал продолжения, потому что ответил лишь через несколько минут: «Похоже, ты упустила свой последний шанс».
«Если бы я сказала им, они бы стали потом все отрицать».
«А может, было бы лучше, если бы они знали, что ты все знаешь?»
«Было бы не лучше, если бы они знали, что я знаю, что они лгут».
«Судя по твоим же словам, они из тех, кого никогда не волнует, что творится вокруг. Для них реально лишь то, к чему их толкнет ситуация или ты. Люди боятся тех, кого обманули, это страх инстинктивный, вот почему устные договоренности так строго соблюдаются и в наши дни».
«В мелочах — возможно, особенно с незнакомыми людьми».
«Разве они не чувствовали бы себя еще увереннее, если бы знали, что ты знаешь, но будешь молчать?»
«Они все равно были бы не уверены, а я не хочу тратить силы, чтобы сказать и нажить врагов».
«Ты уже тратишь силы, чтобы молчать».
«Я жду подходящего момента».
Она напечатала «подожди», чтобы не передавать важную мысль по кусочкам:
«Если мне навязывают очередной разговор и рассказывают очередную ложь, что и мать-то у него в больнице, у нее рак, и уже второй раз, и что сам он стареет, и напрямую он никогда денег не просит, а только говорит: купи сухого молока, но потом выходит, что я трачу на него в десять раз больше тех денег, от которых, к примеру, любой нищий, дай я их ему, был бы счастлив до небес, то из такой ситуации мне выпутаться очень трудно. Я не хочу оплачивать эту его ложь в поте лица. Я не испытываю жалости, когда он лжет ради денег. Я не умею возмущаться, когда он обманывает. Но меня это бесит. Он ставит меня перед выбором: либо верить всему, что он говорит, либо сразу от всего отказаться».
«Так ведь на этом строится любая реклама».
«Меня бесит, что он со мной всегда только лжет и даже, наверное, кроит свою ложь специально по моей мерке. Ждет, чтобы я взорвалась, и тогда он отследит мою реакцию и подкорректирует свою ложь, чтобы еще больше связать меня».
«И что же?»
«Я подумала, что надо просто дать ему денег, как нищему. Не дав ему, зато отдав нищим, я бы вознаградила их за скромность и нежелание лгать. Но мне стало противно. Тем более что денег у меня с собой не было, я сказала ему об этом и быстро ушла, чтобы он не мог последовать за мной. А он ждал меня, я это еще издали увидела, ждал, чтобы надавить мне на совесть. Нет, теперь будет так: я подаю только нищим, кого встречу на улице».
«Ну так ты же ушла».
«Я потом подумала, что надо было отдать нищим вообще всю мелочь, которая у меня с собой, а потом прийти и сказать: денег нет, извини».
«А если бы он не поверил и стал настаивать?»
«Я умею быть жабой, тем более что когда мне лгут — это одно, а когда мне не верят — это совсем другое».
«Почему?»
Этого она не знала. Ей самой это объяснение казалось недостаточным, хотя она и поступала на деле именно так. Нет, так она и впрямь не выбралась бы из ловушки, разве что ей бы помог случай или его оплошность. Но потом она бы все равно задала себе вопрос: с чего бы он — или ситуация — так легко вдруг отпустил ее, и тут же попала бы в следующую, еще более глубокую ловушку.
«Бог любит троицу. Ты думаешь, что теперь с тебя хватит. Все, конец, ты больше не можешь, да, но после первого и второго обязательно будет и третье».
«А то, что уже было, пойдет в зачет или надо считать заново?»
«Зависит от того, на что ты замахиваешься — на все сразу или только на то, что под рукой. Если утроить длину квадрата, сколько квадратов получится, три или девять? Все зависит от того, с какой стороны смотреть, сверху или сбоку. Как ни считай, во всем есть смысл, но нет толка. Но в любом случае считать придется дальше, чем до двух».
«Как выжить в оставшуюся треть, или в три четверти, или сколько хочешь, когда больше нет сил?»
«А никак. Ты сойдешь с дистанции, и у тебя будет всего лишь психический коллапс. И забудь думать, что у тебя ничего не выйдет».
Ребекка никак не могла вернуться к себе самой, какой была прошлым вечером. Но, возможно, теперешняя бледность позволит ей достичь нужного — за счет, так сказать, захода от противного. Она сильно надеялась на дорогущий тональный крем, дающий нежный бледный колор. Больше краситься не стала и натянула прямо на голое тело черную блузку, узкий вырез которой заканчивался далеко внизу под грудями.
При всех телодвижениях, даже неловких, ее грудь, пусть маленькая, но хорошо оформленная, под блузкой никак не просматривалась. Она разглядывала себя с бесстыдством амазонки, подтягивающей на груди ремешки боевой куртки. Легкая, свободная ткань подчеркивала выступающие ключицы и прочие кости, торчащие отовсюду, вплоть до таза, на которых шерстяная юбка растягивалась, как на рогах.
Увидела, что у нее красные глаза. Пошла в ванную, намочила горячей водой салфетку, приложила на минуту к одному веку, к другому. Красные — ну, красные, но дальше им краснеть никак нельзя!
Дверь открыла Крис. На ней были выцветшие леггинсы «Деним» и мохристый черный свитер. Очередной вариант «одежды для досуга»: футболка или майка плюс джинсы или треники, уже много лет как освободившие женщин от необходимости следовать высокой моде. Тем больше денег они могли теперь тратить на интерьер. Вместо того чтобы покупать кучи дешевых бижу — цепочки, браслеты, серебряные сережки, — люди вкладывали деньги в квартиру. Вместо шмоток они закупали кровати, карнизы, а еще пуще заказывали их в мастерских за страшные деньги. Бижу отошли на задний план.
А начиналось все со старинных реклам, расписанных огромными буквами, и вошедших тогда в моду вентиляторов: это означало реноме, ради которого многие готовы были разориться. Моя личная жизнь — не тронь ее! — что может быть более личным или близким, как любимый бар на углу или отдельное купе в поезде дальнего следования, о чем, кроме тебя, не знает больше никто, а другие могут только мечтать?
Поздние отростки модерна, оказавшиеся гораздо более живучими, чем сам модернизм, открыли наконец путь самотворчеству: как отделать свои стены, пол и потолок. Квартиры обрастали деталями, как детский конструктор. Масса фирм боролась за монополию на производство деталей. Предлагались самые разнообразные панели всех возможных расцветок, особые («только у нас!») подвески и навески. А между ними — все те же огромные буквы и новые пепельницы для отдельных купе.
— Заходи, — сказала Крис и, взглянув на принесенную Ребеккой бутылку, вздохнула: — Вот только бокалы у нас все побились.
В квартире было прибрано так, как будто вечеринка должна была начаться сегодня. Они уселись на толстый махровый ковер на полу, и Ребекка разлила вино в нашедшуюся посуду.
Встреча не была неприятной.
Ребекка спросила о Юлиусе:
— Ты любила его?
— Ну, почти да, я думаю. Но от дружбы все равно было никуда не деться.
— Так у него было со всеми.
Она поняла, что вышло неуклюже, и попыталась объяснить:
— Это он так понимал дружбу.
— Ну. А ты?
Крис сказала это так легко, что Ребекка поняла: ей предлагают быть с ними заодно и ждут от нее того же. То есть больше говорить не о чем. Поэтому она не могла ответить: «Я тоже».
Тем более что это была бы неправда.
Ответила с усмешкой, но без злости:
— Ой, да ладно.
— О чем ни спросишь, все не по тебе.
Ребекка понимала, что Крис нашла бы, что сказать, чтобы задеть ее. И что тогда? Обмен репликами уже показывал, доказывал, что это всего лишь перемирие. Нужны были веские слова. И они нашлись.
— Во всяком случае, ты не возражаешь.
— Я и не возражаю, — ответила Ребекка в тон ей.
— А теперь вот тебе доказательство. — Крис медленно подняла сжатую в кулак руку, поднеся ее к лицу Ребекки, а потом расправив пальцы: — Видишь рану? — И подмигнула, помахав указательным пальцем у нее перед носом.
Ребекка наконец поняла, что все сказанное ей на руку.
— Нет, на самом деле с Юлиусом все было не совсем так. Я, конечно, даже не пыталась разговаривать с ним об этом. Хотя однажды попробовала, но он не понял, чего я хочу, а я просто не нашла нужных слов. Нет, тогда он действительно меня просто не понял.
— Дурак, что ли?
— Он просто не любил думать. Становился жутко деловым, когда ему вдруг что-то светило, то есть появлялась работа, где он надеялся прославиться. Но все эти работы были мелкими, побочными, там славы не заработаешь. Ну, не вышло, и тогда он делал все, чтобы понравиться, и подлизывался к дуракам. И терпел брань, которой они вознаграждали его за работу. Он был слишком терпелив… или скорее слишком ленив, чтобы реагировать на брань и даже на самые страшные угрозы.
Ребекка рассуждала о Юлиусе, как учитель перед школьниками, подозревая, что Крис самой это давно все известно. Интересно, откуда? Да и самой Ребекке известно ли о нем вообще хоть что-нибудь?
Крис задала Ребекке вопрос как бы от лица Юлиуса:
— Если ты меня не любишь, то бросить меня — что, гордости не хватает?
— Так ведь он сам только и ждал, чтобы его бросили. Нет, даже не так. Он жил, как собака, которой дают корм, и она довольна, а не дают, так что поделаешь.
— Собаки хотя бы слушаются своих хозяев.
— Ну, он всегда вносил свою долю за квартиру, без всяких отговорок и никогда не проверяя моих счетов.
— А ты хотела от него чего-то еще? — Вопрос прозвучал так, что было неясно, имелся ли в виду бюджет или секс.
— Мы с ним и спорили-то только о музыке, стоящая она или не стоящая, когда слушали. Я знаю, что споры о музыке были для меня поводом уйти от разговоров на другие темы. Хотя я была не против разговоров. Музыка была для меня вроде оружия: если не с кем воевать, то таскать его с собой — ненужная тяжесть.
Я не то чтобы скептик. Но призывать его к ответу было безнадежно, все равно что писать письмо, которое он прочтет неизвестно когда и неизвестно в каком настроении, которого я не могу ни угадать, ни предвидеть. Хотя иногда бывало, что он отвечал.
— А я написала ему на голубом, таком тоненьком листке бумаги, и нарисовала по краям срубленные тополя. Но только свое имя.
Писать о вещах, которых не чувствуешь, трудно. Можно подбирать слова, всякие там обороты и грамотно составлять их. Но это выйдет слишком продуманно. А когда говоришь, то за словами следуют ощущения, принося такое же облегчение, как слезы. Непосредственное присутствие другого человека мешает продумывать. Речь утрачивает структуру, и тогда начинается то нелогичное и путаное общение двух существ, которое и рождает доверие.
Я смущаюсь, чтобы дать другому время найти нужные слова. Нахожу нелепые отговорки, чтобы ему было что опровергать. Прикидываюсь дурочкой, чтобы остановить поток его клятв и заверений. Громко дышу, избегая его взгляда, который при этом немедленно мутнеет и добреет. Его голос тогда звучит мягче, улыбка перестает быть ироничной, он доволен. А я сижу перед ним, вся такая неловкая и беспомощная.
Крис продолжала этот перечень, воодушевляясь все больше, однако именно это заставило Ребекку по-настоящему ощутить, как далеки они с ней друг от друга. Она разыгрывала спектакли для стареющих мужчин. Сколь бы бесцеремонно она ни распоряжалась собой и миром, те были благодарны ей даже за то, что она перешагивала через их трупы.
— Потом многим казалось, что настала пора любви, осталось только письмо написать.
Крис достала из кармана смятый листок бумаги и прочла:
— «Главное — тронуть душу. А как тронешь письмом, если тебя нет рядом и нет результата? Видишь, я вовсе не пытаюсь поймать тебя ни в том, ни в другом смысле. Я вообще еще не знаю тебя, значит, узнаю позже. Мы с тобой обязательно встретимся. Все будет хорошо. А потом ты скажешь: „Давай уйдем отсюда“, и мы уйдем». Правда, к тому времени мы с ним уже встречались.
Постоянная переписка отнимает много времени и не содержит ничего путного; что-то важное узнаешь из нее, только когда она вдруг прерывается или письмо попадает не к тому адресату. Я пишу ему: позвони. Он отвечает: я, мол, звонил целый день и не дозвонился. Я: ты что думаешь, я буду сидеть и ждать твоего звонка? Если ты не трус, так просто взял бы и пришел бы.
Он и пришел. И сразу бросил на меня такой острый, быстрый взгляд, что говорить уже ничего не надо было.
Он еще не притронулся ко мне, но у меня было такое чувство, что он ко мне ластится.
Потом мы лежали рядом. Я улеглась, он последовал за мной. Мы не разговаривали, и я догадалась, что он ищет, как бы поприличнее ко мне подобраться. Он был по-настоящему смущен, а я внутренне ликовала. Как-то он теперь выберется из этой затруднительной ситуации?
На самом деле мне было приятно, что он так сдержан. Вдруг он встал, извинился и начал прощаться. Я пошла за ним, чувствуя себя полной дурой. Поймала себя на том, что повторяю: «Только не делай вид, что между нами ничего не было». Вот так я сама себя выдала.
— Да, он действительно повел себя очень по-умному — если все было так, как ты говоришь. — Ребекка нарочно сместила акценты, оценивая сказанное, не для того, чтобы прервать Крис, а чтобы сбить ее с курса.
— Я догнала его и сказала: «Если ты сейчас уйдешь, так мне ведь не трудно увязаться за тобой куда угодно. Вряд ли это понравится тебе больше, чем если мы просто останемся здесь».
Мой неожиданный протест, казалось, ошеломил его. Или он прикидывался? Думал, что теперь надо сделать вид, будто ему стыдно. И притом изобразить скромность и достоинство. И он-таки сумел выразить и то и другое, я даже поразилась его мастерству.
— Он был просто влюблен.
— На это мне было давно наплевать. Мы еще немного поговорили, но даже мне скоро стало ясно, что у нас ничего не выйдет. Конечно, если мне без него станет скучно, то я не допустила бы слишком долгой разлуки. Но ехать к нему?! Он шел по огромной квадратной площади, и я думала, что он давно вышел за пределы слышимости, но тут он смачно сплюнул, и я услышала это.
Ребекка находилась слишком близко к Крис, чтобы как следует разглядеть выражение ее лица, однако все равно была уже уверена, что говорит Крис не о Юлиусе. Крис сладко потянулась, слегка задев Ребекку, и та почувствовала теплое прикосновение к своему бедру.
Они полулежали, глядя на выключенный телевизор, все еще стоявший в комнате.
— Я люблю только солнечный свет или свечи, если только не смотрю телевизор. Не выношу электрического света: я не могу при нем читать, и уж тем более разговаривать и целоваться.
Крис снова уселась прямо, достала из другого кармана фотографию и протянула ее Ребекке:
— Моя первая любовь.
Сказано с усмешкой? Ребекка не видела лица Крис, да и на фотографии в наступающих сумерках трудно было разглядеть что-то. Непонятно было, где и когда она сделана. Кто этот человек? И сколько ему сейчас лет? А Крис не скажет, только посмеется над ней.
— Фотография может быть подделкой…
— …А человек — не может? Помолчав, Крис сказала:
— Я была невзрачной серой мышкой.
Вряд ли это относилось ко времени, когда был сделан снимок. О чем бы она ни говорила, люди и вещи существовали для нее каждый в своем отдельном времени.
— У меня не было ничего, кроме собственного внутреннего мира, и когда кто-то пытался отнять его у меня или проникнуть туда против моей воли, я страшно возмущалась: Сначала я научилась, когда хотела, глядеть на мир отсутствующим взглядом. Потом постаралась овладеть мимикой. Я горевала, но изображала радость и веселье. Испытывала боль, но выглядела довольной. Труднее всего мне далось умение подавлять вспышки неожиданной радости.
Что я там думаю, это было мое личное дело, и выказывала я только то, что, по моему мнению, могло принести мне пользу.
Помолчав, она продолжила:
— Я добилась того, чтобы мое по-настоящему сильное чувство выглядело притворным. Тогда другой начинал сомневаться в нем, вместо того чтобы обороняться. Моя выдержка дала свои плоды: он очень быстро оказывался у меня в постели. Мне ничто не доставляло большей радости и удовольствия, чем вот такая, на вид ленивая, любовная игра.
— А ты не боялась разочарований?
— Наоборот, мы оба только того и желали, чтобы все это кончилось как можно хуже.
— Желали? Каждый — другому? Крис вдруг преобразилась:
— «Ты меня бросила!» — «Ты сам хотел от меня избавиться!» — «Как ты могла?!»
Успокоившись, выдала еще одну сентенцию:
— Для меня эти кризисы были всего лишь хорошей школой.
— Потому что тебе давно было на все наплевать. Упрек был, конечно, дешевый, но Ребекка сейчас думала больше о бутылке вина, о телевизоре и предстоящем совместном приятном вечере, чем о том, что услышала.
— К великим потрясениям стоит привыкнуть.
— Если речь о любви, то как раз наоборот, — парировала Ребекка.
— Тогда тебе бы понравился Буркхард. Увидев, как искренне он волнуется по любому поводу, я решила познакомиться с ним. А потом и с его сыном, Даниелем.
В разговоре Буркхард то и дело перескакивал с одного на другое, однако умным я бы его не назвала. Даже не двигаясь, он тратил колоссальное количество энергии. Надолго он не отвлекался, но и не давал себе труда сосредоточиться на мне.
Мне стало скучно, но я уже настолько устала, что мне лень было уходить. Я обхватила ладонями его голову, уставилась прямо в глаза, он взял в ладони мои руки, и я стала рассказывать ему про один действительно удивительный день. В мельчайших подробностях, как в сказках про жизнь в раю. Каждая новая подробность скорее мешает другой, чем складывается в общую картину. В таких случаях только талант рассказчика или какая-нибудь сочная деталь не дает сказке развалиться.
Я спросила: «А безумный карнавал любви, когда секса столько, что он переходит в катарсис, неужели он тебе не доступен?» И еще подняла ставки: «Этому же ничто и никогда помешать не может». И потом: «Наверное, ты устал, у тебя тяжесть в желудке, колени ноют и сердце заходится». — Я была уверена, что так оно и есть, и оказалась права.
Он сказал, что хочет, чтобы я устроила вечеринку, а он все оплатит. Пусть, мол, твои гости будут счастливы хотя бы на время. Как ее провести, пусть меня не беспокоит. Только не надо ничего обещать заранее, хотя я и так не хотела никому ничего обещать, просто чтобы никто не нашел повода отказаться и не прийти.
А кто знает, чем можно осчастливить других? И кто согласится, чтобы его чем-то осчастливили?
— Не одним счастьем жив человек.
— Хозяин вечеринки — это всегда тренер, обучающий других игре, в которой у каждого свой выигрыш или проигрыш. Ведь быть судьей в игре хочется каждому. Счастье у каждого свое, и оно не разбирается на блоки, которые можно раздать на всех или подарить кому-то.
— А если перевести на деньги?
— А тут все просто: люди радуются, когда им удается за небольшие деньги заполучить что-то очень хорошее. И точно так же радуются, когда им удается приобрести что-то очень хорошее за очень большие деньги. Они радуются как тому, что сумели на это заработать, так и тому, что им повезло получить что-то задаром.
Вот я и раздала половину денег тем, кого пригласила, во всяком случае, тем друзьям и знакомым, от которых хотела, чтобы они подготовились как следует.
То есть как бы выдала им аванс. Я знаю, что халява развращает. Но им пришлось взять на себя определенные обязательства, и тут уж точно проявилась бы сущность каждого. Все, кто придет на вечеринку, фактически подвергались проверке на вшивость.
Возможно, что все шмотки и прочие причиндалы, закупленные специально для вечеринки, надо было бы в какой-то момент собрать и сжечь. Не в качестве ритуала, это дурость. А как знак, что им и оставшись нагишом, следует не бежать с вечеринки, а наоборот, еще больше раскрепоститься и показать себя, и уж ни в коем случае не отрубаться.
«И венцом настоящей вечеринки может быть только смерть», — подумала Ребекка, но вслух этого не сказала. Сколь бы ни была проста, ясна и верна эта мысль, в отношении той вечеринки она прозвучала бы как плохая острота. Или, может быть, смысл той вечеринки заключался именно в этом?
— А куда делся Буркхард?
— Он не хотел нам мешать. Даже по хозяйству помогать не хотел, чтобы, как он выразился, не портить никому настроение своей кислой рожей. Тем более что готовить он все равно не умеет. Нет, он не прятался, просто ему не хотелось никому мозолить глаза. Вот его и не было видно.
Вроде бы Крис ответила, но вопрос остался открытым. О чем ни спроси, все выходит лажа. Хотя, похоже, Крис и в самом деле не знает, что там произошло дальше. И концов не найти, и Буркхард, возможно, тоже уже мертв.
— Видела мох, которым оброс дом? Раньше мне это нравилось, и я представляла себе, как он впитывает воду, когда дождь, и не пропускает ее в дом. Теперь он меня угнетает, я его боюсь. Хотя выглядит красиво, особенно вблизи. Такие тоненькие стебельки, на которых иногда появляются крохотные цветочки, как маленькие желтенькие свечечки.
Крис положила руку Ребекке на затылок и начала гладить вверх и вниз, лаская отвердевшую от недосыпа кожу. Ребекка поцеловала ее в сомкнутые губы, хотя и мягкие, но неподатливые. Взгляд Крис был открытым, но скорее усталым, чем отсутствующим. Он мог означать что угодно — желание, страх, ожидание или скуку. Она вполне могла бы сказать сейчас: «У меня во рту пересохло. Поэтому я пью много жидкости и часто хожу в туалет. Считай, каждые три минуты». И Ребекка сразу же представила себе, как касаются друг друга их пересохшие языки.
Они взглянули друг на друга — это длилось целых пять секунд. Ребекка почувствовала, что ее лицо вспотело и покраснело, хотя еще ничего не произошло. Она погладила Крис по плечу и кончиками пальцев дотронулась до подмышки. Крис наклонилась к Ребекке, та откинулась на спину, и вскоре обе лежали — Крис сверху, Ребекка снизу, — но ничего не делали. Ощущали друг друга. Ребекка расстегнула молнию у Крис на брюках и погладила ее по всему животу вверх-вниз. Крис стянула с Ребекки юбку, сняла остальное и медленно, осторожно залезла на нее, сидя верхом.
Теплые бедра коснулись лица Ребекки, и у нее закружилась голова. Что задумала Крис — дать ей полизать свои пальцы ног? Или развернуться и лечь на нее валетом? Или она сейчас встанет и уйдет? Впрочем, Ребекке было хорошо. Это не было близостью, однако она-то уж точно останется тут до конца.
Крис встала и пошла в туалет. Ребекка услышала звук струи, и он понравился ей. Как будто птичка поех — сама по себе, без занудливой мелодии. Но это был человек, и это была подсказка… Хотя она не ждала ничего, а только следила, как напрягается ее тело, быстрее даже, чем в присутствии другого человеческого тела, и без ненужных недоразумений.
Крис вернулась и, недолго полежав рядом, перевернулась так, чтобы ее голова пришлась между ног Ребекки. Та сделала то же.
Они не торопились, поэтому на нежность это не походило. Любое движение было редким событием. Каждый новый уровень, которого они достигали, длился минутами, прежде чем наступало новое движение.
Ребекка начала дышать сильнее, пытаясь сдерживаться — бессознательно, просто оттягивая момент экстаза, — и тут Крис кончила, чуть-чуть быстрее и сильнее, чем она.
Ребекка не знала, что испытывала Крис. Они лежали рядом, и пот одной было не отличить от пота другой.
Они поднялись, сходили по очереди в душ и в туалет. Смотрели телевизор, пока не заметили, что уже рассвело. Тогда они легли в постель в другой комнате и посмотрели друг на друга. Их взгляд ничего не выражал и не искал. Было чисто, светло и ясно, дыхание было ровным. Ребекка уснула.
Проснулась оттого, что зазвонил телефон. Крис не было, и Ребекка подняла трубку. Это был Даниель.
— Отец умер.
В его голосе слышался вызов. Она не знала, как реагировать. Была ли эта смерть связана с двумя первыми или не связана ни с чем?
— Он был трезв, попал под машину. Было вскрытие. Как будто она вела статистику смертей в семье Даниеля, и тот был рад пополнить ее.
— А водитель?
— Скрылся. Была ночь, свидетелей нет. Отец переходил дорогу на светофоре, хотя, конечно, никто не знает, горел ли в тот момент красный или зеленый.
Это могло быть подстроено. Даниель был агрессивен, потому что снова думал, будто Ребекка хочет приписать ему и эту, и те две смерти:
— Да, несчастные случаи бывают, как и аварии, но это не значит, что в них нужно винить себя или других — это тупик, причем безнадежный.
Ребекка ответила спокойно:
— В своей смерти каждый в какой-то мере виноват сам, за исключением разве что авиакатастроф, которые в нашем якобы стабильном обществе легко укладываются в рамки среднестатистической нормы риска.
— Знаю, знаю. Если тебе уже есть двадцать пять, тридцать или сорок, то помирай, сколько хочешь, хоть в массовой катастрофе, хоть от болезни. Но…
— Ты сейчас где?
— Дома, у отца.
Ребекка встала и заметила на полу у кровати пепельницу, полную окурков и вонявшую. Неужели Крис всю ночь не спала и наблюдала за ней? До сих пор Ребекка не видела, чтобы Крис курила.
— Ты с ним разговаривал еще после вечеринки?
— Нет.
— Я еду.
Широкая, почти круглосуточно забитая пробками магистраль вела далеко за пределы старого центра. Быстрее всего город развивался именно в этом направлении. Почти прямо над улицей тянулась двухэтажная эстакада для электричек, опиравшаяся на чудовищные бетонные столбы и все еще достраивавшаяся — обычный долгострой, планы которого перекраивались каждый год. Сейчас, когда город практически перестал расти, эта линия уперлась бы в еще не застроенные холмы.
Время было уже обеденное, но Ребекка решила, что до Даниеля все-таки проще доехать по этой улице, чтобы не мучиться с пересадками и объездами. Она наняла такси-мотоциклет — и габариты небольшие, из пробок вывернется, и шуму много, так что его трудно оттеснить или не заметить. Ехать было тяжело, а в респираторе еще и душно. Езда на мотоцикле среди выхлопных газов и струй горячего воздуха от кондиционеров даже в прохладный день вызывала ощущение страшной жары.
Ребекка даже не пыталась сдерживать дыхание. Попробовала, но скоро бросила не дышать в соседстве с редкими, но особенно вонючими трубами дизелей. Запах казался ей даже приятным. Это был ее город, и она жила его шумом и газами. Когда мотоцикл вдруг кренился или резко рвал с места, она оставалась спокойной. Долго ли еще ехать, сколько еще переулков придется намотать на колеса, обходя очередную пробку, — не важно, тариф все равно один. И своих онемевших, судорожно вцепившихся во что-то рук она тоже не чувствовала.
Только глаза болели, и поделать с этим ничего нельзя было. То ли солнечные очки, хоть и «облегающие», все же пропускали под края ядовитый ветер, то ли глаза горели от стекавшего со лба соленого пота. Но, моргая, она лишь острее вглядывалась в мелькающие дома и машины, стараясь не упустить ни одной детали. В них отражалась мода, за которой она не успевала следить и которой не собиралась следовать. Объединяла всю эту катавасию одна определенная нота, заразившая как жителей и гостей старого центра, так, видимо, и творцов этой новой моды, когда одежда не красит, а обесцвечивает человека: матовый палевый фон, где местами проступают яркие пятна, нелепые пестрые кляксы то на галстуке, то там, где извне не видно, — на трусах. Машины и дома все состояли из противоречии: мягкие, уютные формы, выкрашенные в антрацитово-черный цвет, но с забавными розовыми полосками. Различия между новенькой парадной и дряхлой дачной машиной стерлись, как и различия между строгой конторской и пошлой кино-бордельной архитектурой.
Ребекку трогало то, что каждый дом и каждую машину ведь кто-то придумал, и его придумка будет жить еще много лет. Она вспомнила, как несколько лет назад, когда ей хронически не хватало денег, она покупала себе платья с расчетом носить их по крайней мере полгода, а если получится, то и целый год, и ну ее к черту, всю эту высокую моду. Зато их ей было не жалко и, если платье попалось не то, кто мог заставить ее носить его?
Категорическое «да» означало то же, что и категорическое «нет». Если человека одолевали сомнения в искренности Юлиуса, тот относился к этому с исключительной деликатностью. Легко было поверить, что именно к тебе Юлиус относится совершенно по-особому — да так оно, в сущности, и было. Ему хотелось, чтобы каждый, кто общается с ним, был счастлив. Зачем еще дарить другим свое восхищение, кроме как для того, чтобы они любили дарителя? Их любовь придавала ему столько силы, что он охотно делился ею со всеми. Конечно, у него бывали сомнения, все ли его действительно так любят, однако они быстро рассеивались, не оставляя после себя хоть сколько-нибудь значимых воспоминаний, что же такого необычного он сказал или сделал тому или иному человеку.
Юлиус мало ел и спал, терял вес и тратил свою силу на возвращение молодости и легкости бытия, хотя при дневном свете от молодости не оставалось и следа.
Может, он затаил обиду на Ребекку за то, что она, зная это и живя с ним, ни разу не упрекнула его и ни разу не выразила ни соболезнования, ни сочувствия? Пожалуй, он и вправду мог убить себя, чтобы в его смерти обвинили Ребекку и повесили ей на шею всех собак.
Иногда Юлиуса охватывала жажда деятельности, но в целом он, конечно, упустил все возможности занять приличное место и обеспечить свое благосостояние. В одном сне, который повторялся неоднократно, и он каждый раз рассказывал его ей, он видел башню, в которой жили разные люди из его прошлого, да и он сам жил в ней когда-то, как ему казалось. В ней было четыре или пять этажей, и там размещались двенадцать-четырнадцать квартир: вверху однокомнатные, внизу двух и трех. И вот он стоит перед этим зданием, которое уже не башня, а скорее серый многоквартирный дом неопределенного возраста, и через его двери входят и выходят люди из прошлого. Там, во сне, другого прошлого у него не было, и он мог лишь наблюдать за ними с расстояния в несколько метров. Прочие жильцы были ему не знакомы или просто не появлялись. Находилось здание в одном из более или менее центральных и фешенебельных районов города. Там, где жить считалось престижным. Так что он оказался в нужном месте, но не в нужное время. Такова была его судьба, хотя несчастливой ее назвать тоже нельзя было.
Он довольствовался тем, что время от времени мог позволить себе дорогостоящие желания. Что в поездках ему было все равно, сколько с него возьмут за ночлег — две марки или пятьсот. Если тебе с почтением оказывают гостеприимство и прочие услуги, то какая разница, сколько это стоит? Он не терпел лишь навязчивости, когда дорогой повар выносит посмотреть на выбор все свои гарниры. Поэтому чаще предпочитал сервис за две марки. Дело было не в экономии: за хорошее отношение заплатить не жалко. И не важно, что потом не хватит денег на другие развлечения.
Хотя он так и не научился тратить не задумываясь. Мог расстроиться от того, что получил что-то, не заплатив или недоплатив. Он не умел мерить жизнь деньгами, и торговаться тоже не умел. И очень редко встречал людей, знавших, как и он, что есть ценности превыше денег. Впрочем, сам-то он что мог предложить им? Разве что свои услуги в качестве альфонса.
Юлиус любил хватать через край, и в момент вдохновенного вранья сам в него верил. Но не умел притворяться по-настоящему удивленным или восхищенным. Поэтому нередко казался другим зазнайкой, пустышкой, у которого за фасадом ничего нет, который даже самые смертельные обиды воспринимает, как божью росу, и постоять за себя не способен, поэтому его первоначальный шарм рассеивался через пару часов.
Он не мешал другим изучать себя сколько хочешь. Другие обычно воспринимали это как комплекс превосходства, однако на самом деле это был один из его талантов: дать другим проявить себя во всей красе.
— О чем с тобой ни заговори, человек всегда чувствует себя загнанным в угол.
— Человек — нет, только ты.
Это он был «человек», и это он был «всегда», по крайней мере для Ребекки, как бы ни было велико разделявшее их на тот момент пространство-время. И она никогда не относилась к нему как к альфонсу, хотя поводов для этого, казалось, было более чем достаточно. Скорее как к гуру или к терапевту, учащему приспосабливаться к обстоятельствам: «Отбрось все, что считаешь своей силой! Стань слабой!» Из него мог бы получиться неплохой наркопродавец в каком-нибудь вшивом районе. Однако торговля в мелкую розницу, пусть даже кайфом, не просто не привлекала его: он никогда не разменивался на мелочи.
Свободное время Юлиус проводил в супермаркетах. Там были незаметные кафе и бары, и во многих его давно знали. Хотя никогда не обслуживали в кредит. То есть он мог, конечно, задолжать, дать расписку и расплатиться завтра или послезавтра, долг все равно был грошовый. Тем более что и долгом-то это не было, ему просто наливали, что осталось со вчерашнего дня, так что потеря для заведения была невелика — по правилам это все равно полагалось выливать на помойку или продавать за четверть цены, а удержать постоянного клиента всегда важнее.
Юлиус отлично знал все эти барно-магазинные трюки, но не избегал их. Просто игнорировал, хотя и пользовался любой лазейкой, чтобы лишний раз надуть тех, кто так нагло надувает других. Всегда охотно брал карточки скидок и всегда записывался в «постоянные клиенты», заранее зная, что за это он мог получить задаром разве что самое грошовое дерьмо.
Она проехала мимо нескольких торговых центров, от крыши до земли увешанных слоганами, менявшимися каждую неделю: неправдоподобно дешевые распродажи, скидки тем, кто накупит вещей на определенную сумму, лотереи по номеру чека или «подарок дня» — приз за покупку, сделанную в определенные часы. Так они действовали из месяца в месяц, отвлекаясь лишь на сезонные распродажи и лотереи. Эти приемы чередовались с такой очевидной периодичностью, что давно уже всем приелись. Или, перенятые всеми, от этого утратили силу? Впрочем, еженедельная смена слоганов могла служить привлечению каждый раз иной клиентуры — любителей лотерей, оптовиков, халявщиков или тех, кому не надо на работу с утра: для них это была своя тусовка, а для магазина — способ разнообразить ассортимент с минимумом затрат.
Для Юлиуса в магазинах главным были не товары, а кондиционеры. Цивилизованность он понимал как полную независимость от погоды на улице, как вечную ровную прохладу, когда, кажется, еще чуть-чуть — и начнешь зябнуть. Он любил, когда всякие дизайнерские изыски убирались, вновь уступая место этой технике, а стеклянный купол «временно» завешивали широкими полосами черной ткани (потом они так и висели годами), то ли потому, что дизайнеру портили картину солнечные лучи в торговом зале, то ли чтобы блики не слепили водителей на улице.
Юлиус ходил туда, когда ему бывало плохо после очередной загульной ночи, а лежать не хотелось. Движение в пространстве разных музыкальных заставок, постепенно сменяющихся и накладывающихся друг на друга, было для него своеобразным средством от ломки, заменявшим еду и все прочее.
Напряг, снимаемый еще большим напрягом. Как у этих, которые бегают «здоровья ради», только у них сил побольше, недаром уже сейчас, днем, вон их сколько бежит по дорожкам парка, поток за потоком, прямо серпантин какой-то. Где попросторнее — обязательно «парад-алле»: раэ-два, раз-два, под музыку и по команде массовика.
Напряг вместо отдыха — что это, деградация или, наоборот, средство от деградации для прогрессивно мыслящих буржуа? За исключением мелких деталей, большинство одето в достаточно престижное спортивное барахло, не так, как раньше, когда каждый напяливал на себя что попало. Как будто они и вправду считают своим долгом напрягаться не только на работе, но и на отдыхе.
И пусть даже они бегают только оттого, что не могут позволить себе абонемент в фитнес-центре, все равно, какой смысл показывать всем, каков ты есть, без макияжа? Как было все просто на заре промышленной революции: вкалываешь, ну и вкалывай себе. Весь город — одна большая фабрика, и выхода не ищи.
В эпоху компьютеров и экспрессов город отпустил на волю тех из рабов, кому мог это позволить, как раньше давал домик с садиком, парой яблонь и грядками овощей, и накрыл их собой, подобно сну.
Фасад ни о чем не говорил. Стекло, бетон, дверь почти незаметная. Высотка выглядела стеной, идиотски вытянутой в высоту. А улицы, ведшие к ней, — тоннелями, где на каждом километре боковой штрек, а в конце него — твоя норка. Тук-тук, можно в гости, правда ли у тебя еще есть место, которое могут отобрать в любой момент, но ты сидишь, думая, что отгородился от прочих?
Нажала кнопки, как помнила; механика устарелая, ни тебе камеры, ни даже домофона, вошла в подъезд, в лифт, где сразу заложило уши — Ребекка во второй раз набрала побольше воздуха, хотя особой нужды в этом, пожалуй, уже и не было, — вспомнила о городе и об остальных высотках. Эта была уже пару лет как самая отдаленная от центра.
По ночам тут, наверное, удобно заглядывать в еще не погашенные окна. А стекла немногих расположенных внизу контор и дорогих квартир просто отражают свет уличных фонарей.
Даниель повел ее по квартире в дальний конец. Фасадная сторона, откуда был виден город, лежащий далеко внизу на невысоких холмах, осталась позади. Разбросанные, сверкавшие отдельными стеклами группки домов справа терялись за зелеными массивами леса, а слева переходили в запущенные дачки и огороды.
Они вышли на лоджию. Грохот города тут смягчало журчание водопада, видимо, устроенного искусственно на близлежащей естественной скале. Растения на балконе слегка шуршали под ветром, но почти неслышно.
Город давно поделили на мелкие кусочки, жилплощадь считали по миллиметрам — на квадратном метре хрен выиграешь. И отсюда хорошо было видно, что потоки машин на дорогах сильно уплотнились. Это были уже не отдельные, хорошо различимые цветные пятнышки, а огромный и бесцветный поток. Ребекка пыталась выделить частное из общего, отделить случайное от закономерного. Солнце палило, ветра почти не было, и она вновь почувствовала усталость. Даниель уселся в тени обвивавших лоджию вьюнков.
Она поняла: пустыня сильнее бульвара, а взрыв сильнее покоя. На этом балконе никогда не забывали, что оказаться внизу всегда можно всего лишь через пять секунд. Она тут же представила себе тело, расплющенное об асфальт, с ошметками, разбрызганными на несколько метров, свежую кровь и порыв ветра, помогающий красным каплям запечатлеться на стене еще метра на полтора выше.
Рефлекторно обернулась к Даниелю, стараясь не глядеть назад, в квартиру:
— Стекла у вас не тонированные, не зеркальные, значит, вы не отгораживаетесь от внешнего мира.
— А чем может повредить внешний мир, если там всего лишь ветер, воздух и вода.
Помолчав, он продолжал тоном смертника:
— Есть форма жизни, в которой ты никогда не чувствуешь себя загнанным в угол. Когда тебя никто не расстреляет, если ты сделаешь лишний шаг вправо-влево. И все, что мне нужно, я там получаю. Я точно знаю, чего хочу, поэтому умею выбирать, что именно мне нужно в данный момент. Всего-то навсего та или эта книга, ночлег, душ. Но иногда меня охватывает внезапная жажда поиска, и тогда мир раскидывает передо мной целый базар возможностей, намеков и вариаций, после которых остается безумная усталость, но зато потом и мягкий глубокий сон. Единственное, что связывает меня с миром, это потребность принимать пищу, да и то не чаще, чем два раза в день.
Да, я зашорен, но много ли я теряю? Вряд ли больше того, что могу получить другим путем, гораздо более приятным. Чтобы распознать говно, нет нужды в него погружаться. А оно у каждого свое — так может, приятнее ограничиться отвлеченным представлением о том, что это такое?
И этот свой вопрос Даниель тоже не оставил без ответа. Он еще долго распространялся на эту тему, как бы нехотя, но с абсолютной уверенностью. Ему было неинтересно, но он все договаривал до конца. Как и тогда, по телефону, он разговаривал не с человеком, а со своим собственным представлением о нем и, видимо, решил держаться этой роли до конца.
Это не означало, что он не знал, как нужно было бы разговаривать в данной ситуации, чтобы произвести наилучшее впечатление. Непреодолимая ироническая улыбка выдавала его сразу. Но это был единственный прокол.
Внезапно оборвав речь, он встал и повел Ребекку в другую комнату, которой она еще не видела. Свет там был таким резким, что она даже зажмурилась. Прошло несколько минут, пока она сумела что-то разглядеть, свет был то ли ни на что не направленным, то ли мерцающим — или это ее неизбытая усталость все еще делала свое подлое дело.
Даниель молчал, давая ей возможность самой понять эту комнату. Она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла, как будто ее дергали за веревочки. Вдруг почувствовала, что волосы, спадающие на плечи, — декорация, из которой нечаянно вылезает ее лицо. Непонятная комната от чего-то освобождала ее и что-то обещала — вот уж чего она совсем не ожидала. Пусть ты придешь из ничего и ты живешь нигде.
Минут двадцать спустя она привыкла к яркому свету. Там даже была тень. Они находились как бы внутри светящегося кристалла. Свет падал сверху, но отражения множили его, каким образом — трудно было понять, однако они были везде. Она определилась, почувствовав пол под ногами и стены под руками, без острых граней, мягкие, добрые, неправильной формы. Попыталась вписаться, но ее тело этого не принимало.
На закате свет в комнате стал оранжевым, почти розовым, смешиваясь с палево-белым светом луны.
Ребекка опять последовала за Даниелем. Они уселись на полу почти рядом.
Облака за окном громоздились друг на друга, образуя все новые этажи, до самой крыши, где были одни только звезды, которым уже точно некуда было деться, — в городе же облака были стенами, а огни — интерьером.
— Я редко с кем общаюсь, но если общаюсь, то слушаю не себя, а его. Про себя-то я давно все знаю.
Было ли это ненавязчивым предложением рассказать ему о себе? Ребекка не знала. Но говорить она сейчас могла лишь о том, что произошло. Да и ему разве не хотелось поговорить хоть с кем-нибудь о смерти своего отца? Во всяком случае, он наверняка на это рассчитывал.
— А что произошло с твоей матерью?
— Ты думаешь, что он был мизантропом или всего лишь унылым, отчаявшимся вдовцом?
— Разве это не тяжелее всего — потерять человека, когда этого совсем не ожидаешь?
— Чего не знаю, того не знаю. Может быть, сказался возраст. Хотя мне кажется, что он и раньше был таким. Он всегда ожидал, что потеряет — не только мать, но и вообще любого человека, в любой момент. Одна возможность этого угнетала его настолько, что он никогда не мог ни на что решиться. Тогда я понял, что он не изменится никогда.
«Тогда» — это когда? Спрашивать было бы слишком грубо. И что же все-таки произошло с матерью — она умерла или они развелись? Опять ничего не ясно. Любые предположения, даже самые логичные, могли быть далеки от действительности. Буркхард тоже вечно блуждал между снами и явью. Он создал себе не внешний кокон, постепенно затягивавшийся все туже, а внутреннее страшилище, хорошо заметное и отпугивавшее всех и каждого, а если кто-то чужой и попадал в эту паутину, то немедленно вырывался, оставляя паука в одиночестве.
Почему он вообще плел эту сеть? Если все вещи в мире и так связаны хоть прямо, хоть косвенно, то зачем она нужна? Бессмысленная, противоречащая всякой очевидности картина мира, который на самом деле един и в котором два любых отдельно взятых человека из нескольких миллиардов всегда окажутся знакомы друг с другом через цепочку всего лишь из шести-семи человек, хотя закономерности тут никакой?
— От беды не заречешься. Единственное, что можно сделать, так это завить горе веревочкой и вывесить за окошко, даже если легче от этого не станет.
— Отец, наверное, был тобой очень доволен.
— Думаю, он больше был бы доволен ребенком, который бы весь день сидел у себя в комнате, малюя уродливых цаплеподобных людей с выпотрошенными мозгами, а в перерывах небрежно выполнял пару-тройку йогических упражнений на грязном матрасе. Чтобы с внешним миром его связывали лишь несколько тоненьких нитей и чтобы за это он ненавидел отца еще больше.
Такой ребенок устраивал бы его тем, что его есть за что избегать, значит, он может считать свои отцовские обязанности выполненными. За это он позволял бы ему предаваться самым жутким фантазиям. Что из этого выйдет, плохое или хорошее, его бы уже не волновало, так как сам он остался собой. Отец считал, что тот, кто изменяет себе, расплачивается потом за это очень жестоко. Он не верил в подвижничество, заставляющее людей добровольно лишать себя жизненных благ. И не стал бы ни критиковать, ни одобрять ребенка. Ребенок как параллельный или запасной путь, до которого ему дела нет.
— Твой отец был серьезно болен, и эта физическая боль делала его чутким не только к своим, но и к чужим страданиям.
— Это паразитирование на чужом горе лишь угнетало его еще больше. Он боялся помогать бедным, потому что не знал, что выйдет из его помощи. Хотя прагматиком он не был. И беспокоило его не то, что нынешнее счастье может обернуться несчастьем в будущем или еще где-нибудь, потому что счастьем несчастья не уравновесить. Нет, ему хотелось пусть небольшого, совсем скромного счастья, но только чтобы при этом ни ему, ни вообще никому ничто не угрожало.
И тут на него свалилась Крис. Ему пришлось дать деньги на этот ее эксперимент. Но он не жалел, скажем, что она истратила эти деньги не на самых сирых и убогих, хотя так, наверное, осчастливленных могло бы быть и побольше. Он хотел лишь показать, что доверяет ей, при этом наверняка зная — он ведь вообще никому не доверял и, значит, просто не мог думать иначе, — что его бессовестно надувают.
— Почему же он не покончил жизнь самоубийством?
Потому что задумал прикончить участников вечеринки? Чтобы показать Крис, чем для нее обернется эта предоставленная им воля и чего стоит разок осчастливить других? А этих оставил в живых как свидетелей? Чтобы умершим не пришлось испытать неизбежного потом горя?
Кто еще знал о том, что на самом деле готовится на вечеринке? Была ли чья-то смерть непременным условием для участия, о чем все знали? И Юлиус ушел, потому что был с этим не согласен?
— Отец настолько запутался с этими страданиями, своими и чужими, что даже не заметил бы, что они вдруг пропали вместе с его чуткостью.
— Как же он сумел добиться чего-то в жизни?
— Он учился, и учился неплохо, но, скажем так, дискретно. Уже после первого курса он занялся биржевыми и другими спекуляциями — тогда были актуальны рост или падение цен на нефть, потом процент инфляции и курсы валют. Потом взялся за акции, но экономика, как известно, зависит от политического курса, который меняется обычно лишь в очень небольших пределах. Поэтому на бирже все ждут важных политических решений или хотя бы слухов о них, чтобы сыграть на повышение или на понижение. Политика для экономики — это извечная угроза катастроф, приближения которых не видно за дымовой завесой политических игр.
Отцу же эти игры, как и интриги внутри какой-нибудь компании или хунты, представлялись гораздо более ясными и понятными, чем законы экономики или природы. Мало кто может предусмотреть, какую техническую новинку изобретут завтра или кого из не известных широкой публике менеджеров или директоров вдруг охватит приступ идиотизма.
Ни директора, ни их эксперты тогда не любили вникать в смысл политических интриг и процессов.
Экономисты принципиально презирали политиков, а те — их, однако политики уже начали понимать, что это опасно для них же.
Последним и самым блестящим ходом моего отца было пари, заключенное с одним богатеньким пацифистом по поводу гонки вооружений. Если будет новый виток, то пацифист застрелится и оставит ему все свое состояние. Если будет разоружение, то отец обязуется всю жизнь работать только внештатно.
— Его не мучила совесть, что он разбогател таким путем?
— Это было не совсем пари. В политическом плане там не было ничего, чего умный человек не мог бы предвидеть, да и пацифист в любом случае получал то, что хотел. На самом деле он хотел умереть и искал себе наследника. Отец потом долго раздумывал, как бы ему так растратить эти деньги, чтобы продемонстрировать всем, чем закончилось это пари.
— Но если взять долгосрочную перспективу, это я насчет вооружений, то получается, что твой отец все-таки не угадал?
— Мой отец не был фаталистом, а пацифист не верил в Апокалипсис. «Возвысься над своей депрессией, возвысься над политической ситуацией, думай о конце света…» Все это чушь. Да любой подросток время от времени мучается этим — мысли о близости смерти и о злобности мира давят на него всей своей тяжестью.
Тогда речь шла о другом, тогда все хотели знать, кто победит, и так или иначе приложить к этому свою руку. На чьей стороне быть — не важно, главное было — повлиять на ситуацию. Продвинуть и усилить своих.
Тот пацифист успел устать от такой жизни донельзя, прежде чем утратил веру.
— Выходит, смерть твоего отца пошла в зачет его долга по тому пари, отразив его, как в кривом зеркале? И он таки поручил растратить эти деньги другому, пусть хотя бы часть. И для полноты картины решил не просто умереть, а сдохнуть.
Ребекка разгорячилась. Даниель обиделся, причем серьезно: с какой стати она вдруг так завелась? Она уже почти начала ему нравиться, и вдруг такой жестокий удар. Давненько с ним такого не случалось. При этой мысли он невольно улыбнулся. Ну, случилось, ну, прошло, как не было. Как у ребенка, который кричит, плачет — и через минуту уже все забыл. Вот только он не кричал, не плакал и не забыл. Передать это было трудно. Как сон, которого уже почти не помнишь и который, даже сбывшись, может оказаться лишь мимолетным настроением. Попробуй описать его, попробуй другой расспросить тебя о нем — получится бессвязная ерунда.
Что бы ты ни запомнил из этого сна, даже эта малость, постепенно исчезая, и на второй день, и на третий еще хранит свое тепло и всякий раз уносит тебя туда. Но потом исчезает и она, и ты ничего не можешь вспомнить. Сна уже не вернуть ничем.
— Я бы попросил тебя повозмущаться и дальше, но уже хочу спать.
Она лишь дремала. Когда он расслаблялся и она пыталась выскользнуть из его объятий, он вновь притягивал ее к себе, спрашивая абсолютно не сонным голосом: «В чем дело?» На рассвете он наконец поднялся. Она немедленно, если не сказать поспешно, повернулась на другой бок.
Спала она долго.
«Ты оставайся». Больше они ни о чем не говорили. Теперь все уже были в сборе, и Ребекка не понимала, зачем она здесь. Людей было немного, главным образом родственники, которым не надо было объяснять, почему нет Бруно. Даниель усаживался на пол рядом то с одним, то с другим из гостей, как послушный ребенок, притворяясь, что хочет услышать совет или узнать чье-то мнение. Однако когда она дала ему знать, что уходит, он тут же встал и подошел к ней. Он подвел ее к только что покинутой им группе и представил как ту самую женщину, которая нашла Буркхарда мертвым.
Начался сдержанный разговор о непредсказуемости жизненных событий — никто не говорил об опасностях или опасениях, смерть оставалась за порогом. Говорили, что с Буркхардом все произошло так внезапно, что внезапнее может быть разве только во сне.
— Да, сон — это прекрасно. Умереть во сне — ах, если бы кто-нибудь мог наблюдать за этим! — Даниель произнес это так ласково, что Ребекка не могла не принять этого на свой счет, тем более зная уже, что Крис на нее смотрит.
В продолжение темы кто-то заметил, что сравнение сна со смертью натянуто и выражает лишь человеческие незнание и беспомощность.
Даниель вновь внимательно посмотрел на нее. Ей не хотелось отвечать. Заспанной она не выглядела, что же ему надо? Развлечь ее или парализовать взглядом?
Она отвернулась от них. Увидела человека, сидевшего несколько поодаль, и вспомнила его имя: Аксель. Он сидел, свесив руки между колен, и был одет так же, как в тот раз: махровый свитер и мешковатые новые брюки из вельвета, ворс и вся структура наружу — казалось, что они вывернуты наизнанку. Это был сигнал к нежному общению, хотя сам он не требовал и не обещал его. Право выбора он оставлял за собой — это было так же ясно, как если бы на нем не было ничего, кроме трусиков-стринг.
Даниель уже стоял рядом с Крис, сидевшей в глубоком кресле. Она наклонила голову, почти касаясь его бедра. Даниель слегка повернулся к ней, запуская руку в ее волосы. Она прижалась к нему, как бы пытаясь зарыться в нем лицом. Даниель не двигался.
Крис встала и подошла к Ребекке, когда та, вновь отвернувшись, провожала взглядом направившегося в туалет Акселя. Он исчез настолько беззвучно, что казалось, будто голоса и шумы вдруг перешли на другую частоту.
В голове у нее крутилась фраза: возложи ноги твои на голову отца твоего и испей последнюю мочу его. Иначе заплатишь. Возложи ноги твои на голову друга твоего… Она знала, о ком речь, и поняла, что он больше не вернется.
Даниель пошел за ним.
Ребекка заметила, как Даниель и Крис обменялись знаками — мол, займи ее пока чем-нибудь. Что еще они ей готовят? Хотят показать, что правды она никогда не узнает?
Той ночью Ребекка была в постели Юлиуса. Когда раздался звонок в дверь, она еще не спала, но он, рывком вынырнув из сна, опередил ее. Она слышала, что он разговаривает с мужчиной, резко, даже грубо, однако не предлагает ему уйти. Тот отвечал коротко, отрывисто, нагло.
— Ну так что? — Да!
— Но это ничего не изменит.
— Ну и зря.
— Не надейся.
Они вошли в комнату. Как только зажегся свет, она увидела его, а он ее нет, потому что смотрел на Юлиуса. Когда они залезли в постель, она почувствовала колени с обеих сторон. Потом руку, осторожное касание — и рука быстро убралась. Он не перешел на другую сторону, не стал тянуться через нее к Юлиусу и ничего не сказал. Ребекке было тесно, и она знала, что там, на месте Юлиуса, где сейчас лежал он, места еще много. Она толкнула его, но он, вяло шевельнувшись, остался лежать, как лежал. И потом тоже, когда она попыталась подвинуть его еще раз. Он не спал.
Утром его уже не было. Она спросила, кто это был, но Юлиус назвал только имя. Попробовать, что ли, расспросить о нем Крис?
Крис заметила, что Ребекка знает его, и Ребекка поняла, что та его тоже знает.
— Ты его знаешь?
— Он был на вечеринке.
Ребекке захотелось самой немедленно устроить какую-нибудь вшивую вечеринку со скандалом, чтобы все ушли домой разобидевшись и упали в обморок у себя в сортире.
Ей не было жаль Акселя за то, что с ним произошло или происходило сейчас. Сам он не был ей неприятен, однако воспоминание о той ночи вызывало у нее тошноту.
Ребекка не могла скрыть свою злость, но обе сделали вид, будто не замечают этого, одна — чтобы не выглядеть смешной в глазах другой, а другая — чтобы не заставлять ее стыдиться себя, и они начали по новой.
— У тебя такое правило отбора? Если человек не…
— …То он для меня не человек!
— Не любишь таких, значит?
Отвечать надо было немедленно, и Ребекка приняла вызов:
— Люблю. Но не до такой степени.
— Ты боялась, что он тебя совратит? — засмеялась Крис.
Ребекке надоело, что они топчутся на месте.
— Ты знаешь, откуда я его знаю? Крис снова засмеялась:
— Думаю, ты сама не знаешь, что давно уже все о нем знаешь.
И продолжила уже серьезно:
— Тебе кажется, что жизнь только и делает, что подкидывает тебе вопросы. На самом деле она дает и ответы. А потом догоняет и еще раз дает, чтобы ты их наконец услышала.
Это означало, что ей пора прекратить гоняться за новой информацией и упорядочить уже имеющуюся. Новых нитей, которые нужно разматывать, больше не будет. В принципе она уже знала о вечеринке все и даже немножко больше. Появился Аксель, но она действительно знала о нем и раньше, не только с той ночи в комнате Юлиуса. Надо было лишь сопоставить все, что ей уже известно, а через оставшиеся лакуны просто перепрыгнуть. Это Акселю Крис писала письма — скорее всего от имени Лейлы. Ему удалось ее вычислить, возможно, не без помощи самой Крис, хотя это мог быть и замысел самого Юлиуса. Узнав, что Лейла — это Юлиус, Аксель тем не менее не отстал он нее. Юлиусу это надоело или он просто не знал, что делать дальше, но не оттолкнул Акселя от себя, потому что тот был химиком и поставлял наркотики или их ингредиенты. На вечеринке Юлиус столкнулся с Акселем — то ли это Крис умышленно пригласила его, то ли его привел Бруно как своего коллегу по работе. В общем, все позаботились. Потому-то Крис и ушла с Бруно.
Возможно, ни Аксель, ни Бруно не знали, что встретят друг друга на вечеринке, куда их пригласили, чтобы соединить все ингредиенты в коктейль и заодно проверить, догадаются ли они, в чем соучаствуют? И Бруно решил убить себя с помощью этого коктейля еще тогда, а Аксель — сейчас? Или их убили — либо за то, что они догадались, либо чтобы не успели догадаться? Юлиус ушел раньше, чем началась разборка с Акселем. Тот отравил его, когда он понял, зачем нужен этот коктейль, не зная — до сегодняшнего дня, — что Крис не только все было известно, но она сама больше была Лейлой, чем Юлиус?
Кусочки мозаики укладывались плотно, без зазоров, но картина из них могла по-прежнему сложиться любая. Как ни пыталась Ребекка ограничиться лишь самым необходимым, все равно для «эврики» не хватало еще слишком многого.
Когда гости ушли, Крис и Даниель решили пойти куда-нибудь потанцевать. Было еще довольно рано, но они сочли время вполне подходящим.
Крис ненадолго исчезла в ванной, к которой Ребекка не приближалась после ухода Акселя, и вернулась без грима, со смытыми бровями, волосы заправлены за уши. Получилось неожиданно хорошо. Ей невольно вспомнилось правило Юлиуса: всегда разбавлять прекрасное неожиданным. Скажи: «Брюки — это супер». Через пять минут скажи это еще раз. А через два часа: «Брюки — это нонсенс». Возьми любой пример и не делай никаких исключений.
Выдавливая лимон в бокал, думай: «Напиток с зернышками — а что, неплохо. В рот они не попадут, если не открывать его слишком широко, но бывает приятно иногда и разжевать зернышко».
Меняй свое мнение на противоположное без всякого повода и без усилий. Когда кто-нибудь скажет, что принципиально пьет пиво только из банок, знай: он на твоей стороне.
Ребекка с Юлиусом никуда не ходили уже год.
Для Юлиуса это был отказ от привычки к ежедневному эскапизму такого рода. Ему надоело настраивать себя на то, что ему все равно, как выглядит заведение, какая музыка там играет, кто окружает его и его друзей, тупые взгляды, смех, а им самим приходится кричать, чтобы услышать друг друга, да и увидеть тоже, стоит отойти лишь на пару шагов. Ссориться не из-за чего, из-за недоразумения, и потом бурно мириться. Ощущать единение, когда давно уже не понимаешь, о чем другой говорит. И даже когда уже надоело, сидеть еще целый час и уйти вместе с последними посетителями, вовремя пристроившись за ними. Успокаивать уставшее тело снотворным. И на следующий день все сначала, до новой ночи.
Ребекка любила самый момент перед выходом, который всегда растягивался надолго. Они перебирали безумную кучу фотографий, оставшихся от других выходов. Люди почти на всех одни и те же, снятые в разных ракурсах, сидят вдвоем или втроем, гримасничая от вспышки на фоне полной темноты. Несколько снимков были ничего, однако каждый снимок все равно подвергался ехиднейшим комментариям. Любая деталь, любое замечание служили поводом для поиска новых ракурсов и мотивов, новых поз и движений.
Они говорили на разные голоса, интонируя по-новому одну и ту же фразу, увлеченно экспериментируя. Потом приезжало такси, которое вызывал кто-нибудь из них, потому что их уже ждали.
В последний раз они попали в пивную, полную мужчин, изо всех углов таращившихся на экран подвесного телевизора, где показывали спортивные соревнования. Их компания, теснясь, уместилась на П-образной скамье за столиком в отдельном «кабинете», защищавшем от чужих взглядов, но не от шума. Ребекка в жизни не слышала таких громких и таких продолжительных воплей. Ноги ее упирались в опору тяжелого деревянного стола, а взгляд — в развешанные на стене металлические зеркала, оклеенные старинными рекламками пива. Напитки были вдвое дороже обычного, а кельнерши требовали чаевых сверх ресторанной наценки. Это была плата за потрясающую красоту официанток, неуместную для такого заведения, а также за то, что тут не воняло — ни застоявшимся алкоголем, ни дезинфекцией.
Но раз сели, значит, сели, кто-то даже решил поесть. Решение провести вечер здесь было ошибкой. Другие тоже чувствовали себя неуютно, но, раз уж кто-то предложил пойти сюда, никто не хотел обвинять его в ошибке, по крайней мере сразу, да и самой Ребекке не хотелось уходить одной и ждать остальных где-нибудь в другом месте — как, впрочем, и разговаривать здесь с кем-либо.
Она вдруг поняла, что это их последний совместный вечер. Ее предложение выпить текилы никто не поддержал, и она одна судорожно сглотнула совсем уже размягчившуюся жвачку, чтобы освободить место для той небольшой порции алкоголя, которую заказала.
Текила — несмотря даже на то что сейчас всякие жлобы стали называть так своих собак, — оставалась ее любимым напитком вне зависимости от меняющейся моды. Ей нужно было совсем немного текилы, чтобы ощутить приход и подъем. Если пить другое, то этот момент трудно заметить, а потом ты уже пьяна.
После этого ей был нужен спид или кокаин, особенно если вечеринка была не по ней, и она без всяких церемоний требовала у тех, у кого с собой было, нужную ей дозу как нечто само собой разумеющееся. Не как плату за то, что она пришла, а по общечеловеческому праву, как всегда можно попросить аспирину, хотя сама она никогда не носила с собой ни аспирина, ни вообще чего бы то ни было.
Ей всегда доставляло удовольствие наблюдать, как другой реагирует на такую просьбу, прячась за ничего не значащими жестами, чтобы не утратить солидарность со своими и не показаться мелочным.
Та душевная общность, которую создают определенные наркотики, еще усиливается, если их правильно принимать. Регулярно, через известные промежутки времени, новый заход или новая затяжка, и так весь вечер, ни от кого не таясь. С каждой новой затяжкой, новым заходом, кто-то выпадает, а кто-то, наоборот, входит. Подлинная общность возникает, когда все чувствуют, что главное еще впереди.
Самое важное было — как подать дозу. Всегда находились умники, начинавшие скандалить по поводу того, что вот, мол, не так курят, не разогрели или развели плохо. Самый запрещенный товар приносили в виде полуфабрикатов. Кто-то один набивал косяк, толок кокаин или разогревал ложку, трубку, фольгу, остальные садились в кружок. Прямо как дети, особенно когда доходило до дележки — все следили, чтобы каждому досталось поровну: раздающий берет последним, таково было правило, — и раздающий вел себя так, будто делил на всех подарок чужого доброго дяди.
Тот, кто готовил смесь, действовал медленно и со всей приличествующей серьезностью. Остальные ждали, переминаясь с ноги на ногу, в тесном сортире или на задней террасе кабака; стена, отделявшая их от окружающего мира, делалась все плотнее, толще и выше, так что от неба оставался кусочек размером не больше сортирного потолка, и вонь перегара и прогорклого жира застаивалась, как вонь кала и мочи.
А тут еще пиво. Ребекка терпеть не могла заливать каждую дозу алкоголем. Мешать средство, специально предназначенное для активации всех рецепторов, с другим, напрочь расслабляющим нервную систему, все равно что пытаться нейтрализовать кокаин валиумом. И чем больше была съедавшая почти весь эффект от наркотика усталость, тем больше пили. Пиво было волшебнейшим из наркотиков, дававшим организму столько воды, сколько нужно для выведения яда.
Однажды они сидели в баре, выкрашенном в цвета от лилового до поросячье-розового. Пили помаленьку, с прибаутками. Музыка казалась одной бесконечно варьирующейся модуляцией духовых в размере 8/4, иногда, для разнообразия, ограничивавшейся соло или менявшей темп, переходя в 16/4. Играла она тихо, так что они прислушались к ней, лишь когда бар опустел, а их беседа угасла. Они приподняли руки, пытаясь попасть в такт, двигая усталыми пальцами. Но руки не слушались и опускались. Музыка, будто повинуясь их желанию, как бы невзначай наполнила их ощущением странной нежности, проникла в душу, вызывая томление и какое-то необъяснимое беспокойство. Юлиус обвел взглядом стены, прямо как человек, в котором пробили дырку величиной с кратер.
Юлиус полулежал: сегодня был явно не его день. Однако когда бар закрылся и они с Ребеккой вышли на улицу, он слегка ожил, делая вид, как будто и не было этих шести-семи часов, за которые они успели наговориться обо всем и, кстати, довольно много выпить. Теперь ему захотелось принять дозу, но он не сказал об этом прямо, а спросил, как жалкий подросток, не хочет ли она:
— Ну как?
— Уже слишком поздно.
— Во-от оно как, — разочарованно протянул он и стал медленно наклоняться, точно пробуя: получится — не получится?
— Тебе надо ширнуться?
— Думаю, да.
— Тогда почему мы…
Какое-то время он ждал продолжения. Потом, усмехнувшись, нагнулся еще ниже.
Наконец он дождался, что она подтолкнула его, чтобы идти дальше. Он не хотел ни обидеть, ни заставить ее пожалеть себя, просто ему нужна была доза. Ему хотелось отрезать, отрубить себя от этого вечера. Потому что его зациклило — как Ребекку в той пивной.
Настроение у нее испортилось, с ней лучше было не заговаривать, но всякий раз, когда она выходила в туалет, ей приходилось возвращаться буквально по ногам пяти-шести человек, чтобы добраться до середины П-образной скамьи. Она говорила громко, почти крича: «Я не буду совать тебе два пальца в рот!» — «Да тут и смесь-то не разотрешь!» — Решив высказаться, Ребекка попыталась говорить быстро, но запнулась, подбирая слова:
— Я не люблю сложных веществ, которые надо долго готовить, а значит…
Ее перебили, сбили с мысли:
— Я… Я… — попыталась вновь заговорить она. Начала снова, дождавшись, пока все умолкнут:
— Я не люблю сложных веществ, которые надо долго готовить, а значит, соблюдать конспирацию. Мне хватает возни с готовкой еды, с намазыванием бутербродов и т. д.
Ей дали договорить только до «и т. д.», но она уже высказала все, что хотела. Не слушая, о чем за столом вновь зашла речь, подумала только: «Уф». Ей неожиданно понравилось, и она начала тихонько проговаривать этот слог себе под нос, низким голосом, полузакрыв глаза. Отпила из ближайшего бокала, сходила в туалет, вернулась, выпила еще, но так и не протрезвела, как надеялась, до тех самых пор, пока они не вышли и не сели в такси. На сегодня ей хватило. Но она ни на кого не обижалась. Ей было настолько муторно, что она, не эта, а та, другая она, или еще кто-то, уже тогда могла испытать от смерти Юлиуса лишь облегчение.
В клубе было еще пусто, и взоры скользили по чисто отскобленному полу. Квадратный потолок висел низко. Опустившись в карман, рука Ребекки нащупала там косынку и машинально достала. Хотела засунуть обратно, но Крис уже увидела:
— Что это у тебя, ну-ка дай!
Ребекка вынула платок с черно-желтыми узорами и показала ей.
— Это платок Юлиуса. Дай его мне!
Крис протянула руку и, хотя тон ее нисколько не был приказным, Ребекка почувствовала, что Крис считает платок своим. Помедлив минуту, потому что платок все-таки был не Юлиуса, она сказала «пожалуйста» и отдала.
Этот маленький обман наполнил Ребекку прямо-таки воровской радостью. В ее совместных с Крис попытках почтить память Юлиуса открывался целый кладезь ложных, неясных и по крайней мере ей самой чуждых воспоминаний.
Вот бы ускорить время, чтобы оно быстрее прошло и унесло с собой все воспоминания.
Даниель куда-то вышел, вслед за ним, не сказав ни слова, направилась Крис. Косынку она то ли передала ему, то ли спрятала у себя на груди, повязав вокруг живота.
Взгляд Ребекки, глядевший вслед Крис, наткнулся на церемонию, начали которую, судя по всему, не ради пока еще немногочисленных посетителей. Если они захотят участвовать и если клуб заполнится раньше обычного, то она раньше и закончится, и опять большинство ничего не увидит.
Один музыкант с рожком, другой с маленьким барабанчиком импровизировали независимо один от другого. Они то сходились, не глядя друг на друга, то опять расходились. То один, то другой время от времени делал паузу, а потом вступал в какой-то момент.
Музыкальные фразы одного вписывались в ритм другого довольно неплохо.
По краям сцены стояли несколько мужчин с обнаженными торсами, обсыпанными белой пудрой — кто с животиком, кто без, — как будто ожидая чего-то, но не участвуя. В этот раз они тоже не выступали. Интересно, видел ли кто-нибудь их выступление? Или они выступают, только когда все уйдут?
Тем временем занавес и решетки убрали, распространился запах каких-то духов, скопившийся тут, казалось, за несколько десятилетий. Открылось несколько маленьких подиумов, на которых стояли грубоватые статуи, не вызывавшие никаких эмоций. Сразу было понятно: вот это — этот, а то — это тот, и больше ничего. Все статуи были одинаковы, только у кого-то не хватало рук или, наоборот, были лишние, или у одной что-нибудь в руках, у другой на шее. Толку-то?
А музыка была ничего, и Ребекка с удовольствием потанцевала бы, но просто так взять и выйти ей было трудно, хотя статуи она забрала бы с собой хоть сейчас, навсегда, так, чтобы ни они сами, ни случай не могли помешать ей. Она бы перенесла эти статуи в какое-нибудь виртуальное пространство, куда никто не мог бы проникнуть. Но тут занавес и решетки опять закрыли, музыкант с рожком и барабанщик исчезли.
Помещение заполнил то ли дым, то ли пар, короче, туман неизвестного происхождения. Это была вечеринка в облаках, жарких и влажных. Стены, судя повсему, отапливались, потому что роса на них не оседала, однако тела и одежды уже были влажными. Вспышки света делили воздух на сегменты, между которыми оставались щели темноты, исчезавшие потом в новой вспышке. Ребекка тихонько напевала себе под нос: «Прекрасные, но глупые студенты бесстыдно прыгают вокруг». Она и не заметила, как вокруг начали танцевать сотни людей, не успевших устать от ожидания, под заново заведенную музыку. Ритмы скрытого где-то синтезатора действовали ободряюще.
Был еще певец. Ребекка посмотрела туда, где, как она помнила, должна быть сцена, но ничего не увидела. Лишь через некоторое время она разглядела певца, парня лет, дай бог, двадцати, а его команда была и того моложе. Они были одеты в черные костюмы, причем на каждом костюм был другого покроя, и в белые маечки. Двигались они деревянно, потому что были слишком юны для чего-то большего, даже если планировали использовать юность как дальнейшую марку своей группы. Ребекка поняла: они не умеют сами делать музыку и не скоро научатся.
Музыка не давила, никто не навязывал посетителям всеобщего кайфа. Однако стоило появиться желанию, хоть немного выходящему за рамки предлагаемых удовольствий, человек испытывал как бы укол совести, ощущая себя предателем по отношению к тем ощущениям, которые уже испытал. Все дозволенные желания были предусмотрены — и неспроста надетыми шмотками, и движением, и словом, и светом. Кто тут кого завлекал или умело использовал, понять нельзя было.
Любая ошибка, кем-то допущенная, тонула и растворялась в общем котле. Даже не так: казалось, что какая-то магическая сила выбрасывает ее наружу, в холод и пустоту окружающего мира.
Танцующие еще не начали прижиматься друг к другу. Кто-то стоял, подпирая стенку, кто-то сидел или уже лежал на полу.
Прошла девушка в просторных джинсах, располосованных на махрящиеся дырки и удерживавшихся на толстых бедрах, видимо, только за счет постоянных движений и поддергиваний. На ходу она казалась распотрошенной подушкой. Каждое движение лишь подчеркивало это сходство, пародируя свою хозяйку.
Девушка остановилась перед Ребеккой и уставилась на нее. Подхватила спадающие джинсы, вовремя сдвинув ноги, чтобы удержать их. Поддернула их, точно обруч для хула-хупа, и пошла дальше.
То и дело на глаза Ребекке попадался один и тот же мужчина. Он подходил то к тем, то к другим, где в кружке еще было место; к одиночкам он не подходил никогда. Уходил лишь, когда оставаться дальше было невозможно.
Его отгоняли, правда, не тычками, а взглядом. Когда взгляды начали сыпаться со всех сторон, деваться ему стало некуда. Запутавшись в них, точно в паутине, неспособный больше пошевелить ни рукой, ни ногой, он превратился в тяжелый кокон, упал и покатился прочь. Получив еще пару тычков, он потерял скорость и замер на месте.
Проигравшими в этой игре были те, кто в нужный момент не успел отойти в сторону, поленившись заметить, что прижиматься уже начали, а танец перешел в совместное прыганье. Теперь никто не мог выйти из круга, даже если его охватит паника.
Потные, бухие — толпа стиснутых, ополоумевших кусков плоти в клубах тумана. Казалось, что они даже музыку затоптали. Всем хочется счастья, а жизнь все равно не может предложить им ничего лучше этого бала-маскарада и перетоптывания заплетающихся ног.
При этом клуб считался элитным, чужих не пускал и рекламы о себе не давал. В мозгу у Ребекки смешались все кабаки, где надо было платить за то, чтобы тебя хорошенько стиснули. Все они объединялись в одну бесконечную вечеринку, странным образом походившую на крытый лагерь для беженцев, где санузел один на сотни человек. Негде взять даже простыни, чтобы завернуться и укрыться от всех.
И не важно, какие наркотики она принимала, пила ли пиво или пускала себе кровь. Ребекка хотела — не зная, куда идти и где искать — напиться до своего естественного предела. Она сползла на пол, готовая к тому, что ее затопчут. Но ничья нога не коснулась ее — ноги всем уже лень было поднимать. Поднимешь — потеряешь место в круге.
Она уселась на корточки, прижав к себе колени так плотно, что они заболели, и попыталась успокоить дыхание.
Кто-то наконец решился подойти к ней. Не из сочувствия — он не собирался оказывать ей первую помощь. Его заинтересовала ее поза. Не потому, что поза могла показаться сексуальной, хотя она и вправду полулежала. От «сидя на корточках» до секса дистанция гораздо больше, чем от «стоя», она сама успела в этом убедиться. Он думал, что она испугалась чего-то, но испуг прошел, оставив о себе только запах пота.
Ей было жаль, что все уже кончилось. Конец близился, неторопливо, но гадко. Те, кто дотерпел до сих пор, раздевались, показывая свои лифчики-сеточки, трусики-стринги, какие-то знамена вокруг пояса, отовсюду торчащие веревочки и а-ля бомжовые, но чистые лохмотья. Может, и ей стоит закатать свою футболку выше грудей? Оставшиеся мужчины казались совершенно беспомощными, это было некрасиво. Впрочем, надолго это не затянулось: настала ночь.
Что меня ждет — не важно, главное, оно приветствует меня, светясь. Улыбаясь тихо и немножко чопорно, я исчезаю, прощаясь, чтобы наконец вернуться домой и произнести невысказанное.
Язык у Ребекки болел, рот пересох так, что больно было глотать. Ее не просто мучила жажда, она не только устала и хотела в сортир, ее терзала невыплеснутая злость. Она попалась на ложную — такую красивую! — приманку. Под ее отяжелевшими веками оживали неведомые силы. К сожалению, ни одна из них не могла избавить ее ото сна.
Ее голова упала на пол, рядом со стенкой. Тела над ней продолжали свое движение, потом она вдруг оказалась наверху. Кто-то поднял ее, поставил на ноги. Потом опять. Кадр — обморок — еще кадр: с каждым новым просветлением ее беспокойство росло. Чья-то голова снова стукнулась о твердое. То ли она сама, то ли еще кто-то твердил: «Открой, открой!», но глаз не открыла, потому что знала, что череп лопнет.
Она пришла в себя. Двигаться не хотелось, пахло чем-то кислым. Встала без усилий и, чтобы развеяться, вышла в мерцающий свет.
Последние посетители разбредались по сумеречным улицам. Было еще не поздно. Ребекка села в машину, стоявшую с распахнутой дверью, как будто дожидаясь ее. Машину заносило на резких поворотах. Вроде бы она сначала сидела справа, а теперь оказалась слева.
Она знала, что что-то защищает ее — возможно, это был ее постепенно уходящий хмель. Надо же было так напиться. Город раскрывался перед ней в привычных словах и картинках. Они приходили так чудненько, поодиночке: Скорость, Улочки, Безымянность, Огни в темноте, Огни на свету, Несуразности, Однообразие.
На эту ночь у Ребекки был волшебный пропуск, означавший «проход всюду», даже там, где она никогда не бывала, вот только проход туда был узок настолько, что она могла лишь заглянуть в щелочку, хотя сжималась и извивалась, как никогда. От памяти ее избавили. Она могла вспомнить все, что хотела, но это тоже были картинки, как игрушечные домики или улицы. Только эта улица была настоящая.
Машина неслась, не зажигая фар, по еще темным улицам, потом заехала в лес. И остановилась. Сосед и соседка взяли ее под руки и побежали, спотыкаясь, но не останавливаясь, по прохладной темной траве. Вырвавшись, Ребекка обогнала их на пару метров и поняла, что лучше упасть. Лежала, безучастно глядя на приближавшихся к ней людей. Хотела поймать их взгляд…
Притворилась спящей. Когда они прошли мимо, перевернулась на живот, одна подушка под животом, другая между ног. Кажется, с ней заговаривали, но она почти ничего не слышала из-за сплошного писка и чириканья вокруг. Ее опять подняли, она не протестовала, но открывать глаза не стала, и своими ногами тоже не пошла.
Почувствовав на веках тепло восходящего солнца, Ребекка невольно открыла глаза. Высокие деревья, которые в сумерках, казалось, тесно окружали ее, теперь тянулись к чистому голубому небу. Те зеленые массивы леса, которые она раньше видела только издали, вблизи оказались молодыми посадками, перемежающимися квадратами черной земли на холмах, отделяющих город от парковой зоны.
Парк был прозрачен, взгляд нигде не упирался в лесную чащу. Вскоре она почувствовала, что ей хочется только одного: отрешиться от мира, где, куда ни глянь, господствуют распланированные кем-то перспективы — пусть кругом будет одна лишь по-утреннему мокрая трава, сверкающая в тоненьких лучиках света.
Она нашла такое место — достаточно было лишь протянуть руку и перенести вес тела на другую ногу, — как вдруг откуда-то послышалось: «Эй!..» Послышалось? Это был тот лес, куда Крис завлекла Бруно. Лес прозрачен, укрыться негде, — может, у нее с ним тут ничего и не было? Или она хотела дать ей наводку на этот парк, который, укажи она на него прямо, превратился бы в метафорическую загадку: все пути открыты, все следы зарыты, есть клочок земли, что мы там нашли?
Ребекка вспомнила о высотках, где люди в окнах издали демонстрируют друг другу себя. Тот, другой, платит за столько же квадратных миллиметров, зарабатывает столько же, сколько ты, и встретиться вам до сих пор не давал лишь случай. Люди ведь обычно редко выходят за пределы круга старых знакомств, да и потом всегда в него возвращаются.
Она подумала о фильмах, посвященных жизни большого города: там тоже действие обычно начинается лишь после того, как кто-то случайно встретит кого-то на улице. Или пусть не случайно, а в привычном, знакомом обоим кабаке, в обычное время. То, что они нашли друг друга, свидетельствует о том, что они стосковались по реальным приключениям, потому что виртуальная прокрутка своих возможностей им уже надоела.
Высотки теснились, как загорающие на лужайке. Там тела хоть соблюдают дистанцию, старательно делая вид, что в упор не видят соседей. Та решимость, с которой они разоблачались на глазах у всех, давая поблажку своим в остальном незыблемым идеалам, обеспечивала им защиту. Половая принадлежность забыта. Так окна, если не считать верхних, недосягаемых этажей, и этажей самых нижних, обрезают тело до пояса.
Зачем так печься об интимной сфере, когда — хоть лежи на солнечной лужайке, хоть живи на самом солнечном этаже — все мы настолько, до умопомрачения, похожи друг на друга? Ребекка видела высотки, стоявшие так близко, что пространство между ними сливалось. Накрытые тенью другого, они зажигают все огни, чтобы только продемонстрировать себя. Один шаг — и ты уже в чужом уютном гнездышке, читаешь через плечо его почту или подслушиваешь телефонный разговор.
Чего же люди боятся? Чего им скрывать? Только и знают, что возводят перегородки, за которыми переключаются на полное самообеспечение, — неужели только для того, чтобы окончательно посвятить себя жене и детям?
Лишенные комплексов аристократы и бомжи всегда подчиняли себе все доступное пространство. Те, кого они допускали до себя, перед кем откровенничали, будь они даже из других сословий, потом разносили все услышанное, увиденное и воспринятое дальше по миру. А дальше слава ли, позор ли зависели лишь от того, кому достанется секретная шкатулка, кто найдет ключ к ней и кого выберут посланцем. Но секреты придворного аристократа редко бывают ценнее секретов последнего нищего.
Теперь всех прослушивают и даже просматривают. Вспомните видеокамеры, натыканные везде в центрах больших городов. Но за каждым отдельным человеком слежки не ведут, это слишком накладно. Следят за толпой, и лишь если кто-то выделяется из нее, его могут взять на подозрение.
Стоит ли сидеть в крепости, зная, что рано или поздно все равно придется открыть двери кому-то, впуская недобрые вести и неотфильтрованные вирусы? Какой смысл городить забор за забором, наблюдая, как вся эта сволочь все равно проникает внутрь?
Секреты хороши, когда их не слишком скрывают. Это был не город квартир, за стенами которых прячется грех, а город клубов и центров, где человека скрывает толпа. Чужих не пускали не потому, что хотели от них спрятаться.
Прикрытие было символическим, раскрытие обескураживало. Секреты украшают покойников, попытки расследования скрывают их навсегда. Выжившие выжали из них все. Мертвые ушли, и она была тем, что от них осталось.
Смерть не привлекала Ребекку. Она не была изгоем, ее не разыскивали, не унижали. Она просто жила дальше, не прикладывая к этому никаких усилий и не пытаясь доказать что-то, не пытаясь добавить или убавить себе лет, знаний и денег. Период становления закончился, и все прошлое и пережитое теперь глядело на нее, оставаясь темным и непонятным.
Была ли чья-то смерть частью хорошо продуманного или, наоборот, спонтанно родившегося заговора, на самом деле не важно, сколько ни строй гипотез. Любое действие, какое она задумает совершить, будет лишь следствием какого-то предыдущего действия. Даже то, что она осознает это, есть лишь такое же действие, вполне объяснимое.
Смерть предупредила о себе заранее и не закончилась с отходом души. Как долго покойники еще живут? И что влечет ее к ним — неужели то, что она сама тоже давно уже покойник?
Тело и дело слились воедино, как помыслы и домыслы, как причина и следствие. Один сделал, другой задумался и сделал так же, вот и вышло, как у всех. Мерял на себя, а оказался во вселенской толпе.
На одном из поворотов тропы ей встретилась Крис. Она не подкрадывалась, просто Ребекка ее не заметила. Крис поймала низко висящую ветку какого-то дерева и теперь жевала росший на ней листок. Поскольку Ребекка молчала, Крис сама сделала шаг вперед, выпустив листок изо рта, и пойманная ветка вознеслась ввысь, обдавая все вокруг бесчисленными капельками до сих пор не растраченной росы.
Присев, она согнулась почти пополам и начала смеяться, бессмысленно и заразительно:
— Ты знаешь, мне та-ак хорошо.
Ребекке тоже стало смешно, и она подошла ближе. Крис глядела на нее снизу вверх, и казалось, что она только и ждала Ребекку, чтобы поделиться с ней радостью бытия. Сейчас она жила только ради Ребекки. Крис открылась ровно настолько, сколько сейчас было нужно Ребекке, чтобы утвердить и укрепить ее в самом лучшем о себе впечатлении.
Крис говорила так тихо, что Ребекке пришлось придвинуться ближе. Казалось, что та звала ее: «на, послушай», что говорят открывшиеся ей вещи, и теперь она хочет разделить их тайну с Ребеккой. Крис кивнула ей почти незаметно, и Ребекка подвинулась ближе.
В руках у нее, казалось, лежало некое потустороннее существо, вобравшее в себя все последние переживания Ребекки. Она почувствовала, что выиграла, настроение у нее резко улучшилось, но остался какой-то неприятный привкус.
Крис поднялась, как будто ничего не было, и сказала, что пора искать Даниеля.
Они пошли по направлению к холмам. Парк не был городом с тех пор, как снесли фабрику и прилегавшие к ней рабочие поселки. На выходные сюда не ездили, потому что лесопосадки были жидкими и не было даже озера. Ходили слухи, что муниципалитет собирается этот парк снести. Что бы тут ни возвели, фабрики или высотки, они все равно будут отделены холмами от городской инфраструктуры.
Этот клочок нетронутой еще земли раньше принадлежал Буркхарду, а теперь Даниелю.
Между холмами, отделявшими город от парка, лежала в низине пугающе обширная, тяжелая, густо-коричневая земля. Ее пересекали частые, неизвестно зачем проложенные дороги. Ходили по ним, наверное, только затем, чтобы приблизиться к этой влажной глинистой почве и вдохнуть ее запах. Поле, очевидно, регулярно перепахивали, и оно лежало под солнцем, наслаждаясь теплом: земля в ожидании.
То тут, то там, разрушая комковатую землю и вновь возрождая ее, возникали новые просеки и молодые сады, быстро привыкавшие ничему не удивляться. Безумцы там становились агнцами, а драконы цыплятами.
Посреди пейзажа лежало сине-зеленое озеро причудливой формы, с островом, к которому не вело ни мостков, ни лодок. До него нужно было плыть или идти бродом, где вода доходит до плеч, а то и до подбородка. Вещи в узел, в непромокаемый пакет над головой или прямо в одежде.
Над мерцающей водой парила синевато-серебристая дымка. Отражение дома, возвышавшегося на острове, освещало низину своим светом в дополнение к свету воды и неба. Внешняя стена, внизу почти прямая, неуловимо изгибалась с высотой. Дуга вверху почти совсем сглаживалась. Ширина здания была больше его высоты. Наверх вели ступени.
Ее шаги отдавались гулко, как в огромном барабане. От музыки, игравшей внутри, наружу пробивались лишь самые высокие и самые низкие частоты: примитивные аккорды басов и тоненькое треньканье струнных, похожее на тест для проверки слуха.
Даниель, казалось, уже ждал их. Он сидел, зажав сумку между коленями, и даже не поднял головы. Взглянув вниз, Ребекка и Крис как раз могли видеть берег острова.
На той стороне, которая сейчас была освещена солнцем, к воде и в воду спускалась терраса, на другой стороне переходили друг в друга рощица, лужайка и пляж.
До заката было еще полчаса, но солнце уже скрылось за холмами. Яркий свет больше не убивал краски, и зелень была ядовито-зеленой, а синева — темно-бирюзовой. Разрозненные облака в быстро наступавших сумерках выглядели бурыми, но еще без примеси красного. С одной стороны небо, казалось, выступает вперед, с другой — отходит назад. Когда одна сторона сияла ярко-оранжевым, другая наполнялась розовым и пурпурным; потом там нежные оттенки сменились огненно-красным, а тут все заполнилось лиловой синевой, с каждой минутой становившейся все гуще.
Купол здания выглядел опаковым на бледно-зеленом фоне. Позже в нем отразились фонари боковой подсветки, окруженные радужными ореолами.
Тут не умирают. Никто не принимает наркотиков, позволяющих держаться под водой. «О драгоценный кислород!» — вот их призыв. Нет смысла пихать в рот землю, пока не задохнешься. При попытке тел взгромоздиться друг на друга нижнее всегда ускользает. Или добавляют столько соли в воду, что она выталкивает наверх даже самых тощих. Целующимся приходится время от времени отворачиваться, чтобы выплюнуть соленую воду, отчего они становятся похожи на слабенькие фонтаны. На некоторых из купающихся нет ничего, кроме цепочки на шее. Рыбам тут не место: схватит камень, приняв его за пищу, и с ним опять уплывет.
Кто не поверит, что здесь прекрасно? Город совсем рядом, со всеми его треволнениями, а тут ты Нигде. Свежесть, но не благодаря всепроникающим запахам леса и луга. И вода, эта мокрая простыня, не пропитана духами.
Даниель вынул три большие бутылочки из-под йогурта.
— Развеешь? — спросил он Ребекку. Та кивнула.
Этикетки с бутылочек были смыты. Они оказались на удивление тяжелыми. Как же ему, как им удалось добиться такого полного сжигания? В каком-то детективе Ребекка читала, что сжечь труп вообще страшно трудно. Для этого нужна печь или по крайней мере ниша, чтобы усилить жар, но даже если подлить спирта, то в лучшем случае обуглится только кожа, но кости не разрушатся, и плоть останется влажной.
Или это символический прах, как вся эта земля — заповедник?
Ребекка пошла вперед, на широкое плоское поле. Ее взгляду не за что было зацепиться: кругом одни живые изгороди да кусты. Она не могла сосредоточиться и шла ненужно быстрой, слишком твердой походкой.
Сорвала травинку. Раздавила двумя пальцами, но сока не вытекло, выдавливать было нечего. Глухое поле вдруг испугало ее. Будь она в пустыне, можно было бы раздавить хотя бы кактус. А здесь — ничего, кроме пыльного песка, да и тот не прокопаешь, потому что ветер сразу же все засыплет. Может быть, найти какой-нибудь корешок и высосать? Но она никогда не слышала, чтобы люди использовали таким образом корни злаков, даже будучи в крайней нужде.
Однажды они с Юлиусом предприняли велосипедную прогулку по близлежащим горам. Это был единственный раз, когда они вместе выехали за город. Один приятель одолжил Юлиусу велосипеды, и хотя ездоками они были неумелыми, все-таки выбирали самые крутые и самые короткие дороги. Оглядываясь назад, глядя на подъемы и спуски, они ни разу не захотели вернуться обратно, даже если предстоящий подъем был круче всех предыдущих. Окончательно устав, они слезли с велосипедов, бросили их и улеглись на обочине, прямо на сухую землю. И тут же почувствовали результат прогулки, о котором до сих пор даже не думали. Перед выходом они лишь слегка перекусили, однако кровь так бурно мчалась по жилам, а усталость навалилась так внезапно, что пот тек буквально ручьями, и солнечный свет не слепил, а дрожал маревом перед глазами, размывая краски и придавая вещам причудливые очертания. Но это было не все. Юлиус попытался рисовать. Наклонившаяся женщина. Толстый голый малыш верхом на рыбе — что это, золотая рыбка? — и со слитком золота в руке. Внезапно краем глаза она увидела губы Юлиуса, на которых появилась улыбка; рот приоткрылся. Он протянул руку, она вытянула свою, казалось, в том же направлении — но нащупала лишь жесткую траву. Все правильно. Потом пошел дождь, собственно, он давно уже шел. Они сели на велосипеды и поехали дальше. Один нажим на педаль неумолимо влек за собой другой.
Стоя посреди полей, она отвинтила крышку и высыпала пепел. И так трижды. Один раз вышло легко, два других раза были не ее, а свой собственный она уже не увидит.
Она упала, и ветер быстро унес все, что осталось, покрыв ее кожу и промокшее платье тоненькой пленкой; вскоре исчезла и она.
К ней липли взгляды. Нравилась, не нравилась — какая разница. Флиртовать с ней никто не пытался, и она никого не поощряла к этому, не красовалась. Только тело не хотело примиряться с заданными обстоятельствами. Сиденье скользкое, сумка великовата.
Те, кто пялился на нее, составляли лишь малоприятное, но неизбежное дополнение к ее замкнутой картине мира. Ловить там было нечего. Взгляды манили, лезли, кололи; она оставалась неподвижной. Не боялась и не выказывала никакой реакции.
На ней была бутылочно-зеленая, слегка просвечивающая блузка и трикотажная коричневая юбка. Короткая верхняя часть и низко сидящий пояс открывали часть торса чуть ниже пупка. Привычно оделась по моде прошлого — или позапрошлого — сезона? Или знала, что это идет ей всегда? Она не выбирала. Когда нагибалась, живот свисал, но это ничего не меняло. Маскировка никуда не годилась, она все равно выглядела почти что голой.
Каждое утро ее стискивали в автобусе. Члены рослых мужчин, преодолевая ткань и молнию брюк, упирались ей в живот. Невыписанная моча. Галстуки, пропитанные заведомо неопределимым аттрактантом. Но ее это не трогало, и она весь день пребывала в зашнурованно-сонном состоянии, внутрь которого не могли проникнуть ни отдельный человек, ни толпа. Пересаживалась на нужной остановке и ехала дальше — куда?
Она шла так медленно и размеренно, что ему стоило больших усилий не догнать ее. Потом, перейдя на другую сторону улицы, она вдруг резко ускорила шаг, так что ему почти расхотелось догонять ее. Но заторопилась она не из-за него.
Если бы ему удалось загнать ее в угол и объясниться, то это было бы подчинением ее не ему, а давлению обстоятельств. Все очень просто, он пришел-ушел, нет следа. Если он сам, конечно, проследит за тем, чтобы не сбиться с курса.
Вот почему ему так захотелось раздеть ее. Материализовать, выбив из накатанной идеологической колеи. Но у нее и под платьем был герметически закупоренный купальник. Они ехали к озеру на его мопеде. Расхлябанная крышка бензобака, кое-как заклеенная скотчем. Цвета менялись все время, от серого до темно-серого, муаровые узоры.
Трава приняла их жадно. Они бродили по лугу, чувствуя, что не обременяют его.
Лежали без движения. Только тишина и теплота, упокоившееся зеркало вод и прибежище неведомых зверей.
Полнота бытия, прозрачная, как вода. Влажные, глубокие губы. Разгоряченные щеки принимают прохладный поцелуй роз.
Лица ее он не мог разглядеть под беспорядочными длинными локонами. Свет в ее волосах ломался. Ее непонятная улыбка доходила до него лишь с большим опозданием. Где-то что-то сверкнуло. Прямо под заходящим солнцем, забелев ненадолго на фоне вечернего неба.
И все это лишь ради людей, нежащихся на солнце, чтобы запечатлеться в хрониках бытия? В ярком свете играет дешевое радио на черном песке. Там, где в любое время суток всегда тень, растут толстые, сытые травы, не отдающие никому и ни за что ни капли своей влаги.
Она ласково поцеловала его в закрытые веки — и вдруг принялась сосать, жестоко, больно.
День кончился нарывом, мешком крови над горизонтом. Когда они поднялись, им хотелось есть и пить. И в сортир. Она пошла за кустики.
В кафе, прямо на шоссе, сидели на деревянных скамьях сплошь двенадцати-тринадцатилетние, слушая примитивные, быстро и шустро отыгрываемые хиты. Сидели, курили восьмую сигарету из пятой пачки, последней в этой жизни, ожидая Страшного суда, который так легко запить кока-колой.
Под предлогом, что ему надо еще купить кое-что, он дал ей одной войти в квартиру, а сам остался за дверью, дожидаясь, когда она, по его расчетам, придет в нужное настроение. Не горя желанием, а просто ожидая его у себя дома.
Она переоделась, надев расстегнутый халат и широкие штаны из грубой серой ткани. Руки наполовину в карманах. На столике позади нее красовалась пара толстых коротких рогов. На полу — огромный горшок для цветов, пустой, с декоративно-шишковатыми боками.
Они прошли мимо затемненной комнаты, где громоздились кучи тряпья высотой больше метра, налезавшие одна на другую, и вошли в комнату, вполне прибранную. Этот контраст объяснялся не тем, что оттуда недавно кто-то выехал или что она сама въехала недавно. Помимо вещей красивых и полезных, там было полно явного старья, покрытого пылью. Разрисованные головы в очках без стекол, картины, накапанные кровью и чаем, куклы с немыслимым макияжем в косо напяленных париках на фоне бледно-салатовых стен.
Это был искусственный хаос, застывшая память, к которой прислушиваешься, как во сне. Собрание замыслов, подобное головоломке из ста тысяч кусочков. Не во что зарыться, не в чем порыться. То, от чего хотелось отвести взгляд, но оно продолжало действовать и замутнять его.
Ощущала ли она исходившую оттуда вонь? Оделась в халат и штаны, чтобы навести там порядок? Бессознательно спрятала дрожавшие руки, хотя они не портили общего впечатления от ее мягкого массивного тела. Или хотела с вызовом показать ему — а что, вполне возможно, — на каком нерве делались все эти вещи и сколько трудов ей стоило сохранить их?
Сама она никогда к ним даже не прикасалась. Прикасался ли к ним вообще хоть кто-нибудь? Мысль была новая. Долго ли она останется новой? Это была тайна, сокрытая от обоих.
Любой первый шаг вел в бесконечность. Отсутствие границ равнялось отсутствию жизненного пространства.
Она подавала себя как жест. Которого не делала. Она не двигалась, но он и так отлично видел, что ей хочется бежать.
Что ж, навязался — надо продолжать. Если она вскрикнет, он тоже. Спровоцировав его, она теперь делает вид, что ничего не произошло. Она не простила — просто вычеркнула все из памяти.
Ее веки удовлетворенно закрылись, но это не было приглашением. Они были не одни.
— Аксель, — представила она ему того, другого, стоявшего возле вещей, как призрак. — Меня зовут Лейла.
— Юлиус, — представился он, коротко взглянув на Акселя. Одежда на нем казалась выцветшей и рваной, хотя поношенной не была. Воспоминания бледнели, становясь отрывочными, и человеку не грозило безумие.
— Как вы познакомились? — спросил он Юлиуса. Он ожидал ответа не от Лейлы, которой у него был зарезервирован карт-бланш, а от гостя, которому таким образом предлагал начать беседу. Так проверяют нового сотрудника, зная, что все равно без трений не обойдется. Аксель показывал, кто здесь хозяин, не опускаясь до пикировки с другим.
Расскажи Юлиус об их первой встрече, не обусловленной ничем, кроме давки в городском транспорте, интерес тут же пропал бы. Аксель не поверил бы в такое знакомство и его случайность, потому что до сих пор никто, кроме самой Лейлы, не скрывал, что познакомился с ней намеренно.
Не похоже, чтобы Акселя и Лейлу связывала тесная дружба или интимная близость. Под его хладнокровием, ежедневно укрепляемом приверженностью к привычным формам и удовлетворению потребностей, крылась полнейшая безжалостность. Благодаря этому Аксель мог манипулировать вещами и людьми, как хотел. Он не расходовал, а транжирил свои силы, со злорадным любопытством следя, насколько же их еще хватит.
Лейла неподвижно стояла в нескольких метрах от разыгрываемой сцены. Предоставляла место. Вычурно и скупо указывала на вычурно и скупо оформленные вещи.
Если о чем-то говорят так серьезно, значит, не принимают его всерьез. Как будто недостаточно просто бросить его недоделанным. Зачем еще тыкать в него пальцем?
Барахло у Лейлы скапливалось само: она не делала определенных покупок в определенных местах по определенным ценам. Что покупала, тут же раздаривала: хранить у себя что-то покупное казалось ей странным. Иногда получала что-то в подарок. Или брала то, что плохо лежит.
Такая жизнь обходилась недешево. Деньги она экономила на том, что стриглась сама или просила кого-то из друзей. Если посчитать, то экономия получалась в самый раз.
Может, Юлиусу стоит использовать Лейлу против Аксеъя? Слегка осадить ее, так сказать, поставить на место? Чью бы сторону он ни принял, это будет затяжная, ни к чему не ведущая борьба.
Аксель и Лейла ничего не говорили. Стояли, не решаясь сделать шаг, так как видели в Юлиусе лишь неизбежное отражение своих проекций: попробовгли и отступились. Что бы они сейчас ни сказали, все это отразилось бы в преувеличенном виде, любая слабость моментально вышла бы наружу. Акселю не нравился цвет стен, но лучшего он предложить не мог. Лейле не хотелось ставить музыку. И вообще делать что-либо, что могло заставить ее раскрыться, а значит, и стать темой для разговора.
Юлиус не знал, что теперь выйдет из этой встречи. В принципе он мог, конечно, переломить ход событий.
Но, произнеси он первое, оба тут же прицепились бы к нему, засыпали вопросами и ушли в сторону. Аксель уверился бы в том, что был прав, с самого начала отнесясь к Юлиусу скептически, а значит, может и дальше любить Лейлу, находя в ее поведении лишь сиюминутные поводы для недовольства, которые, впрочем, могли затянуться и надолго, даже на годы, продолжай они жить вместе.
Нет, слово явно было не за Юлиусом. Он тут больше всех был гость, а потому мог начать разговор, лишь задав какой-нибудь конкретный вопрос. Или попросить что-нибудь, завязав с Акселем, так сказать, разговор по делу.
— Я хотел бы узнать кое-что, о чем она не хочет мне говорить.
— Не хочет говорить?
— А потому, наверное, не будет возражать, если я узнаю это помимо нее.
Аксель, давно уже не обращавшийся к Лейле, пытался завязать контакт хотя бы с ним. Он ей припомнит, но не сейчас.
Жертва была самая подходящая: человек чужой, просто знакомый его тоже, в общем-то, не более чем знакомой. Возможно, Аксель чувствовал даже, что конфликт с ней больше подойдет ему в опосредованной, разбавленной форме. Неужели он и впрямь предпочитает шнапсу коктейли?
— Неужели стать твоим другом так трудно?
— Если захочешь пару клубничин на завтрак, малыш, тебе стоит только поднять пальчик.
Юлиусу вдруг захотелось провести время с Акселем. Может быть, потому, что Акселю не хотелось?
— Из-за тебя я уже с утра пью, — сказал Аксель, разбавляя вино виноградным соком в бесплодной попытке отвыкнуть пить. Заявил и умолк.
Доступное не интересовало его. Сквозь чью-то кожу он легко мог проникнуть — и пользовался этим, — сквозь чью-то — нет. Он мечтал научиться проникать в любого человека.
Чтобы за короткий срок прожить несколько жизней, нужно десять лет и много денег.
Нужно постоянно подбрасывать корм чудовищу, живущему у тебя внутри, чтобы оно с голодухи не надумало сожрать тебя самого.
Стараться не тревожить его лишний раз. Заклинать его тихо, в словах кратких и быстрых, наползающих одно на другое. Так, чтобы они утратили смысл, а их обещания сбывались.
Юлиус воспринимал Акселя, не проникая внутрь, а видя только кожу, как будто, кроме нее, ничего и не было. Сначала ощутил наготу его рук и лица, но не потому что видел и мог коснуться, а потому что Аксель сам ощущал их наготу.
Нет, голый тут не я. Левая рука блудит, правая пишет.
Был момент, когда он готов был наброситься на него всеми известными способами. Это была страсть, не вызывавшая боли, потому что только что зародилась.
Он резко ущипнул себя за руку. Вскрикнул, но коротко. Быстро опомнился и сжал губы. Боли в руке не было.
Не успев прийти, боль растаяла сновидением. Хотя он почувствовал ее: значит, страхов у него по крайней мере никаких нет. Выругался невнятно в адрес всего на свете, без конкретного повода. Встал, охваченный жаром. Шаги заплетались в ковре.
Он плотно завернулся в одеяло, как будто был наедине сам с собой. Ткань, запах, отдельные колкие волокна. Это ему тоже суждено испытать. Щеки распухли. Уши, казалось, ползли по затылку навстречу друг другу. Шорохи растворялись в запахах. Его единственная рука, сгоревшая на солнце, оканчивалась широкой ладонью, с пальцами толстыми, как корни. Эта рука была вполне способна ожить и выползти, чтобы крушить деревья и ломать железные балки.
Другая — лишь стиснутый кулак над пенисом.
Построив по тревоге свои самые ужасные воспоминания, он призвал их к оружию. Его одолевала какая-то невыносимо чуждая сила. Не вулкан, плюющийся лавой, а клубящаяся под потолком тьма склепа, душившая его.
Он непременно должен встать и начать действовать. Чем бы это ни кончилось. За это ему и надо теперь держаться, тратя последние остатки распадающейся воли. Бросив наконец искать вежливые отмазки.
Было ли ему плохо только лишь оттого, что он боялся дать другим проникнуть внутрь себя? Но эксперимент есть эксперимент, и он уже начался. Да у него и не было мыслей, которые ему хотелось бы скрыть из боязни разочаровать кого-то.
— Ну ты, конечно, об этом слышал.
Лейла и этим ничего не сказала, сыграв роль просто эха.
— Ты так и не поняла — я вообще ни о чем не в курсе. Не слышал. Не нюхал. И не пробовал.
Ему было тяжело выносить все это. И он пер вперед в отчаянной надежде, что этот путь приведет его к выходу. Ему было смешно, и он больше не скрывал этого. Рот растянулся до ушей.
Он знал, что самой большой ошибкой, идиотизмом сейчас было бы смягчать свой голос и жесты. Отнесясь ко всему легкомысленно, он ничего бы не выиграл, однако отвертеться все равно бы не удалось. Действовать приходилось в темпе чечетки.
— Мне надо лечь. Я уже не соображаю, что говорю.
— И ты можешь спокойно заснуть, не затрахавшись до седьмого пота?
— А если и это не помогает?
Лейла быстро показала несколько упражнений, каждый раз обрывая их, не доводя до традиционного завершения. Если кто из них и был обеспокоен, так это они, а не Лейла. Многое так и осталось намеком, но каждый намек давал место воображению, воплощая в себе и соло, и ритм.
Она явно показывала, что умеет еще многое — только попроси. Можно было, надо было дать ей продолжить. Однако он сказал лишь:
— Я попробую.
— Ладно, не прикидывайся.
Представился задетым этим ее отзывом, да так удачно, что она и не заметила, что на самом деле он воспринял его как высшую похвалу.
Настолько, что даже не смог сдержать улыбки, хотя и покачал головой. Так, по-стариковски, показывая, что это не относится ни к кому. Под конец выдвинул вперед руки, расположив их так, будто держа на одной невидимый плоский диск, а другой прикрывая его.
Она взяла его за руку; другой рукой он обнял Акселя.
Юлиус был чудным куском дерьмеца к обеду, только вот соус подкачал.
Выкрутиться нельзя было никак — очередной приступ, болезнь или несчастная любовь тут уже не сыграли бы. Хотя можно было бы выйти красиво, выстраивая из разрушенного все новые формы до тех пор, пока они не станут лучше первоначальных.
— Я нарочно сделала вид, что ни черта не соображаю и что тебе ничто не грозит, чтобы ты разговорился. Поддакивала, чтобы потом выдать тебя со всеми потрохами, а теперь скажу: сейчас я выдам тебе нас, чтобы ты знал, что нам от тебя нужно.
Лейла стояла рядом с ним, как будто все уже было сказано. Кровь ударила ему в голову. Не от того, что он не понимал ее или считал, что его провели.
Окончательно утратив всякую ориентировку, он мог теперь лишь медленно всплывать из глубин бесформенного страдания к снисходительному и всепонимающему созерцанию.
Он ощутил сладкое нетерпение, предвкушая, что что-то сейчас произойдет, прямо вот-вот.
Он снова узнал эту квартиру. Вспомнил, как жил здесь сам. Ностальгия не была печальной, он был рад этим воспоминаниям.
Действительно ли он увидел при этом сам себя или ему потом кто-то напомнил?
Он рассказывал о прошлом, которого они здесь не знали. Соглашался с ней в том, что касалось общих наблюдений, и скрупулезно уточнял известные одному ему детали.
Он разговорился — и заблудился. Стал чем-то, что не имеет значения ни в какое время, кроме тех минут, когда живет.
Все, что говорил Юлиус, было правдой. Сегодня он не мог ошибаться.
— Откуда ты это знаешь? — спрашивала Лейла.
Ей было отлично известно все, о чем он говорил. Однако кое-что и ей было в новинку. Она узнала, как это воспринимал он. Хуже, лучше, не важно, главное — по-другому. Поняла многое, но не о вещах, о которых он говорил, а э нем самом, вообще о том, как думают другие люди и как они это высказывают.
Возможно, ей приходило в голову, что он несет чушь, чтобы проверить ее. Но она не перебивала, потому что видела, как он наслаждается своими мучениями и как глубоко трогает его собственный голос. Как он теряет нить и переживает, чувствуя, что ее это беспокоит.
И тут он вдруг выдал ей нечто совершенно интимное, о чем ее партнер давно забыл. Или не хотел признаваться никому, даже сам себе, разве только вселенской пустоте.
Лейла заговаривала, лишь когда отмечала что-то для себя. Без контроля, что вот, мол, эта область для всех неприкосновенна, а просто плывя над пейзажем воспоминаний в полнейшей беззаботности переваривающего информацию сознания.
Аксель, молчавший все это время, высказался как бы невзначай:
— Я бы так не смог.
Разве это не было понятно и так? Иначе как бы он мог выслушивать все это без скуки? Скучать и все равно оставаться? Мог ли он радоваться тому, что узнал, скрывая при этом свое безусловное поражение?
Ни Лейла, ни Юлиус не оценили иронии, с которой он произнес свою последнюю фразу. Она не достигла цели, потому что он был недостаточно ироничен.
Он хотел помочь им, сказав что-нибудь неожиданное — для них, да и для себя тоже. Неужели они не замечают, что его прямо-таки мутит от их тупости?
Разговор шел слишком прямолинейно. За несколько часов он и сказал-то всего лишь… Лучше было молчать, держать марку. Тогда бы их, может быть, и проняло. То, о чем они говорили, интересовало и его тоже, но с ними он этого обсуждать не хотел.
Его взгляд ясно выражал отвращение — не к тому, о чем говорилось, а ко всему этому спектаклю, сказал бы он. Но если бы они прямо спросили его об этом, он лишь спросил бы в ответ: «Неужели?» Как будто он просто задумался. Однако они ничего не замечали, блуждая в потемках и иногда нападая случайно на верный след. Откуда им было знать, даже если бы он подтвердил это, что все так и было, как они говорят?
От Акселя они узнали лишь то, до чего не могли додуматься сами.
Неужели он и в самом деле знает так мало? Но то, что он знает, а не просто догадывается, было ясно. Аксель не собирался сдавать ситуацию, он был в ней уверен. Иначе бы он давно ушел.
Была ли это в самом деле его квартира? А ведь он предъявляет претензии — пусть не на Лейлу, но на какие-то совместные действия. Разыграли как по нотам — Лейла сознательно, Юлиус неосознанно? — и наблюдают за ним.
— О чем ты думаешь? — Этого простого вопроса они до сих пор Акселю не задавали.
— Во всяком случае, я не потешаюсь над вами. И не злюсь.
Соположение этих двух слов, «потешаться» и «злиться», вышло скорее наивным — неужели его скрытая обида прошла? Пожалуй, да: он больше не обижался.
— Ты нас презираешь.
Разве это было не то же самое, что сказать: вот, мол, человек страдает, а ты над ним потешаешься. Ему предлагали выбор: отреагировать на заведомо ложный упрек или на ее столь явно подчеркнутое страдание.
— Я вам завидую.
Было ли и это иронией? Даже если они и чувствовали себя провинившимися школьниками, это не помешает им продолжать беседу. Чему он завидовал — тому, что им есть о чем говорить столько времени? Теперь ему тоже предоставили слово, но ему не хотелось, чтобы их беседа закончилась на этом. — Ты этого не вынесешь.
Того, что они и дальше будут сидеть и разговаривать или что сейчас пойдут спать? Тогда-то они, конечно, умолкнут. Нет уж, пусть лучше говорят, слово за слово, пока не упадут от усталости.
Юлиус закатал рукав рубашки чуть ли не до подмышки. На левом предплечье показалась нижняя часть татуировки, из переплетенных хвостов которой ничего нельзя было понять. Но сама его поза уже была достаточно однозначной.
Наука нехитрая: оголить свои более чем скромные мышцы и слегка напрячь их. Позволить чему-то надолго овладеть твоей кожей. Сдержать внешнее беспокойство, идущее лишь от внутреннего напряжения, то есть, в сущности, ничем не обусловленное.
Юлиус выпятил вперед свой тощий живот.
Не вызвав у Акселя ни желания, ни отвращения. Лишь его взгляд опускался все ниже, в самую глубину души.
Если бы Юлиус хотя бы не мешал его попыткам сблизиться. Это ведь не так просто, как секс.
Акселю хотелось заняться сексом с Юлиусом, однако его неуправляемая похоть ему мешала. Если бы Юлиус был просто голубым, Аксель бы с ним сразу поладил.
В каком-нибудь клубе или просто на улице можно было бы найти сколько угодно парней на него похожих. Всегда готовых пойти с тобой или, наоборот, заехать по морде. Или если встретить его на пустынной улице, на ночной площади или у бортика какого-нибудь декоративного фонтана.
Покинуть Лейлу и ее квартиру оказалось нелегко. Они говорили, что вот, мол, сейчас уйдут, но на самом деле были не готовы.
Не сменив ни одежды, ни места действия, трудно перейти к чему-то новому. Как в домашнем порно, когда нетрудно догадаться, что оба и без видеокамеры занимаются сексом точно так же. То, чего зритель ожидал и что ему продали без обмана. Чтобы он помучился как следует или ощутил себя недоноском, чтобы все тайное, стыдное, забытое выперло из него наружу. Образцом служит чужая правда, чужое счастье. Или вообще без зрителя — человека нет, есть только вещь, которой все равно. Или если уж за тобой наблюдает человек, то пусть и ему достанется по полной, как и тебе.
Лейла вытащила из кармана несколько клочков бумаги и сложила их на столе. Получилась почти целая 500-марковая банкнота, не хватало лишь пары кусочков. Сказала, что нашла их перед дверью, и тут же начала сочинять историю, в которой участвовали чуть ли не все жильцы ее дома и соседних. Но банкнота не вызвала у мужчин ничего, кроме слабой улыбки.
Деньги, особенно если их много, делают человека другим. Нечего было и говорить, что о деньгах нечего думать.
Лейла заговорила, как бы ни к кому не обращаясь:
— Ты не любишь нищих. Потому что стыдишься собственного достатка или боишься, что они будут от тебя чего-то хотеть? Что твое присутствие причинит им боль?
Ответил Юлиус:
— Я не разговариваю с бедняками. В моем присутствии они чувствуют себя неловко, потому что думают только о моих деньгах и считают, что мне хочется успокоить совесть.
— Ты не из касты привилегированных. При других обстоятельствах — просто они не сложились — ты был бы в таком же положении. Да ты и сам считаешь себя одним из них, как бедняк, женившийся на богатой. Ощущаешь свой достаток как случайную фору, позволившую тебе прикрыть нищету. Все это слишком просто.
Намек на то, что он нашел себе богатую невесту в лице Акселя, или это упрек им обоим, только Аксель уже сто раз его слышал?
Это была провокация, но состояла она не в том, чтобы показать им, что их отношения на самом деле строятся на деньгах или что она относится к деньгам иначе, чем они оба. Вопросы Лейла задавала серьезные, да и знала она о Юлиусе больше, чем он сам. Если он знал, что он в каждый данный момент чувствует, то она знала еще, и как он при этом выглядит. Возможно, он знал то, чего ему нельзя было знать, зато она знала, сколько денег можно из него выжать, если бы они у него были.
— Это сад, полный битого стекла. Но ты-то давно уже не ребенок, который боится, что вот родители купят новый дом и будут гулять в саду одни, без него. Туда им возврата нет.
Просто взяла и показала, что будет.
— Я никогда не зарабатывал систематически.
— Доход тебе приносят твой имидж, твое воспитание, твой опыт, а не деньги.
Деньги, которых у нее не было или она не хотела давать ему. Она сама хотела быть деньгами, эдаким переходящим призом. Отдавшись на его волю, она его переиграла.
Деньги давал ему Аксель. Возможно, ему приходилось пахать на Юлиуса в поте лица, однако Юлиус был в его руках.
Пока тот кормил его, Юлиус старался ему нравиться. Он соблюдал дистанцию, но не больше той, которую соблюдал сам Аксель.
Они были верны друг другу и, невзирая на массу расхождений, могли сказать, что у них общая судьба.
У одного случайно всегда водились деньги, это не менялось с годами и нравилось обоим.
Они избегали думать о будущем или менять что-либо. Когда один загибался, другой думал, что тот просто решил расслабиться. Каждая минута безделья лишь подстегивала их.
Сомнение зудело, не дожидаясь превращения в уверенность. Аксель во всем видел злой умысел. Задавал вопрос, чтобы тут же задать следующий.
Согласись Юлиус на такой разговор, ему пришлось бы самому перейти в наступление. Аксель понимал это:
— Извини, что я тебя нервирую. Но я не могу этого не делать.
Он воспринимал все настолько остро, что, в сущности, разговаривал даже не с Юлиусом, заранее принимая в штыки все, что тот скажет. Того, в свою очередь, это задевало, заставляя продолжать разговор.
— Ты меня любишь?
Неужели Аксель выдал себя, перестарался с маскировкой или просто успел разочаровать Юлиуса?
— Почему ты спрашиваешь?
Вопрос следовал за вопросом. Новый вопрос заставлял забыть о старом так быстро, что Аксель даже ощутил удовлетворение. Первоначальное любопытство вовремя сменялось скукой, и этот калейдоскоп его вполне устраивал. Во взгляде Юлиуса чувствовался упрек, нажим и, возможно, некоторая неприязнь к Акселю. Не пора ли сменить эту жалкую тряпицу, вконец изодранную ветром, на новую?
— Ты веришь в проект, только пока он еще начинается. Прежде чем разочароваться в своих ожиданиях, ты уже хватаешься за следующий. Каждый проект вселяет в тебя новые надежды. Но ты никогда не думаешь: «Уж этот-то проект наверняка окажется лучше всех предыдущих!» Просто переходишь от одного к другому, и все. Но конец-то должен быть.
Нет, это не по его, Акселя, адресу. И незачем было говорить об этом. Все, проехали. Что прошло, то прошло, и возвращаться нет смысла. Может, поэтому им и в самом деле пора взяться за какой-нибудь новый проект? Причем давно пора?
Кто хочет испить свою чашу до дна, всегда цепляется за жизнь. Кто не способен избежать непредвиденных потерь, вовремя снизив свои запросы.
Юлиус потрепал Акселя по руке. Тот не пошевелился. Они расстанутся, не обсуждая этого вслух.
— Ты наверняка еще что-нибудь придумаешь, — сказал Юлиус, давая Акселю возможность укрыться под защитой слабости.
— Мне хочется покоя, но я знаю, что и в покое мне лучше не будет. Накоплено не так-то уж и много, но я быстро устаю. Не спотыкаюсь, нет, а просто вожусь со множеством мелких кусочков, складывая их воедино.
Вижу, что не хватает еще того, сего. Но как только картина начинает вырисовываться, я ее бросаю.
— Как только появляется что-то новое, обнаруживается неполнота старого.
— Все, в чем я сумел разобраться лучше других, утрачивает для меня всякий смысл.
— А свои недоделки ты исправлять не любишь?
— Какие-то детали, на которые я почти не обращал внимания, действительно потом вылезают. Это от невнимательности — я ловлю себя на этом на каждом шагу. Но когда я пытаюсь что-то исправить, то с ужасом замечаю, что за деталями для меня всегда пропадает целое. Это как пакт: я не вникаю в детали, а вещи за это раскрывают передо мной свою суть.
Легкое движение, и они обнялись. Было хорошо сознавать, что у тебя есть кто-то. Правда обоим больше всего хотелось бы не встречаться вообще никогда, но ни один не желал делать это намеренно.
В еде они были разборчивы. Часто готовили дома, комбинируя нескоро портящиеся запасы со свежими закупками — тушили, варили. Мясо тоже. Тошниловка ничуть не большая, чем застоялый запах цветов, росших и цветших буйным цветом, хотя с ними ничего не делали, только поливали.
Дома у них было много контактов с внешним миром. Однако это не были ни долгие или краткие телефонные разговоры, ни письма, писанные на скорую руку ежедневно или раз в месяц, ни ежевечерние телесериалы, которым рано или поздно тоже приходит конец, ни бесконечная череда конов любимой игры. Уютная забота о растениях и домашнем обеде отнимала не более получаса в день, хотя и грозила стать навязчивой самоцелью. Им это нравилось, да, но заставляло всякий раз преодолевать свою лень. Они не были привязаны ни к ребенку, ни к навязчивой идее выживания, ни к партнеру. Домашние дела делались как бы сами собой, и они почти не замечали, что за весь свободный ото сна день у обоих набегало не больше пары часов, когда они могли не думать друг о друге, не смотреть в лицо и не торчать в одной комнате.
Для Юлиуса Ребекка была привычной старой подружкой, нового лица в своей берлоге он бы не вынес. Хотя иногда сожалел об этом. Он пытался придумать себе какое-нибудь неординарное событие, с которого началось их знакомство, за несколько лет до того, как они сняли эту квартиру.
— Ты спросишь: «Где я?» И я тебе отвечу: «В своей постели». «Но это не моя постель», — возразишь ты. В конце концов мы согласимся на том, что ты просто не знаешь, чья это постель. Как если бы ты не знала, в каком мире сегодня проснулась, и именно я — тот, кто должен объяснить тебе, куда ты попала.
Освобождать тебя сюда не придет никто. Поэтому тебе придется прислушаться к тому, чему буду учить тебя я.
В таких случаях Ребекка всегда возмущалась: «Я не хочу никаких объяснений! И не собираюсь ничему учиться!»
Юлиус же брал и усаживал ее себе на колени, делая вид, что хочет передать ей что-то из уст в уста. Потом всегда разукрашивал ее, обсыпая или обставляя разными блестячками. Свечки, золотце, люминесцентный скотч, мелкие зеркальца овеществляли выделявшийся пот, безжалостно выводя его под лучи горячего света.
При этом обоих трясло. Обоих разогревало так, что вспотевшие ноги некуда было деть, руками не обо что опереться, а когтями не дотянуться до стены, чтобы нацарапать прощальные слова. Они впитывали друг друга, наслаждаясь ароматом, испускаемым собственным телом. Выделенный жар не уходил, а обволакивал их, отдавая в рабство вселенскому теплу и свету.
У Ребекки сводило плечи, начинало знобить. Продвигаться дальше она могла лишь самыми мелкими шажками.
Раздеться донага — это всегда был сюрприз. Сколько же самой себя она до сих пор не знала! Смущенно вглядывалась в свои бедра, груди, прожилки, ямочки, мягкости, как будто это не она, а совершенно чужая женщина. Это и в самом деле было приятно.
Желание ушло, но это ее не разочаровывало. Прежде она радовалась, чувствуя, как растет ее желание, потом они привыкли чувствовать себя счастливыми без конкретного удовлетворения. Время требует разного. Они за это время успели набрать всего под завязку, и секса, и счастья, и не жалели об этом.
Лишь когда чувство ушло, они начали ощущать это. Вновь стали сами собой — с лучшей стороны.
Спокойно, без всяких, лежали рядом на постели или на полу, иногда гладя другого по щеке, совсем немного. Этого более чем достаточно, когда большего и не требуется.
Сознание того, что другой чувствует то же самое, делало любое следующее движение излишним. Встать с полу? Пойти поесть? Поунывать? Сходить к врачу? Зачем?
Ей и не хотелось совершать никаких движений. Потому что все было фатально: ходить, пить, бить. С нежностью и печалью один воспринимал другого как некое существо, которого больше нигде никогда не встретишь. Любовь их была чистой и безнадежной, не обещавшей ни удовлетворения от того, что другой любит тебя больше, чем ты его, ни огорчения, что он тебя любит меньше.
Они избегали запоздалых признаний. Предпочитали втайне подозревать себя или другого в низости, чем в открытую признаваться в чувствах. Это постоянное противостояние утомляло и тяготило, заставляя вести один и тот же мысленный спор:
«Когда ты на меня смотришь, это пугает. Когда ты меня слушаешь, это как допрос. Поэтому я тоже гляжу тебе в глаза и говорю, говорю черт знает что.
Ты все время ставишь мне ловушки. А я начеку все время. Но бежать не пытаюсь, потому что знаю, что это бесполезно».
«А я упаду на пол, сгруппируюсь и попытаюсь ударить тебя ногами».
«Ты хочешь, чтобы я ударила тебя?
Ладно, я тебя ударю, если ты хочешь. А ты — меня. Если хочешь».
Одна комната была для двоих слишком мала. Но вторая и третья для этого не годились.
Осознать себя где-то еще целиком они могли, лишь распавшись здесь, на этом уровне, на самые мелкие частицы. Где каждое событие стремилось стать такой же частицей, чтобы наполнить их своим светом. Где две тени уже начали сливаться в одну.
Но ни для одного из них это не было поводом захлопнуть за собой дверь.
Ребекка дарила ему облегчение, какое только может один человек подарить другому. Даже если Юлиус уходил в свою комнату один.
Окружавшие его вещи, хоть верно ему служившие, хоть просто давно не используемые, не имели права меняться. Он не интересовался ими, они просто были его.
Он дожидался следующего дня. Если засыпал — не важно, что с ним было, — то просыпался наутро в своем обычном состоянии, вполне выносимом.
Иногда не ложился, оставаясь в одежде: это была его защита.
Сегодня он занавесил окна. Не хотел, чтобы с улицы видели, как он ходит взад и вперед. Приоткрыл окно на ладонь. Но на фасад дома напротив падал такой яркий свет, что пришлось снова закрыть его.
Что-то мешало ходить. Часть внимания тратилась на то, чтобы не столкнуться с препятствием. Вещь можно было убрать, освободив себе путь. Но, боже мой, насколько лишним был бы этот жест! Нет, жить тут нельзя, проще уйти.
Самое позднее время, когда он отходил ко сну, отличалось от самого раннего времени пробуждения всего на каких-нибудь полчаса. В эти часы на улицах почти никого не было, лишь в каждом втором или третьем доме горел свет или играла музыка.
Однако Юлиус не хотел попадаться на глаза даже этим немногим неспящим, которые вряд ли заметили бы его или просто следили бы за ним, невидимые, из темноты. Упал на постель наискосок, свесив с нее ноги и слегка покачивая ими над полом.
Напряжение и усталость боролись друг с другом. Чтобы уравновесить их, требовалось что-то третье. Любое взбадривающее или седативное средство возбуждало похоть. Возникли два идеально симметричных полюса: слабость и сила. Тяжесть мужчины в парах валерьянки, грызущего корешок, надкусывающего фрукт. Жесткая ткань под мягким ветерком в обширном поле квартиры.
Под одеялом, которое он в конце концов решил натянуть на себя, было жарко. Он таял в своем тепле. Все звуки, которые он слышал, исходили от него самого. Но запахи были ее — или, во всяком случае, то, что он считал ее запахами.
Все образы виделись так близко, что узнать можно было только цвет. Погрузившись в цвет, он опять оставался наедине со своими мыслями. Но, даже пытаясь связать их, он был не в состоянии задерживаться на них дольше пары минут.
Даже сосредоточившись, он мог выделить лишь немногое из того, что проходило бесконечной чередой перед его мысленным взором: цвет лица, форма носа, голос. Связать их с чем-то знакомым не удавалось. В череде выделялись группы, но между элементами одной группы различие было больше, чем между двумя центральными полюсами. Да и как было определить границу между одной группой и другой? Отвращение к ублюдочным пограничным случаям делало его абсолютным расистом, ненавидящим все расы.
Чем дальше эти образы отстояли от того, что он мог рассчитывать увидеть в действительности, тем более реальными они ему казались. Самые радикальные замыслы на свете порождаются только знанием истины.
Сумел бы он, захотел бы он рассказать свою жизнь даже самому себе хоть один раз, а потом и второй, чтобы изменить то, что не понравилось в первой версии? Не плохое, а просто все, включая самые мелочи, — все, чего он когда-то не понял. Тогда истина закономерно превратилась бы в ту самую прекрасную выдумку, которая всегда украшает хорошие мемуары.
Юлиус спрашивал себя, какие из жизненных ситуаций ему хотелось бы прожить заново — из тех, когда жизнь казалась ему невыносимой. Так, что легче было бы умереть.
О, он — бы вернулся туда, к этим местам и событиям, несмотря на или вопреки тому, что уже знал, и так просто бы теперь не ушел оттуда. К тем ловушкам, в которые тогда попадал, заставив страдать своих немногих друзей.
И за что он теперь должен больше презирать себя: за глупость или за то, что так бездумно транжирил себя? За то, что не смог, не захотел и не стал связываться с кем-то, или за то, что вляпался, проиграл и обозлился, не желая понимать причин?
Впрочем, у него была еще одна надежда: он мог целиком отдаться отчаянию. Забыться в объятиях боли. Это хотя бы отодвигало кризис — на день, на два, на сколько получится.
Другие — точнее, только Ребекка, больше у него никого не осталось, — пусть другие думают, что он впутывается во всякие авантюры только ради того, чтобы никто и заподозрить не мог, насколько он уязвим. А также что его мощный интеллект всегда позволит ему справиться с любой проблемой и к тому же проникнуть в ее истинную суть. Которая, может быть, никому и не интересна, однако ни Ребекка, ни другие ни разу даже не попытались понять эту суть. Юлиус же просто знал ее, но этим знанием не пользовался. Сколько же раз ему придется еще вставать со смертного одра и выручать их?
Сколько же народу накопилось, с кем потом пришлось рассориться навсегда, — мелкие недоразумения не в счет.
Связи, налаженные, казалось бы, ко всеобщей выгоде, выдыхались, исчезали.
Любой голос, звук резали слух. Его брали за пуговицу, дышали в лицо, не признавая за равного. Говорили без умолку, точно желая не дать ему возразить, не замечая его безразличия.
Рот остался полуоткрытым. Юлиус молчал, да его и не принуждали отвечать. Но долго это тоже продолжаться не могло. Так и не найдя подходящего жеста, он мог лишь думать: «Нет, нет, нет…»
Он слышал, как голоса других, не умолкая, становились все тише. Как будто сам за собой следил, засыпая. «Пока-пока», — пробормотал он, пару раз с наслаждением дернувшись всеми членами.
Заложил руку за голову, уронив ее на руку всем весом, как будто это была чужая голова. Поднял другую руку, точнее, кулак, придвинул ближе к щеке, но не дотронулся до нее, хотя пальцы разжал.
Свой костюм он не заказывал у портного, хотя вышло бы ненамного дороже, а купил в магазине, небрежно сняв с вешалки. Его успокаивала мягкая, непредсказуемая податливость материала, не прикидывавшегося тем, чем он не был.
Ему не нужно было движение, не нужны мысли, не нужна мода. Он не хотел ни вникать в них, ни гнаться за ними. Чтобы не стареть слишком быстро. По крайней мере от этого. От этого он терял контроль над собой. И потом обнаруживал себя где-нибудь по соседству, в окружении и стариков, и молодежи.
Когда на прилавках появлялась какая-нибудь новинка, он покупал ее пять лет спустя, все это время тратя деньги на вещи, давно переставшие вызывать интерес у кого бы то ни было. Принеся покупку домой, он без лишних раздумий пристраивал ее на свободное место, как делают двенадцати- или четырнадцатилетние.
Интересно, во что это обходится — год за годом покупать очередные новинки, усовершенствованные модели? Новинка, конечно, работает лучше и стоит дешевле. Однако отчего все любители новинок едва сводят концы с концами?
Всем давно известно, что любая новинка — времянка, просто ее продают под тем соусом, что вот, мы кое-что тут теперь довели до ума. И пока покупатель учится по-новому нажимать кнопки, его уже поджидает жестокое разочарование в облике следующей новинки.
Не удалась новинка — тем лучше, покупатели еще пуще набросятся на следующую. Чтобы окупить расходы на постоянную «доводку», нужно постоянно завлекать публику, что и делается, как в казино, где основной доход тоже обеспечивается массовостью клиентуры.
Даже будь у него свободный капитал, Юлиус не стал бы вкладывать его в бизнес, повинуясь рекламному лозунгу «Пусть деньги работают на тебя». Для него это означало жить неопределенной жизнью, зависеть от финансовых спекуляций, ежедневно пытаясь отгадать, какие новые частицы ему еще подкинет эта головоломка и куда их потом нужно будет девать.
Ему хватало разрозненных частиц головоломки его собственной жизни. Он умел просчитывать будущее, но, когда оно наступало, ему уже было все равно, что будет дальше. Иногда у него появлялось чувство, что что-то должно или хотя бы может измениться. Тогда он распихивал по карманам все наличные деньги, которые у него в тот момент были. Большая, еще не размененная купюра была лучше кучи мелких на ту же сумму, потому что те не умещались в брюки. Деньги были, нечего было покупать, но это его, впрочем, никогда серьезно не волновало.
Да он мог бы хоть сейчас сжечь все эти деньги. Кроме монет, естественно, основа которых металл, а металл, он в конечном итоге считается по весу. Виртуальные деньги, банковский счет — всегда записаны за кем-то персонально. Их можно либо переписать на кого-нибудь, либо потерять, пропустив ненароком описку в бумагах или бандюг с пушками в свой кабинет.
Когда информация становится вещью плохо лежащей, легко доступной и скоропортящейся? Когда ее материализуют в виде фотографий, гроссбухов, бланков с подписями или звуко-, видеозаписей — вот он, носитель информации во всех трех своих измерениях. Сколько же денег это стоило — снять его со всех сторон и в надлежащем интерьере! Зато теперь он прост и понятен, как примитивный орнамент, выполненный в доэлектронную эпоху.
Новые плоскости были прозрачны и невесомы, как если бы их готовили без заранее утвержденного плана и без физических компонентов.
Юлиус вспомнил обо всех тех гадостях, которые сами собой вылупливались из каждого его переезда, из каждой покупки, от которой он ожидал хотя бы двух дней покоя. Вспомнил плакат, висевший за стеклом банка «Пусть ваш капитал работает на вас». На плакате были изображены рабочие в потрепанной одежде, переносившие какие-то шпалы со стапеля к бетонярке.
Ему надоело думать обо всем этом. Считая по-хорошему, у него впереди было двенадцать, а то и вообще сорок восемь часов незыблемого счастья.
Хотя, конечно, он увяз, увяз в этом меду всей бородой. Надо вытаскивать, волосок за волоском. Рывком будет больно.
Он еще лежал, но уже готов был встать. Взглянул на посветлевшее небо за окном и понял, что еще не может ни на что решиться.
Можно обдумывать что-то пять или шесть раз, можно тысячу раз пережевывать это. Только не надо ни к чему привязываться. Каждый день человек теряет миллионы секунд зря. Однако его от этого не убывает.
Изменить себя можно. Он сам проделывал это решительно и быстро. Тогда в сорока восьми часах оказывалось трое суток. Там были места, где он никогда не бывал, странные встречи, необъяснимые поступки. Вещи, часы, для которых в обычных сутках не было места.
Забытое уступало место тысячам соискателей, толпившихся во имя его, хотя имя — всего лишь комбинация звуков. Куда ни кинься, бездушный механизм регулирует любое твое движение. Любое слово превращается в пароль, вновь запускающий все тот же механизм.
Рассыпаться, пройдя через сито паролей. Он прикрылся именем, и имени не стало. А потом не стало и его самого.
Свет маленькой красной лампы падал на белую стену, отчего противоположная стена казалась зеленой. Лейле пришлось слегка повернуть голову, чтобы отвыкнуть от слишком яркого света и вернуть стенам их краски.
В неумеренно-белом свете посреди комнаты стояли две высокие, чуть эллиптические вазы с засохшим букетом. На полированном полу лежал матрас, на пути к которому босым ногам не мешали ни пыль, ни крошки. Лежанка в пустой комнате, разбросанные шмотки: от каждого предмета одежды один, максимум два экземпляра. Подолгу ничто не ношено. Шкафов не было, лишь у одной стены стояла корзинка с бельем. Что отсутствовало здесь, было в прачечной, мимо которой она каждый день ходила в фитнес-клуб. В клубе не задерживалась, обходя все бегом: велосипед без колес, беговую дорожку и легкие разновесы — и заканчивала в парилке, тратя на нее еще пару столь же пустых минут. Она не плавала в хлорированной воде и никогда не заваривала чай крутым кипятком.
Джинсы у Лейлы выцвели и вытерлись на заду. На шее болталась целая коллекция шнурков и незвонких ожерелий. То ли она добавляла их постепенно, убирая надоевшие, то ли меняла весь комплект целиком?
Украшения и музыка сопровождали ее по жизни, веселой и безопасной. Платья она иногда еще носила, но главной песней, вершиной карьеры, было бижу. Женщина-космонавт в галактиках мужчин. К каждому вылету она тщательно готовилась, подбирая детали. Средствами пользовалась простыми, легко находя или меняя их сообразно ситуации.
Всякий раз приходилось выбирать, причем она терпеть не могла повторять уже опробованное. От того, во что уже вложен кусок жизни, не спасет никакой минимализм. Вместо этого она предпочитала неожиданное, на котором смело набрасывала свои эскизы.
Под потолком проходила балка, не несшая никакой опорной функции, а лишь заставлявшая нагибаться. То ли помеха, то ли напоминание о смерти для тех, кто еще жил здесь. Фигуры с родимыми пятнами красок лежали, отодранные от опустевшего фона. Лишенные всех амбиций, они громоздились теперь обломками классицизма в надежде, что им еще найдется роль в репертуаре нового театра.
Старой Лейлиной квартиры больше не было. Переехала она быстро, не без колебаний, но не желая уступать будущим сомнениям.
Собственно, ничего не изменилось: мебели у нее и так было немного, расставаться было не с чем. Эдакая утонченная простота как убежище от вопиющего достатка и самодовольства других, сумевших хапнуть свое во времена перекроек и перестроек.
Когда у Лейлы вдруг завелись деньги, она вложила их в эти две вазы. Что же до счетов, то она задолжала по ним не за месяц и не за два, а много больше, но по-прежнему жила так, будто ее хижину вот-вот снесет вулкан. Пару лет назад она накупила газет и закрыла ими весь пол. Попутно установив, что ковер везде драный и запачкан. И что во всех ящиках скопилось много пыли и дерьма. И зубные щетки совсем облысели, а у хорошего бокала отбился бок, так что наполнять его можно только наполовину. Ну, это-то ее мало беспокоило, она давно привыкла жить в дерьме и разрухе.
Что бы Лейла ни делала, все заканчивалось в постели, тихой, уютной, в которой она просыпалась заново рожденной. Вставала, переставляла какие-то вещи. Чтобы они не загораживали внутренний взор.
Свет она выключала, но заснуть это не помогало. Включала снова, шла в душ, потом в постель, сохнуть. Простыни, одеяла облегчали, но лишь на мгновение, пока из-за окон опять не начинал греметь шум машин.
Во сне она то укутывалась, то лежала нагишом, дверь в комнате то закрывала, то распахивала. Ох, как не любила, когда во входную дверь стучал кто-нибудь. Потому и спальню себе устроила в самой дальней комнате от входа. Хотя дело было не в дверях, она вообще подумывала снять их с петель и выкинуть — они были для нее просто очередной мелкой житейской помехой.
Юлиус знал, что другие чувствуют себя с Лейлой легко и непринужденно. Она была так приветлива, что это и в самом деле отпугивало незнающих. Привет, дорогой, чтоб ты пропал.
— Я тебя не поняла. Или если поняла, то этого не может быть.
Видимо, Лейлу и в самом деле припекло. Ему даже не надо оправдываться. Хватит и того, что он перед ней каждый раз разный.
— Ты всегда говоришь, что знаешь меня. С чего бы это? И, главное, зачем?
Лейла говорила с ним, как императрица со случайным фаворитом, мгновение счастья с которым ей не забыть никогда. Настроение-то ладно, мгновения повторяются, главное — детали: те детали принадлежали только им.
Что бы там тогда ни было, Юлиус это помнил. Она не оживила воспоминаний, а лишь намекнула о них. Его воспоминания не вмещались в мгновение, хоть тогда, хоть теперь. Они-то по крайней мере останутся с ним, если они сейчас расстанутся навсегда. Она этого хотела?
— Ладно, забудь. Мы и не видались-то не так уж долго.
Забыть о чем? О своих ожиданиях или о том, чем обладал раньше и потерял, когда она переехала в новую квартиру? Он смотрел на нее, и все его чувства тонули в сияющей белизне.
Юлиусу хотелось, как младенцу, прижаться к ней. Перестать существовать в какой бы то ни было форме, кроме ее улыбки, выражения лица, которого самому не видно. Слепо следовать тому, что казалось простым и ясным. Повиноваться ее нелепым указаниям было стыдно.
Перестав отбиваться, он заметил, что она старается к нему приспособиться. Он шумел, нервничал, а она делала вид, будто считает его поведение вполне нормальным. Не сомневаясь, что между ними все будет как было — а что было?
Он ушел в сторону и прижался сухими губами к ее затылку. Она протянула руки назад, чтобы обнять его.
Его приняли, несмотря на отвратительные мысли и поведение. Она любила в нем того, кого сам он не любил, не обращая внимания на то, каким он хотел быть. Это вселяло в него какую-то чуждую силу.
Дайте же мужчине жить и любить, как он хочет!
Она все-таки попросила его исполнить прелюдию. Ждала, чтобы он решил, что делать, сама не начинала. Не из робости и не из боязни смутить партнера. Это была его роль: взять ее, как девственницу, заново овладеть ею. Как если бы Лейла причинила ему какое-то зло или он ей, так что ему ничего больше не оставалось, кроме как переспать с ней. Да так он, собственно, и делал. Как уже много раз раньше. Или пытался делать, когда она требовала этого? Потому что ей нравилось, чтобы все происходило как будто в первый раз?
То ли она слепо доверяла ему, то ли заранее включала в расчет возможное фиаско. Может, ей хотелось анально? Думая, что его тянет войти в это тесное отверстие? Пусть он сам решает, пусть заботи-ся обо всем и получает удовлетворение, пусть нюхает дерьме-цо, а она будет лишь отдыхать и расслабляться.
Мыслимо ли в сексе большее доверие друг к другу, чем такой переход к полному инструментализму? Когда возможность зачать ребенка или забеременеть уступает возможности заразиться или получить травму?
Обзавестись ребенком Юлиусу было бы гораздо неприятнее, чем подхватить смертельную или заразную болезнь. Этого было вполне достаточно, чтобы избегать коитуса в принципе, невзирая ни на какие предохраняющие средства.
Когда ему однажды все-таки, преодолев себя, удалось на время освободиться от этого страха перед самым неприятным, он на себе убедился в том, о чем до тех пор знал только от других: действительно по обоюдному согласию зачиналось детей лишь раз-два и обчелся, да и то потом оба родителя утверждали, что это вышло по недосмотру. Ему не было известно ни одного случая, чтобы предохраняющее средство не сработало. Да даже если и так, то никому скорее всего не хотелось признаваться в этом.
Кто бы из них от этого пострадал больше? Смогла бы Лейла, которую беременность задела бы прямо и непосредственно, приспособиться к ней, повинуясь новому гормональному режиму? Да, Лейла изменилась бы, но Юлиус остался бы тем же самым. Если она раньше хотя бы не исключала для себя такой возможности, то, вероятно, и страхов у нее было бы поменьше, окажись она, скажем, завтра в таком положении, несмотря даже на то, что детей она не желала.
Она бы наверняка ушла от него, прервала всякие контакты, а потом годика через два предъявила бы ему ребенка. Потому что все это время страдали и ребенок, и она. Или, наоборот, у них все было хорошо, и тогда она никогда больше не искала бы с ним встречи.
А ребенок бы вырос, уехал и, вернувшись лет через двадцать, обвинил бы ее в том, что рос в неполной семье. Такие обвинения не имеют срока давности, и ребенок может предъявить их в любом возрасте, даже давно состарившись сам.
Самому Юлиусу это тоже лишь добавило бы проблем, не важно, поймет ли он хоть когда-нибудь истинную сущность ребенка или нет. Пойти и убить его?
Тоже не выход, ни к чему брать на себя лишнюю ответственность. Могут признать невменяемым, но тоже неизвестно, что из этого потом выйдет.
Насчет Лейлы-то Юлиус даже бы не раздумывал: чем обожрался, тем и обожрался, вот и делай выводы, а что уж она там на самом деле себе воображала и чувствовала, это ее проблемы. Да и была ли это Лейла? Сквозь нее перед ним все время просвечивала Ребекка, ее комната. На ней прозрачная блуза, и резинки трусиков отчетливо выделялись под брюками цвета мальвы.
Лейла или Ребекка? Что нашла в нем Ребекка? Ту же Лейлу? Иного вывода он сделать не мог.
Мне надоело думать о том, что с нами было бы, если бы между нами не было того, что было.
Но так ведь чего не было, того и не было. Неопределенность ситуации — кто его знает, что еще будет, а чего не надо — не позволяла надеяться, что дальше не выйдет еще больнее.
Он не косил взгляд, проверяя, как вынужденный лгун, верят ли ему опять или нет. Ему просто казалось немножко лишним, что вот теперь он должен улыбаться кому-то, кто вдруг захотел понравиться ему, когда он сам до сих пор безуспешно пытался понравиться ей все время. Ей, значит, Лейле.
На ее лице не было макияжа, но из-за порозовевших щек и набрякших губ оно казалось намазанным. Радость била через край. Сжатые кулачки дрожали от невыплеснутой силы. Ладони терлись одна о другую так быстро, как будто этот жест мог тут же повлечь за собой результат.
Ребекка медлила. Она не доверяла Лейле. Лейла не пыталась выглядеть преувеличенно-женственной, как женщины, скрывающие какой-нибудь изъян, но и не собиралась раскрывать себя целиком перед другой женщиной. Мужчины никогда не верили, что у нее могут быть лесбийские наклонности. Думали, что она прикидывается, просто чтобы завлечь мужчин. Будь Ребекка лесбиянкой, она бы вела себя точно так же.
Она, наверное, тоже могла бы влюбиться в такую женщину. Испорченную общением с мужчинами, пытающуюся обратить ее в свою веру — безуспешно. Догадываясь, что она не настоящая лесби и никогда ею не станет. Нашла бы с ней удовлетворение и взаимопонимание, а потом, отдохнувшая, вернулась бы к очередному использующему ее мужчине. Она играла с ней, как если бы она была одним из этих идиотов-мужчин, вынужденных только отдавать. Лесбиянка, наказанная за свою измену мужчинам.
Было время, когда благополучные и благородные мужчины, постаревшие импотенты или голубые, охотно женились на лесбиянках. Перестав быть запретным, лесбиянство обрело черты неподражаемой светскости: избавившись от оков содержавших их мужей и отцов, женщины так и не были приняты всерьез со своей сексуальностью, поэтому им позволялось многое. Теперь лесбиянки были пионерками в брюках, таких просторных, что держаться на талии они не могли и перехватывались широкими поясами с массивными пряжками.
Спокойные и расслабленные, всегда начеку, ожидали они новых атак со стороны извечного противника, превосходящего их числом и возможностями. Чтобы узнать своих, им хватало нескольких простых правил. И нескольких простых слов, чтобы понять друг друга.
Разобщенные, они проходили посвящение товариществом. Принимали на себя мужскую роль, трезвость формы которой выделяла их из толпы настолько, что им уже не хотелось ни сбрасывать, ни видоизменять ее, ни опять разобщаться.
Были и пионерки, одиночки или небольшие группы, изменявшие пионерскому делу. В этом камуфляже они привлекали даже тех, кто никогда не хотел стать лесбиянкой. У них не было ни своей ниши, ни своей моды, которая все же, как и у геев, как-то сама собой сложилась, дав им, изгоям, повод считать, что любой, кто хоть отчасти претендует на хороший вкус, является одним из них или по меньшей мере не чужд гомосексуальной культуре.
Лесбиянки стали авангардом женской эмансипации. Это было эффективнее, чем дожидаться, пока мужчины сами уступят женщинам свои полномочия. С введением равноправия они постепенно утратили передовые позиции, а когда однополым парам разрешили усыновлять детей, то и лозунг «не жертвуй карьерой ради материнства» перестал быть актуальным.
Лейла и Ребекка были такой парой, которая вполне могла заиметь ребенка — с помощью спермы Юлиуса.
Ребекка дрочила старательно, пока та не появилась. Сбросила далеко в сторону, соблюдая безопасность. Хотя в последний момент, когда Юлиус не способен был ничего предпринять, могла удержать ее в руке и устроить себе искусственное зачатие.
Юлиус ничего не видел. Это было началом непредсказуемых последствий.
Измучился, выдохся. Юлиус знал, что расплатой за миг удовлетворения для него всегда будет риск. Если удовлетворение затягивалось, риск уходил, но наступало раскаяние.
Ребекка внезапно осознала свою физическую силу. Прижалась к нему, но желание отсутствовало. Им понадобилось много времени, чтобы узнать друг друга — и перестать при этом узнавать самого себя.
Она наклонила голову, чтобы не целоваться. Прикрыла руками грудь, но не отодвинулась. Не реагировала на нежные прикосновения и негромкие слова, призванные напомнить, как ему с ней было хорошо’.
Тревожный сигнал раздался, и кто-то высунул голову — посмотреть, откуда грозит опасность. Но сигнал был ясен и сам по себе: коридор сужался. Голова стукнулась о стенку.
С чем ей было связать это? С тем, что она правильно сделала, вовремя втянув голову, вместо того чтобы высунуться и посмотреть, в чем дело. Что никто не может знать всего. Или просто ее возмутила вся эта история, а не чье-то конкретное поведение. История, которая не кончилась ничем, и Ребекке тоже не дала ничего. Может быть, и так. Все может быть.
Они сошлись вновь без просьб, без борьбы. Обернулось все это, как и любой другой затянувшийся акт, усталостью и разочарованием. Юлиус скучал. Встать и уйти он сейчас был не в силах, даже если бы Ребекка этого захотела.
Так они и скучали бы еще много дней и ночей, что бы ни происходило с ними в жизни. Дрожали бы от скуки, как другие дрожат от страсти.
Потом они целовали друг друга в шею, за ушком. Все предваряющие жесты давно казались им лишними.
С ненасытной сдержанностью спали в той же постели, мыли и ласкали друг друга. Их не тянуло ни к хорошей еде, ни к хорошему сексу. Вернуться к наслаждениям? Увольте. Лучше сберечь то, что было, осторожно храня его.
Казалось, будто они говорят строго по очереди, успевая забыть слова другого прежде, чем начал говорить сам: «Я так хочу… Не отталкивай меня!»
Они знали о той неописуемой покинутости, которая поглотит их, если кто-то из них уйдет. Захлопнет за собой дверь или заболеет. Да даже если они вместе уйдут или вместе заболеют. Хуже всего то, что кто-то останется один. Вот они вместе решают покончить с собой, один выживает, и его потом всю жизнь мучает чувство вины, одиночества и полной безысходности от того, что он не способен больше с кем-то начать все сначала.
Они не могли ничего обещать. Заботливость другого не гарантировала ничего, зато давала волю надеждам, сдерживать которые тоже не было никакой возможности.
— Может, тебе напиться? Напьешься — и будешь любить меня, даже не зная об этом.
Что это было? Ощущение, что только безумство может положить конец их союзу?
Потом другой просыпался еще пьяным. Но его кайф длился недолго.
— Скажи, а у меня во сне тоже такие же свинячьи глазки, как у тебя?
И вздох облегчения в смысле: мое-то свинство никогда не станет таким ужасным. По крайней мере так быстро.
— Мне жаль тебя видеть.
— Разве ты не находишь в этом наслаждение? Если так, то мне тебя тоже жаль.
Насмешки сохраняли их близость. Не спасая от пропасти, а просто не давая подходить к ее краю.
— Моя любовь не ушла, и если ты скажешь, что она, мол, даже и не приходила, то это будет слишком просто. Но и я не могу сказать, что у нас с тобой ничего не изменилось.
— У нас не получилось сделать так, чтобы кто-то один взял и ушел незаметно. В отчаянии, в гневе или от нервов или не имея смелости предупредить о своем решении. Уйдя первым, он заставил бы другого думать, что унизил его намеренно. Во всяком случае, другой воспринял бы это именно так. И чувствовал бы себя гораздо хуже, чем ожидал, когда раньше представлял себе такую ситуацию.
— Мои слезы трогают только меня.
— Да, и то только тогда, когда тебе никто не мешает.
— В те моменты, когда я не думаю о тебе, я просто нахожусь в ожидании. Время разбрасывать прошло, настало время собирать. И я начинаю видеть вещи с удивительной четкостью, от которой мне хорошо. Ты даже не представляешь себе, как интересно заглядывать в чужие дома и ощущать чужие чувства.
— Для этого надо сначала разрушить собственный дом.
— Поэтому ты всегда думаешь, что я скоро вернусь?
— Ты не вернулся бы, если бы хоть раз пошел за мной.
— И ты сообщаешь мне это только сейчас?
— Но я же не предлагаю.
— Ловлю тебя на слове: ты слишком нерешительна, вот я за тобой и не хожу.
Идти было непривычно. Юлиус ходил уже целый день. Даже минуту постоять было трудно: и ноги, и руки хотели движения.
С ним была Лейла. Он таскал ее с собой, как плащ.
— Я знала, что увижу тебя здесь.
Это значило: тебе не удалось застать меня врасплох. Или: мне некуда скрыться от тебя. Или: я пришла и ждала тебя. И даже, может быть: я знала, что ты будешь ждать меня здесь. А иначе зачем ты сюда пришел? Да и я тоже?
Они не смотрели друг на друга, говорили обрывками и только самое необходимое. Почти односложно.
Конечно, им следовало обменяться хотя бы еще парой фраз. Но эта встреча была у Юлиуса и Лейлы далеко не первой. И все, что они могли сказать сейчас, немедленно обрело бы слишком глубокий смысл. Все напоминало о первом чувстве. Скажи один из них что-то новое, это немедленно вызвало бы глубочайшую ревность.
Им так хотелось, чтобы хоть что-то изменилось, что они даже не замечали друг друга. Пытались забыть все — два комплекса, которым остался шаг, чтобы с болью слиться друг с другом.
«Ты откуда?» — Где ты родилась? В каком районе живешь? Откуда пришла сейчас?
«Ты давно здесь?» — Когда приехала? Надолго ли? И зачем?
Вопросы были настолько же ненужные, насколько и нескромные, так что не было смысла переспрашивать или уточнять подробности. Каждый осторожно оставлял другому право отвечать или не отвечать. Каждый по очереди делал ход.
Они не были уверены друг в друге. Оттого им и было так легко вместе. Но затягивать молчание все равно было опасно.
Оба с готовностью попробовали просто поболтать — и были рады, что чувствуют заранее, когда предмет болтовни готов иссякнуть. Случай, сведший их прямо посреди безумного количества людей, никак не располагал к любопытству.
Они говорили с каждым понемногу, с каждым примерно об одном и том же, как будто не делая разницы, с кем им действительно хотелось поговорить, а с кем нет. Как если бы они пришли в большую деревню с намерением пообщаться со всеми.
Жили там, где могли позволить себе платить максимум за квартиру. Потому что заработать на нечто лучшее было трудно или вообще невозможно. Но и переезжать туда, где квартплата была дешевле, тоже не хотели, потому что привыкли к району. Сколько времени они тратили, чтобы расплачиваться за этот свой максимум, и как он всегда подгонял их!
Те, кому некуда было уезжать, жили в нескольких запущенных кварталах, годами не меняя ни вещей, ни взглядов. Неумелая татуировка, как будто ее рисовал ребенок шариковой ручкой. Юлиус подошел ближе и убедился: действительно шариковая ручка. В карманах бренчали тяжелые, ничего не стоящие монеты. Шуршали засаленные купюры, здесь еще ходившие. Девушка с чистым лицом — как губка, которой отирались мужчины. Другая, в танкетках, с красно-коричневой помадой на губах и бледной, еще и набеленной кожей, выгуливала бойцового пса.
Насилие тоже было близостью. Заплывшие глаза, ничего не слышащие уши.
Кто-то к ним обратился:
— Вам позвонить не надо?
Денег не предложил. Это не был рекламщик телефонной компании. Для этого он был слишком плохо одет. Может, он имел в виду, что позвонить отсюда стоит сущие копейки? Или нашел на улице мобильник и хотел как-то окупить находку, но самому звонить было некому? Или хотел застать их in flagranti[2]?
Ему наверняка пришлось бы лгать, чтобы убедить их принять его подарок.
Они оставили его позади, и тут Лейлу охватил приступ великодушия, за который Юлиусу стало стыдно.
На него уставились умоляющие взгляды. Хотели, чтобы он бросил Лейлу или резко оборвал ее? Он отвернулся и тут же ощутил одиночество. Плюнуть на принципы и отдать богатому нищему последние деньги. Уйти с головой в работу и забыть обо всем. Но от этой жизни, состоящей из мелких ограничений и расчетов, от прогорклого запаха невкусной еды его тошнило. Ему не хотелось здесь задерживаться. Отдать деньги, и все… И тут он вспомнил, что денег у него кот наплакал, и начался позор.
Ища, куда бы уйти, Юлиус наткнулся на пронзительно-острый взгляд.
— Не похоже, чтобы вы сознавали, в каком очутились положении.
— Напротив, я очень Хорошо сознаю свое положение.
— Не верю.
— И что же мне, по-вашему, делать?
— Это вы сами должны знать.
— Вы ведь знаете, что я заплачу.
— Думаете, этого достаточно?
Глупо было сюда приходить. Неужели он не догадывался, что его унизят? Зачем он вообще здесь?
Или он думал, что поможет им — одним своим появлением, словом, прикосновением? Он, который мог только вредить и убивать?
— Давай еще деньги! — крикнул нищий. И тут же: — Убей меня!
Если считать, что Юлиус благоденствует, значит, они бедствуют. Если Юлиус бедствует, значит, им вообще хана. Что бы ни происходило в его жизни, их это могло только взбесить.
Они могли убить его просто из мести — и получить от этого удовлетворение. Их прикрывала прохладная тень справедливости. Человека убили бы запросто, хотя животных жалели.
Считали, что их беспредельная агрессия — реакция вполне объяснимая и оправданная. Давно отмежевались от всего и вся.
Мир был зол, но прекрасен. Они ждали, чтобы Юлиус ласково погладил их, как зверушек.
Он не отказывался возложить руку на их раны, даже если бы они потом подло отрубили ее. Приблизить лицо к вонявшей перегаром отвратительной плоти и вонзить в нее свои нечистые зубы. Ни на минуту не веря, что на него могут напасть. Избить его хотя бы из самозащиты.
Нужно ли кусать персик, подносимый тебе прямо ко рту? Или с вежливой благодарностью отказаться? Нет, Юлиус не принял бы ничего. Никакого подарка, которого нельзя съесть в ту же минуту.
— Ладно, чего уж, — буркнул он, как человек, сознающий, что его не поняли, и быстро удалился.
* * *
Куда же я, собственно, иду, спросил он себя. Хотя у него не было ни дома, ни друзей, вопрос был не праздный.
Забыли ли уже о нем или крались следом, чтобы напасть?
Какой-то человек шел за ним на некотором расстоянии. Он торопился, почти бежал, но приближался очень медленно.
С Юлиусом заговаривали проститутки, и его это успокоило. Он отодвигал их настолько вежливо, что многие наверняка сразу принимали его за голубого.
Когда он возвращался, они, судя по их реакции, узнавали его: одни молча игнорировали, другие, наоборот, приставали еще сильнее.
Он чувствовал, что его восприняли как некую данность, и это возвращало ему свободу. Решили, как и он, что денег можно дать совсем немного. Им было все равно, кто он. Они как бы демонстрировали: мы привыкли, и ты привыкнешь. А помощи мы у тебя не просим.
Вот и все, на что они решались, по крайней мере с ним. От него не требовалось ни нападать на них, ни сдерживать или договариваться с ними.
— Вы можете представить себе такое?
— Я могу представить себе все.
В скупом свете экспонаты оживали. Догадки вспыхивали фейерверком — до тех пор, пока он не начинал развивать их. Машины, как фантазии, проплывали мимо или вдруг останавливались и гудели. Белый шум. Улица между домами состояла почти целиком из воздуха, и никакие движения не могли преодолеть этот ветер. За стенами — грязь и мусор, дома-коробки, хотя и разные, но, как их ни переставляй, получилось бы все то же самое, не хуже и не лучше. Бесконечные ряды. Вот если бы они были нагими! Но у них были фасады, и они сбивались в пестрые группы. Дома выглядели так, будто были готовы тут же поменяться местами или фасадами, предложи им самую скромную плату.
За обзор фасадов, придуманных и построенных неизвестно кем, и за прогулку мимо них Юлиусу, слава богу, платить не надо было.
Он зашел в магазин и съел что-то, чего ему-то уж точно есть не надо было, запив чем-то, отчего жажда только усилилась. Преодолел искушение купить что-нибудь, чтобы вознаградить — или наказать? — себя за потерянное там время.
В двух-трех минутах ходьбы от супермаркета аренда помещений под лавку уже обходилась раз в десять дешевле. В помещениях, не приглянувшихся лавочникам, размещались местные клубы по интересам — приюты для самых юных и самых старых. Тусовки для одиноких. Кабачки для меньшинств и коллекционеров. Красноречивое молчание. Протест, выражавшийся в совместных акциях. Ты среди своих, тебе хорошо только тут. Подсобки, забитые скелетами в шкафу и роялями в кустах. На аренду и продукты деньги собирались со всех, но ночевать там запрещалось. В клуб принимали только тех, у кого есть хоть какое-нибудь свое жилье. Если чужой тусовке негде было собраться, их тоже пускали, даже без оплаты, просто за то, что они тоже организовывали местным приют и досуг и делились информацией об освобождающихся квартирах.
Эти лавки-тусовки составляли густую сеть, миновать которую никак нельзя было. Понять, в каких они между собой отношениях — сотрудничают ли, враждуют или вообще принадлежат какому-то одному умнику, — было трудно. Некоторым принадлежали целые дома, кому-то, наверное, даже кварталы, но никому было не по силам или незачем изучать и формировать клиентуру, как это делается в огороженных высокими заборами фешенебельных пригородах.
Тут не устраивали демонстраций. Не били стекол. Не стремились привлечь внимание, чтобы прославиться в вечерних новостях, а действовали из необнаруженных углов или выставляли что-нибудь неожиданное в витринах. То, что раздражало, выражалось в подборе предметов за стеклом или в ссылке на какой-нибудь нейтральный сайт. Документов, вычерненных местами, как было принято когда-то, не выставляли.
На улицу выходили в полной боеготовности или по меньшей мере в готовности дать немедленный отпор. Взять и просто нахамить считалось непростительной слабостью. Но переться куда-то, чтобы выступить за или против, — кому это надо и зачем? Обдумать это можно и дома, на кухне, где никто не возражает и никто не подзуживает.
Если я вам скажу, что все то, что вы считаете реальностью, на самом деле иллюзия, вам это сильно поможет? Скорее вы просто бросите слушать или вообще забудете обо мне.
Нет, они тоже считали, что окружающий мир требует перемен. Но тот, кто начинал думать, «как хорошо было бы, чтобы все были, как я», погибал безвозвратно.
В высотах было не разобраться. Краски разбегались, так что Юлиусу не удавалось свести их в единую картину. Стены выплывали из-за поворотов, как паруса. То углублениями, то выступами вытертого, уже пористого бетона. Еще не старого, но камень, украшенный лишь ржавыми потеками от давно не ремонтированной водосточной трубы, выглядел мертвым. Когда район строили, это был географический центр города, никому не нужный — как тогда, так и сейчас.
Башня, построенная когда-то, как временная угроза нижним соседям, так и застыла последним бастионом обороны от все теснее окружавших ее высоток. Смотровую площадку окружали стальные перила, как будто она все еще надеялась послужить театральной сценой для зрителей там, внизу — или уже наверху? Исторические отверстия в ней давно были забраны стеклом, толстым, как ледяные кирпичи, защищая внутренность башни от городского шума и от дождя.
Купив билет, можно было торчать на ней часами. Наверх вез лифт, потом еще поворот коридора — и ты уже видишь все далеко-далеко, предельно ясно, только дотронуться нельзя. Юлиус сам себе показался ничтожным, взглянув вот так прямо в глаза этим далям и замедленному времени. Муравьи и те движутся живее.
Люди скользили друг мимо друга, иногда толкаясь слегка и тут же забывая об этом. Не происходило ничего. Отвернешься, и уже все иначе.
Там, наверху, он познал истинную меру вещей. Внизу была то ли материя, то ли вязкая несущая каша, просевшая под непосильной ношей. Уместиться наверху могли лишь немногие, но способных подняться было еще меньше.
Жалеть бедняг, копошащихся там, внизу, было все-таки лучше, чем не делать совсем ничего. Отсюда хоть можно было послать им какой-нибудь ничего не значащий привет.
Думать о том, что надо бы побольше работать и побольше зарабатывать, не нравилось никому. Но вытеснить эти мысли было нечем, находились лишь отговорки. А не думать об этом не получалось.
Революция дает человеку возможность сделаться богом. Но человек глуп настолько, что, поднявшись до божественных высот, непременно спускается обратно, чтобы домастырить что-то из оставленного там, на земле, и его путь к свету тут же обрывается или затягивается на неопределенный срок.
Суперконцерн не покупал маленьких бедных стран, чтобы править там по своему разумению. Он покупал правительство или его аппарат — не целиком, а по отдельности, подкупая тех, кто нужен для принятия решений.
Магнат, повелевающий сотнями тысяч могучих машин, не может построить с их помощью ни одной даже небольшой горы.
Важно одно: окупится или не окупится. Будет ли покупатель доволен или разочарован — не важно. Главное, чтобы он продолжал финансировать новые проекты продавца.
Страна нищала, хотя зерна в ней не убавилось ни на колосок и экономить на телефонных звонках тоже никто не начал. Стоимость какого-нибудь предприятия могла вырасти в разы, даже если прибыли от него нельзя было ожидать раньше, чем через много лет, а в той форме, которую оно имело сейчас или могло принять потом в результате реконструкций, то и вообще никогда, но зато само оно могло послужить отправной точкой для реализации проектов куда более мощных.
Сколько бы денег человек ни зарабатывал, все равно их стоимость была меньше, чем стоимость сколь угодно малой части этих денег, если бы она со временем возрастала, а не уменьшалась.
Любое даже самое незначительное изменение этих стоимостей вызывало страшный переполох. Едва начав развивать свою догадку, Юлиус замечал это беспокойство уже везде. В массе своей оно было незаметно, но тот, кто, подобно ему, не ленился вникать в детали, видел его очень хорошо. Словно повинуясь какой-то сложной программе, он присматривался то к самым уникальным, то к самым обыденным явлениям мира, все время меняя ракурс.
Дешевле и быстрее всего была информация. Каждый мог получить задаром любую информацию в любом объеме.
Каждый мог сообщить о себе каждому, кто был готов слушать. Раньше, разломив пирожок, можно было найти в нем какой-нибудь секрет, теперь же, взломав нужный код, можно было раскрыть все секреты мира. И видя это, менялись и люди.
Можно было изобрести что угодно и оповестить всех. Хотя бы для того, чтобы прославиться своей назойливостью. Сотворить что-то, что никому не нужно. Единственным утешением жертве такого силком навязанного контакта служило то, что при желании она могла отплатить изобретателю тем же, правда, ценой значительно больших усилий. Или, став осторожнее, научиться не соваться и не трогать чего не надо.
Любая незакрытая информация могла служить основой для статистических выкладок или для слежки за отдельными лицами. Теперь и не определишь, было ли когда-нибудь такое время, чтобы информацией не торговали. Кем себя чувствует человек, убедившись, что в его компьютере что-то изменилось без его ведома? Хотя теперь даже этого не нужно. Если кому-то надо проследить за человеком в его четырех стенах, не надо даже в дом проникать, чтобы установить «жучок». Вибрации можно улавливать и снаружи. Каменная стена любой толщины защищала не лучше, чем брезент палатки.
Юлиус старался не вдумываться во все это. Точно так же, как отворачивался, когда кто-то появлялся нагишом, — смущенно, а не рассерженно. Здесь же перед ним все раскрывалось во всей своей наготе: вещи под своей оболочкой, дома за фасадами, люди внутри своей кожи.
Пусть уж лучше картина останется нерезкой, без деталей. Не надо напрягать воображение и выискивать что-то иное, интересное. Может, удастся слепить из того, что есть, какую-нибудь композицию погаже. Но он уже видел, что многое не стыкуется. И когда картина в целом была сколочена и готова, огромный кусок почти на самом краю остался чистым и пустым.
Один-единственный волосок прохожего, для Юлиуса невидимый, как ген, мог рассказать все об организме и о том, чем он питался в течение последних дней и даже месяцев. Что же ему теперь, бежать от себя и, вопреки наследственной предрасположенности, отказаться от шлакообразующей пищи? Тот же порок, только в негативе. Только жизнь зря тратишь. Совет-то прост, да вот соваться с ним к кому-то — только врагов наживать.
Верхушка башни была пещерой, и там была своя ночь. Красные звезды на низком небе. Тонкий, просвечивающий свитер до подбородка, волосы светлой копной. Он стоял рядом с двумя другими, разговаривая и жестикулируя, они молча слушали. Тут он обернулся — Аксель! — и заметил, что Юлиус наблюдает за ним. Подошел, оставив своих спутников, и те скоро исчезли во мраке.
— Выглядишь ты хреново.
В словах Акселя не было ни озабоченности, ни сочувствия: как хочешь, мол, так и выгляди, имеешь право, я ни во что не вмешиваюсь и не хочу тебя задеть.
— Ты отговорился от них тем, что должен помочь мне?
Это значило, что помочь Юлиусу — плохая отговорка. Он покачал головой, но все же взял Акселя за предплечье, выдавая тем самым свое желание сосредоточиться, страх неудачи и бурную радость удачи.
Аксель пальцами той же руки взял за предплечье Юлиуса, который не выказал намерения освободиться. Аксель держал его крепко, даже слишком крепко.
Немного боли и возбуждения — вот все, что он мог дать другим. Ему хотелось изменить это, но ничего лучшего в голову не приходило. Улыбка у Акселя вышла мягкой и слабой, как после долгого выздоровления.
Затянувшееся молчание могло означать близость. Юлиус ничем не выказал, что осознает и признает ее.
Поспешив воспользоваться этой предполагаемой доверительностью их отношений, Аксель тут же дал Юлиусу повод обидеться:
— Почему ты все время делал вид, что не замечаешь меня?
— Я? Делал вид?
— Ты отлично это знаешь.
— Будешь приставать, я ведь могу и отреагировать. И не говори, что это ты от волнения… Мне это не помешает.
Не помешает чему? Ударить или уйти?
— Да брось ты!
— Говорю тебе, не помешает. Проверить на деле — или на словах?
— Неужели тебе надо объяснять, что я буду этим очень огорчен?
— А мне-то что?
— Тут какое-то недоразумение.
— Никакого недоразумения нет.
— Но я хочу знать, в чем дело.
— Еще раз говорю, не приставай.
— Не волнуйся, милый…
— «…Будет ночь светла»? — О, ночей у нас с тобой впереди еще много.
— Таких, как эта? — Юлиус указал туда, где исчезли спутники Акселя.
— Вижу, ты осведомлен лучше, чем я.
— Раз видишь, значит, тебе и впрямь виднее.
— Ну, что еще тебе объяснить?
— Тебе непонятно, как это так: вроде бы я заинтересован — и ничего не знаю?
— Но ведь ты всегда можешь узнать. Свободной рукой Аксель обнял Юлиуса за шею, нагнул его голову и поцеловал, а потом внезапно отпустил. И остался стоять, пока тот уходил.
Через несколько шагов Юлиус очутился там, куда ушли те трое. Там были ступени, ведущие неизвестно куда. То ли карабкаясь вверх, то ли спускаясь все ниже, он постепенно возвращался на землю.
Он не узнал их. Они сидели на табуретах, которых в зале было еще несколько штук, точно все еще продолжая собрание, число участников которого сократилось до них двоих. Юлиус видел их темные силуэты на фоне огромного окна. Матовое стекло скрывало мощную подсветку или же невдалеке за окном находилось необычайно ярко освещенное здание. Достойная роскошь, дарившая тень всему, чего здесь можно только пожелать.
Юлиус уселся так, чтобы они его заметили. Один из них приложил ладони к лицу и привычным жестом тут же отвел их. В свои сорок с небольшим он носил рубашку в голубой и фиолетовый ромбик, закатав рукава высоко над локтями, и легкие замшевые ботинки.
— Ты все-таки пришел? Меня зовут Бруно. А это — Буркхард.
Он произнес это вполне дружелюбно, чуть-чуть склонив голову набок, так что воображаемая прямая, проведенная через нос и подбородок, оказалась бы нацеленной точно на башмаки Буркхарда, почти такие же, как у него, только тот выглядел старше лет на десять и был одет во все черное.
Юлиус был для них мальчиком, снятым на несколько часов. Он даже не услышал, а увидел, как отвечает им: «Я всегда держу свое слово». На нем были только дырявые, а может, по моде нарочно продырявленные джинсы и длинный шарф, свободно свисавший с плеч подобно пастырскому омофору, лишь одним концом небрежно переброшенный через согнутую в локте левую руку.
Он был путаной-гастролершей, ни с кем и ни с чем не связанной, и демонстрировал это. Возраст неумолим, но они успели найти и закрепить свой имидж: физическая убыль, пусть вежливо, но тем не менее неумолимо съедающая клетку за клеткой, — это достоинство. Таков закон, и деньги — пророк его.
Впрочем, у них с имиджем никогда проблем не было. Патентованные средства от облысения давно уже продаются на каждом углу. Жирок — лишь свидетельство нежелания тратить время на фитнес. Для секса и для ощущения власти над партнером — то, чего им хотелось — это не имело значения. Они могли позволить себе покупать и покупали то, что им нужно. Даже если кто-то из покупаемых испытывал отвращение, на цену это практически не влияло. Да и не настолько еще они были отвратительны, чтобы задумываться и страдать от этого.
Время, пока возраст не доконает их, у них еще было. Многие умирали моложе. Они были богаче многих, а те, кто еще богаче, были по большей части моложе Бруно и Буркхарда.
— Настоящие деньги могут все. У нас нет настоящих денег. Это всего лишь карманный вариант.
— Отвратительными бывают только люди, деньги — никогда. Деньги — они на самом деле не то, чем кажутся. О людях этого сказать нельзя.
— Всем хочется искорежить людей по-своему, причем так, как никому бы и в голову не пришло корежить что бы то ни было, если бы под руку не попались люди.
— Какая жалость, что тебя вовремя не хватил кондратий. Никаким способом, никакой нейрохирургией нельзя приучить людей ни жить в нищете, ни жить так, как им хочется.
— Да и зачем, если все равно всем кажется, что кругом одни иллюзии?
Юлиус усмехнулся. Они были ему неинтересны. Его пристальный взгляд давал понять, что пора заканчивать ненужный треп.
Он чувствовал себя в своей роли, лишь когда заставлял других поверить, что им удалось вывести его из равновесия. Когда они начинали браниться и обороняться, он отмечал лишь, сколько миров отделяет их мир от его.
— Что бы я ни делал, это всегда урок другим: посмотрите-ка на себя, ребята, и на свои собственные заморочки.
Это сказал Бруно, оставаясь искаженным или, может быть, недорисованным силуэтом.
— А он не ценит своего таланта, — заметил Буркхард без всякой иронии, но и не стараясь избежать ее. Для него самого все тоже еще только начиналось. Как будто годы его вообще не коснулись. Молодые, сталкиваясь с чем-то впервые, просто открывают для себя больше истории. Ему-то открывать уже нечего.
Ни совесть, ни иные сомнения не доставляли Бруно никакого беспокойства. Ну и что ж, что он не умеет вписываться в ситуацию, — это еще не повод избегать неожиданных ситуаций. Что было, то было, а чего не было, того уж точно никогда больше не будет. Нет, внешне он реагировал на новую ситуацию, но внутренне это была реакция на то, что в данный момент происходило с ним самим.
Короче, он ничего не знает и знать не хочет. Юлиус продолжал молчать, Бруно же был достаточно сильным человеком, чтобы счесть это вызовом.
Юлиус держал слово, Бруно был достаточно предсказуем. С каждой минутой Юлиус чувствовал себя все более уверенно. Пусть Бруно воображает себе, что хочет, так только спокойнее.
Сейчас я для него — женщина. Не такое же существо, как он, а совсем другое, женское, уселось ему на колени в своих дырявых джинсах. Бруно положил руку на ее маленький животик и, медленно скользя вниз, дошел до лобка и сжал то, что было под ним.
Грудь, голова и гениталии Бруно росли и росли, приобретая невероятные размеры. Каждое прикосновение вызывало удар грома, тут же возвращавшийся к его владельцу. Каждая волна возбуждения превращалась в чудо, сопровождавшееся радостными «о!» и «ах, это потрясающе!» Бруно двигался, входил и выходил, сначала здесь, потом там, все глубже погружаясь в свои ощущения.
Он не навязывал своей воли. Позволял ей самой выбирать позы и быть немножко жестокой. Не затем, чтобы постепенно завладеть ею, а чтобы она добровольно раскрыла ему свои тайны. Призывающе похлопал ее по заднице: «Мы с тобой шикарно потрахаемся». И: «Я пьян, но так даже лучше…» Ожидая, что она скажет «дай» и возьмет в рот.
Он говорил и говорил, как будто это добавляло остроты его ощущениям, пытаясь преодолеть то ли печаль, то ли разочарование. А она отвечала мягко, тихо, с улыбкой: «Войди в меня». Я так счастлива — тире — я так несчастна.
Она сидела, немного откинувшись назад, с закрытыми глазами, как будто ее мутило. Он, конечно, мог заметить, что ее щеки ничуть не порозовели. Она не расслабилась, и ее дыхание оставалось спокойным.
Когда все кончилось, она так же спокойно открыла глаза, закрытые отнюдь не от сонливости или страсти. Но к началу не возвратилась. Ее неподвижность заставила Бруно прийти в себя. Тот не испугался, а лишь снова набросился на Юлиуса.
— Что такое жестокость? — спросил Буркхард. — Я имею в виду для тебя?
— Пытка, — коротко ответил Юлиус.
— Тебе приходилось быть жестоким? Он кивнул.
— Тебя кто-то научил?
— Я сам научился.
— А быть в роли жертвы?
— Я был.
— Значит, легко отделался…
Буркхард проговорил это, потому что не собирался облегчать ему работу. Юлиус должен был позволить ему изнасиловать себя. Покориться, подчиниться и признать его верховную власть.
У Буркхарда не было ни сценария, ни желания расставлять ловушки. Он не хотел ни объяснять, ни даже обдумывать, что будет делать, одно его присутствие заставляло человека двигаться за ним в неизвестность. Возможно было все, даже невозможное.
Человек должен преодолевать свои комплексы. Тому, кто занимался этим достаточно долго, больше не надо оправдываться. Он уже заплатил за все своим неимоверным трудом.
Злился, оттого что обычно избегал прикасаться к тем, кто не умел или не хотел причинять боль. И сам не хотел, по возможности предоставляя это другим. Все взрослые мужчины, перекладывавшие это на других, всегда, независимо от прочих качеств, говорили одним и тем же голосом.
Они пытали себя не вместе и не в унисон, а каждый в одиночку.
Многие стыдились, что перекладывают на других свою работу, а те отмечают их промахи и мучительные усилия. Лишь из-за стекла или на видео эти мучения доставляли удовольствие.
Может, как раз от этого стало меньше секса и меньше детей? Да и порнушки, даже из незапретных, стали такими паршивыми, что их любят лишь те, кого не любит никто — за ту же паршивость.
Зато насилие увлекало: за эту иллюзию платили охотно. И будут платить, пока мир не очистится от насилия настолько, чтобы забыть о его отвратительной красоте. Тогда-то, наверное, насиловать будет легко, потому что люди забудут о разнице между насилием и ненасилием.
Буркхард считал, что все это устроили богачи — им-то уж точно есть что терять, — специально наняв для этого красавцев и красоток. Не как олигархия, цель которой — подрыв системы, а каждый сам по себе. Сам Буркхард не причислял себя к ним, хотя и не отрицал своего соучастия. Позволял другим безнаказанно тратить его деньги.
Бруно был его парадной маской, к которой подмешивалась блеклость смерти. Эта маска не прятала, а лишь сопровождала Буркхарда. Зло не давало себе труда прятаться. Оно манило гибелью, прославляя ее как высшее наслаждение. Что там, за порогом, не знал никто, но ведь и узнать это можно, лишь переступив порог.
Большое богатство — от дьявола. Этот постулат был у среднего класса самым любимым. Смысла залезать на самый верх нет. Слишком больно падать.
Кто богат, тот первым готов и поделиться. Но тех, кому так и не удалось поймать подарок судьбы, было слишком много, и им терять было нечего.
На улицах и в кварталах, отгороженных высокими заборами, было что взять и что уничтожить. Сплотившись, они заранее считали врагами всех, кто вне забора, кто беднее. Готовились к правильной войне: наши — тут, враги — там.
Бедным тоже пришлось сбиться в кучу, потому что по отдельности им нечем было брать эти крепости. Улицу за улицей подчиняли себе местные отряды, иногда враждовавшие, иногда вяло сотрудничавшие. Оружия и бойцов, чтобы занять хотя бы микрорайон, не хватало ни у кого. А меньше чем за улицы войну не ведут. Банды, контролирующие всего пару этажей, не могут позволить себе постоянно вести открытые бои.
Отряды тащили все, что плохо лежит, облагали данью оставшихся жителей, трясли и грабили прохожих. И в конце концов остались защитниками лишь горстки облупленных, расшатанных зданий, походивших на голые скалы. Улицы превращались в ущелья, занесенные песком и илом, и ни в одном окне не отражался солнечный луч.
Пороху не хватало долго. Но однажды башня наконец рухнула, будто по собственной воле.
Они трое сидели уже в рухнувшей башне. Знали, что это произойдет, и сделали выбор. Предпочли ценности завтрашнего дня. Шли впереди толпы, оглядываясь, чтобы предугадывать ее шаги и указывать путь.
Они занимали позицию, которая, будучи однажды достигнутой, становилась частью цепи или системы укреплений, ни уступить, ни миновать которые было невозможно. Трудно сказать, смогли бы они добиться всего без этого. Дистанция, отделявшая их от тех, о ком они беспокоились, была достаточно велика, чтобы презирать их.
— Ты удивлен тем, что я беру их под защиту? Неясно было лишь, говорил ли Буркхард о людях вообще или только о тех, кто занимал Юлиуса.
— Тем, что ты защищаешь их от меня.
У Юлиуса это вызвало раздражение, хотя его словам можно было и не верить. А если это правда? И Буркхард в самом деле действовал по принципу: живи сам и давай жить одним, и хорошо жить, за счет других, в том числе и за счет него, Юлиуса?
Убить всех людей заведомо невозможно. Кто-то обязательно выживет. Буркхард спрашивал, хочет ли он быть одним из тех, кому предстоит умереть. Потому что сам причислял себя к избранным, к тем, кто выживет?
Буркхард желал уничтожения не затем, чтобы убить и себя тоже. Жизнь он вел слишком незначительную. Его смерть тоже не стала бы событием, с которого бы все началось или которым закончилось. Случай, конечно, особый, но ничуть не впечатляющий. Лелея свой замысел, себя он из него исключал.
Задумав такое, человек уже не мыслил себя без насилия. Тогда все просто и легко. И можно не говорить, в чем замысел. Не подталкивать человека к правде, поверить в которую ему будет тяжело. Ведь любое признание может быть ложью.
— Другим ты тоже все так хорошо объяснил? Пожалуйста, сделай это. Они будут очень рады.
Это означало: объясни им так же мало, как и мне.
— Ты их знаешь?
— Относительно.
— Тогда пошли.
Это не было ни приглашением, ни вопросом. Они ушли.
Зеркальный потолок, обманывая зрение, лишь сужал и без того низкий зал. Единственным светом, проникавшим сюда сквозь узкие, до самого потолка, щели, были уличные фонари. От него по матово-серым стенам скользили слабые тени. Снаружи почти ничего не было видно, лишь изредка мелькал слепящий луч фонарика или лазера.
Мягкие низкие диваны почти естественно превращали для сидящих любой разговор в доверительный. Однако музыка в шестнадцать тактов, хоть и умеренно громкая, размалывала все сказанное в вязкую кашу. Чтобы услышать друг друга, приходилось кричать во весь голос.
Сидели те, кто постарше. Молодежь быстро уступила места Бруно и Буркхарду, Юлиус уселся на спинку. Одна женщина его возраста, одетая в зеленое пончо и юбку-брюки, коротко представилась: «Крис», — и осталась сидеть.
Богема — это такая сфера, где по традиции человеку требовалось много времени, чтобы помимо славы заработать еще деньги и влияние. Все гордились собой, но никто не умел вовремя взять патент или пакет акций. Красота богемы манила, но плохо окупалась.
На диванах разместились те немногие, чьи деньги или положение вселяли в остальных надежду получить у них протекцию. Отдав своему бизнесу много времени и сил, они, возможно, в конце концов и сочли себя неудачниками, но здесь их средств вполне хватило бы, чтобы устроить что-то необыкновенное, только они не знали, что именно и как. Для этого были другие, твердо уверенные, что при таком количестве народу в баре и в городе кто-либо обязательно заглотит наживку. Почти все они были одеты во что-нибудь вызывающе-блестящее. Ромбики Бруно тут, конечно, смотрелись лучше, да и его небрежная поза превращала их в замысловатые узоры.
Молодежь живописно расселась на полу, демонстрируя гибкость тела. Ожидая приглашения или рекламируя себя неожиданными выкриками, хлопками и резкими движениями. Старики тоже следили за ситуацией, стараясь говорить поменьше, чтобы не наскучить другим и не сказать лишнего.
В то же время ничье выступление не оставалось незамеченным и неодобренным. Следующий старался перещеголять предыдущего. Каждая фраза звучала как непреложная истина.
— Ты ничего не умеешь, я ничего не умею. Что ты можешь мне дать? — спросил Бруно. Его рука лежала на спинке дивана, и пальцы, вытянутые настолько, что ими было уже трудно шевелить, небрежно-замедленно касались волос и шеи Крис. Другая рука свисала между широко раздвинутых ног, то кончиками, то целыми фалангами пальцев слегка дотрагиваясь до мошонки.
— Я могу раздеться. — Крис еще не выбрала между кокетством и иронией. Ей хотелось и веселья, и секса. Хотя, впрочем, повеселиться она может над ним, а позаниматься сексом — с кем-нибудь еще.
— Отлично. Это правильное направление. Очень правильное.
Взгляд Бруно лишь скользнул по ее силуэту и перешел дальше, к расплывавшемуся в полутьме образу Юлиуса. Он не стал лезть ей под юбку, а лишь опустил руку к своей ноге, чтобы помассировать икру.
— Могу надеть вот эту удавку, — она сложила колечком большой и указательный пальцы, — на шейку и на головку.
Выказывать свой интерес к противоположному полу было не принято. Стоило с кем-то побыть рядом подольше, и это тут же воспринималось как аванс.
Принято было лишь болтать, потому что никто не рассчитывал встретиться с другим когда-либо, да и не хотел этого. Что же могла обещать эта провокация?
— Ты говоришь ужасные вещи.
— И ты считаешь, что теперь можешь выбрать для меня любую месть?
— Что в этом плохого?
— Тогда прогони меня. Ты меня слишком возбуждаешь. Ты даже не знаешь, что со мной делаешь. — Смех Крис прозвучал как подтверждение ее слов.
Разве Бруно не имел права ожидать этого? С другими он давно бы уже перешел от болтовни к делу. Но, удовлетворясь этим, он может показать, что не хочет, чтобы она увлеклась им. Потому что сам на это не способен. Пусть Буркхард, почти невидимый, сидя против света и наверняка с удовольствием наблюдая за ними, увидит, какой он честный импотент.
Крис обратилась к Юлиусу:
— Потанцуем?
Не этого ли и дожидались от нее оба наблюдателя?
С достоинством кивнув, он встал. Тут уже она выказала себя удивленной, опешив от такой готовности. Как будто ожидала, что он откажется и тем самым даст ей удобный предлог протянуть время.
Потом удивилась, что он все еще стоит, но и не отпускала его. До тех пор пока он выразительным взглядом не заставил ее подняться и следовать за собой.
Некоторые уже танцевали на небольших круглых столах, точно пустив корни в их блестящее бледно-оранжевое покрытие. Стоявшие всего в нескольких сантиметрах бокалы стояли нетронутыми. Возвышаясь над толпой и почти задевая потолок, танцоры двигались с необычайной точностью, чтобы не упасть со стола. Нижние, на полу, толкались, растаптывая в пыль осколки стекла, так что бар только ходуном ходил. Почти у всех были «мерцалки», которые они, гипнотизируя себя и других, держали в руках перед глазами или под тонкой тканью между грудей, на лобке. Расстегивали рубашки до самой верхней пуговицы, обнажая поблескивавшие от пота и мерцалок животы. Лезли под стол, чтобы вдруг посветить кому-нибудь под юбку или в штанину. Или на стол, направляя свет на потолок, чтобы проверить, в какой укромный уголок удастся заглянуть. Свет постепенно заполнил весь зал, мелькая на лицах тех, кто не мог или не хотел танцевать.
Выйдя, Крис как-то расчистила себе место и принялась танцевать одна — ей было все равно подо что. Юлиусу ничего не оставалось, как встать в пару с первым попавшимся. Танцевать, так с панком, а трахаться, так с танком.
Он старался не повторять одних и тех же движений и не слишком часто менять партнеров. Никого не обижать, никого не выделять.
Танец — это всегда доверие. Он же стеснялся, отчего пару раз повел себя бесстыдно, почувствовав себя от этого еще хуже в окружении таких же, как он, стеснительных и бесстыдных. На людях он любил только напиваться, постепенно превращаясь в болвана, как и все пившие. Но и не любил торчать в квартире, хоть один, хоть с друзьями. К черту такой вечер, лучше пойти и просидеть его хоть в этом вонючем баре.
На языке его друзей «потанцуем» означало лишь: мне надо выйти. Крис сначала тоже не пошла танцевать, а сразу повела его вниз, к туалету.
Кокаин мешал алкоголю замутить голову, а алкоголь позволял держаться на ногах вопреки кокаину. Любой глюк, даже самый безумный, длится максимум минут пятнадцать, любая самая глупая болтовня — тоже, до следующего приема.
— Еще минут восемь. — Вернувшись, оба первым делом взглянули на часы.
В клозете можно было и даже стоило задержаться, хотя бы чтоб посидеть спокойно и посмеяться над вопиющим его безобразием. Однако слишком долго запертая дверь могла вызвать подозрение. Ради чего еще запираться там вместе с кем-то, если не ради секса?
Вместо равноценного общения была паническая эйфория. Кто не изображал ее, чувствовал себя не в своей тарелке, того не принимали. Никакая радость была не в радость, если не поделиться с другими. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь, но и полученным тоже надо было делиться со всеми.
В самом баре ничего конкретного не происходило, да и на улице тоже. Все дела решались келейно, в неизбежной тишине квартир, где каждый понимал, кто и что с этого будет иметь. Сколько выиграет и сколько потеряет. Кому это не нравилось, того тихо выпирали или просто делали так, что он оказывался перед свершившимся фактом, а все остальное — его проблемы.
Выходили из бара, только чтобы глотнуть кислорода. Быстро ловили секс, чтобы освежить цвет лица. Даже если в машине окна не были ни затемнены, ни зазеркалены, при хорошей скорости все равно никто не мог ничего разглядеть.
Приглашали и встретиться где-нибудь вне бара. И никогда не приходили. Потом было слишком обидно спрашивать, почему не пришел, или он говорил, что никогда тебя никуда не приглашал, но если хочешь, то давай встретимся.
Пригласить пару человек на вечеринку с самыми дорогущими наркотиками выходило много дешевле, чем устроить прием на всех или подарить одной шикарное платье. Но и это выходило слишком дорого морально, потому что любой такой жест неизбежно вызывал потом зависть и ненависть.
В группе сидящих, с самого начала вечера расположившейся за выступом стены, отделявшей спуск к туалету, были главным образом жлобы — в данный момент, видимо, при больших деньгах. Они общались исключительно друг с другом, чем и отличались от официантов, каждый из которых так и норовил заговорить с кем-нибудь из гостей. Официанты знали, что у этих жлобов есть деньги, и знали, на что их потратят, когда эти деньги наконец перейдут к ним. В отличие от проституток официанты не были вынуждены доказывать клиентам свое превосходство келейно.
Сидевшая за столом группа была подчеркнуто одета только в самое модное. Кругленький животик, туго обтянутый ярко-красной майкой, волосы скручены в торчащие в разные стороны «колбаски». Рубашка в бело-голубой ромбик с оборванными от плеч рукавами.
Давно привыкшие видеться постоянно, сегодня они вели себя так, будто только что познакомились: выходило взаимопонимание наоборот.
— Вот уж чего никогда не любил… Это ж одуреть можно.
— Вот пускай они и дуреют.
Кого они имели в виду — Крис и Юлиуса? Те стояли рядом с их столом, как будто это было единственное, чем они могли заняться в данную минуту, и не уходили. Если бы им пришлось разговаривать, они бы ушли.
Одуреть можно от чего угодно, такие слова не были обидными. Но если это было излюбленное словцо говорившего, обозначавшее любую неприятность, то это был уже выпад. Злость от того, что кто-то никак не реагирует. За столом тут же сменили тему. Сразу же заговорили о другом, причем каждый с прежним собеседником.
— Коли родился в рубашке, то и живи спустя рукава.
Сказавший это сделал приглашающий жест рукой, и Крис с Юлиусом последовали приглашению. Назвавшись Даниелем, тот натянул рукава себе на руки, отчего на рубашке появились просветы от натяжения пуговиц. Любимые вещи он продолжал носить, даже когда те становились малы. Рос, отчаянно сопротивляясь неизбежному.
Даниель так и не избавился от комплекса, от которого страдают все школьники. Ведут себя нелепо, стыдятся своего тела, однако к концу года неумолимо подрастают еще на несколько сантиметров и с помощью родительских связей, пьянок с незлыми учителями и зубрежек, с болью и слезами переходят наконец в следующий класс.
Даже надевая джинсы и свитер, он в мыслях все еще носил форму своей ^литной школы-интерната. Единственным способом самовыражения для него оставалась школьная газета, единственными знакомыми знаменитостями — учителя. В каждом общественном туалете он до сих пор съеживался от мысли, что вот они сейчас войдут и его застанут.
Как английский денди, отмежевавшись от своего благородного сословия, не отказывался от его привилегий, так и половозреющий, завися от родительских денег и статуса своего учебного заведения, презирал и то и другое, но еще больше презирал тех, кто работал и учился. Где бы потом ни работал он сам, это всегда было чем-то вроде подработок на каникулах, чтобы позволить себе что-то сверх минимума. Даже порвав с родителями, он мог не бояться увольнения, потому что был уверен как в наследстве, так и в том, что его провал лишь подсластит родителям их пенсионерскую скуку.
— Я встретила его только что, он был вместе с теми двумя, — сообщила Крис Даниелю.
Если бы Даниель не знал, кого она имеет в виду под «теми двумя», то наверняка так или иначе выказал бы свое недоумение. Или задумался, почему Крис говорит так, будто он непременно должен их знать.
— Ну ты же знаешь, сколько они всего для нас делают, — добавила Крис.
— Да? — усомнился Даниель и умолк. Может, потому что таких много. Может, в том, что именно эти двое действительно делают что-то. Высунулся — и обратно в окоп, и следы замел.
— Мог бы раньше предупредить.
— Так, значит, вы их бросили?
— Ты хочешь сказать, что нас никто и не держал? — Это была чистая риторика, вопрос вместо ответа. И даже хуже: подтасовка вместо вопроса.
— И часто вы с ними видитесь? — Даниель не отделял Крис от Юлиуса. Потому что его не волновали детали. Или потому, что и так все знал. Крис и Даниель были знакомы давно, и этот вопрос мог быть лишь слегка завуалированной, одному Юлиусу адресованной издевкой.
Даниель любил рассказывать плоские анекдоты, и сам смеялся над ними, но опять же не так, как все. А заставляя жертву терпеть унижение или, во всяком случае, добиваясь этого. Пока удается, он будет травить такие анекдоты. Постоянно подчеркивая свое превосходство — одеждой, образованием, поведением, даже если самому ему на эти вещи было плевать. Ирония, всегда нацеленная только на других. Как отрицание отрицания, которое тоже означает «нет», но используется лишь для различения своих и чужих.
— Прости, — сказал Юлиус, касаясь стола лбом.
К кому он обращался, к Даниелю или к Крис? И за что просил прощения, за свое присутствие за столом или за связь с Буркхардом и Бруно?
Если они не поняли этого, то могут ли вообще понять друг друга? И зачем сидят за одним столом? Отношения, которых не выяснить словами: это чувство общности, которое либо возникает, либо нет. Без этого чувства никакого продолжения не будет.
Если нет, то никому не удастся показать другим, кто он на самом деле. Вначале можно обойтись и без этого, но рано или поздно каждый, кто так и не доказал, что он — за общность, дождется, что его либо оборвут, либо выставят. Ему это не грозило, он был тут вообще никем — все делали вид, что просто не замечают его, как не замечают чью-то оплошность.
Но они поняли все. И все знали. И его тоже знали слишком хорошо. Поняли, что он попытался слегка наехать на них, но даже не стали делать вид, что ничего не заметили.
Даниель встал, за ним встала Крис, и они пошли к Буркхарду и Бруно.
— А-а, Даниель, сынок, — обрадовался Буркхард.
Даниель в ответ промолчал с тем серьезным выражением на лице, с каким дети еще осмеливаются выражать свой протест против вмешательства родителей в их личную жизнь. Как будто, найди те нужные слова, они готовы были бы снова стать послушными. Родители же всегда думают, что сказанного достаточно, чтобы дети одумались и больше не возникали.
— Выпьешь что-нибудь?
— Ты же знаешь, что мне нужно, когда я один.
— Один — это означает «без тебя»?
— Тебе не нравится, когда мы пьем? — спросил Бруно.
— Взялся кувшин по воду ходить. — Крис произнесла это так, как признается пьяный пьяному.
Между тем ни Бруно, ни Буркхард не были даже навеселе. «Быть пьяным» могло в разговоре означать наркокайф, но они не употребляли наркотиков.
Поскольку наркотики не продавались открыто на каждом углу, говорить (или умалчивать) о том, на чем кто-то словил или пытался словить кайф, как действует тот или иной материал, было не принято, чтобы не вводить собеседника в искушение или не заставлять с позором отказываться.
Кайф означал выход в иные миры, всегда доступный. Но они не желали признавать его разовым подарком судьбы или кратчайшим на данный момент путем. Даже те, кто верил в вечную жизнь на небесах, старались изо всех сил добиться чего-то в этой жизни, не давая оборваться ариадниной нити.
Старики часто оступались, но умели избегать ситуаций, грозивших гибелью. Им нравилось быть непонятыми, занудными и невыносимыми. И шумно, тяжело расставаться с прежними друзьями-подругами, чтобы обрести новых.
Крис, Даниель и Юлиус были одеты не так чтобы в один стиль, но уж как получилось. Их танец слишком затянулся, чтобы они могли рассчитывать на аплодисменты: мол, вы хорошо станцевали, вам заплачено, до свидания.
Свет замерцал красным и синим. Танцующие двигались в пламенеющих лучах. Пальцы выбивали ритм, а бас заполнял и никак не мог заполнить зияющие пустоты. Чей-то голос громко подпевал невпопад.
Бородач в балахоне распевал баллады. Официанты ходили в майках, украшенных буквой «В» на обеих грудях.
Тех, у кого находилось хоть немножко фантазии, презирали. Всем было хорошо, все были счастливы, и никому не хотелось отступать от света рампы. Проверяли, какой наркотик как лучше действует. Кожа у всех сухая, гладкая, натянутая из-за повышенного давления.
Юная кожа не липла к тем, кто был старше хотя бы лет на десять. Хотя, будь на то время, все бы постепенно перетрахались со всеми. Нити судеб, сошедшихся здесь, безнадежно переплелись.
Попытка подъехать к кому-то могла вызвать лишь недоумение. Поймав себя на том, что тебя тянет к нему или к ней, можно было нарваться на скандал. Решив, что к нему липнут, другой мог страшно отомстить, ответив тем же. Или сдав другому, чья ненависть не задержится. А если дадут оправдаться, то будет еще хуже, чем можно было ожидать.
— Пару минут назад ты был со мной не согласен.
— Я никогда ни с кем не соглашаюсь и не раскрываюсь до конца.
— Потому что боишься напороться все тем же боком. Не бойся, я зайду с другой стороны…
Юлиусу ничего не оставалось, как вырваться невежливо. Просто взять и уйти он не мог, тот поперся бы за ним. Выгнать тоже не мог, тот бы вернулся.
Пришлось напомнить, что тот должен заплатить. До этого Юлиус не хотел пускаться в расчеты. Да и не так уж важны были ему эти деньги. Все это было ему настолько неинтересно, что он готов был уйти, не рассчитываясь ни за что.
Прощание удалось. Уходя, Юлиус не столкнулся ни с кем. Раз даже остановился подвинуть стул, чтобы на него кто-нибудь не наткнулся.
На улице он чуть не вмазался в Крис. Та, отступив на шаг, подняла руки и сложила их у себя над головой.
Отвернулась — не чтобы заставить его ждать или спрятать лицо, а ища себе компанию получше. Он воспринял это как вызов, зашел сзади и обнял.
Не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Придется ползти на коленях до дому или хотя бы до такси, а там выползти. Лучше было бы ползти всю дорогу, но не было сил.
Он никогда бы не напивался, если бы не знал, что в случае чего его просто вырвет. Крис довела его до машины и усадила головой в окно, чтобы не заблевал салон. Но его так и не вырвало.
Не надо было говорить, что «все в порядке». Сказала и испортила все.
Ощупал пальцами землю. Ползти все-таки придется.
До дома он добрался не сразу.
Очнулся на сухой лужайке, подобрался и посучил ногами. Закрыл глаза, потому что от бегущих по небу облаков его мутило. Небо казалось сплошной непробиваемой стеной.
Горы на горизонте были такими чистыми и ясными, что, казалось, их никогда не оскверняла ничья нога. Текли реки, украшаясь зеленоватой пеной. Он знал, что там есть водовороты. Ни переплыть, ни брода не найти. Одни выбоинки в бурых камнях.
В руке скомканный бумажный платочек — пусть хоть едва теплящаяся, но жизнь.
Здесь почти никогда никого не было. В других местах всегда стоял хотя бы чей-то автомобиль. Блестя лаком на фоне облупленных, много раз перекрашенных, убогих домишек. Машины длиннее домов, но зато ниже и на колесах.
* * *
Она была далеко и долго медлила, прежде чем подойти, показывая, что может и передумать. Но он лежал так неподвижно, что она решилась. Убежать он, во всяком случае, точно не мог. Она потормошила его. Ну и рожа.
— Что у нас не так? — спросила она или, может быть, он спросил сам себя. На ее овальном лице не было никакого выражения. Полноватые бледные губы, ему было трудно смотреть на них. Глядя на него, она заставляла его смотреть на себя. Что-то в ней было, и именно это вызывало в нем интерес. Он пытался понять, что это, а она следила, как он мучительно попадает впросак, ловя разбегающиеся мысли. Он боялся, и тайна исчезала.
— А что должно быть не так?
Он попытался удивиться, это ему не удалось. От времен его бродяжничества, легких связей и безумных увлечений осталось так же мало, как от времен службы и зарплаты.
Решил не вспоминать, чтобы не делать смутные воспоминания еще более смутными. Собраться с мыслями, хоть и неизвестно зачем.
В его фразы постоянно вклинивались одни и те же слова. Каждая следующая фраза отрицала другую, но эти слова все равно вылезали.
Из цепочки сновидений или наблюдений он обычно помнил лишь последнее звено, не имея ни малейшего представления, куда бы они завели его, если бы он сам не попытался его запомнить.
Его голос был похож на ее. Неужели его походка скоро станет такой же, и он внезапно поймет, зачем она купила себе такую отвратительную сумочку? И таким же осклизлым голосом будет позволять ей выбирать сумочки?
Он держал бледно-болотного цвета сумочку прямо перед глазами, чтобы не видеть ее. У барного столика чуть не потерял почву под ногами, но нашел то, что искал.
Если факты не происходили, их место занимали другие, и смысл получался тот же.
Что искал, того уже не спасти. Он выходил из наркоза смущенным и очистившимся. Казалось, времени не прошло никакого, прошлое как отрезало.
Задержанный на половине шага от жизни к смерти, он решал, жить ли дальше или умереть.
Она смотрела на него так, будто у него все уже в прошлом. Он испугался, что отпугнет ее, но она не замечала его взгляда. Когда он отводил его, она не реагировала.
Непроницаемая мина — самый ясный сигнал. Она поняла, но еще не была уверена и ждала, чтобы он чем-нибудь выдал себя. Показывая, как была бы ошеломлена, если бы он захотел ошеломить ее.
Например, вдруг заговорив. Она не слушала бы его, потому что бы ни за что не догадалась, что с ним происходит именно то, что казалось ему самому. Продолжая смотреть не на него, а сквозь него. Не находя для него определения.
Ее взгляд, с порога отвергавший любую ложь и неискренность, облегчал ему задачу. Он не знал, что именно она хотела узнать о нем, и не видел причин скрывать что-либо. Если у нее нет никакого более определенного намерения, чем просто заставить его раскрыться, то она вряд ли заметит, когда это произойдет.
В какой-то момент у нее дрогнуло веко, и она не попыталась скрыть это. Не сердилась ни на него, ни на себя за то, что он наблюдает за ней. Была согласна на это. Внутренняя потребность терпеть любые неудобства.
Когда он давал знать, что хочет уйти, она возражала: «Жизнь так коротка», «Самое важное — иметь возможность говорить друг с другом обо всем», «Будь у меня такая красивая подруга, я бы гордилась».
Она говорила это тоном любезного прохожего, объясняющего дорогу. Но он не мог представить себе всего драматизма их расставания.
В конце концов она ударила его. Навалилась на него всем своим весом. Он искал губами ее рот, но она резко отвернулась, и он попал только в щеку. Если бы она хотела вырваться, то не сопротивлялась бы так.
Решила казнить его за то, за что казнила себя? Она уперлась в границу, дальше которой ее воля была бессильна. Если ей что-то не давалось, дальше она умела только разрушать. А у него еще было время и понять ее бессилие, и наказать за то, чего он для нее не сделал.
Чтобы избавиться от самой себя, она должна убить его. Он позволил ей это, но она не поблагодарила, а отказалась, потому что иначе не могла принять жертву. Жертва должна была знать все и взять всю ответственность на себя.
Смерть свисала, как покрывало на памятнике перед открытием. Чтобы ей потом не мучить себя, он показал завещание, в котором называл ее лишь исполнительницей и подчеркивал, что не желает откладывать это дело в долгий ящик: все происходит по его желанию. И подробно описал свое намерение быть уничтоженным согласно заранее намеченному плану.
Его имущество превратилось в развалины, снос которых обойдется кому-то дорого. Деньги исчезли, но долги остались.
Это не было преступлением. Он сам нанес ущерб своей собственности и обманул доверие связанных с ним людей, — как будто из всех людей один он был непредсказуем. Свои страховки, превращавшие его уход в среднестатистический случай, он заблаговременно аннулировал. Застраховаться же от риска, допущенного по собственной воле, стоило чрезвычайно дорого и было лишь ограниченно возможно.
Его жертва освятит неприступный храм. Простой и массивный, как пирамида, только под землей, он просуществует века. Переживет все эпохи, еще предстоящие человечеству, и когда все памятники на земле рассыплются в прах, к. нему будут приходить толпы туристов.
На свежевскопанной земле выделялось странное пятно, ясно указывавшее на величину скрытого под ней объекта тому, кто захочет искать там. Или предостерегавшее тех, кто найдет.
Камни, без малейшей щели закрывавшие вход в эту постройку, были размером каждый чуть меньше комнаты. Никто не тратит силы на раскопки под такими глыбами. Храм так и останется закрытым — или будет разрушен. Если же кто-то все-таки сдвинет один из камней, то своей жертвой искупит это неуместное трудолюбие.
А может, никто и знать не будет, что это храм. И даже те, кто заподозрит взаимосвязь между ним и храмом, никогда не будут ни в чем уверены.
Он пробирался из одной темноты в другую. Стены были шершавые, стоит прислониться — порвешь и одежду, и кожу. Осторожно ощупал помещение. Каждая стена под прямым углом переходила в следующую. Сплошные полки, нигде или лишь где-то далеко переходившие одна в другую. Из чего сделана стена и какой она толщины, узнать никак нельзя было. Он ни на что не натыкался, никуда не проваливался. Тем острее было ожидание шока.
Будь это одно большое помещение, он не стал бы исследовать его. Множество маленьких вызывали недоумение. Одни непроницаемые стены, направлявшие, гасившие и копившие любые потоки воздуха. Что бы ни находилось за ними, оно было бесконечно далеко.
В каком-то невидимом углу он попытался вызвать какое-нибудь видение, чтобы заполнить им окружающее пространство. Закрыл, крепко зажмурил глаза и увидел небольшой пурпурно-красный образ. Расплывшаяся восьмерка, слегка перекрученная лента, не имевшая тени. Она не приближалась, но ее края будто резали глаза. Оба глаза — значит, лент тоже было две.
Отвернуться он не мог. Когда образ погас, он был уверен, что еще и ослеп.
Он не кричал и не двигался, это было бесполезно. Ничего не видел, хотя сейчас, вероятно, уже мог бы что-то увидеть и отреагировать. В комнате был кто-то еще, и сделай он хоть шаг, то наверняка наткнется на него. Где-то рядом темнота раскрывалась. Он заблудился и сам стал тьмой.
С величайшей осторожностью он начал вытягивать руку, чтобы не напугать того, другого. Опустился на колени, чтобы стать меньше ростом, и нащупал какую-то ткань. Найдя под ней руку, подложил свою под нее и замер.
Казалось, он где-то очень далеко от своей руки. Его ожидания воплотились в чье-то тело, не принимавшее его руку, но и не отвергавшее ее. Двигалось оно, только когда двигалась его рука.
Он обхватил тело. Его защищали груди, сами такие беззащитные. Подхватив под мышки, он поставил ее на цыпочки. Она чуть не упала прямо на него.
Снова опустив ее на пол, он растянулся рядом с ней. Попытался приблизить лицо к ее лицу. Взял ее голову в руки, и голова приподнялась.
Хотел передать ей свою силу, но не знал, как она отреагирует. Ему было достаточно быть рядом, вдыхать ее запах и слышать дыхание. Ощутил влагу у себя на лбу и свой ответный пот.
Подумал: «Ну, давай», и она тут же придвинулась. Что-то теплое коснулось его щеки, упругое и плотное.
Он усадил ее, прислонив спиной к стене, согнул ей ноги в коленях, как будто она только что съехала на пол. После первых же поцелуев стало легко. Голову на плечо, одну руку между ног, другая гладит ягодицы. Части тела, твердые, но достаточно эластичные, чтобы никогда не страдать от вывихов.
Он был везде, где угадывал ее тело. Но не держал ее. Не следовал, как тень, то исчезая, то вновь возвращаясь. Прижимался, не прилагая для этого усилий. Не любя, но и не ненавидя, он делал с ней все возможное. Когда гладил, то, вероятно, поранил ее пару раз. Она могла умереть в любой момент.
Он растопырил пальцы — так они были чувствительнее. Как только они коснулись кожи, он сжал другую руку в кулак и ударил где-то рядом. Сразу не понял даже, какая это часть тела. Может, попал, а может, и нет.
Она была в крови. То ли он действительно ранил ее, то ли она сама где-то порезалась. Она не дышала, но это еще не значит, что умерла. Он лишь судорожно сглотнул воздух.
Горло у него пересохло, желудок скрутило. Теперь он больше никогда не сможет ничего есть. Жажду нельзя было утолить. Желудок не примет никакой жидкости.
Пытаясь сглотнуть слюну, он перестал дышать и чуть не подавился.
Процесс умирания не стал для него подготовкой к смерти. С него просто снимали слой за слоем, пока не останется лишь неведомое прежде ядро.
Смерть была так близко, что ему захотелось протянуть руку и поторопить ее. Он почему-то подумал о ботинках, которые наверняка поцарапал. О насекомых, которых можно раздавить так легко. О листьях, опадавших с деревьев. Везде была смерть.
Он не испытывал ни голода, ни иных потребностей, да в этой комнате ничего и не было. Ничего, что могло бы примирить его с жизнью. Он доживал. Еще одна таблетка даст последний толчок, ускорив и без того неизбежный процесс. Последний прием совпал с последним вздохом.
Он уже не мог следить за действием таблетки. Не различал, что именно вызывает боль. Не отождествлял себя с какой-то определенной личностью. Ему было все равно, кто он. Слышал, как все почему-то обращаются к нему на «Вы». В перспективе, то приближаясь, то удаляясь, были люди — они завладевали друг другом, занимались любовью или просто встречались.
Не было больше причин обращать внимание на все это, раз теперь уже можно поменять личность, а простившись с личностью, не было причин держаться за жизнь.
Но он-она-оно еще жило. Заточенное в комнату, где никакая жизнь была больше невозможна. Слишком жарко, слишком холодно, слишком сильное или слишком слабое давление. Ничто больше не появится и ничто уже не повредит трупу. Который к тому же никогда и не был им, Юлиусом.
Думая о себе как о трупе, человек всегда становится на точку зрения другого. Зачем же думать только об одном этом трупе? Вместо этого он стал думать о многих. Как прежде, желая подчеркнуть какое-то слово, он повторял его много раз, как требовал у других много большую сумму или сам платил много больше, чем было оговорено. Это было лишнее, в глубине души он и сам никогда этого не хотел. Разве что когда требовались серьезные усилия. Он решил использовать эти трупы. Не довольствуясь одним их созерцанием, не погребая в пантеонах и не закапывая в землю. Пусть они станут строительным материалом, как камни, чтобы, когда и камни рассыплются, из них, как из бетона, будут создавать дома, а из домов — город. А когда и те распадутся, то саму землю, на которой они стояли.
Кто-то один совершил именно это. Даже если действовал по плану и приказу других, и, не найдись он, это совершил бы кто-то другой. Но совершил это именно он. Теперь свершений осталось на одно меньше. Здесь, именно в этом месте, он подчинил себе мир. И больше ему незачем здесь быть.
1
«М», судя по всему, метадон, препарат опиатной группы, а «S» ($) — галлюциноген серии «экстази»: другие комбинации не избавляют от страха смерти. — Примеч. пер.
2
на месте преступления (лат.).